Рязанцева Н.Б. Не говори маме [Наталья Борисовна Рязанцева] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Рязанцева Н.Б. Не говори маме
Предисловие
Тишина. Я выключаю радио — «Эхо Москвы», и такая наступает в доме пугающая тишина… Теперь я боюсь тишины. А когда-то — «тишина — ты лучшее из того, что слышал. Некоторых мучает, что летают мыши» — Пастернак. Пел Гена Шпаликов под свои три аккорда, пока еще не сочинил собственные песни. «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин», — тоже он пел и привил мне Пастернака на всю жизнь. А должно было быть наоборот: в его суворовском детстве этого не проходили, а в моем литературном кружке… Так и тянет писать про детство. Дожила до двадцать первого века, до возраста, когда память опрокидывается, и голоса оттуда слышней вчерашних. «Под вечер старый обходчик идет, по рельсам стучит…» День железнодорожника. Мы — железнодорожные дети, и всегда жили у железной дороги — в Лосинке, потом в Москве — у трех вокзалов, и первое мое, самое первое воспоминание, единственное из довойны — слово «дрезина»: мама поедет на дрезине и привезет мои игрушки, а я — без игрушек, но зато с папой и его сослуживцем Дмитсеменычем в поезде, в купе. Счастье! Никто не торопит спать, мужчины выпивают и закусывают, Дмитсеменыч показывает тенями на стене разных зверей — то крокодила, то кузнечика. Мы едем в деревню — нашу однофамилицу: Рязанцево. Там и застала нас война. Моя связная память начинается с бомбежек, с октябрьской паники сорок первого года. Со служебного вагона с железной печуркой, с неунывающей проводницей Лидией Федоровной, вечной путешественницей, как оказалось позже. «Старухи моего детства» — отдельная тема! За ними стояли какие-то тайны — за этими нищими, «бывшими», и я научилась не задавать лишних вопросов, вообще не задавать вопросов, молча отгадывать загадки этой «жизни бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат». Так что же, вот так все подряд и рассказывать, как мне «купили» брата в октябре сорок первого, а зимой привезли умирающих дядю и тетю из блокадного Ленинграда, и все мы всемером в чужой квартире с зениткой над нашим потолком как-то выживали, и роптать было неприлично, и вообще болтать. Мой детский лепет остался «про себя». «Когда я ем — я глух и нем», «не говори, когда тебя не спрашивают». Я всем мешала, все мешали мне. Вечерами бабушка потихоньку читала мне Некрасова и Агнию Барто, я все уже знала наизусть и если услаждала родителей лепетом «от двух до пяти» — то только в рифму, не своими, чужими словами. Так что же, все по порядку, все «о себе любимой»? Нет, я не была у себя любимой. Может, так и назвать — «Про себя нелюбимую»? «Про нас нелюбимых»? Это тема из детских тайных вопросов, она меня давно мучила. Все что я писала в сценариях, в рассказах имело отношение к этой древней, на роду написанной несправедливости: почему одни — такие хорошие и так стараются, чтобы их любили, а их все равно не любят, а другие ничего не делают, терзают близких и плюют на всех, а их все равно любят, им готовы подчиняться. Что за необъяснимая власть? Я забегаю вперед к недетским вопросам. Отыскать в раннем возрасте причины приметы, намеки на всю дальнейшую жизнь, провести свой домашний психоанализ — это ли не соблазн? Основной инстинкт всякого пишущего. Но профессия сценариста вырабатывает другие инстинкты. Инстинкт сюжета, конфликта, интриги, чтобы не дай бог зритель не заскучал. Я этому учу студентов. Я прочла бездну сценариев, а на самом-то деле я люблю читать правдивые воспоминания, дневники и письма, бессвязные заметки из записных книжек. У меня их тоже немало скопилось, сверх того, что напечатано в журналах и сборниках — мемуары, статьи, интервью. Ломаю голову, что из этого взять и в каком порядке расположить? Что сократить и что добавить? Вот уже лет двадцать — нет, больше, с тысяча девятьсот семьдесят шестого года, когда вышел фильм «Чужие письма», мне задают вопросы, а я честно, торопливо отвечаю — журналистам, критикам. Всегда остается неприятный осадок — досада, что главного не сказала, сказала не так, да еще переврали. Начали говорить о чем-то интересном и — хлоп! — перескочили на личности и оценки. У журналистов свой умысел — чтоб от имен и названий рябило в глазах. В те, уже далекие времена вопросы касались профессии и положения дел в кино, про частную жизнь не принято было спрашивать, тем более про политические взгляды и умонастроения. Иногда вдруг на встречах со зрителями — киноклубовцами, интеллигентами — прорывались незапланированные вопросы: «Как можно жить в этой стране и работать в этом подцензурном искусстве?» Тогда еще не были у всех на слуху стихи А. Кушнера «времена не выбирают, в них живут и умирают», и приходилось пространно объяснять, что жить можно — даже «через не могу», другим хуже приходилось, тем, кто до нас, и некуда мне уезжать, я здешняя, на земле своих предков. Так может, начать с предков, с того прекрасного парка у деревни Власьево, над рекой Осетр, что посадил мой прадед Сергей Дмитриевич Ржевский? Я не только прадеда, ни одного из дедов не знала, они умерли задолго до меня, но есть гора фотографий, есть бабушкины дневники начала уже прошедшего века, есть в Рязани историк, знающий их, то есть мою родословную, лучше меня. Когда-то, в юности была мечта: вот состарюсь, и там, на досуге, займусь своими корнями — поеду, полезу в архивы, напишу про угасание древнего рода… В детстве мне грезился роман в стихах — «Власьево». Куда там! Я оказалась, под стать нашему поколению, беспамятной и равнодушной к тому, что до нас. Нам простительно: своя история накрыла с головой нас, родившихся накануне «войны священной», научившихся читать к Сталинградской битве. Нас отрезали от предков всей громадой событий, историческим голосом Левитана. Тут поневоле забылись семейные легенды, фамильные реликвии, и много позже я оценила сундук с фотографиями и несколько спасенных дореволюционных вещей. Так может, в этом и найти сюжет? С каждой вещью связана целая новелла. Вот «аптечка» — совсем старушка, справила столетний юбилей, а как хорошо выглядит! Этот резной, затейливый подвесной шкафчик подарили бабушке к шестнадцатилетию. Подруги подарили — сами резали, из светлого дерева, из липы, видно барышням к двадцатому веку надоело вышивать, осваивали мужскую работу. А узор знакомый — из альбома для вышивания крестиком. Где он, тот прабабкин альбом? Мы ненавидели вещи. Позор и грех нашего поколения — презрение к мещанскому благополучию. Когда мы вдохновенно обсуждали спектакль по пьесе В. Розова, где мальчик крушил саблей мебель («В поисках радости»), уже закрадывалось подозрение, что в чем-то мы, мальчики-девочки, неправы. Наследники всеобщего разора и мирового пожара уткнулись в парадокс: нам проповедуют материализм, не дай бог «скатиться к идеализму», и в то же время — антибуржуазность, исконно русское презрение ко всяческому филистерству, накопительству (слово «вещизм» еще не придумали). Что-то тут не так, учителя запутались в терминах, или зачем-то лукавят, или просто дураки? Придется думать своей головой — это обнаружилась в восьмом классе, в четырнадцать лет, как раз в год смерти Сталина. Пытаюсь вспомнить первые проблески мысли в моей комсомольско-пионерской личности и, что удивительно, помню почти по дням свое беспокойное отрочество и свой отдельно взятый «ревизионизм». «Ну, проходи, мой юный скептик», — усмехалась преподавательница английского, озадаченная вопросом «Почему у нас одна партия, если партия — от слова „part“, то есть часть?» Я извела ее своими размышлениями и получила звание «мой юный циник». Остатки революционной романтики, вскормленные книжками Аркадия Гайдара, ушли как раз на-борьбу со «стилягами». Как я ненавидела эту «золотую молодежь» на «папиной „Победе“»! Не меньше, чем тупую пропаганду комсомольских передовиц. Куда податься с этой кашей в голове? Только в свою скорлупу, где «циник» и «романтик», кстати, замечательно уживались. Особые приметы моего отрочества, вероятно, интересны только мне, я про то время ничего не написала, первые рассказы пропали, а интересно было бы почитать… Но сейчас придет молодой сценарист Алеша Сашин, сядет за компьютер и задаст вопросы про кино. Про тот ВГИК, что был до них, про Шпаликова и Ларису Шепитько, про Киру Муратову и Илью Авербаха, про моего учителя Е. О. Габриловича, про неосуществленные сценарии. Может быть, он посоветует, или по глазам я пойму, что из моих разрозненных статей и сочинений взять в эту книгу, в каком порядке их ело-жить и как назвать. Хотела написать что-то вроде учебника для сценаристов, и название было «Ошибки, которые всегда с тобой». Остереглась — что же я буду рассказывать студентам, если я все это уже напишу? Повторяться скучно. А может, назвать «Адреса и даты»? Но они громоздятся, их слишком много, и где то в этом хаосе адресов и дат прячется и ускользает единственно точный сюжет, что никогда не дается автору — сюжет собственной жизни. Может назвать — «Тогда и сейчас»? Или попросту «Связь времен»? Где-то в первых сочинениях прячутся намеки на будущее. С них и начнем, а там посмотрим… И может, обойдемся без сюжета.СЛОВО ЗА СЛОВО
Мы никогда не расскажем целиком свою жизнь и жизнь своих друзей, потому что сами не понимаем всей правды, а если рассказать, не понимая до конца, получаются бесполезные укоризны.Эта первая часть книги выросла из моих устных воспоминаний. Вы не найдете в ней ни хронологической последовательности, ни единства цели или формы. Меня спрашивали — я отвечала. Началось со Шпаликова. С тех пор как его трагическая судьба заинтересовала многих, я давала бесчисленные интервью. Иногда они попадали в печать искаженными, изредка удавалось пресечь мифотворчество журналистов. Случались и удачи — например, двухчасовая передача, подготовленная Еленой Ольшанской для радиостанции «Свобода» в 2004 году, к тридцатилетию смерти Гены. Всегда я старалась рассказать то, что никто другой рассказать не может, и всегда снежным комом наворачивались подробности — неуместные для радио- или телепередачи, для газетной статьи. Но приходят студенты. Я уже больше пятнадцати лет преподаю. Наступил XXI век, студенты — из поколения внуков — интересуются историей, для них мы — уже история. А любовные истории — они всех интересуют. Так получились воспоминания об Илье Авербахе. Про него сделали два документальных фильма, показали на канале «Культура». То, что я не могла рассказать «для всех», я рассказываю на этих страницах, с глазу на глаз, слово за слово. Вопросы иногда вычеркивала, редактируя эти тексты, иногда оставляла, чтобы напомнить — я не пишу, я рассказываю. Про близких людей, про детство. Исключением будет рассказ-воспоминание «Самозванка», написанный для журнала «Искусство кино» под названием «Далеко от Москвы». Мемуаристов ругают: о чем бы ни писали — всегда пишут о себе. Сразу сдаюсь: это все — а себе, о себе любимой и о себе — нелюбимой, — вся первая часть.Виктор Шкловский, из статьи «Юрий Тынянов»
Вы спрашиваете про Шпаликова
Вы спрашиваете про Шпаликова. Вы хотите взять у меня интервью, прослышав где-то, что я была его первой женой, а он моим первым мужем. Недавно звонила какая-то девушка с телевидения. «Вы не могли бы нам рассказать про Геннадия Шпаликова? Мы приедем куда скажете, в удобное для вас время». — «А что за передача, сколько минут я могу говорить?» — «Ну, вы можете говорить сколько хотите, мы снимем, а потом — у нас вся передача десять минут, так что мы рассчитываем на вас — минуты три… Вы постарайтесь покороче…» Я, разумеется, отказалась, не слишком вежливо. Потом случайно наткнулась в какой-то поздней ночной передаче на сюжет про Шпаликова. С лучшими намерениями — напомнить, прославить, сообщить, что был такой поэт, написал известные песни, и вот теперь его книги выходят — с самыми благими намерениями ребята старались, и все перепутали, домыслили — чего не было никогда и быть не могло… Стало быть, надо участвовать, потому что если не я — то кто? Нас остается все меньше — тех, кто достаточно Гену знал. И были вечера памяти, и документальный фильм, и когда-то «Пятое колесо» с сюжетом про Шпаликова. И я там что-то говорила, но оставалась большая досада — не то сказала, нельзя за «три минуты», все не так и не то. А теперь и книги вышли, напечатано и то, что никак в печать не стремилось, черновые обрывки. Гена все сам о себе рассказал. В жизни много врал, выдумывал, мистифицировал, в стихах все чистая правда, затем и писал. Да вот вам на три минуты, можно обойтись и одной:Майский день — именины сердца
Эти воспоминания вошли в сборник «Сергей Ермолинский» (М.: Аграф, 2002). Но я тут много рассказываю о Шпаликове, поэтому — пусть это будет продолжением предыдущей главы; тут как раз про «связь времен».Мы познакомились с Сергеем Александровичем Ермолинским в мае 1961 года в Гаграх. Прошло сорок лет, но я отлично помню тот день, а почему — вы сейчас поймете. Но придется начать издалека. Мы с Геной Шпаликовым поженились в 1959-м, а в 1961-м наш студенческий «экспериментальный» брак стал трещать по швам, и весной Гена затеял примирение. Мы решили начать новую жизнь. Из прежней жизни — с моими родителями — мы были изгнаны, вернее, сами ушли. Для новой были все основания — Гена получил аванс на «Мосфильме» и, узнав, что я тоже скитаюсь, живу у подруги, купил два билета на Кавказ и преподнес их как спасенье: ехать и не рассуждать. Он был горд, ощутив себя «не мальчиком, но мужем». Был апрель, и знаменитая гостиница «Гагрипш», диковинное деревянное сооружение в стиле «шале», явно стояла пустая — не сезон. Мы решили непременно поселиться в ней. Я хорошо знала Старые Гагры, бывала там не раз «дикарем», с родителями, были знакомые хозяева, но это не соответствовало замыслу. Новую жизнь надо начинать в хорошем отеле, поутру спускаться в ресторан, заказывать в номер легкое вино и т. д. Цвели глицинии, восхитительно пахло самшитом, кипарисом и турецким кофе, что варили под старыми платанами. Был первый жаркий день, и солнце зализывало лужи, а мы никогда не бывали на юге весной, когда чисто, тихо, и слышно каждую птицу, и никаких отдыхающих. А в гостинице — «мест нет». Вот же — пустая! А для нас мест нет. Ясное дело, надо дать взятку, но как это делается — мы не знали. Поставив чемоданы у глициний, не мозоля глаза администраторше, мы совещались и репетировали — часа два. Ближе к закату, оголодав, Гена заложил в паспорт десятку, зажмурился и пошел на позор. Я подсматривала из-за стекла, как он глупо улыбается непреклонной тетке, готовый сию секунду бежать с покрасневшими ушами или обратить нашу взятку в шутку. Это длилось секунду. Немедленно потребовался мой паспорт мы получили номер. Правда, самый плохой, под крышей, почти без окна — оно упиралось в скалу. Мы зажили на широкую ногу, и деньги наши стремительно таяли. Ими распоряжался Гена, я даже не знала, сколько их, но все чаще мы заходили на почту — деньги за сценарий должны были прислать, но все почему-то не слали. Гена дал телеграмму с просьбой выслать их телеграфом. Я стала думать, что бы такое продать. У меня было четыре платья и ситцевый халат. Каждое из этих платьев я помню, потому что сшила их сама, хотя шить не умела и не умею. Я их сшила в знак протеста и независимости от мамы, которая обшивала всю семью. Как ни странно, мои изделия были раскуплены мгновенно, дежурные в гостинице, видимо, раньше нас почувствовали наши финансовые затруднения и с южной непосредственностью приценивались: «Почем вы брали этот штапель, я бы для дочки купила рублей за тридцать… А сумку не продадите? Я бы дорого дала…» У меня была редкая вещь — голубоватая самолетная сумка с надписью «SAS», и я ее продавать не собиралась. На мои платья мы продержались дня три, а деньги все не приходили. Мы обросли новыми знакомыми: в ресторане играли музыканты из Тбилиси, консерваторские ребята, такие же безденежные, как мы, и Гена подружился с ними, а потом и с Сухумской филармонией, приехавшей на гастроли. Они заказали нам песни, у них не было русских текстов для курортной публики, и мы радостно взялись за работу. «Под старым платаном меня подожди, где листья шумят, как прибой… Над Гаграми снова дожди, дожди, а нам расставаться с тобой…» — репетировала солистка с прекрасным низким голосом, а мы сидели под старым платаном и гадали — заплатят ли они что-нибудь? Хотя Гена представился поэтом-песенником, у него уже была одна песня для кино — «Пароход белый-беленький». Администратор Сухумской филармонии догадался, что мы голодные, и выдал двадцать рублей. Гена с утра отправился на почту и дозвонился наконец на «Мосфильм». Оказалось, что деньги только вчера выписаны, и надо подождать недельку, пока соберут все подписи… Гена зашел в кофейню и заложил знаменитому продавцу турецкого кофе часы… В «Гагрипше» жила одна полузнакомая пьющая артистка, она как раз собиралась в Сочи, чтобы получить там у кого-то крупную сумму, а пока одолжила у нас двадцать рублей — последние, и попросила у меня «сасовскую» сумку — до вечера. Она не вернулась. И вообще это была не она, не та артистка, за которую себя выдавала. Впрочем, и ту, в те годы довольно известную, я никогда после в кино не видела. Так и осталось тайной — была ли это настоящая И. А. или двойница, и мы накручивали сюжеты, веселые ужастики, «страшные истории в детском санатории» про таинственную И. А. — чтобы не плакать над голубой сумкой. «Такую вещь — такой аферистке», — убивалась дежурная. Гена пошел прочесывать местность в поисках какого-нибудь случайного знакомого. Конечным пунктом назначения был писательский Дом творчества. Тут нужно заметить, что знакомые попадались часто — то в парке, то на морском вокзале, то прямо в «Гагрипше» — в ресторане. Но к тому моменту мы уже поняли, что не у всякого знакомого стрельнешь десятку, а тем более — попросишь денег на билеты. Вернее, я поняла, да и раньше понимала эту простую истину а Гена так и не понял — никогда. Я закрылась в номере и грызла редиску и сухой лаваш. От вечерних посиделок с музыкантами всегда что-то оставалось, но приходилось закрываться от вероломного гитариста Важи, который под видом дружбы со Шпаликовым домогался меня пылко и настырно. Хотелось бежать куда глаза глядят, а я сидела в каморке нашей тихо как мышь, без завтрака и обеда, будто меня нет. Не хватало нам только драки на скрипучей лестнице «Гагрипша», битвы на шампурах, что регулярно там случались. И вдруг — нетерпеливый стук в дверь! И часу не прошло, как Гена ушел, и вот он стоит на пороге, совершенно счастливый, сияющий, и прямо с порога рассказывает, показывает в лицах: — …Я думаю — он или не он? Я издалека его увидел, а когда приблизился, думаю — а вдруг не он? Он сидел вот так, в будке у чистильщика, и этот парень чистил ему ботинки. До блеска, такой бархатной тряпочкой. Он очень долго чистил ему ботинки. А я стоял — думаю, а вдруг он меня не узнает? А когда он встал, я делаю два шага вперед, и по стойке «смирно», чтобы не ушел, стою и говорю: «Здравствуйте, Сергей Александрович! Я — Шпаликов Геннадий…» Но он и так меня узнал, он обрадовался, они вечером к нам придут в «Гагрипш»… — Кто он? — спрашиваю. — Ермолинский! Ну да, тот самый, который «Грибоедов»… Я, разумеется, знала, кто такой Ермолинский — мы во ВГИКе проходили историю кино, но я и до этого знала — на спектакль «Грибоедов» ходили всем классом, потом обсуждали, и Ермолинский представлялся мне классиком, которого, может быть, и в живых-то нет… Неизвестно и неважно — когда имя уже существует на афишах и в умах, все остальное — существование их физического тела — не имеет значения. А у Гены Шпаликова, как ни странно, не было этой «полосы отчуждения» — стариков он не боялся, искал с ними дружбы и говорил по-приятельски. Почтение выражалось в суворовской выправке — подойдет, щелкнет каблуками, поприветствует как положено — и готово дело: старший по званию современник умиляется, удивляется, обнаружив интерес к своей персоне — неподдельный. Гена уже откуда-то знал, что Сергей Александрович прошел тюрьму и ссылку, и пока они прогуливались по парку, ошарашивал его прямыми детскими вопросами. Впрочем, может быть, это было в другой раз — мы потом еще много вечеров проводили вместе, но Гена клялся, что он опять, как дурак, спросил: «За что?», в смысле — «за что посадили?», хотя уже прекрасно знал, что таких вопросов не задают. Всего пять лет прошло с тех пор как наша история стала открываться во всем ее кошмаре. В том 1961-м мы еще не слыхивали — это трудно сейчас представить — даже имени Солженицына, не читали никаких свидетельств очевидцев, но говорили мы только об этом, добывая правду по крохам и намекам. Все пять лет — с 1956-го, весь наш любознательный студенческий ум ушел в эти раскопки, в добычу — из третьих рук — знания и понимания. Мы со Шпаликовым ездили в Переделкино на похороны Пастернака, мы знали гнусную историю с романом «Доктор Живаго», но не читали его, и теперь, как ни старайся, не вспомнить тех важных слов и умолчаний, тех ступенек, по которым пробирались, вырастали из самих себя очень советские по воспитанию Гена — суворовец из военной семьи и я — воспитанница Городского дома пионеров. Слова, диалоги наши забылись начисто, видимо, глаза, паузы и стихи значили больше. Почему Ермолинский сразу догадался о наших финансовых затруднениях, сам предложил десятку на обед и сказал, что вечером они придут всей компанией и «что-нибудь придумаем» — я тогда не поняла и сначала страшно стеснялась, до полной немоты. Тот счастливый день закончился большим застольем. Не всех помню, кто там был, — по-моему, Александр Хмелик с женой, мы были с ними слегка знакомы до этого, и был Булат Окуджава, еще не знаменитый, и с ним какие-то грузины из Дома творчества. Но мастером грузинского стола оказался Ермолинский. Он замечательно говорил тосты, длинные, затейливые, грузинские. Он любил Грузию особенной любовью — она дала ему приют в трудные годы после ссылки, когда он не имел права жить в Москве и приезжал туда нелегально. Теперь я хорошо знаю биографию Ермолинского, по-настоящему мы познакомились много позже, а тогда… помню веселого моложавого человека в замшевой куртке, неистощимого тамаду. Исчерпав программные грузинские тосты, стали балагурить: Сергей Александрович изображал иностранного гостя, произносил какую-то тарабарщину на несуществующем языке, а Шпаликов играл переводчика, а потом и все остальные, по кругу, переводили с какого-то «неандертальского», давясь от хохота, изображали официальный прием. Только я, когда дошла до меня очередь, ничего не смогла из себя выдавить, сидела букой, с испуганным лицом, молясь, чтобы Шпаликов не напился, не заигрался, не ляпнул что-нибудь некстати этому почтенному седому человеку со строгим — несмотря на все балагурство — именно строгим учительским лицом. Не хотелось впасть в немилость самой истории, а она проступала — как ни старался он вписаться в молодую компанию — в резких на загорелом лице морщинах, в манерах иных времен. Все старшие — люди военного поколения, комсомольского воспитания — сходу говорили на ты с нами, студентами, да и между собой, а Сергей Александрович — неизменно на вы. Тогда я еще не знала, что они и дома, с Татьяной Александровной говорят на вы. Мы еще не знали про его дружбу с Булгаковым, да и про Булгакова знали смутно. Ермолинский ничуть не походил на старорежимных дедушек из дворян, каких мне изредка приходилось встречать, он был наш современник и коллега они с А. Хмеликом писали сценарий «Бей, барабан!» для вчерашних вгиковцев Митты и Салтыкова. И Шпаликова он уже успел отличить, обсуждая его сценарий на «Мосфильме», и очень хорошо понимал, что такое сидеть без гроша и ждать гонорара; так что встреча наша не была случайной, это для меня было чудо — «майский день, именины сердца», нечаянный, незаслуженный подарок судьбы. Разумеется, мы не уехали, а растянули «именины сердца» на неделю. Мы приходили к ним в писательский дом, а Сергей Александрович приходил к нам, с удовольствием отлынивая от сценарных трудов. Он не слишком серьезно относился к сценарному ремеслу, ощущал себя писателем, вынужденным зарабатывать деньги на киностудии. Он мечтал бросить это хлопотное, неблагодарное занятие и жалел Шпаликова, предвидя, что его ждет та же судьба. Весенние Гагры не располагали к работе, на каждом углу продавалось местное дешевое вино, начинался пляжный сезон, и кажется, из всего писательского дома один только Булат Окуджава оправдывал название Дом творчества — сидел в заточении и что-то писал. Но вечером удавалось его сманить, и он нам пел, долго настраивая чужую гитару: «Море Черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается…» Это была новая песня, только что написанная, остальные — их было тогда немного — мы знали, но готовы были слушать еще и еще. Мешало море. Оказалось, под шум прибоя невозможно петь, а писательский дом выходил окнами прямо на пляж. Ермолинский очень любил Булата, и грузины, постоянно их окружавшие, нашли другое место для песен. Мы поднимались по темным тропинкам в какой-то дом с апельсиновым садом, и там, на террасе, за круглым столом, Окуджава пел все что попросят и после каждой песни деликатно отставлял гитару и ждал, когда снова попросят, уговорят. Не могу вспомнить ни дома, ни хозяев, и вся эта неделя слилась в сплошной «праздник, который всегда с тобой». В нашей бестолковой, нетерпеливой, унизительной молодости наберется таких — два-три островка. Под крылом Ермолинского в нашей семье ненадолго воцарился мир, все заботы были забыты. Он поднимался в нашу мансарду, прилегавшую к скале, и вспоминал про Сигурамо, про Заболоцкого, читал стихи, а про тюрьму и ссылку не хотел говорить, отмалчивался. И наши «маленькие трагедии» — мой ненаписанный диплом, несданный экзамен по марксизму бездомность, безденежье, Гении запущенный в производство, но остановленный первый фильм «Причал» — все невзгоды начинавшейся взрослой жизни отступали, узнавали свое место в масштабах иных трагедий и потерь. Раз нас — бедных промотавшихся студентов — сам Ермолинский привечал — можно было еще потерпеть, не впадать в грех уныния. Прошло лет восемь, и уже в другой жизни я снова встретила Ермолинского, и мы познакомились уже по-настоящему, надолго. И опять это была весна май цветущая, благоуханная Ялта. Я туда не приехала, а приплыла пароходом из Одессы, чтобы работать с В. А. Кавериным над экранизацией его «Открытой книги». Как красиво, литературно это сейчас звучит — морским путем, из Одессы в Ялту, к знаменитому писателю… На самом деле я опять была «женщиной на грани нервного срыва» — в Одессе в четвертый раз решалась судьба моего замученного сценария, из которого впоследствии вышел фильм «Долгие проводы», и она опять не решилась, запуталась между Госкино, студийными интригами, Одесским обкомом. Я оставляла доведенную до отчаяния Киру Муратову в последней надежде — сценарий мурыжили уже четвертый год. Я взяла отдельную каюту, чтобы выспаться, вылечиться от всей этой скверны, а ко мне вдруг подселили массовичку-затейницу, пьяненькую и тоже на грани срыва, и они с баянистом репетировали песни у меня над головой, а потом всю ночь она горько рыдала над своим провалом, и рыжий болтливый администратор отпаивал нас коньяком. Она всхлипывала — «я, наверное, слишком академична», — и вдруг взвизгивала, топтала вечернее платье: «Не хочу, не могу, не буду! Я боюсь их, я их боюсь!» Она боялась публики, проклинала «маскульт» и клялась, что в последний раз… Она была моим кривым зеркалом, я молча проклинала кино и тоже клялась, что в последний раз, допивая скверный коньяк большими глотками, чтобы девушке меньше досталось. В таком виде я, шатаясь, сошла с корабля, чтобы предстать перед Вениамином Александровичем Кавериным отличником сценарного цеха, молодым профессионалом, со свежим взглядом и конструктивным мышлением. На самом деле хотелось кричать: «Не могу, не хочу, не буду!», забросить подальше эту толстую книгу, выспаться и исчезнуть. Ни выгодный договор, ни райские кущи престижного писательского дома не соблазняли меня, и взялась-то я за эту работу с сомнением, ради знакомства с Кавериным. Но там, в райских кущах, за одним столом с Кавериным и его женой Лидией Николаевной я увидела Ермолинского и жену его Татьяну Александровну. Про нее я много слышала и не могла оторвать от нее глаз. Насмешливая, чуть высокомерная, она, тем не менее, создавала уют и покой. Они дружили с Кавериными, она называла их «дядя Веня» и «баба Лида», в общем, любила подтрунивать над людьми так, что никто не обижался, а напротив, все хотели попасть в зону ее насмешек. Каверин говорил, что она талантлива, и ей непременно надо написать книгу. Литература была для них делом священным, превыше всего. Сценарные мои терзания понимал только Ермолинский. Он был мэтр, его звали, платили, но все сужался круг возможностей. После 1968 года, когда наши танки вошли в Чехословакию, мы окончательно поняли в какой стране живем. Так называемая «оттепель» кончилась, последние остатки иллюзий рушились грубо и зримо. У стариков, умудренных опытом еще худших времен, мы искали ответа и совета — как жить, можно ли жить вообще, служить, но не прислуживаться? Помню, Каверин хвастался: «А у меня нет ни одной ненапечатанной строчки», — когда ему рассказывали про зарубленные заявки и сценарии. В десять утра он ежедневно садился за стол и, если побаливала голова, писал хоть что-нибудь, например, письма. Он повел меня в библиотеку и выбрал сам, что из его собрания сочинений прочитать. А про последнюю книжку — «Перед зеркалом» — выспрашивал с пристрастием, записывал замечания, — он готовил ее к переизданию. В тот момент Каверин уже не сочинял ничего «игрового» — переключился на воспоминания. Как когда-то, в критический момент, «когда русская проза ушла в лагеря», догадался стать детским писателем и написал незабываемые «Два капитана». И гордился, что нашел свою «нишу» — как теперь говорят, а тогда появилось словечко «щель». Перехитрив судьбу, можно и классиком стать. Я невольно — и наивно — сравнивала счастливую судьбу Каверина и переломанную — Ермолинского. «Что ж, это чистая работа», — говорил Сергей Александрович про «Открытую книгу», которую предстояло нам экранизировать в двух сериях для режиссера В. Фетина и артистки Л. Чурсиной. Прямо скажем, смиряя гордыню: я выросла из этой книги, тем более — Каверин дал мне почитать документы и много рассказывал про подлинную историю пенициллина, про Ермольеву и своего брата Зильбера, который из тюрьмы передавал на папиросной бумаге «вирусную теорию рака». Он знал из первых рук всю страшную, погромную историю медицины при Сталине, и в голове у меня не укладывалось, как мог он переработать этот трагический материал в занимательную, романтически-«подростковую» книгу, а нам еще предстояло ее адаптировать для кино, и лучше бы мне не знать, как оно было на самом деле. А Ермолинский сказал — «чистая работа». Я в этом сомневалась, да и теперь сомневаюсь. Но ему следовало верить — он уже однажды, за несколько лет до этого, «зарубил» мою заявку на «Мосфильме». Убедительно и нелицеприятно. И я не только не обиделась, но премного ему благодарна. И должна рассказать эту отдельную, мимолетную историю как штрих к портрету Ермолинского-редактора. А дело было так. Мне дали на студии интересный материал про город Темиртау и познакомили с интересным человеком — бригадиром каменщиков Димой Оськиным, который прошел много строек и вел дневники, а в Темиртау оказался корреспондентом многотиражки, увидел, что творится вокруг, как наживаются на комсомольском энтузиазме хапуги-начальники, и душа его содрогнулась. А писал он только от души — чистую правду. И я написала от души подробную заявку про правдолюбца, праведника, и как он всех выводил на чистую воду, и ему это почти удалось. Правда, жизнь продолжила этот сюжет малопригодным для советского кино трагическим апофеозом в Темиртау. Не знаю, как сейчас называют это историки, но тогда об этом можно было только шептаться, официальных сообщений не было, а я узнала правду от того же Димы Оськина, оказавшегося в эпицентре событий. Он приезжал в Москву — правду искать. Наивно вооружившись документами и бухгалтерскими отчетами, пытался идти законным путем организованного рабочего контроля. Разумеется, потерпел поражение. Голодный бунт в Темиртау списали на уголовников — они пошли громить магазины. А проворовавшееся начальство ушло в Москву, на повышение. Разумеется, кино про Диму Оськина не могло состояться, его бы закрыли на любом этапе. Худсовет был готов одобрить мою обстоятельную заявку, меня вызвали в Москву из Питера для подписания договора, но вдруг самый старший и самый мудрый из коллегии — Ермолинский — пресек поток всеобщего одобрения и угрюмо сказал: «Ничего из этого не выйдет. Вы здесь смягчите, здесь сбалансируете, а режиссер возьмет белозубого красавца на главную роль, и будет очередная отрава про рабочий класс». Так и сказал — «отрава» — и заставил себя посмотреть в глаза несчастному автору — то есть мне, прибежавшей прямо с поезда заключать договор и, стало быть, получать аванс. Уж от него-то я не ожидала подобного удара — после тех майских каникул на берегу моря, под пение Окуджавы… Но он был непреклонен и убедил коллегию, что начинать эту работу нельзя. Потом отвел меня в сторону и повторил уже наедине, не стесняясь в выражениях, что меня ждет, если я влезу в эту остросоциальную тему — на радость студии — про рабочий класс! Они-то галочку поставят, а потом будут мурыжить сценарий до полного изничтожения, и приличный режиссер за него не возьмется, а какой-нибудь конъюнктурщик сделает отраву… У меня уже был подобный опыт: сценарии от варианта к варианту испускали дух и списывались за полной никчемностью. А мы, как бабочки на огонь, летели на договоры и авансы — на «авось», по молодой дурости. Ермолинский меня пожалел. Теперь-то я ясно понимаю, что он спас мне года два жизни. Давно понимаю. А теперь понимаю, чего ему стоил этот заурядный день на «Мосфильме». Куда как приятней сказать «да!», и все довольны, и день пролетел в улыбках и комплиментах. А суровое «нет» требует объяснений — дотошной аргументации и душевных сил. Помню — вся коллегия мигом разбежалась — сконфуженно, пожимая плечами, мол, старик «рогом уперся», а ему досталось объясняться с автором. Впрочем, я была уже понятливой и плакать не собиралась. А из всего кладбища похороненных заявок и сценариев я никогда не пожалела только об этом «рабочем корреспонденте». Действительно, села «не в свои сани». Действительно, «взрослые» иногда правы, когда «добра нам желают». Я бы напрочь забыла этот досадный эпизод своей сценарной биографии, если б не подружилась потом с Ермолинским. Он помнил. И в весенней Ялте при Каверине, при Татьяне Александровне нет-нет да и вставлял доброе словечко обо мне как о сценаристе. Чтобы уважали. Чтобы человек, «в дальнейшем именуемый Автор», как пишется в договоре, мог сам себя уважать: «держать марку», не бросаться на любую работу, беречь свое имя. А потом я попала в «святая святых», в кухню Ермолинских, куда не всех пускали. Некоторых — не дальше кабинета. Я бывала там на семейных торжествах, а часто и в будни, и с мужем — Ильей Авербахом — бывала. И много чего еще можно вспомнить. Но об этом могут рассказать и другие, там немало прекрасного народу бывало. А те случаи никто не помнит, я одна помню, и надо, стало быть, записать. И назвать — «Майский день — именины сердца» или «Как Ермолинский спас Шпаликов а от голодной смерти на берегу Черного моря».
Взгляд с обратной точки
В молодости мы часто говорили о смерти. Впрочем, мы не считали себя молодыми, когда Илья начал свою первую большую картину по книге хирурга Амосова «Мысли и сердце». Казалось бы, не случайно, как бывшему врачу, именно ему доверили эту экранизацию, но медицинская «фактура» — больничные палаты, белые халаты — совершенно его не привлекала, и вообще книга чрезвычайно сложна для игрового кино. Открытое философствование на вечные темы, диалоги и монологи о смысле жизни и смерти — как все это передать, как совместить с очерково-дневниковым стилем? Почти невозможно, не только для новичка. Биография начиналась серьезно, с высокого барьера, с высокой «степенью риска». До этого он снял только две короткометражки: одна называлась «Папаня», другая — «Аут», дипломная его работа и, может быть, единственная картина, которой он по прошествии лет оставался доволен. В ней играли настоящие боксеры, в настоящем спортзале, но эта документальная достоверность прекрасно сочеталась с емким сюжетом: бывший чемпион заходит в спортзал «тряхнуть стариной», терпит поражение от молодого, в жестком бою, без скидок на возраст, и уходит побитый, но счастливый. Его усталый проход по ночному городу, долгая счастливая улыбка до сих пор стоят у меня в глазах. Это и было началом, заявкой своей темы и стиля После «степени риска» критики приветливо отметили новое режиссерское имя, а режиссер всю жизнь вспоминал ошибки в этой картине, страдал от них. «Медицина получилась, философия — нет». «Все слова, слова, декламация по поводу… Нельзя читать с экрана даже хорошие стихи, кино их отторгает Почему?» Потом появился опыт, появились ответы на многие «почему» и «как», настало для нас время тяжких потерь и прощаний, и спустя пятнадцать лет он взялся за сценарий «Голос», где тоже речь идет о смерти, но уже как бы с обратной точки. Есть в кино такой рабочий термин — «обратная точка». Его можно применить и к литературе. Множество сюжетов построено вокруг предполагаемой, грозящей или уже случившейся смерти, освещающей новым светом поступки людей и житейскую нашу суету. Осмелюсь сказать: вся поэзия — об этом. В ней всегда присутствует «обратная точка», даже если она «за кадром». Потому так много стихов-завещаний, а если всмотреться, завещания спрятаны во всех хороших стихах. В «Голосе» мы искали не нравственных посмертных судов, не виноватых и обиженных — фильм сразу задумывался как поэма или баллада, а не как драматическая вещь с единым конфликтом. Мы заведомо теряли того зрителя, который привык ждать от кино только «кто кого победит», как в спортивном зрелище. Этические проблемы, конфликты, такие же, как в любой среде, рассыпаны по всему фильму, теснят друг друга и неразрешимы. Но фильм о другом. Героиня останется в памяти свидетелей ее последнего дня на студии не той голубоглазой артисточкой, которую где-то кто-то снимал за внешность, а личностью, целой ролью, не той одной, в которой себя озвучивает, а ролью — в жизни. В жизни тех, кто ее знал. Оставит воспоминание — какой была в обиде, нетерпении, уязвленности, в легком прощении, в радости и в великодушной записке. Целую жизнь оставит — короткую новеллу последнего дня. «Да у нас же фильм утешительный, хоть и про смерть, — договорились мы сразу, помня, что зритель всегда ищет утешения. — К тому же он производственный — хоть и в кино, но конец квартала, план, все как у людей». Вот тут непривычное. Если уж кино в кино, то зритель ждет комических позиций, фигур карикатурных, либо глубокомысленных титанов. А мы хотели посмотреть по-человечески на нашу ежедневную толкотню и суету. «Как обаятельны — для тех, кто понимает, — все наши глупости и мелкие злодейства, — поется в песне Окуджавы. — Мы будем счастливы — благодаренье снимку, пусть жизнь короткая проносится и тает…» «Для тех, кто понимает, — говорил Илья, — я бы снял все песни Окуджавы, подряд. И сам бы сел и смотрел свое кино». Это у Сэлинджера есть такое лукавое замечание: «Ведь сперва ты был читателем, сядь и напиши то, что ты тогда хотел бы прочесть». С режиссерами, видимо, так же. Но препятствий во сто крат больше, чем у писателя. Илья любил поэзию, а прозу — только самую лучшую, в которой видел поэзию, беллетристику читал «по диагонали». Но он терпеть не мог так называемое «поэтическое кино» и вслед за Козинцевым называл это «пейзаж с дымкой». То есть — искал свою поэзию и осознавал, что кинематограф для нее «мало оборудован». Необходимость четкости и мотивированности сюжетных конструкций, конкретности фактур, с которых не «сотрешь случайные черты», особенно в современном фильме, необходимость ясности замысла и доказанности — для любого зрителя — все сопротивляется. А все это он уважал. Уважал традицию, хвалил «добротные средние фильмы», простой «честный кадр», понятность и занятность считал обязательной для автора вежливостью, а любил и пересматривал только то, что «пропускает потоки поэзии» — от «Аталанты» Виго до Трюффо, Рене, Бунюэля, от Барнета до Германа. Разговоры о «самовыражении» считал скучными и бесполезными: «Если есть что выразить, то как-нибудь оно выразится, в каждом кадре, тут думай — не думай. Наоборот, многим бы стоило подумать, как спрятать и не выразить свою убогую личность». Да, строг был в суждениях и нелицеприятен. Только к молодым снисходителен и добр, если видел хоть что-то обещающее новизну. Я рада, что есть эта картина — «Голос», люблю ее больше, чем свой замученный вариантами, посеревший от поправок сценарий, по которому она поставлена, люблю все, что мы потом придумывали вместе, в съемочный период, чтобы вернуть единое дыхание первоначального замысла. И недопридумали, конечно. Проволочки (длиной в шесть лет) противопоказаны такой лирической вещи. Но голос режиссера в ней остался, его отношение к миру видно в каждой детали, слышно в каждой интонации. Он ненавидел многозначительность и шаманство, всяческое «надувание». Тех, кто говорит «мое творчество», «в моем творчестве» или «мы, художники». И своего значения никак не преувеличивал. Часто повторял афоризм, переданный нам Козинцевым: «Режиссером может быть любой, кто не доказал обратного». Уже пора, наверное, но не мне, говорить о его пути, обо всем вместе, что составляет имя — режиссер Илья Авербах. Он всегда прибавлял по телефону «если помните такого» — когда звонил кому-то не из близких. «С вами говорит Илья Авербах, если помните такого». А его все помнили, все, кто видел хоть раз. Он был выразителен, «киногеничен», поэтому фотографии, если их много, могут многое рассказать, больше, чем слова. Он был задуман природой для профессии режиссера — по темпераменту, по естественной убедительности. От него исходил дух бодрости и борьбы. Он не боялся быть смешным, хотя был тонко остроумен и насмешлив. Это редко сочетается — насмешливые люди обычно над собой не позволяют смеяться. Он знал наизусть половину Зощенко и любил этого писателя не меньше, чем своего любимого Булгакова. Когда-то, больше двадцати лет назад, один наш общий друг сказал мне: «Неужели не знаешь — сейчас только один есть молодой режиссер, это Илья Авербах!» «А что он ставит или поставил?» — спросила я. «Он ничего еще не поставил, но это неважно. Он поступил на сценарные курсы». Ирония моя недолго длилась, стоило только познакомиться, с первого взгляда не осталось сомнения — да, это режиссер, он будет, он сбудется, хотя ничего пока не поставил. Нет, я еще не умею говорить про это с «обратной точки». Из книги «Илья Авербах» (А., 1987)Хроника безответной любви
про Илью Авербаха
…«С обратной точки» — это все, что я могла тогда написать — для книжки «Илья Авербах», вышедшей в Ленинграде через год после его смерти. Книга готовилась раньше, это потом она стала посмертной, и в нее вошли воспоминания друзей и сотрудников. А основной текст — киноведа Розы Копыловой — уже был в восемьдесят пятом году, она прислала его в. Москву, и я отнесла эту рукопись Илье в больницу. Но он все откладывал, не читал, ему было так плохо до операции, что он ничего не мог читать. Нет, что-то он читал — газету «Советский спорт». А потом, после операции (двадцать пятого ноября восемьдесят пятого года) — эта папка переехала вместе с ним в «реанимацию», в отделение интенсивной терапии. Меня туда пускали — в порядке исключения — потому что нужно было его кормить, подбирать еду. Потом он лежал в отдельной палате, туда я приносила книги, детективы какие-то, даже маленький телевизор, а эта папка все лежала на тумбочке. Требовалось прочесть и завизировать, срочно, из Ленинграда торопили, там никто не знал, что у него рак, мне строго велено было скрывать это от всех-всех-всех, от его мамы, от студии. Врачи надеялись поставить его на ноги, делали еще дополнительную операцию… Хирург Антонов разработал подробную версию, что я должна говорить Илье, что — всем остальным. Ну вот, я каждый день открывала эту папку и пыталась ему читать. Казалось бы, интересно — про него самого книжка. А он всякий раз говорил: «Потом…» Ему уже было неинтересно. Так и не прочел. — А он не догадывался про рак? Он, кажется, сам был врачом? Да, он окончил медицинский институт и несколько лет работал врачом. В глуши, в районной больничке в Шексне. Кстати, говорил, что был хорошим врачом больные его любили, особенно тетки в возрасте — кому за сорок. Он их жалел, видимо, умел с ними разговаривать, утешать, выслушивать. А медицину не любил, считал эти годы зря потраченными. Не Шексну, не больницу, а мединститут, сдавал там экзамены храпом, но душа не лежала, уже понимал, что в этой области не добьется ничего. — Зачем же он туда пошел? Скорее не «зачем», а «почему». Отец, Александр Леоныч Авербах считал, что сын должен получить практическую профессию, да к тому же это было время гонений на евреев. И с такой фамилией ни в какой престижный институт нечего было соваться. А в медицинский мальчиков охотно принимали. К тому же он занимался спортом. Легкой атлетикой. А это тоже помогало при поступлении в вуз. Я познакомилась с ним позже, когда он расстался с медициной совсем. Но приятели по мединституту остались на всю жизнь, помогали, выручали друг друга. Если кто заболевал, Илья немедленно кидался к записной книжке, искал нужного доктора. Врачей он очень уважал — тех, кто по призванию пошел в медицину. Стало быть, от медицины остались эти связи и что-то в характере… Покровительственность. Вдруг скажет — «деточка…» — с такой неожиданной ласковой интонацией, совершено ему не свойственной, чисто докторской. Если б я не знала, что он был врачом, я бы догадалась — по этим контрастным интонациям. Вообще-то он не выносил уменьшительных, особенно за столом: «огурчики, лучок, мяско, яички». Ему просто худо делалось. И скрыть не мог — смеялся, передразнивал. Особенно тех, кто неграмотно говорил — не те ударения ставил. Поправлял, и люди обижались. Считали высокомерным. Те, кто ближе, знали, до чего он «контрастный» — раздражительный по мелочам, снисходительный к друзьям, к женщинам — как к детям, как к пациентам. Меня это ошарашило при первом знакомстве. — А как вы познакомились? Да, давайте не будем сейчас про болезнь и про медицину. Попробую по порядку — «припомнить ту весну», как будто я не знаю, что было дальше. Вернемся в шестьдесят четвертый год. Тогда была ранняя весна, еще снег. Приятель, Толя Ромов, тот самый, что сказал «есть один режиссер», пригласил меня поиграть в преферанс в гостиницу у Киевского вокзала, где жил их однокурсник — болгарский писатель Никола Тиколов, и поспешил сказать, пока я раздумывала, что там будет Илья Авербах. Приманивал. И приманил — я пошла туда из любопытства. Познакомиться вот с этим самым Авербахом, с которым, кажется, меня уже знакомил Алеша Габрилович. Я не помнила — у выхода из Дома кино мелькнул кто-то в красном свитере и унесся. Кажется, спортивный врач и журналист, кажется Авербах, но я могла и перепутать. Я ехала в гостиницу и жалела, что согласилась. Почему-то днем, а у меня была своя картежная компания, но мы никогда не играли при свете дня, а тут еще проходить в гостиницу — тоже унижение. Я шла в ужасном настроении, по-моему — в слезах, свалились очередные неприятности, вся эта весна прошла в слезах и самобичевании, срывалась одна работа за другой, денег нигде не платили, сейчас все не расскажешь — страшные это годы после ВГИКа, сплошной стресс. Хлюпаю по лужам, ноги грязные, еще мальчишки ударили снежком — ну прямо как в кино, добили. Реву, опаздываю, смываю под капелью размазанные глаза. Прихожу — да, тот самый Авербах, в красном свитере «хоккеиста», встает навстречу, воспитанный, петербургский — чем-то неуловимым. Диктует, как будем играть. Со «скачками», не в «классику», а в азартный вид преферанса, в который я никогда не играла. Но возразить невозможно, уговорил как маленькую. Он тут главный. Толя Ромов — «громкоговоритель», большой ребенок, позже получил прозвище «у дороги чибис», знаете такую песенку? «Он кричит, волнуется, чудак»… А Илья называл его Маугли, он всегда кричал и волновался, а тогда делал грубые ошибки и всякий раз получал от Ильи нагоняй. Мне неслыханно везло, как никогда — ни до, ни после. Я взяла одну «скачку», вторую. И Толя, и Никола играли слабо, один Илья мог мне противостоять, но они его подводили, все портили, и я увидела воспитанного петербужца в бешенстве. Нет, на тихого Николу он не орал, вся ярость изливалась на Ромова, но в каких оскорбительных тонах, как пылко он негодовал, как презрительно учил! «Я бы не выдержала, — подумала я. — Как можно с таким дружить?» Мне уже хотелось им проиграть, лишь бы они не кричали. Но я выиграла у всех троих, денег не получила — они расплачивались в день стипендии, они стояли слегка сконфуженные, слегка меня ненавидя, предлагали еще как-нибудь сыграть, чтобы отыграться до стипендии. И я была рада — случился повод к продолжению знакомства. Я влюбилась в этого человека, который мне так не понравился. Когда успела? А вот когда он между играми звонил кому-то по телефону и совсем другим голосом, неузнаваемым после их карточной свары, неторопливо и обходительно беседовал с кем-то. Я влюбилась «ушами» — в этот невозможный контраст, перепад тембров и интонаций. Я хотела оказаться на том конце провода, чтобы вот так — пленительно! — он со мной говорил. До этого было еще далеко. Потом мы еще раза два играли в другом составе, и ехали вдвоем в метро, и вели вялые разговоры о делах, и я, к слову, сказала, что у меня договор на «Мосфильме», пишу сценарий про женщин-летчиц со знаменитым сценаристом В. Ежовым, а Илья, к слову, сказал, что у него «безнадега», после прекрасных Высших курсов они все у разбитого корыта, оторвались от прежних профессий, и ничего не светит. Позднее я узнала, что в тот первый месяц знакомства представлялась ему самоуверенной московской дамой. Так он высказался — приятелям, нашим общим знакомым. Но в ту весну я об этом не знала и не думала. Меня тянуло к курсам, которые располагались тогда на улице Воровского, наверху, над бывшим Домом кино и рестораном. Он сказал, что на курсах будут показывать «Ночь» Антониони, в десять утра. Я уже видела и полюбила эту картину и решила пойти еще раз. Была договоренность с Высшими курсами, что нас, бывших вгиковцев, будут туда пускать на просмотры, и многие ходили, только не я. Я не такая киноманка, чтобы ехать к десяти утра на уже виденную картину. А тут не поленилась, встала пораньше и поехала на любимого Антониони. Заодно — увидеть Авербаха. Никому бы я в этом не призналась, а признавалась ли себе? Наверное, да. Встать пораньше, одеться поприличней — а одеться всегда было не во что — и потащиться на просмотр… Да, поленилась бы, если бы не маячила фигура в красном свитере. Может, он обратит на меня, наконец, благосклонное внимание? Как на женщину? Ведь сказал же Толя Ромов, еще до знакомства: «Ты влюбишься в него, он влюбится в тебя…» — а устами младенца глаголет истина. Но ничего подобного не наблюдалось. И вот приезжаю. А меня не пускают. Наверху, у входа в заветный зал, стоит крупная непреклонная дама — завуч курсов В. Гракина — и не пускает посторонних. Показываю свою карточку — молодежной секции Союза Кинематографистов, лепечу, что я не посторонняя, у нас договоренность с самим Маклярским (тогда директором курсов), что нас будут пускать. «Ничего не знаю, — говорит Гракина. — Когда все войдут и займут места, может быть, пущу». Жду. Встречаю Ромова и Авербаха, они повторяют Гракиной то, что я уже сказала. Она повторяет — «ничего не знаю», загоняет их в зал и смотрит сквозь меня. А народ все прибывает, становится тесно в маленьком фойе. Почему такой контроль — никто не понимает. Выходят Ромов и Авербах и объясняют мне на лестнице, что студенты часто водят подруг, и решено с этим бороться. И лучше не маячить у нее на глазах. А много народа потому, что до просмотра еще лекция Б. И. Бродского, и он пригласил своих знакомых. Милейший Борис Ионыч! Я его прекрасно знаю! Да вся Москва его знает! Вот он поднимается по лестнице, ябросаюсь к нему, он меня ведет, объясняет у двери: «Это молодая сценаристка», но его живо утаскивают в зал, а Гракина заступает мне дорогу: «Нет, эта девушка не с вами!» Она уже меня запомнила и обливает презрением. Я торчу на пути у входящих — как сейчас помню — в зеленом, сшитом мамой костюмчике, на каблуках-шпильках, с «начесом» на голове. Именно этих, блондинок с «начесом», ей и велено не пущать. Я не из тех, кто «протыривается» на просмотры, давно прошли те вгиковские времена, и я ничья не «подружка», я сценаристка, я сама!.. Слезы перекатываются пока в горле. Вдруг навстречу Алексей Яковлевич Каплер со своей красивой женой Юлией Друниной. Он меня знает, узнает. Он говорит Гракиной: «Это наша девушка, молодая сценаристка…» — и они проходят в зал, как всегда праздничные, свежие, нарядные. «Все, больше никого не пущу!» — и Гракина оставляет меня за дверью. Одну. Всех пропустила, кроме меня. К тому же оказалось, что «Ночи» не будет, а будет какой-то американский вестерн, даром мне не нужный. Я реву в три ручья. Туалет далеко, внизу. Надо еще добежать, мимо буфета, где уже сидят пренебрегшие лекцией студенты. Умываюсь, иду в этот буфет, встречаю знакомых, пью кофе и тяну время, и все кажется, что сейчас Авербах или хотя бы Ромов спустятся, они же меня позвали и место заняли. Нет, не спускаются. Болтаю с Максудом Ибрагимбековым, еще с кем-то. И как на грех, назначила после просмотра встречу — днем идти в гости, на торжественный свадебный обед, домой возвращаться уже не имеет смысла, и надо пересидеть. А вдруг в перерыв они все-таки спустятся? Сдерживаю слезы. И уже не могу не плакать. Опять бегу к двери с буквой «Ж». Не дай бог, они увидят меня такой, пожалеют бедненькую дурочку. Снова умываюсь, стучу каблуками — на выход! А навстречу — старый приятель, вгиковец, весь какой-то обросший, пыльный, похудевший — Отар Иоселиани, только что из Тбилиси. Обнимаемся, целуемся, идем в тот же буфет «завить горе веревочкой» — не мое, у Отара тоже неприятности. Берем бутылку болгарского конька «Плиска». Тогда все пили эту дешевую «Плиску», гордо именуемую коньяком. Буфет опустел — все ушли на просмотр. Сидим, плачемся друг другу в жилетку. Есть о чем поплакаться. Лицо мое после трехкратного рева подобно луже, но я уже не плачу — спасибо незабвенной «Плиске». «Ты хорошая девочка», — бормочет Отар по-отечески. Он выглядит стариком. Если вы представляете себе теперешнего вальяжного, рассудительного господина, то это совсем не тот Отар. Сорок лет назад он выглядел старше. Он сделал тогда документальный фильм про металлургов Рустави и уже был под подозрением у начальства, пустят ли его вообще в игровое кино — было неизвестно, предстояли походы в Госкино, хотя сценарий Амирана Чичинадзе, из которого вышел фильм «Листопад», уже был написан и одобрен как диплом на тех же Высших курсах. В том выпуске шестьдесят четвертого года было много талантливых людей из разных республик, всех сейчас не перечислю, но слава курсов росла и ширилась — там показывали запретное кино, там читались лучшие лекции, приглашали подпольно известных «неблагонадежных» профессоров, и ореол этой подпольности, элитарности уже витал над курсами. А меня как раз и не пустили в «элитарный» зал. И вообще — кто мы здесь, в этом уютном Доме кино куда посторонним вход воспрещен? Да никто. Много нас таких, бывших вгиковцев, презренная околокиношная публика — спивается по этим буфетам. Сидим мы с Отаром, вполне «отверженные», перемываем косточки начальству и удачливым знакомым, уже успевшим стать «своими», завидуем и проклинаем — нет, «своими» нам никогда не стать… А тут вдруг буфетчица объявляет перерыв, гасит свет и хамским голосом велит покинуть помещение. Мы последние остались, мы тихо сидим в углу, ничего не просим и готовы сидеть в темноте, допивать кофе. Короткое препирательство, я вскакиваю, а Отар вдруг взрывается и орет на буфетчицу так, что я пугаюсь — сейчас пойдет драться, а она милицию вызовет. Что он орал — ни слова не помню, никакой матерщины — это точно, но то, что называется «состояние аффекта», у него нервный срыв, гроза, что годами копилась, обрушилась на эту тетку. Теперь уже я его урезониваю, умоляю уносить скорее ноги и недопитую «Плиску», мы вместе пойдем на свадебный обед, надо еще цветы купить… Дальше все как в тумане. Я запомнила стихи одной не очень известной поэтессы: «Все снятся нам обидевшие нас, но никогда — обиженные нами». За мной заехал Эдик Ительсон, с которым мы прожили два года, считаясь мужем и женой, скитаясь по коммуналкам и друзьям, и было уже ясно, что «оформлять брак» нам не стоит, любовь себя исчерпала, и был этот свадебный обед в ресторане и продолжение в гостях, и возвращение домой, к родителям, куда мы с Эдиком только что переехали от полного отчаяния, Я чувствовала себя виноватой, как всегда. Предстояло делать вид, что у нас мир и согласие, и скоро мы снимем какое-нибудь жилье, и Эдик вот-вот найдет новую работу. Мы жили в долг, скрывая от родителей несметную сумму долга, чтобы они не упали в обморок. Но из кошмара той весны я мало что могу припомнить так отчетливо, как «утро Антониони», когда Авербах так и не спустился, предпочел какой-то вестерн столь естественному продолжению знакомства. Стало быть, всё, и прекрасно, в ту весну мне только не хватало безответной любви. Потом я встретила его после Пасхи, в том же красном свитере, в том же Доме кино, а то бы и не узнала — такой он стал худой и зеленый. Сказал, что хворал, что Пасха превратилась в итальянский ужин со спагетти, и после этой «всенощной» организм дал трещину. Толя Ромов сказал, что хворал Илья очень серьезно, а скоро защищать диплом, и сценарий еще не готов. Так что теперь не до карт, когда-нибудь летом поиграем. Кстати, перебью себя и расскажу одну мистическую историю. Из другого времени. Про цыганку, «Катю-бессарабку с когтями и с хвостом» — так она себя представила. Это было в городе Мценске, в семьдесят третьем году. Мы возвращались из Болгарии на своих «Жигулях» и остановились чинить колесо. К нам пристала цыганка, и Илья — он верил в гаданья — позволил себе погадать, но попросил сначала рассказать прошлое. «Ты порченый, — сказала Катя-бессарабка, — а порчу навела женщина, девять лет назад, на праздник Святой Пасхи. С тех пор ты болеешь…» Я отсчитала — девять лет назад, та самая Пасха… Как она угадала? Что-то они знают — цыганки… А тогда, в шестьдесят четвертом, я поняла, что у Авербаха в Москве есть своя компания, и не одна, он в разных домах принят, он — нарасхват, не говоря уж о том, что скоро уедет в свой Ленинград, и неизвестно, увидимся ли когда-нибудь. Помню еще один печальный вечер. Мы с Пашей Финном вышли из Союза кинематографистов и прогуливались по Тверской, рассуждая, куда деться дальше, — долгий июньский вечер сгущался, домой не хотелось, денег не было, и вроде бы мы все приглашены на выпускной банкет сценарных курсов, и можно немедленно отправиться туда, на улицу Воровского, там много знакомых, и вечер в разгаре. Но как же совсем без денег? Тогда еще не пользовались словом «халява», и мы были гордые, и я призналась, что дома лежит десятка, как раз потому и оставленная дома, что последняя, но вообще-то я уже готова ее истратить… Страшно хотелось туда, на Воровского. И заехать домой недалеко, успеем. Но мы все шли и медлили, и так дошли до Моссовета и уселись на скамейку возле памятника Долгорукому, обсуждая наши неразборчивые сценарные и семейные дела, и наконец прямо поставили вопрос — стоит ли ехать за десяткой, чтобы попасть на чужой праздник, когда все там уже пьяные? Слово за слово, обсудили всех ленинградцев, кого Паша уже знал — Женю Рейна, Толю Наймана и других слушателей курсов, счастливчиков, которых в ресторане на Воровского официантки кормили в кредит. И тут вдруг я почему-то ляпнула: «А я люблю Илью Авербаха». Паша изумился, переспросил и мгновенно принял решение: «Так в чем дело, поехали, он сейчас там…» Но я проявила твердость, и мы разъехались по домам. Почему я вдруг решила Паше признаться? До сих пор не пойму, как я и выговорить такое могла. Должно быть, именно для того, чтобы проявить твердость и не ехать на чужой банкет. Но ведь был какой-то тайный женский умысел? Поговорить хотелось про этого самого Авербаха, не терпелось услышать что-нибудь про него? Паша с ним был едва знаком. Перевести все это в шутейный ряд, чтобы вскоре самой над собой посмеяться? Это не про меня, о своих коротких влюбленностях я никому не докладывала. Пересматривая эту сцену, как в кино, и почти дословно, из далекого далека, убеждаюсь, что кино такую сложность «не берет». Что играть артистке? Какую «гамму чувств»? Героиня скажет: «я люблю такого-то», чтобы ее друг понял, почему она рассталась с прежним возлюбленным. Вот и все, что уловит зритель. Нет, тут нужна длинная психологическая проза. Тут было и «унижение паче гордости», на фоне всех мосфильмовских унижений тут ставилась окончательная точка на моей непутевой, компромиссной личной жизни, и я выбирала трагическую роль одинокой, тайно и безнадежно влюбленной «разведенки». В двадцать пять лет это страшновато, но живут же другие, всю жизнь «невесты», а в глазах у них тоска, вечная, неразделенная любовь. Я подписывала себе такой приговор — конечно, про себя, но проговорилась — видимо, не веря в собственные силы. Мне предстояло быть «свободной женщиной», ничьей, а я не умела, я панически боялась этого состояния, этого статуса — «опять невесты», всегда на выданье. Когда «нас выбирают», а не «мы выбираем». Вот я и подстраховалась, взяла Пашу в свидетели, что уже выбрала. Надолго ли? Не знала сама. И, слава богу, ничем себя не выдала — оставалась для Ильи «самоуверенной московской дамой», к тому же замужней. Кстати, мы с ним сразу говорили на ты, с моей подачи, и это, как выяснилось позже, был серьезный промах — «ваша московская вгиковская манера». Но мы успели обменяться телефонами на случай — «если будешь в Питере заходи, поиграем и вообще обещаю прекрасную прогулку…» Скоро случай представился. Мы тогда работали с Ларисой Шепитько, я часто бывала у них на Кутузовском, а Элем Климов собирался ставить «Похождения зубного врача», и с Александром Моисеевичем Володиным мы там часто пересекались. Он услышал, что мы собираемся летом в Эстонию, Лариса с Элемом просто погулять, а я — в командировку от «Комсомольской правды», писать про Таллиннскую киностудию. Володин настойчиво приглашал сначала заехать в Питер, погостить у него на даче, а потом уже двигаться в Таллинн. Я мигом согласилась, у меня сестра жила на Фонтанке, и вообще много знакомых в Питере. Остановилась я у сестры и, вместо того чтобы гулять в такой прекрасной компании, стала вести автономную жизнь. На второй день я позвонила Авербаху, и он очень обрадовался, сказал, что скучает, все разъехались на лето, но он непременно найдет партнера, и мы поиграем у него. Я с бьющимся сердцем записала адрес: Подрезова улица, дом пять… Он на самом деле обрадовался, я слышала по голосу и ликовала. Если он не найдет партнера, можно просто погулять белой ночью. Партнера он нашел. Это был Саша Шлепянов, его старинный приятель, очень сильный игрок. Я разглядывала тесную квартирку, заставленную старинной мебелью, и пыталась понять, кто в ней живет. Еще до игры, в прихожей, на комоде я заметила записку с домашними инструкциями — по пунктам, и последний пункт — «…поливать цветы! Мать Ксения». Родители уехали в Усть-Нарву, снимают там дачу. Илья показал мне огромный балкон, единственное достоинство этой скверной квартиры — без ванны, без горячей воды, с маленькой кухней, и сразу рассказал, что раньше они жили на Моховой, а теперь вот пришлось разменяться с братом и он к этой Подрезовой никак не может привыкнуть. Мне, разумеется, хотелось узнать, есть ли у него жена, но до этого как-то разговор не доходил, я думала — сама пойму, уж в квартире-то всегда заметно присутствие женщины, но заметно было только присутствие мамы. Это как-то озадачивало. Трудно понять, почему я раньше об этом не задумывалась. Он носил обручальное кольцо на левой руке, как носят католики, а в России — вдовцы и разведенные. Могла бы давно спросить у Ромова, но не спрашивала. Предпочитала думать, что жена, наверно, есть, но какое это имеет для меня значение? Я в лучшем случае хотела с ним подружиться и не помышляла ни о каком романе, не говоря о замужестве. Да и отношения с женами бывают разные, тем более — после двух лет в Москве, где, конечно же, по сплетням, были у него какие-то женщины. Но в тот вечер во мне разгорелось любопытство. Играла я из рук вон плохо и проиграла. Кроме чужой волнующей квартиры еще и Саша Шлепянов, обходительный, язвительный, перебрасываясь с Ильей какими-то своими словечками-шуточками, создавал дополнительное напряжение. Эротическое, можно сказать. За круглым столом, под большим абажуром, с воспитанными петербуржцами, я оказалась не просто партнером и сценаристкой, а женщиной, которую видно насквозь: «Знаем-знаем, зачем эта дама пожаловала…» Предполагался и ужин, а к ужину — немного водки, немного коньяка. Еще и белая ночь за окном, и запахи цветов с балкона. Играли мы допоздна, а когда я полезла в сумку — расплачиваться, они отказались брать деньги — деликатно, поскольку я — командировочная, деньги мне в Таллинне пригодятся, так что — «отдашь когда-нибудь потом». Всякое «потом» мне нравилось, сулило продолжение. Тут оказалось, что скоро разведут мосты, и как я попаду к себе на Фонтанку — непонятно, да и кто мне откроет в огромной коммуналке? Шлепянов поспешно убежал, да с такой понятливой ухмылкой… Даже ленинградцы иногда забывают про эти мосты, а я и не подумала. Мы впервые остались с Ильей наедине, и это сейчас можно бы описать как «счастье первого свиданья», но нет, я сидела, аршин проглотив, сгорая от смущения. Выходит, пришла, чтобы остаться ночевать, да все еще так ловко подстроила! Но я тогда еще действительно не знала, что такое Петроградская сторона. Ну выпили, полили цветы на балконе, разговорились про общих знакомых, про кино. Тут, между делом, он рассказал про жену, что она приезжала к нему в Москву прошлым летом, ходили на кинофестиваль, а сейчас она на родине, в Литве. Он скучал по Москве и по кино — в Ленинграде ничего не посмотришь и не с кем даже поговорить. Я старалась быть хорошей собеседницей. В некоторых вкусах мы сошлись, по части Антониони и Бунюэля, и, совсем уж на пике откровенности, признались друг другу, что не так любим Чаплина, как все его любят. В общем, всласть поболтали, пока не кончились сигареты. Он курил болгарские, «Шипку» и «Сълнце», а в Ленинграде их еще поискать, кончились они во всем Ленинграде. Я сказала, что пришлю из Москвы, когда вернусь из Эстонии, как раз и отдам долг. Потом он выдал мне белье и показал, где спать. В квартире, кроме небольшой красивой гостиной, были еще две крохотные комнатки. Он радовался, что может принять «гостью нашего города» с такими удобствами, хоть и без ванной. «Извини, ходим в баню». Рассказал, как жил в Шексне, в каких углах иногда ночевал в Москве, я тоже рассказала про скитания по коммуналкам, уже почуяв, что мне не стоит быть «благополучной московской дамой», каковой я в то время и была на взгляд со стороны. Если бы не искала другого. — А чего другого вы искали? Или — кого? Чего-то другого. Это трудно сейчас понять. Но вам же интересно — про любовь? Со всеми подробностями? — Еще бы. А мне интересно, смогу ли припомнить детали, подтексты, нырнуть в то время. Безнадежная любовь все помнит. Утром Илья говорил с кем-то по телефону. Не говорил — мычал, крайне недовольный, и я поняла, что это звонит Шлепянов, и про что он спрашивает — догадалась. Какими словами, интересно бы узнать, думала я за завтраком, наблюдая Илью в легком смущенье. Он бы покраснел, если б умел краснеть. Мне стало смешно: вот уже третий человек нас соединяет — в уме своем. А мы и не помышляем. Я сделала вид, что ничего не слышала. В Таллинне первое, что я увидела — болгарские сигареты на каждом углу. Тут же купила блок «Шипки» и отправила Авербаху бандеролью. И тут же стала мучиться — не слишком ли явный знак внимания? Но карточный долг — святое дело. Как бы просто это было с кем угодно другим, тысяча подобных мелочей начисто стираются из нашей памяти. А этот свой вызывающий, головокружительный поступок помню. Ну просто письмо Татьяны к Онегину! Так он и понял этот жест. В Таллинне мы жили в маленькой закрытой гостинице ЦК, отнюдь не роскошной, как в других республиках просто опрятный дом приезжих. Номера Элем Климов заказал заранее. Там, в Таллинне, мы отпраздновали его день рождения — в роскошном ресторане «Глория», куда и днем не пускали без галстуков, а по вечерам ходили в артистическое кафе «Кукушка» — словом, гуляли по доступной нам загранице с эстонскими друзьями — у Ларисы там были однокурсники — Лейда Лайус и Юрис Мююр, а я еще по утрам посещала студию и «отсматривала» всю ее продукцию, а опекал меня — «московскую журналистку» — Ленарт Мэри, служивший тогда на студии просто редактором. Да, тот самый, что стал (теперь уже можно сказать «был») первым президентом независимой Эстонии. И не только этим знаменит: он крупный ученый, историк, этнограф и автор научно-популярных фильмов об угро-финских народах. Вскоре после того лета я снова с ним познакомлюсь — уже через Илью, который необыкновенно Ленарта уважал и ценил. Но это все потом, Эстония станет для нас «лирической величиной», сказочным островком, а в то лето я и вообразить не могла, что мы вместе будем гулять по этим улицам. Судьба исподволь позаботилась: все тот же Толя Ромов оказался в Таллинне, заключил там договор на сценарий про астрономов (режиссер К. Кяспер, редактор Л. Мэри) и собирался его писать вместе с Авербахом. Толя снимал комнату в пригороде, у самого моря. У него был с собой маленький магнитофон. «Хочешь, я поставлю любимую музыку Ильи Авербаха?» — и вот мы сидим с ним у серенького прохладного моря и слушаем «Modern Jazz Quartet». Сколько б я ни слушала потом эти элегические звуки — я вижу тот берег: яркое негреющее солнце, чистый песок, ветер гнет жесткую седую траву, и сквозь шорох песка и прибоя едва слышно «Jango» — в плохой, затрепанной записи. Ради этого я к Толе и приехала — чтоб услышать что-нибудь про Авербаха. Но больше ничего не услышала, кроме «любимой музыки», очень подходящей для прощания с несбыточной любовью. В Москве он вдруг позвонил! Из Ленинграда! Помню, что ванна у меня перелилась, я как раз стирала, и никого не было дома. Говорили мы недолго, он поблагодарил за сигареты, дал какое-то небольшое порученье и сказал, что надеется скоро быть в Москве. Я сдержанно что-то бормотала, а потом — вот эту сцену легко разыграть в немом кино — то ли прыгала, то ли плясала босиком, то ли упала на тахту и глядела в потолок, но про ванну вспомнила, когда вода полилась в коридор. Раньше барышни падали в обморок от нахлынувшего счастья, им давали нашатырь, а я ползала с тряпками и тазами и смеялась. Одна в пустой квартире — редкая удача, «остановись, мгновенье!» Но они никогда не останавливаются. Илья приехал и сразу позвонил. Мама Толи Ромова Нина Игнатьевна снимает дачу в Переделкино, они с Толей засядут там работать, и не могу ли я приехать туда завтра на небольшой праздничный обед, от меня это совсем близко, по Киевской дороге. Я жила тогда на Ростовской набережной, в известном всей Москве «круглом» доме, к нему только что пристроили «крылья», и отец, став большим начальником, получил квартиру в левом, «совминовском крыле». Моя комната выходила в тихий Неопалимовский переулок, а по ночам я работала в кухне, откуда вид на реку, на Бородинский мост и метромост, на проплывающие баржи и речные трамваи. Прямо напротив — Киевский вокзал. Мы договорились, что Илья меня будет ждать на станции «Мичуринец» в пять часов, а то мне самой не найти дорогу к даче. Целый день я ездила по каким-то делам, на «Мосфильм», в «Комсомольскую правду», и вот — бегу, опаздываю, разгребаю толпу у Киевского и кидаюсь в первую попавшуюся электричку. Уже шестой час, «час пик», вроде бы все поезда — «со всеми остановками». Стою в тамбуре и подгоняю поезд, а то он больше тормозит, чем едет. На всякий случай спрашиваю: «А в Мичуринце?» «Со всеми, кроме „Переделкино“ и „Мичуринца“». Прилипаю к стеклу. Вон он стоит — Илья, на платформе, в зеленоватых брезентовых джинсах, и смотрит на часы, а мы проносимся мимо. «Посмотри же сюда!» — я колочусь в стекло, а он как раз смотрит на часы. А я даже адреса не взяла на всякий случай, даже улицы не спросила. На ближайшей станции внимательно вчитываюсь в расписание. Поезда идут часто, но опять — «кроме Мичуринца». Он стоит уже час. Ну не тот это человек, чтоб стоять больше часа! Все, я проехала. мимо своего счастья, и в каком-то уже философическом оцепенении вышла на всякий случай в «Мичуринце». Счастье мое уже собиралось уходить, но тоже оглянулось на всякий случай. Он даже не бранился — такой у меня был вид. Никакого вида — увядший букетик для Нины Игнатьевны в руках и полный упадок сил. А ему как раз исполнялось тридцать лет. Заранее не сказал, потому что — что тут праздновать, да и денег нет. У добрейшей Нины Игнатьевны окрошка и малина — любимая ягода Ильи. На террасе, в кривом скрипучем доме — водка из граненых стаканчиков. И первый реальный кинодоговор забрезжил, и поездки в Эстонию. И было за что выпить, и было куда в гости пойти в тот вечер. Мы побывали на настоящей даче, у Ираклия Андроникова, его дочь Манана пригласила. Там были еще гости, и сам Ираклий Луарсабович развлекал своими замечательными рассказами, но я мало что запомнила. Я запомнила Илью на платформе «Мичуринец». Он меня дождался! В ту неделю мы еще куда-то ходили, на футбол в Лужники, в Дом журналистов, в гости к его однокурсникам, и даже однажды целовались на ступеньках у воды, у Бородинского моста, под моим «круглым» домом, но я не приглашала его к себе, и он не стремился со мной уединиться где-нибудь в комнате у Толи в Гнездниковском. Мы просто «гуляли», как школьники, которые «дружат» и боятся прикоснуться друг к другу. В этом было что-то странное. Ну да, мы целовались у реки, но тут же разбежались, распрощались Как будто навсегда. До меня дошла наконец-то горькая истина: «А я люблю женатого». Как песенка из «Дело было в Пенькове». Во всей своей «пеньковой» простоте, в смысле — «с любовью справлюсь я одна…» Я часто бывала на «Мосфильме». Выбивала аванс, который всё не платили из-за чистых формальностей. Однажды в коридоре ко мне подошел незнакомый человек спортивной наружности и спросил без предисловий: «Вы не играете в волейбол?» Я когда-то играла во вгиковской команде, но неважно играла, в чем сразу призналась. «Может, вы плаваете?» Я в школьные годы плавала кролем, третий разряд, и давно не плавала. Он дико обрадовался. «Выручайте, — говорит, — надо ехать в Ленинград, состязаться с „Ленфильмом“, а все наши девушки по экспедициям. Уже билеты в кармане, а команды не собрать». Он с таким отчаяньем, схватив меня за рукав, упрашивал, что я согласилась выступить за честь «Мосфильма», «Вы кто по специальности? Что-то я вас раньше не видел». — «Я автор, — говорю, — на договоре. Сценарий пишу». «Ну ничего, — он чуть-чуть напрягся, покумекал. — Мы вас кем-нибудь оформим, зарплату получите». Я согласилась не ради зарплаты, от самого слова «Ленинград» сердце обрывалось — «крыша поехала», как теперь говорят. Я не подумала, могу ли проплыть стометровку кролем, доплыву ли вообще. В четырнадцать лет — да, триста метров плавала для разминки, а мне скоро двадцать шесть, и что я скажу маме и что — Ларисе Шепитько, которая неотступно следит, как продвигается сценарий? Сказать, что решила «вернуться в большой спорт» — да кто мне поверит? Начиналась полоса большого вранья. В Питере нас поселили в какой-то «общаге», и я сбежала к родственникам. Волейболистки откуда-то прибыли, и мне не пришлось позориться, просидела запасной. А плавать кролем действительно было некому. Да еще в открытом бассейне, под моросящим дождиком, в так называемом ЦПКиО. Начиналась промозглая питерская осень, в бассейн летели желтые листья. От одного вида этой темной воды пробирал колотун. С утра я позвонила Илье, мы условились о встрече в каком-то кафе, в центре… Он был нервный, куда-то бежал, я явно не вписывалась в его планы. Спортивный руководитель подбадривал: «Главное — доплыть, как-нибудь, хоть за час, а то получим „баранку“. Ты на них не смотри, у них „подставные“, сейчас мы их снимем…» Он побежал разоблачать «подставных» пловчих, не имевших отношения к «Ленфильму», а мы плюхнулись в холодную воду и поплыли среди желтых листьев кролем. Пятьдесят метров я проплыла в хорошем темпе, а потом стала умирать. Никому не советую. Вот так, без тренировки. «Подставная» пловчиха была далеко впереди, две другие девушки отстали навсегда, может, и вовсе не доплыли, а я доплыла! Каждому случается раза два-три в жизни побывать на волосок от смерти. Вот это был тот самый случай. Как я вылезла и кто меня растирал — не помню. Фальшивую «ленфильмовку» разоблачили, я принесла команде очко! Мы встретились в неуютном тесном кафе, и Илья мне рассказал сюжет «Непобедимого» — про стареющего, сходящего бегуна на длинные дистанции. Он мечтал снять картину про спорт, сам, как режиссер. А пока — эстонские астрономы уже встали поперек горла, и еще какие-то предложения, планы, дела, дела, дела… Я была тут явно некстати. Глаза у него бегали, разбегались. К нам кто-то подсаживался, и один человек, маленький, усатенький, засиделся, они давно не виделись и болтали помимо меня. А когда мы встали — уходить, зашуршали своими «болоньевыми» плащами, приятель этот вдогонку спросил: «Ну как там Эйбутина, все в порядке? Когда ждете прибавления?» Илья ответил, что скоро, и всё в порядке. Мы вышли под моросящий дождик. Я была этой новостью так ошарашена, что вопросы застревали в горле. Да и вопросов не было, все объяснилось: у него беременная жена, и ей скоро рожать. И он даже не делает вид, что рад моему приезду. Доплыла, идиотка. Разговоры сами собой сворачивали на надежные литературные тропы. Про жену удалось узнать, что она из Каунаса и не любит Тургенева. Зато можно в тряском трамвае обсудить, религиозный ли писатель Достоевский. На набережной Фонтанки мы старательно отворачивались от лестниц, ведущих к воде. Помню, как он уходит по лужам, быстро, косо, одно плечо выше другого. Уходит навсегда. Вдруг, недели через две — звонок откуда-то издалека, незнакомое эстонское название. И двое — Илья и Толя — наперебой мне рассказывают, как прекрасно они живут, что за волшебное место это Пыхо-Ярве возле города Отепя, который под Тарту. «Приезжай, если можешь», — говорит Илья. «Приезжай — не пожалеешь!» — кричит Ромов. «Я тебе перезвоню завтра в это же время, — говорит Илья командным тоном. — Развязывайся с делами и бери билет до Тарту». Времени пококетничать, потянуть «я подумаю…» не оставляют. За меня уже приняли решение. А у меня недописанный финал, и Лариса рвет и мечет, и завтра сдавать очередной вариант, и в газету надо ехать ругаться, передернули мою статейку до полного «наоборот», газетный «подножный корм» дорого достается, журналиста ноги кормят, а туфель осенних нет, а которые есть — их уже никто не починит. Я сижу за машинкой, тупо уставившись в очередной, четвертый финал. Я уже знаю, что поеду, — пропади оно все пропадом! Из последних драматургических сил сочиняю версии для родителей, для Ларисы… В Тарту я не стала ждать автобуса, схватила такси, и таксист оказался гонщиком, и помчался по извилистой дороге так, что дух захватывало. В духе картины «Мужчина и женщина» (которой тогда еще не было) летела я в Пыхо-Ярве. Приезжаю — среди леса дом, белый как корабль. Вокруг — ни души, ни звука, только листья падают. Кричу «Ау!» — как в русской сказке. Вижу озеро за деревьями, посреди озера — остров. Тишина на много километров вокруг. Наконец, вылезает откуда-то старый привратник. Он ни слова не знает по-русски и глуховат. Кричу ему в ухо фамилии постояльцев — Ромов, Авербах! Кое-как, жестами, объяснились. Они пошли к автобусу меня встречать. Они жили там одни. Наверху ресторан, внизу — комнаты для приезжих. «Ты ела когда-нибудь настоящий Пыльтса-амасский мармелад?» — вскричал Илья, как только мы встретились. Они передразнивали эстонский акцент и веселились как дети. Сценарий свой эстонский читали с акцентом. Илья любил Эстонию хотя бы за то, что она не пахнет большевиками. В тот год его ненависть к их власти была в самой острой фазе. Он обличал эту власть вместе с «важнейшим из искусств» и с продажной литературой, не упускал случая сказать обвинительная речь — то про фильм «Великий гражданин», то про Гайдара, то про Маяковского, уж не говоря о современниках. Как раз недавно прошел суд над Иосифом Бродским, стенограмма этого процесса ходила по рукам, и я ее читала, но для ленинградских интеллигентов, друживших с Бродским и знавших все подробности, это была такая свежая рана, такая ярость от бессилья закипала, что только взять автомат и крушить подряд этих ублюдков. Я с изумлением выслушивала эти приступы «молодежного» экстремизма. Мы еще во ВГИКе прошли эту стадию, уяснили, в какой стране живем, гражданский темперамент иссяк, растворился в анекдотах, и каждый в одиночку выбирал для себя путь выживания, неучастия в этом безобразии. В обличительных монологах Ильи я ничего нового не услышала, все это уже носилось, пронеслось в воздухе, кого-нибудь другого я бы и слушать не стала, но он уже тогда называл октябрьскую революцию «переворотом», досадовал и негодовал прямо из того времени, будто сам причастен к этой беде, к тому, что не спасли, профукали Россию, отдали кучке большевиков, которых никто и в расчет не принимал. Он уже читал Шульгина и множество мемуаров о том времени, и философствовать об истории, которая не имеет сослагательного наклонения, с ним явно было неуместно. Он там жил, где большевиков еще и духу не было. «И служил царю и отечеству? — усомнилась я. — Да ты бы там стал левым эсером!» «Никогда! — обиделся он. — Я — кадет, давно вступил в кадетскую партию, дружу с Шингаревым и Кокошкиным…» Мы тогда еще не читали ни Набокова, ни бунинские «Окаянные дни», ни Бердяева, ни «Несвоевременные мысли» М. Горького, ни многого другого, хотя уже обсуждали с пристрастием подпольного «Доктора Живаго», и я сейчас с трудом, боясь соврать, вспоминаю наши исторические споры. Обреченность моих дедов-прадедов была для меня удручающей данностью столь понятной и неактуальной, как прошлогодний снег, и вдруг воображением Ильи она окрасилась в романтические тона. То есть из «России, которую мы потеряли» — я знала многих — старух, старушек, не сдающихся дам. Но не мужчин — их истребили, они самоистребились, обратились в поэтические тени, а душа по ним тайно тосковала, искала своего придуманного Гумилева. Илья был оттуда, из всех миновавших эпох он выбрал эту обреченность, хотя и в других временах был вполне начитан, и его детские, юношеские чтения оставались всегда при нем. Даже совсем уже больной, он перечитывал «детские» свои книжки — Дюма, Диккенса. Вообще ностальгия была частью его существа, не минутными приступами, а навязчивым состоянием, с которым он пытался бороться. Иронизировал над собственной сентиментальностью. По какому потерянному раю он тосковал? По запаху «кашки»? Он клевер всегда называл «кашкой» и любил все деревенские запахи, только в русской деревне умел отдыхать. Но об этом я узнала нескоро. Тогда в осеннем Пыхо-Ярве мы делали вид, что попали в рай. Мы ходили обедать в безлюдный городок Отепя, украшенный высоким трамплином, — там тренировались мастера зимних видов спорта, и весь город принадлежал им. Мы гуляли по лесам и говорили обо всем на свете, кроме самого главного. Я знала, что его дома ждет беременная жена, что его терзают угрызения совести и полная неопределенность будущего, и надо мне как-то самой прорвать это молчание, уже невыносимое. А у меня язык отсох. Непьющий Толя Ромов оставил нам чуть отпитую бутылку водки и удалился спать, объявив, что к завтраку Илью не ждет, потому что завтра суббота и можно сделать выходной: понаедет местное начальство, вот уже в ресторане что-то жарят, а в коридоре весело перекрикиваются по-эстонски первые посетители. Стало быть, Илья остается у меня ночевать. Естественный ход вещей — лечь в одну постель — мы сами ухитрились превратить в событие чрезвычайной важности. Мы — взрослые, опытные, привычные к фривольным шуткам и сплетням — сидим, смеемся, над собой смеемся. Сверху музыка из ресторана, за окном машины тормозят у парадного подъезда, и публика, приехавшая веселиться, сходу начинает хохотать. Мы убежали к озеру и там, в тишине, в темноте, на мостике, нашлись какие-то слова, которых я не помню, о том, как надоело лгать жене и притворяться, что «все будет хорошо», когда уже ясно, что хорошо не будет, и он испортил человеку жизнь, а сам-то он — никто, обманщик, дилетант, вечный студент и неудачник с дурным характером, никому не приносящий счастья… Не помню, что из покаянных слов слышала я тогда, а что потом, но помню, что покаяние оказалось заразительным. Я молча перелистывала собственную жизнь с отвращением, ужасалась грехам своим и ничтожеству, как никогда прежде. Всё про себя — ни исповедаться, ни покаяться у меня никогда не было потребности, но в этом Пыхо-Ярве что-то со мной случилось, чему религиозные люди дали бы свое название: грехи настоящие обозначились под осенними звездами и отделились от мелких житейских глупостей, и это касалось только меня, моего прошлого, мне кто-то показал, чего я себе никогда не прощу, и если я помню сейчас об этом «просветлении», приносящем острую боль, то только потому, что эта вспышка случилась там и тогда. К самобичеванию Ильи это не имело отношения. Я знала наизусть все, что он должен сказать, выговорить при мне, и то знала, что не скажет, но думает — что боится и мне испортить жизнь. И было бы что ответить: что нечего там портить, сама испортила — дальше некуда… Столь долгая рефлексия не располагает к простым физическим движеньям: погасить свет, выключить электрокамин, задернуть шторы. Там еще не топили, и холод был промозглый. Оказалось, что Илья всегда спит голый, и я, дико стесняясь, сняла и спрятала свою ситцевую полосатую рубашку, такую неуместную для соблазнительницы, любовницы, разлучницы. И вдруг над нами грянул эстонский хоровод. Вы знаете, как пляшут эстонцы, когда сильно выпьют? Они образуют хоровод, кладут руки на плечи друг другу, скачут и топают. Пока не устанут, а они никогда не устают. Прямо над нами, над нашим потолком — плюх! плюх! плюх! — в ритме кузнечного цеха или той круглой штуки, «бабы», что рушит дома, грохотал над нами до утра эстонский хоровод. Тут пора ставить точку в хронике моей безответной любви. Началась наша переписка и тайные свидания. Я сейчас перечитала все его письма и пыталась разложить по порядку. Их больше пятидесяти, и моих столько же. Свои я нашла в его письменном столе, уже после его смерти, когда разбирала бумаги. Они без конвертов и дат, почти все — на машинке (чтобы мама думала, что я работаю). Он тоже писал на машинке — тоже морочил домочадцев. У Ильи были прекрасные руки, красивые длинные пальцы. Я получала его письмо и видела, и ощущала эти руки, которыми он писал. А если бы я его не знала — совсем, и мне откуда-то, по ошибке, вдруг залетело одно такое письмо, я бы его не выбросила, сохранила, я бы влюбилась в этого человека и искала его, может, всю жизнь. А не ту, которой оно предназначалось. Я бы лишила ее этого сокровища. Я слишком затейливо выражаюсь? Да, и в письмах тоже мы не были простачками — и лукавили, и впадали в литературность, и хотели казаться лучше, чем есть. И становились лучше. Если сложить всю переписку подряд, получится эпистолярный роман со счастливым концом, непредсказуемо счастливым. Мы поженились в мае 1966-го — официально, в ЗАГСе, но до этого я уже полгода жила у него в Ленинграде. А еще до этого был год скитаний, в разных географических точках, по чужим домам и дачам мы встречались, а иногда оставались совсем бездомными. Не стану описывать эти встречи — тут больше подходит кино, серию трагикомических новелл «В поисках необитаемого острова» я вижу как на экране, во всех подробностях, но где теперь взять эти подробности, и где взять нас — молодых? Илья хотел бы жить в Москве, мы так и договаривались — вот кончит он режиссерские «козинцевские» курсы, поставит первую полнометражную картину, и мы переедем. Но не удалось, на самом деле — и не пытались. «Ленфильм» затянул, там Илья пришелся ко двору, да и я много работала в 1-м объединении «Ленфильма», мы оба оказались беспечны и бестолковы в смысле устройства быта. Казалось бы, всё у нас есть — «квартира в Москве и квартира в Петербурге», как у моих предков, и билеты на поезд «Красная стрела», которые почти всегда оплачивала студия. На самом деле это были родительские квартиры, и я нигде не была «у себя дома». Скучно описывать эти банальные вещи — как «любовная лодка» разбивается о быт и как наступает усталость, тот неизбежный стресс, что теперь назвали «кризисом среднего возраста». Илья меня упрекал в «чемоданном настроении» — я всегда хотела в Москву иногда гневался не в меру, он был вспыльчив и отходчив, и их отношения с мамой Ксенией Владимировной на том держались: «милые бранятся — только тешатся». Мы жили в тесноте и в обиде — постоянной — кого-нибудь на кого-нибудь. Я не умела ссориться и молчала, постепенно превращаясь в безропотный «предмет домашнего обихода». Те, кто прожил семь лет под руководством свекрови, меня поймут. У нас были внешне хорошие отношения, и можно было обойтись без кризиса, если бы не пресловутый «квартирный вопрос». Нынешним людям это трудно понять. Мы уже зарабатывали изрядные деньги, купили в 1972 году «Жигули» (по студийному списку, большой дефицит!), а дома-то у нас не было! В кооператив не принимали — у родителей «достаточная жилплощадь», и для меня «свой дом» превратился в навязчивую идею. Когда я догадалась «дезертировать» из Ленинграда, это был последний предел отчаянья. Илья меня уже не любил, я это чувствовала по всему, но и не отпускал — мы работали вместе, и вообще он ценил семейный порядок и не понимал моего бунта. Не хочу рассказывать о той кошмарной зиме 1974 года, когда я в Ленинграде отселилась в гостиницу и ходила — стыдно вспомнить — лечиться к психиатрам. Меня не отпускал комок в горле. Потом я написала ему письмо на двадцати страницах, где подробно объяснила всё-всё-всё — почему «так больше жить нельзя», почему я уезжаю и — будь что будет. Это письмо сохранилось, и я теперь рада, что сохранилось: в нем с необыкновенной ясностью ума разложен по полочкам весь этот «кризис среднего возраста». А я тогда думала, что схожу с ума, и не спала ни при каких снотворных. Я уехала — выздоравливать и строить самостоятельную жизнь, то есть добиваться своего жилья. Вскоре я встретила замечательного человека, которого полюбила, но это совсем другая история и другая любовь. С Ильей мы не разошлись, хотя я этого ждала в любую минуту. В Ленинграде я бывала редко, и этот город для меня так и остался «с комком в горле». Несколько лет я жила двойной жизнью, чего можно только врагу пожелать, но я ни о чем не жалею, не каюсь, не оправдываюсь, потому что знаю — вернись я в семьдесят четвертый год, все было бы как было. Видно, так мне на роду написано. Я обрела свое жилье, вот эту маленькую «крепость», и мы с Ильей стали снова сближаться, мирно и весело, без выяснения отношений, ездили вместе в деревню, в Армению, в Литву, вместе работали над «Голосом», Новый год всегда встречали в Репино. Потом он получил квартиру на Кировском, и вместе делали ремонт, колесили по Питеру за покупками, переезжали, справляли новоселье… Это была новая, вполне платоническая эра нашей любви, двух свободных людей, не сцепленных общим ведением хозяйства и постелью. Мы были благодарны друг другу за то, что удержались, не сказали непоправимых слов и не разбежались бесповоротно. А была тысяча поводов и причин. Я ответила однажды в каком-то интервью, что нас крепче всего связывало ударение в слове «творог», мы терпеть не могли, когда говорят «тво́рох». Потому мы и не разошлись. Дима Быков опубликовал это мое признание, хотя это шутка, конечно, но в ней намек, и Быкову, как поэту и журналисту, пришлось по вкусу такое объяснение родства душ: оно в глубинах языка и интонаций. Мы не были самой счастливой на свете семейной парой. То есть — были, но недолго и всегда — не дома, где-то в разъездах, в Репино, в Болшево, в киноэкспедициях, в поезде «Красная стрела», в самолетах, в машине, в деревне… Пожалуй, много наберется путешествий. Но главное — я ведь могла ему любой черновик показать. Пусть не понравится, пусть отругает — но могла! И он спешил показать любой матерьял, хоть с дублями, прямо в монтажной, то, что никому не показывают. Потому что пока он учился на режиссера, мы вместе «делали уроки», это была круглосуточная жизнь вдвоем, что для любви не очень полезно. Мы транжирили наше счастье, не экономили. И при всей откровенности — не всё могли друг другу сказать. Когда наступило время усталости, мелких обид и раздражения, мы, как последние идиоты, долгими бессонными ночами «выясняли отношения». И всегда не умели сказать самого главного, ну как дети, когда не умеют объяснить, где болит. Илья был обидчив и ревнив, по пустякам — вздорно и несправедливо. Когда же наступили действительно другие времена, и я уехала, и у меня начался роман, а потом и у него — мы обходили эти темы стороной, никогда не задали друг другу прямых вопросов, не застали врасплох. Можно сказать, что прятали голову под крыло, но скорее — интуитивно оберегали то, что осталось. Боялись потерять друг друга совсем. Так и во время болезни. Мы начали разговор с этой тяжелой темы. Каждый раз я ехала в клинику и тряслась — вдруг он прямо спросит: «У меня рак?» Но он ни разу не спросил. Хотя в конце, видимо, уже понимал, не мог не понимать. Но это слово ни разу не было произнесено. Чтобы мне не надо было отвечать. «Ну тебе со мной и досталось, — сказал он как-то перед Новым годом, когда еще мог говорить. — Такой неудачный муж попался…» Что на это надо ответить? «Удачный, удачный!» — и тогда я прекрасно знала, что надо ответить, но могла только выбежать из палаты и заплакать. Мы многого друг другу не сказали. Оставляли на потом. Вот это «потом» длится уже семнадцать лет, и я все говорю, говорю, оправдываюсь… Однажды, в одном сценарии, который так и не был поставлен, нужно было написать монолог о любви, Илья требовал, чтобы я написала. Я уклонялась, потому что это очень трудно, невозможно, никогда не получается — выразить любовь словами. В стихах — да, но стихи с экрана плохо звучат. Он это понял еще на картине «Степень риска», там у негоСмоктуновский читал в больничной палате Пастернака — «Быть знаменитым некрасиво». Я сказала: «Сам напиши!» Он мучился, рвал черновики. Потом устал, включил приемник. Это было в деревне Комкино, на Шлинском озере. В тот вечер по радио объявили, что умер Владимир Высоцкий. Почему-то это не было большим потрясением. Как будто этого можно было ждать каждый день. Мы стали вспоминать его песни и его жизнь. «Год за три, как на войне». На самом деле, его короткая жизнь так много вместила, он всегда спешил и так много успел. «Год за три». Илья тоже мечтал о такой плотности жизни, очень боялся «пережить свое время». Вот только бы поставить «Белую гвардию», и все, и — «привет вам, птицы!» Это была его любимая присказка.«Папаня» и «Коза»
Эту историю я рассказывала много раз студентам во ВГИКе и на Высших курсах режиссеров и сценаристов, потому что это хороший урок — для тех, кто собирается писать сценарии, и для начинающих режиссеров.Это было в Ленинграде летом 1966 года, когда мой муж, Илья Авербах, учился на режиссерских курсах, так называемых «козинцевских» — удивительных курсах, созданных при студии «Ленфильм». Григорий Михайлович Козинцев был единственным верховным авторитетом. Ученики тоже были неслабые. Все с высшим образованием и уже поменявшие свои профессии на рискованную жизнь в кино. Илья, например, бросил медицину и окончил в Москве сценарные курсы. Кино любил фанатично и знал все, что тогда было доступно. Два московских года прошли в просмотрах запрещенных картин и разговорах о кино. Пора было самому снимать что-нибудь гениальное. И вот пришло время первой курсовой работы. Я существовала при курсах не только как жена, но и как сценарист — уже с дипломом, с напечатанным в «Искусстве кино» сценарием, со снятой на «Мосфильме» картиной «Крылья». Козинцев относился ко мне благосклонно, со своими учениками не церемонился, а со мной был любезен, поскольку еще до моего приезда выбрал именно наш с В. Ежовым сценарий «Повесть о летчице» и раздал студентам для режиссерских разработок, сказав, что это самое «толковое» из того, что пишут сейчас. Сам он занимался только классикой, тогда Шекспиром, и ничего из современного, подцензурного кино ему не нравилось. Для курсовой работы Авербаха я написала небольшой сценарий под названием «Папаня». Он как-то легко и удачно сложился, мои пятнадцать страничек Козинцеву понравились, и подготовительный период прошел без запинок. Нашелся оператор, выбрали с ним ленинградские дворы — все действие происходило на натуре, в роли папани согласился сниматься прекрасный артист БДТ Жора Штиль, на роль сына — Валентина Кузяева — нашли (подсказал Игорь Масленников) очень смешного первокурсника из актерского училища — Витю Ильичева. И вот накануне первого съемочного дня едем в Комарово, на дачу к Козинцеву, чтобы он поставил последнюю подпись. Едем с Игорем Масленниковым, на его «Волге», с настроением деловым и приподнятым, с фотографиями, режиссерской разработкой и новым моим сочинением про того же героя Валентина Кузяева. Масленников, найдя артиста, сам захотел его снимать и попросил написать продолжение, тоже на две части, на двадцать минут. И вот Козинцев читает сценарий, смотрит фотографии, мы с нетерпением ждем подписи, а он не подписывает, что-то тянет, а потом взрывается: — Где же тут сценарий? Тут нет сценария. У вас ничего не получится. Нет, я это не подпишу. — Григорий Михалыч, но у нас завтра с утра первый съемочный день. Штиль дает всего три дня… Но вы же сами, вам же понравилось… Что я лепетала, конечно плохо помню. Илья и Игорь вообще потеряли дар речи. Они знали крутой нрав Козинцева. Возражать было бесполезно. — Но вы-то, Наташа, должны понимать, что это нельзя снимать, тут нет сценария. Чему вас учили во ВГИКе? — Ну как же нет? Вы же сами… Вам же понравилось… Литература! — Да, ваш рассказ мне понравился. Есть характеры, есть финал, диалоги отличные, но это не сценарий. Не подпишу. — Но объясните…. — У вас все рассыплется. Смотрите, сколько здесь объектов. Да вы сами должны понимать. Поезжайте, подумайте, через неделю покажете, что получится. — Но у нас завтра и оператор, и Штиль… всего три дня. Завтра или никогда…. Он отшвырнул бумаги, и разговор был окончен. — А если мы сегодня за ночь переделаем сценарий? Сократим, например, вот эти эпизоды… Я канючила долго, а мужчины молча наливались ненавистью и безнадежностью. — Я не знаю, что хотите, то и сокращайте. Позвоните тогда, я рано встаю. Мы сели в «Волгу» и долго молчали. Сценарий показался мне убогим и вялым. Было невыносимо взять в руки текст. — Ну Коза — самодур… — лучше не вспоминать, какими словами поливали мы учителя всю дорогу, и потом, когда сидели у нас на Подрезовой улице, в тесной комнате со старинной мебелью и большой террасой, где цвели левкои и табак, где белыми ленинградскими ночами можно было читать «без лампады»… Мы выпили четвертинку и прокляли Козу и свою унизительную судьбу. Взрослые люди, а зависим от всего, от левой ноги какого-то «классика» — да он же дутый авторитет, потому он и классик, что за современную жизнь не берется, брезгует. Мы вылили всю скопившуюся ненависть. Игорь уехал. Не помню, сидела ли я на террасе — там тогда стояла скамейка среди табака и левкоев, — смотрела ли на трубу, торчавшую ровно напротив нашей террасы, но белые ночи, питерские белые ночи мне именно тогда стали отвратительны. Пришлось читать «без лампады» собственный надоевший сценарий. А в чем он все-таки может быть прав, наш Коза? У меня не было к нему ученической ненависти. Может быть, он в чем-то прав, раз так решительно отвергает сценарий? История простая, в стиле «неореализма» и «новой волны». В ленинградском дворе вдруг появляется человечек в соломенной шляпе, явно провинциал, ищет сына, которого не видел много лет, хочет познакомиться с ним, но так, чтобы не встретиться, с бывшей женой, хочет предстать перед взрослым уже сыном в лучшем виде. И вот они знакомятся, идут с этого двора в парк кататься на речном трамвае, на колесах обозрения, стесняются друг друга, не находят слов, не слишком нравятся друг другу. Отец — с Севера, простой работяга, проездом с курорта, сын — заторможенный дылда, водится со шпаной, но всегда на побегушках, не вписывается в компанию. Сын — Валентин Кузяев — провожает с облегчением отца на вокзал, отец хочет подарить фотоаппарат, а тот не берет, ни за что — не так уж он полюбил отца, чтобы брать у него дорогую вещь, но все-таки отец, волнующая встреча, обидеть не хочется. Про двух бессловесных людей, не умеющих ни открыть, ни скрыть свои чувства. На рассвете я поняла, чего от нас хочет Козинцев. Я придумала! Всего одну деталь: пусть ребята во дворе возятся с мотоциклом. И мотоцикл у них не заводится. А в этот момент появляется папаня. И весь сценарий выстроился. Я разбудила Илью и рассказала ему смутную идею — мотоцикл! Они возятся с мотоциклом, на них кричат из окон, потому что мотоцикл рычит и мешает утреннему сну. Илья проснулся, как будто и не ложился. А засыпал со словами: «…курсовую не снять, все пошло прахом, и лучше об этом не думать, потому что всё, кранты! Если Коза заупрямился, ничего не будет». Но услышав про мотоцикл, он тут же стал сочинять. Папаня понимает толк в мотоциклах, он вообще механик высшего разряда, может починить любой мотоцикл, и наш Валентин Кузяев становится на время самым главным, не аутсайдером, каким был во дворе, а нужным человеком, благодаря появившемуся невесть откуда папаше — проездом из Сочи в Норильск. — Садись, пиши, — сказал Илья. Часов с шести до девяти я переписала весь сценарий. Все диалоги следовало поменять. Все эпизоды другие, они сгруппировались вокруг мотоцикла. Как они пытаются завести мотоцикл, как появляется доброволец в соломенной шляпе и помогает им, высматривает сына, знакомится, оказывается, это и есть «папаня» длинного Кузи. Как мотоцикл заводится наконец, и первая поездка — отец и сын на чужом мотоцикле, радость, всеобщее уважение, они фотографируются с этим мотоциклом, отец каждому из приятелей пожимает руку. Сцену в «мороженице», в открытом кафе, мы оставили, там смешной диалог, и сцена на вокзале осталась прежней; в остальном сценарий был переписан. Дождались девяти утра и стали обсуждать, кто из нас позвонит Козинцеву. Голова была ясной, как белая ночь. Короткометражка лежала как на ладони. Мы не спешили, и с полной ясностью просчитывали варианты. Если я позвоню, со мной Коза будет любезнее, но… должен звонить режиссер! Он за все в ответе, он должен показать характер, а я опять начну задыхаться и сбиваться… Решили сообща: звонить должен режиссер! Я, конечно, буду слушать, в другой комнате был параллельный аппарат. Козинцев сам взял трубку. Илья долго ему напоминал: «Мы были у вас вчера, и вот, кажется, придумали, хотели посоветоваться…» Козинцев все прекрасно помнил, уже раздражался: — Да, да, я слушаю, что вы придумали? — Мотоцикл. У них во дворе будет мотоцикл, они его чинят, а Папаня ввязывается, он знакомится с сыном, пока они… чинят мотоцикл. — Все понятно! Я все понял, хорошо. Это я подпишу. Очень хорошо придумали. Теперь у вас есть сценарий. — Мы сейчас приедем?! Уже написаны первые эпизоды. — Не надо приезжать. Я верю, теперь у вас все получится, не теряйте времени. Я сейчас позвоню Орлеанскому (завучу курсов. — Н. Р.), он позаботится обо всех формальностях. — А сценарий? Вы не будете читать? — Потом. С мотоциклом все должно получиться. Съемки начались в тот же день. Найти мотоцикл и подходящих ребят из детской комнаты милиции не стоило труда. Все мои сцены в парке, с колесом обозрения, прогулками и разговорами были забыты. Диалоги переместились поближе к мотоциклу. Появилось единство времени, пространства и действия — это с точки зрения классической драматургии. А в кино — появился так называемый «подсюжет», некое реальное практическое дело, которым заняты герои. Оно всегда продуктивно. Я называю это «полезной помехой», и десятки раз вспоминала историю про мотоцикл потому что десятки раз читала сценарии, где не хватает кинематографической плотности, где герои, либо сидя в креслах, либо гуляя по парку, за ресторанными столиками, за «чашечкой дымящегося кофе» — выясняют сложные отношения. В то время как люди обычно заняты каким-нибудь делом, руки их заняты, и ноги, и мысли их заняты этим конкретным делом, и за ним — за конкретным делом — всегда интересно следить, даже за тем, заведется или нет мотоцикл, и кино обладает достаточной емкостью, чтобы вместить и то и это — практическое дело и многозначительные взгляды героев, интонацию, с которой можно говорить — даже о селедке, которую следует чистить не так, а эдак. Никогда нельзя забывать о том, что самое важное в жизни происходит не за чашечкой кофе и не в креслах, а где-нибудь в затрапезной кухне за чисткой селедки или во дворе, за гаражами, у подержанного мотоцикла. И Козинцеву это было ясно с полуслова, потому что он был мастер и уже сорок лет снимал кино. Вы спросите — чем все это кончилось, что за фильм получился? Получился, даже в конце концов вышел на большой экран — фильм из студенческих короткометражек уже под маркой «Ленфильма», его недавно показали по телевизору, так что где-то он существует. Но я должна рассказать продолжение — вторую короткометражку с тем же героем, с тем же артистом Витей Ильичевым, снимал Игорь Масленников, и это тоже была драматическая история. Сценарий назывался «Кузя и Маргарита», а в окончательном виде этот маленький фильм мы назвали «Незнакомка», и он вошел в фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина».
Тайна предков
«Тайна предков» — слова из нашего домашнего обихода. Вот например — я долго не могла говорить «спасибо» и «пожалуйста». «Что надо сказать?» Я знаю, что надо сказать «спасибо», но молчу. На десятый (или на сотый) раз на меня махнули рукой: «Тайна предков!» Я-то знала, почему молчу, и только к семи годам научилась выдавливать из себя, поперхнувшись — «пожалуйста» — чужое, всеобщее слово, а «спасибо» застревало еще долго, потому что — как это так? — одно и то же «спасибо» за хороший подарок и — когда просто протянут ложку… Потом, в школе, мы разыгрывали по ролям рассказ «Волшебное слово», и тут я уже руководила октябрятами, постигавшими азбуку вежливости, но это была уже не я… Настоящая «я» никогда не спрашивала — «почему?» Потому что не хотела быть «почемучкой», потому что уже прочла книжку Б. Житкова «Что я видел», уже знала, что все дети — «почемучки», а я не хотела быть как все дети. Я не верила в Деда Мороза и не смеялась над клоунами в цирке. Когда водили на елку, мне там понравились только цветные круги на сцене и маленькая черная акробатка в лучах прожекторов. Я думала, она ненастоящая. Но не спрашивала — думала про себя. Зато когда повели в кино, и прямо на нас мчался поезд, и тут же — во весь экран — плакала какая-то женская голова, я устроила истерику, и в кино меня больше не брали. «Кино детям вредно» — постановила бабушка, а ее авторитет был непререкаем. В следующий раз меня поведут в кино уже после войны, то ли на «Хозяйку медной горы», то ли на «Лесную быль» — на детское. И еще мы с ней, с бабушкой, будем смотреть «королевскую хронику» в знаменитом «морозовском» доме, вместе с англичанами и английскими детьми — там, в «Британском союзнике», бабушка работала переводчицей и часто брала меня с собой. Это были волшебные поездки — из Лосинки в Москву. Усатенький англичанин по прозвищу «Мурзилка» дарил мне детские английские книжки, потом мы заходили на Ленивку, в коммерческий магазин, и покупали что-нибудь вкусное, например, сыр, грамм двести, и баба (она почему-то не любила слово «бабушка», только «баба», зато отца моего, Бориса, своего младшего сына, звала «Бобушкой») съедала кусочек, довесочек, где-нибудь в метро, не на виду В метро «Библиотека им. Ленина» глаза разбегались от сладостей, мы покупали «турецкие хлебцы» и заезжали на Никольскую, к «Ферейну». Баба не признавала новых названий вроде «Улицы 25-го Октября» и Тверскую называла Тверской.Но я забежала далеко вперед, в тот сорок пятый, победный год, когда главная половина моего детства уже прошла. Осенью сорок пятого мне исполнилось семь лет. Я рвалась в школу, но меня не отдали, посчитали маленькой. Навсегда запомнилось утро 1-го сентября, когда соседка и лучшая подруга Лена Нахимова прошествовала мимо наших окон в коричневом платье с белым воротничком-«стоечкой», с большим портфелем, а в портфеле — я знала — пенал и «Родная речь». Она уходила от меня навсегда — красивая, темноволосая, смуглая, вдруг совсем чужая — школьница. А я оставалась. Каждый день я просыпалась ни свет ни заря — подсматривать, как она уходит. Ее провожал белый пес Тобик и я — из-за стекла. Было очень себя жалко. Я уже знала стихи Агнии Барто про то, как пионеры уезжают из лагеря, а собака бежит за ними, бежит, не понимая, почему ее оставили. Я плакала над этой книжной собакой. И вот однажды, узнав, что там не все в коричневых платьях, а кто в чем ходят в школу, я пошла за Леной и смешалась с первоклашками. Мы убирали школьный двор, сгребали листья и бумажки, а потом пришли на урок. Я пряталась за спинами — в ситцевом розовом платье, без тетрадок, и про себя репетировала — что я скажу, если спросят: «Ты кто такая?» Главное — не выдать Лену Нахимову, что это она меня привела. Мы уже знали про партизан, про Зою Космодемьянскую. В конце урока учительница спросила: «Новенькая?» Я растерялась, слова застревали в горле, но вдруг ударил школьный колокол — там еще не было звонка, техничка била в колокол — и в класс ворвалась мама. Она искала меня по всей Лосинке. На обратном пути я призналась, что давно уже всюду хожу одна, не только до школы, но и до «Красной сосны», и даже через шоссе, до кладбища. И в школе мне очень понравилось, особенно одна девочка — Ира Кукушкина. Мама обещала, что через год я пойду в тот же класс, сразу во второй. А пока надо потерпеть, заниматься дома. Она говорила, что мне еще надоест учиться. «Нет, никогда!» Я каждый день напоминала про наш уговор. Вообще страсть к ученью в нашей семье считалась наследственной. Баба Наталия Сергеевна в этом возрасте уже писала по-английски, у нее была строгая гувернантка и еще учительница французского. Но и другая бабушка — Прасковья, мамина мама, которой я не помнила, в детстве запрягла собаку в санки и умчалась от родственников за много верст в школу. А потом, когда уже вышла замуж, заставляла мужа учиться, и он выучился на паровозного машиниста, и старшего сына они отдали в гимназию, а трое младших все выучились на инженеров. От той бабушки Прасковьи у меня осталась швейная машинка «Зингер», подаренная ей в 1911 году в честь рождения моей мамы. А дедов своих я совсем не знала — они умерли задолго до моего рождения. Вообще, дедушки в те времена водились редко. Впрочем, как и отцы. У меня был отец, и, хотя мы его редко видели — он всегда был на работе, мы были за ним как за каменной стеной, и вокруг него были мужчины — друзья, сослуживцы — все железнодорожники. Потом, много позже, я пойму, что у меня было счастливое детство. «Спасибо товарищу Сталину» — не считается, это у всех. А у меня в четвертом классе, уже в Москве, случилось прозрение. Отец принес елку, мы стали ее наряжать. Игрушки сохранились дореволюционные, и мы с братом сами клеили какие-то цепи, фонарики, и в доме уже пахло мандаринами и маминым печеньем, и вдруг к нам по двое — по трое стали заходить девочки из моего класса. Не те, с кем я успела подружиться, хоть и переболела первый год в Москве всеми детскими болезными — корью, коклюшем, дифтеритом, ветрянкой и мало ходила в школу. Нет, приходили почти незнакомые, в шароварах и валенках топтались, придумывали повод, просили тетрадку, книжку и не спешили уходить, осматривали квартиру… Отдельную! Мы жили на Краснопрудной, в еще не достроенном «сталинском» доме, в нашем подъезде все квартиры были отдельные, у нас — двухкомнатная, на пятерых, да и в Лосинке, в деревянном доме, с огородом, колодцем, сараем — у нас была отдельная: своя кладовка, сени, печка, терраса. Девочки стеснялись брать мандарины, онемев смотрели на елку и на отца. Мы были «богатые»! Они пришли из бараков, подвалов, из Красносельских переулков, куда еще не провели газ, из жутких коммуналок, где спят вповалку, с деревенскими родственниками, бежавшими в Москву от голода. Они не видели ни елки, ни мандаринов, и ни у кого из них не было отцов. Я почувствовала свое благополучие как вину и свою «отдельность» как опасность. Опасностей и без того хватало: эта площадь у трех вокзалов, цыганки, торгующие авоськами, алкаши-инвалиды, ночующие в подъездах, трезвон трамваев со всех сторон, учеба во вторую смену и ни-ни, чтоб никто не встречал, а то засмеют. Мне трудно давалась Москва. Я написала в заветной тетрадке ностальгическое стихотворение про свою Лосинку, покинутую навсегда. Описала бузину у сарая, снегирей и сосны и все времена года. О, если бы я писала прозу или хотя бы вела дневник — какие бы там клокотали страсти и страхи! Меня выбрали санитаркой, но я не справилась: надо было проверять уши и волосы, нет ли вшей. В класс приходила медсестра и каждый день отправляла кого-нибудь домой — у кого чесотка или вши. А нас, лучших учениц, отправили по адресам — застать родителей, чтоб они расписались в табелях и пришли на родительское собрание. Явка обязательна! Иногда мы заставали бабушек, но они не умели расписываться — ставили крест и не могли взять в толк, что еще за собрание. Мы увидели нищету как она есть — настоящую послевоенную городскую нищету. А однажды одна девочка попросила меня расшифровать записку, написанную азбукой Морзе. Мальчик — сосед по бараку подсунул ей записку, сплошные точки и тире. Я взяла отцовский справочник и расшифровала. Получилось совершенно непонятное слово: «Ты проститутка». Мне было десять лет, и я такого слова никогда не слышала. Но у родителей спрашивать не стала, полезла в энциклопедию, прочла статью «Проституция» и опять ничего не поняла. Догадалась, что какую-то гадость Нинке написали. Она порвала записку и сказала: «Дурак!» Я у нее не стала спрашивать, кто такая проститутка. Знала, что многого не понимаю в этой жизни, о чем спрашивать стыдно и бесполезно — не ответят, еще и засмеют. Я была младшей в классе, и мне предстояло самой разгадывать тайну полов. Неприличные слова, что пишутся на заборах, я, конечно, знала, но что они значат — понятия не имела. И что странно — мое любопытство не простиралось до этих запретных тем. До сих пор для меня это непонятно — что мне сказали в раннем детстве, чтобы пресечь навсегда здоровое любопытство? Мне никогда не объясняли, откуда берутся дети. Когда «купили» брата, мне было три года, и я не очень поверила, что детей покупают. Замечала беременных женщин, но бабушка объяснила, что это такая болезнь и скоро пройдет. Наверно, я догадывалась, что дети появляются из живота, но вот почему?.. Трудно теперь поверить, но и к четырнадцати годам я оставалась в полном неведенье, как это все происходит. Мои стыдливые родители измучились бы, подбирая слова «про это», и я не спрашивала, и так охраняли нас от «влияния улицы», что анекдоты-песенки («похабные», как это называлось в женской школе) я в дом не приносила. Однажды попалось непонятное слово — «презервативы» — в стихах Эдуарда Багрицкого «Контрабандисты». Оно мне очень нравилось. Помните: «По рыбам, по звездам приносит шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду…» Перечисление предметов контрабанды, и вдруг — непонятное слово. Мне было уже лет, наверное, тринадцать — семиклассница, уже в комсомол вступала, и я спросила у мамы — что такое презервативы? Она покраснела и убежала в кухню. Так и не ответила, Большой вышел конфуз. Пришлось опять обратиться к энциклопедии. Теперь смешно, да? «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» — у каждого найдется забавная история под этим игривым названием. Мое «хорошее воспитание» затянулось, я стала ненавидеть «хорошее воспитание» и рвалась из дома во все стороны. Был школьный театр. Представьте — в женской школе, где мужские роли должны играть девочки. Была храбрая старушка Фаина Илларионовна, маленькая, нервная, чудаковатая — не учительница, со стороны приглашенная бывшая актриса — руководительница драмкружка. Она ставила с нами «Майскую ночь» Гоголя. Я играла Ганну, а Левко — Нина Салыкова. И целый кордебалет русалочек. Мы с Левко нежно объяснялись в любви и обнимались на скамейке (на самом деле мы с Салыковой враждовали, но ради искусства превозмогли личную неприязнь). И вот достали из-под земли малороссийские костюмы, русалочек одели во что-то воздушно-зеленое и отправились показывать наш спектакль на большой сцене, в районном Доме пионеров. Он размещался в бывшей церкви возле Алексеевского парка. Высокое гулкое помещение, настоящий пыльный занавес. Издерганная Фаина Илларионовна в облезлой шубке мечется среди полуголых русалочек. Холодно, нетоплено. Мой Левко, спрятав косички под лихую «кубанку», вполне выглядит парубком. Мы играем на освещенном пятачке, перед темным залом — деревянными голосами объясняемся, обнимаемся, не очень крепко, но я приникаю к его (ее) плечу, и вот-вот должны выбежать русалочки, как вдруг занавес перед нами решительно задергивают. В чем дело? Крики, паника, топот, бедная Фаина кричит, что это ошибка, у нас еще русалочки… Я подумала, что слишком плохо играла, поэтому нас остановили. Это был какой-то конкурс на лучший драмкружок, и мы провалились. Оказалось — не из-за меня, из-за «откровенной эротики». «Разврат какой-то… детям показывать!» — высказалась главная организаторша, и с перепуганной нашей руководительницей сделалась просто истерика. Передо мной сейчас мелькают отдельные кадры — ее полубезумное, растерзанное лицо, судорожные рывки от русалочек к нам с Ниной — костюмы, костюмы требовалось куда-то сдать, не попортить. И улепетывать. Могли ведь целое дело раздуть из нашей «эротики». Это я сейчас понимаю, а тогда — не страх, а стыд свой помню. Коллективное переодевание за кулисами. У меня был детский лифчик с резинками для чулок, и мне удавалось его скрывать даже на уроках физкультуры. Некоторые девочки уже носили бюстгальтеры и женский пояс для чулок, большинство же — круглые резинки над коленками, одна я в детском лифчике, а играю — «про любовь». Почему мне досталась главная роль — неизвестно, видимо, никто не мог выучить столько текста, а я легко запоминала. Не помню, как мы, опозоренные, возвращались из этого Дома пионеров, но после такой неудачи мы с Ниной Салыковой больше не враждовали, а я тайком выбросила детский лифчик и сделала себе круглые резинки, вредные для здоровья, как считалось в нашей семье] и долго скрывала их от мамы. А про Фаину говорили, что она в больнице и больше к нам не придет. Она вообще была неуравновешенная. Часто угорала от печки. «Этот сумасшедший опять забыл открыть заслонку, и мы опять чуть не угорели», — жаловалась она на репетициях, и так страшно было представлять ее каморку с печным отоплением, с сумасшедшим соседом. Должно быть, она укрывалась своей клочковатой шубой. Она была нищей, но знавала другие времена и снисходила в школьный драмкружок, словно оказывая милость. Но мы чувствовали, что это ей оказывают милость и едва ли платят учительскую зарплату, а работает она бесплатно — для стажа или для пенсии. За всеми старухами моего детства зияла какая-то тайна. Мы привыкли не спрашивать: много будешь знать — скоро состаришься. Я помню всех старух своего детства, потому что тайны запоминаются, ворочаются где-то в глубине ума. Я помню их лучше, чем всех этих понятных, красивых, энергичных родительских друзей и знакомых. Я хочу вспомнить их по именам. Едва ли кто-нибудь еще их помнит. Лидия Федоровна — проводница, но не простая проводница — «культурная». Она работала в служебном вагоне. Когда в октябре сорок первого мы переезжали из Лосинки к отцу в Ярославль, она растапливала круглую железную печку в вагоне — я впервые такую видела. И успокоила мою маму, которая была на сносях и кричала, что никуда не поедет. Я думала, что Лидия Федоровна — самая главная на железной дороге, но оказалось, что ей просто негде жить, потому она и ездит. Она заходила к нам в Ярославле, потом в Лосинке, потом в Москве, и оставляла какие-то вещи на хранение. Ей кто-то где-то обещал комнату, но, видимо, так и не дали, потому что большое зеркало в красной раме, слегка испорченное посередине, так и осталось в родительской квартире, в прихожей. Десять тысяч раз поглядевшись в него, я вспоминала Лидию Федоровну — вечную скиталицу. И как я завидовала в детстве ее романтической судьбе — всю жизнь на колесах, всю страну объездила. Ирина Яковлевна Обухова — не то сестра, не то кузина известной певицы Надежды Обуховой, чей низкий голос мы часто слышали по радио: «Не брани меня, родная…» Ирина приезжала к нам вечером, после работы, засиживалась и оставалась ночевать, боялась идти в свою коммуналку — соседи могли не пустить. Иногда она ночевала на бульварной скамейке или на вокзале. Она была театралка, по нынешнему говоря — «фанатка» МХАТа. В первый раз я, увидев ее, испугалась: неопрятная старуха, от нее плохо пахло. У нее был светлый, восторженный период — ее устроили во МХАТ работать, учить артистов языкам, ставить произношение. Ее оставляли там ночевать. С моей бабушкой Наталией Сергеевной они закрывались и говорили по-французски, читали главы «Войны и мира» может быть, чтобы бабушка не забыла французский! Нас, детей, не пускали в ту комнату — нашу, собственно, комнату, с нишей, с ширмой, где мы жили с бабушкой втроем. Может быть, чтобы не наслушались, чего нам еще рано. Они обе были «из бывших» и связаны какими-то тайными дореволюционными связями. А за чаем — только об артистах, и только МХАТа: Тарасова, Андровская, Еланская. В послевоенном МХАТе ставили спектакль «Ломоносов», и Ирина с упоением передавала театральные сплетни. Кстати, она была совсем не старухой, просто выглядела безобразно. Она дожила до девяностых годов, и я ее видела действительно старухой — девяностолетней. Она еще работала, давала уроки, жила в своей отдельной квартире и не унывала. В потертом пальто, с драным мешочком в руках, в разбитых войлочных ботинках — она выглядела так же, как тогда, в конце сороковых, когда водила меня на «Синюю птицу» и казалась Бабой Ягой. Вера Александровна Мороз тоже иногда казалась Бабой Ягой — крючконосая, с фиолетовыми жидкими волосами, розовой лысинкой возле макушки, коротышка безо всякой фигуры, просто сноп сена. Выражалась она резко и грубо, ненавидела детей, хотя прослужила много лет учительницей младших классов. Меня она учила чистописанию, раздражалась и покрикивала, но снова и снова приезжала к нам в Лосин-ку из центра Москвы и однажды взяла меня погостить к себе в Гнездниковский переулок. У нее была комната в «коридорной системе» — так называли необъятные коммуналки с кухней на двадцать хозяек. В ее длинной, заставленной мебелью комнатке царило пианино. У Веры Александровны был абсолютный слух, и она, раз услышав, подбирала по слуху любую песню. Ноты она, конечно, знала, но ей совсем не пришлось учиться музыке. Она была из бедноты, из украинско-еврейского местечка, и все детство страстно мечтала об «инструменте». Евреев она ненавидела, как и многое другое, но кажется, сама была еврейкой, а может, просто впитала дух и говор того местечка. Из ее громкого шепота я узнала, что был в Москве еврейский театр, а Михоэлса, конечно, убили — свои, «энкавэдэшники», а в газетах всё про это врут. Тогда я ничего не понимала — кто такой Михоэлс, кто такие евреи, но подслушивала взрослые разговоры, не задавала вопросов и копила в себе страшные тайны. У Веры Александровны был муж — Володька, много младше ее, бравый, статный инженер, вечно в командировках, и я не могла поверить, что они — пара, что он мог любить такую старенькую, без. следов даже бывшей красоты Веру Александровну. Правда, она очень вкусно готовила, это была ее вторая страсть после музыки. До сих пор помню ее крохотные пирожки и салаты. Она поехала с нами на юг, в Гудауты и ни разу не вышла к морю — беспрерывно готовила или ела. Ей было наплевать, что ее принимают за прислугу, человечество она вообще презирала, любила только своего Володьку, как сына, соседку Тамарку, оставшуюся без родителей, кормила и опекала и почему-то была привязана к нашей семье. Уже взрослой я узнала, что «Володька», Владимир Григорьевич, ее двоюродный брат, а муж он при этом или нет — так и осталось тайной. Может, фиктивный брак ради этой комнатки в Гнездниковском, материнского тепла с пирожками и пианино. Там я впервые слушала «Лунную сонату» в исполнении Веры Александровны и дивилась «дружной семейке» на подоконнике: это растение выпускало все новые листочки в тесном горшке. Дет через десять, когда я была уже студенткой, Вера Александровна передала мне дряхлую тетрадь с описанием своего детства и мятежной юности. Безбожница, хулительница, большевичка по сути, хотя никогда в партии не состояла, она ни с кем не уживалась, ее выгоняли с любой работы, потому что она лепила «правду-матку» прямо в глаза. На пожелтевших страницах кипел ее «разум возмущенный», жажда мести или хотя бы справедливости. А я запомнила добрейшей души старушку, хотя ни детей ей бог не дал, ни музыкальной карьеры. Жизнь потом много раз заносила меня в Гнездниковские переулки — в Большой и в Малый, есть какая-то мистика в этих возвращениях, в повторах. Я и сейчас там бываю, в Госкино, и прохожу мимо того дома, вспоминаю «дружную семейку», «коридорную систему» и тоталитарную, забросавшую мое детство чужими тайнами. Вопросов я не задавала, но довольно рано поняла, что в человеке все перепутано — говорит он одно, думает другое, а делает третье. Самой странной «старухой» была Маргарита Матвеевна. Не верилось, что моя прелестная одноклассница Рита Чистякова, балетная девочка с огромными серо-голубыми глазами на мраморном личике, с косичками-крендельками и звонким пионерским голосом, приходится ей дочкой. Никто не верил, что бывают такие мамы. «Мы думали, это твоя бабушка», — много раз слышала Рита и спешила объяснить, что она поздний ребенок, есть еще взрослые брат и сестра. А Маргарита Матвеевна поет в хоре ветеранов революции. Она и была — ветеранка, коммунистка с огромным стажем, как и ее покойный муж. «Отцы о свободе и счастье мечтали, за это сражались не раз…» — пели мы на уроках пения, и мне представлялась Маргарита. Ну чистая Баба Яга, с седыми космами, вечно в каких-то лохмотьях — «из-под пятницы суббота», обсыпанная перхотью и с застывшей улыбкой на морщинистом скуластом лице. Жили они на втором этаже в деревянном домике, в одном из Красносельских переулков, и взбираться к ним по обледеневшей лестнице даже нам было тяжело, а Маргарите, в ее длинной юбке, совсем невозможно. Она чертыхалась, но улыбалась, учила стойко переносить все лишения — ради светлого завтра. У них на полочке стояла урна с прахом отца. Я старалась туда не смотреть, но почему-то всегда видела ее краем глаза. Еще у них была маленькая скрипка, на которой когда-то учился играть старший сын Рэм, живший теперь где-то отдельно. Маргарита Матвеевна говорила непривычными словами: «У меня, Риточка, сегодня похитили кошелек». Не «украли», не «сперли», а именно «похитили», и никаких проклятий негодяям, только изумление, что случается и при социализме мелкое воровство, досадные пережитки прошлого. Мне было смешно, но и страшновато: казалось, что она сама, Баба Яга, похитила эту чудесную девочку Риту и дала ей свое имя. На что они жили — непонятно, но на столе всегда лежала приходно-расходная книга, куда записывали каждую потраченную копейку — на коробок спичек, на полкило сухарей. Рита знала что почем, сама все покупала, пока мать занималась общественной работой или пела в хоре. Когда из черной радиотарелки бодрый диктор сообщал о неслыханных урожаях и трудовых подвигах советских людей, Маргарита Матвеевна вытягивалась, вслушиваясь, и повторяла за диктором цифры — тонны, центнеры зерна или стали — «перевыполнили!» — и на ее глазах выступали слезы. А глаза были голубые, как у Риты, только выцветшие. Однажды она пошла с нашим классом в поход, с ночевкой. Когда мы проснулись в чужой деревенской избе, она уже трудилась на огороде — косматая, седая, в одной нижней рубашке. Она созывала нас то ли на прополку, то ли что-то выкорчевывать, а мы постеснялись работать с таким чучелом, у нее груди были видны из-под застиранной рубашки, и деревенские мальчишки столпились у забора и смеялись над ней. Потом, в электричке, она объяснила, что это мещанские предрассудки — стесняться наготы, и в двадцатые годы было такое общество — «Долой стыд!», и все там ходили голые, но это был, конечно, «перегиб», увлечение молодости. Рита занималась в городском доме пионеров, в переулке Стопани, у метро «Кировская». Я тоже мечтала попасть туда, в литературный кружок, но одну меня так далеко не отпускали, а с Ритой и Маргаритой Матвеевной отпустили, и в одиннадцать лет у меня началась параллельная жизнь — важнее школы и всего прочего. Рита занималась художественным словом, и в балете, в ансамбле Локтева, но и в литературном кружке ее знали — она сочиняла смешные стихи и читала их, как настоящая артистка. Но про Дом пионеров надо рассказать отдельно, в другой главе, а сейчас я хочу вернуться к «старухам». Вдруг осознала, что чудаковатая «ветеранка» Маргарита Матвеевна сыграла большую роль в моей жизни, можно сказать, «вывела в люди». А то бы я так и сочиняла тайно стишки, как писала — никому не показывая — ответы в радиоигру «Угадайка», усердно писала, рисовала к ним картинки и никогда не отсылала, прятала за шкаф. Если бы не Рита Чистякова, читавшая свои стихи звонким голосом на весь зал, мне бы никогда не решиться переступить тот священный порог.
Хочу вспомнить еще свою первую учительницу Ираиду Петровну. Я старалась на нее не смотреть — такая она была болезненно-тощая, заторможенная, без признаков пола и возраста. Старухой она не была, но ее точила какая-то болезнь, а может, что-то страшное в прошлом. Жила она в школе, в маленькой комнате на первом этаже. Это она приняла меня сразу во второй класс, а проучилась я там, в Лосинке, всего год, летом мы переезжали в Москву. Мама сказала, что я должна пойти попрощаться с Ираидой Петровной, поблагодарить ее, и дала мне записку и довольно тяжелый пакет. В пакете было два килограмма муки. Я ни за что не хотела нести подарок, но мама строго приказала нести и передать — от нее лично, будто я и не знаю, что в том пакете. Я шла медленно и всю дорогу хотела повернуть назад. Мне казалось, что Ираида Петровна не возьмет подарка и еще меня отчитает. Ее окно было открыто. Я дотянулась до подоконника, поставила пакет и позвала ее. Она появилась — в чем-то летнем, пестреньком, и стала меня приглашать: «Заходи, заходи, зачем же через окно?» «Это мама просила вам передать», — пробубнила я мрачно и помчалась со всех ног от школы. Потом только вспомнила, что надо было попрощаться и поблагодарить. Почему я так стыдилась этого пакета с мукой? Тайна предков. Я ведь уже знала, что хозяйки, соседки то и дело делились продуктами, было принято приносить «гостинцы» — то морковное повидло кто-то изготовит по своему рецепту, то банку тушенки или пачку маргарина друг другу несли из «американских подарков». Но то — хозяйки, с их нудными разговорами про детский рахит, про кисель из ревеня, про сахарин и керосин, про муку — «крупчатку»… А моя учительница была выше всей этой бабской суеты. Даже в голове не укладывалось — как это она будет жарить оладьи? Когда на 1 мая раздавали что-то вроде мармелада, она сама раскладывала нам на бумажки это тягучее густое повидло, учила делать «кульки», а себе не взяла, даже не попробовала. А школа наша двухэтажная до сих пор стоит у Ярославского шоссе, напротив Бабушкинского кладбища. Город Бабушкин для меня в самом деле «бабушкин». «Вот где нам посчастливилось родиться…» — когда я декламировала стихи К. Симонова, я вспоминала свою школу рядом с приземистой церковью Адриана и Наталии и окно Ираиды Петровны, от которого я умчалась, не поблагодарив.
Еще в Бабушкине помню дом неких Язвицких, у которых была пишущая машинка. Этот агрегат потряс мое воображение. Помню, бабушка сказала, что мы тоже непременно купим пишущую машинку, а пока нужно хотя бы «выручить наш приемник». Мама нашла какой-то документ, взяла тачку и меня с собой, и нам долго открывали подвал, где громоздились непонятные пыльные ящики — радиоприемники, которые отобрали у всех в начале войны, и не верилось, что их отдадут. Но мы «выручили» и привезли домой огромный синий ящик. Он шумел, кряхтел и кудахтал, отец долго его настраивал, но не помню, чтобы он членораздельно заговорил.
Зато у нас был телефон, единственный на весь поселок, к нам специально тянули кабель, и потом все бегали звонить. Что касается игрушек, предметов детской мечты и зависти, то у меня их почти не было. В куклы я не играла, но вот автомобиль… Да, это было чудо. Соседу Боре родители подарили настоящий автомобиль, с рулем и педалями. Во двор машину не выносили, чтоб не смущать окрестных детей, но мне разрешали прокатиться по их квартирке на втором этаже, и я не хотела от них уходить, пока не выгонят. А когда приезжал дядя Ваня, он разряжал и чистил свой «ТТ» и показал мне, как из него стреляют. Это была моя тайна, тайное превосходство над мальчишками с их игрушечными пистолетиками — я-то держала в руках настоящий, тяжелый наган и знала, как целиться и нажимать на курок. Было слегка досадно, что война кончается, а потом и кончилась, и надо, конечно, ликовать со всеми, но что люди будут делать без войны? А маленькая старушка Юлия Васильевна не могла дождаться мужа с войны. Прошел сорок пятый, кончался сорок шестой год, а он пропадал где-то в плену. Может быть, он был уже не в Германии, а в нашем лагере. Когда она приходила к нам, совсем седая, худая и курящая, и скрипучим монотонным голосом говорила про своего Николая — что его опять не отпускают, и посылок не принимают, а у него цинга и все зубы выпали, я прислушивалась к их разговорам вполголоса и воображала себе этого Николая таким же страшным, как те пленные немцы, что работали у нас в Лосинке на маневровом тупике. А когда он наконец вернулся, Юлия Васильевна все равно приходила одна, все время курила и жаловалась, что муж вернулся какой-то странный, никуда не ходит, и надо его лечить. Ей разрешалось курить в нашем некурящем доме, и мне было ужасно жаль ее, не испытавшей радости ни от победы, ни от возвращения мужа. Я думала — лучше бы он совсем погиб, «пал смертью храбрых». Кстати — о посылках. Бабушка однажды повезла на вокзал посылку родственникам. В коробку положили крупу, сахар и игрушки, моего Кота в сапогах. А коробка была из-под «американских подарков», с иностранными буквами. В метро бабушку остановила дежурная и повела в милицию. Ее приняли за шпионку — из-за этих иностранных букв. Всю крупу перетряхнули и Кота в сапогах вспороли по шву — посмотреть, что у него внутри. Бабушка опоздала на вокзал и вернулась в слезах. Потом, когда она успокоилась, я стала ее дразнить: «Баба, может, ты правда шпионка? Ты ведь в „Британском Союзнике“ работаешь, а они там все шпионы». Кто бы другой обозвал меня «дурой» и дело с концом, а наша бабушка Наталия Сергеевна, воспитанная английской гувернанткой, никогда не повышала голоса, а объяснять ребенку про «холодную войну» и про шпиономанию слишком сложно. И страшно. Тем более что она уже не работала на Воздвиженке, брала переводы на дом, а вскоре «Британский Союзник» совсем закрыли. Пишущая машинка была куплена по дешевке, у мастера, который сам собрал ее из трофейных частей. Она называлась «Грома» и, как ни странно, до сих пор работает, но бабушке почти не пригодилась.
Это была последняя беда в многострадальной жизни нашей бабушки Наталии Сергеевны, в девичестве Ржевской, привыкшей к потерям и утратам, — в тот год ее лишили работы и заперли в нашем горластом доме, без своего угла, точнее — именно в углу, за ширмой, с любимыми внуками, которым — то есть нам — она все меньше была нужна. Я отказалась заниматься английским, потому что я не «безродный космополит». По радио, в газетах, в Доме пионеров все боролись с «космополитами». Конечно, я понимала, что просто отлыниваю от скучных занятий, но уже научилась хитрой пионерской демагогии. Бабушка негодовала, даже плакала, но что она могла? В дождливое лето, в деревне Мутовки, где мы снимали пол-избы, она с ужасом взирала на нашу компанию. Мы лазили по черемухе, висели вниз головой изачем-то обдирали кору со старого дерева — видимо, чтоб удобней было висеть. А вечером заводили патефон, учились танцевать танго или резались в карты, не только в «дурака», но и в «кинга», и в преферанс, а когда она пыталась занять нас чем-нибудь другим, выкрикивали назло самодельные стишки: «Липестричество сияет и фонтаны шпындеряют» или пели на мотив румбы: «На далеком севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой…» Иногда она усаживала нас играть в лото, но слишком пресной для нас была эта допотопная игра. Когда приезжали родители или знакомые, она жаловалась — «у ребят теперь нет никакого внутреннего содержания» и заваривала кофе, ворча — «сплошной цикорий». Я видела, что ей плохо, но все равно ее не слушалась, не слушала, куда интересней было болтать с соседскими мальчиками, такими начитанными, взрослыми — они уже «Двенадцать стульев» читали, знали все названия американских штатов и мечтали свергнуть президента Трумэна. Вися вниз головой на черемухе. Однажды бабушка вышла из терпенья и закричала на наш «обезьянник»: «Хоть дерево пожалейте, оно погибнет!» У нее дрожали губы. Стыдно и страшно было увидеть, что старые могут плакать как дети. И затрещала, надломилась под нами ободранная ветка черемухи. На всю жизнь я запомнила, как бабушка срывающимся голосом кричит: «Оставьте в покое дерево!» К черемухе мы больше не подходили, нашлись другие развлечения, но бабушку я стала избегать — не спорила, не дерзила, просто отворачивалась или опускала глаза. Я боялась ее правоты и еще больше — ее слез. В середине дождливого лета я взмолилась: «Заберите меня отсюда!» И родители, как ни странно, меня поняли, хотя я ничего не умела объяснить, и взяли меня с собой в дом отдыха. Бабушке оставалось жить недолго. Через год у нее случился «удар», то есть инсульт, она год пролежала в параличе и умерла. Только много-много лет спустя я осознаю те «четыреста ударов», что мы ей наносили с ребяческой жестокостью. Не государство, отобравшее все, не жестокий двадцатый век, а мы — самые близкие и любимые. Я не то что часто ее вспоминаю, а помню всегда, постоянно, вместе со своей необъявленной войной между любовью, жалостью, долгом и невыносимостью ее правоты.
Хоронили ее без отпевания, она еще в молодости, до революции, рассталась с церковью. Но не с Богом. Нужно ли писать «Бог» с большой буквы, как в старых книжках? Она затруднилась с ответом на мой детский вопрос. Все пыталась мне объяснить, что Бог есть, но в то же время его нет. А как писать? Лучше вообще избегать этого слова, потому что нельзя поминать всуе имя Божье. От такой домашней диалектики во мне созревали опасные мысли. Например, про любовь — что это слово тоже нельзя поминать всуе, и лучше вообще избегать, потому что она и есть, и ее нет — одновременно, и не так уж она прекрасна, как в песнях поется, а скорее наоборот — от нее все слезы, страдания и мучения. Кто бабушку доводил до слез? Мы, любимые. От кого я каждый день убегаю в слезах? От любящей, заботливой мамы. И почему такая ужасная долгая смерть выпала на долю нашей самоотверженной безгрешной бабушки? Помню, как она, уже потеряв речь, силилась выговаривать слова, и вдруг из нее вырывались целые стихи: «Если б были все как вы — ротозеи, что б осталось от Москвы, от Расеи?» Это Демьян Бедный, как я узнала позже, а тогда — мурашки по коже… Казалось, она сошла с ума. Так ясно, внятно она произносила стихи, будто речь к ней вернулась, а разум угас. Хотелось бежать из дома куда глаза глядят. Бежать не от страха, а от собственной непомерной жалости к ней. Помню, как она долго пыталась что-то произнести, я подсказывала, угадывала, а она мотала годовой и в конце концов выговорила одно только слово: «Ми-и-и-лая»… Отрочество это темная орда вопросов, от которых некуда деться. Я часто проезжала свою станцию метро — и «Комсомольскую», и «Красносельскую», и мчалась до «Сокольников», где линия кончалась. И мне никогда не было хорошо, всегда что-то мучило. А стихи не писались, то есть писались привычно — для кружка, для журнала «Пионер» — не про то, что мучило. Эти чувства не укладывались в стихи, слова все больше расходились с душой. Я мечтала, что когда-нибудь напишу роман в стихах. Но в восьмом классе, когда бабушки уже не было в живых, стихи мои мне совсем разонравились, и я попробовала писать рассказы. Но это отдельная тема, а пока вернусь к «старухам моего детства». Фаина Илларионовна опять появилась в нашей школе, хотя после того позора с «Майской ночью» поклялась, что больше не придет. Видимо, ей совсем некуда было деться. Она предложила ставить один акт из пьесы Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Меня назначили на роль купеческой дочки Ларисы. До сих пор помню первую реплику: «Родите — лев моих здесь нет?» Но восьмой класс — уже не седьмой. Кто учился в женской школе, помнит этот обычай: с восьмого класса разрешалось «дружить» с мальчиками из какой-нибудь соседней школы. В сентябре, в октябре все классы уже подружились с соседями, а наш восьмой «В» оказался нерасторопным. Мы прозевали момент сватовства и думали, что к нам уже никто не придет — «ну и не надо, обойдемся!» Как вдруг к нам явились три делегата из 615-й, не самой близкой школы. Они застенчиво топтались в коридоре и выглядели странно: один был в конькобежной шапочке, другой — в кепке, третий — в тюбетейке, и старшеклассницы оглядывались на них и усмехались, и кто-то еще до знакомства успел нам шепнуть, что это «тот самый лысый класс». Отверженные, с ними никто не хотел дружить, да они и сами стеснялись. Потому и стояли в головных уборах, никогда их не снимали. Дело в том, что до седьмого класса всех мальчиков стригли наголо, а в седьмом разрешалось отрастить «прически», и в восьмой они приходили с прекрасными чубами, в полном оперенье. А директор 615-й не придумал ничего лучше — за какие-то провинности построил весь класс в колонну и повел в парикмахерскую — всех постричь «под машинку», налысо! Уже весь район про это знал, их дразнили «допризывниками». Они пришли к нам без всякой надежды на успех и были такие смешные, беззащитные, и мы проявили сочувствие — «волосы не зубы — отрастут» — и согласились с ними «дружить», то есть проводить вместе тематические вечера и ставить спектакль. На этот раз мужские роли играли мальчики. Не помню, как звали того белобрысого длинного мальчика, что играл Елесю, но нам с ним — по пьесе — предстояло целоваться. Первая же репетиция показала, что целоваться мы не сможем. Как только он приближался, меня разбирал смех, и все присутствующие прыскали в кулаки. Фаина Илларионовна нашла выход: мы удалялись за декорацию, изображавшую калитку и куст сирени, и там мой кавалер Елеся звонко чмокал собственную руку. На репетициях все шло отлично, мы привыкли к такому «звуковому решению» сцены. Но на спектакле, как только я — в голубом мамином платье с наспех пришитыми розовыми оборками — удалялась за калитку, зал сразу начал хихикать — от предвкушения, а как только Елеся старательно чмокнул руку — зрители откровенно заржали, а тут еще на сцену выскочила «Домна Евстигнеевна» с ухватом на длинной палке и стала гоняться за Елесей, и зал просто покатывался от хохота, и ухват отвалился от палки и полетел в первый ряд. Комедия удалась! Пришлось закрыть занавес, и бедной Фаине Илларионовне, должно быть, сильно влетело за нарушение техники безопасности. Больше я ее никогда не видела. И больше никогда играть на сцене не пыталась, только в страшных снах меня выпихивали на сцену под улюлюканье толпы. Видимо, воспоминание о «первом поцелуе» крепко застряло в памяти. А с лысым классом мы подружились надолго. У наших «гадких утят» отрасли волосы, и самые храбрые из них приглашали девочек на каток или в кино, и были у нас, как у всех, танцы во дворах, прогулки в Сокольниках и волейбол в Алексеевском парке.
* * *
Про наш Городской Дом пионеров в переулке Стопани стоит рассказать отдельно, потому что это не данное судьбой — родительский дом, двор, школа — это собственный выбор. Первый опыт свободного выбора. Почему литературный кружок? Что я знала в одиннадцать лет о литературе? Знала много стихов, и все они мне нравились. И вдруг одно не понравилось. Оно было напечатано в сборнике «Круглый год», и я его до сих пор помню:Самозванка
Я получила странное письмо — от незнакомой женщины откуда-то из Сибири. Она спрашивала, та ли я самая ученица 318-й школы Наташа Рязанцева, которая в бог память дай каком, наверное, в пятьдесят третьем году напечатала в газете «Пионерская правда» стихи о Москве. Прилагалась пожелтевшая вырезка из «Пионерской правды». Это было давно, в самые тяжелые для меня дни, когда умер муж, и письмо это передали из Союза кинематографистов вместе с траурными телеграммами. Никогда я не была так далека от ученицы 318-й школы и долго не могла понять, что это я такое читаю. Оно вынырнуло из детства, минуя всю биографию: ни фильмы, ни режиссеры, ни тот сценарий, на который она наткнулась в журнале, не интересовали эту женщину — только стихи о Москве. Через тридцать с хвостиком лет, как бутылка из пучины морской… Стихи были такие плохие, что стыдно вспомнить, я и тогда уже сокрушалась, что их напечатали, взяли в литературном кружке, и через год на тебе — публикация. Корявой «лесенкой», почти прозой в них выражалась несложная мысль, что когда мы живем в Москве, мы ее совсем не замечаем, а стоит уехать куда-нибудь далеко — «и если по радио в вашем вагоне поют „Дорогие мои москвичи“» (единственную строчку я помню), — то Москва расцветает всеми огнями, звездами, салютами и т. д. и т. д., детскую свою тоску по красавице столице пыталась я выразить. А ответить той женщине даже не пыталась, возникал невежливый вопрос — неужели она лучше ничего не читала, чем мои детские вирши? Про ту же Москву, про ту же ностальгию? Она писала, что по рождению москвичка, но в юности пришлось уехать, а потом мечтала вернуться, но не вышло, десятки лет она мечтала о Москве, а теперь уже и не мечтает. Видимо, мое сочинение попалось ей в минуту острой тоски, она над ним даже плакала — где-то далеко от Москвы… У меня тоже было много таких минут, когда — «Я по свету немало хаживал…», и глаза мокнут. «Далеко от Москвы» — такая толстая книга, что не удалось ее осилить, но от самого названия продирало холодом, угрозой утрат и всеми чувствами, в которых мы совпали с моей корреспонденткой. Она писала, что чем дольше живет, тем дальше, дальше от нее Москва, и тем ближе — чаще вспоминается… Почему меня уже в детстве посетила эта тоска? Отбросив литературный снобизм, я должна гордиться таким рекордным по времени «читательским откликом» и посвятить этой женщине свои воспоминания. Бабушка читала: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром, французу отдана?..» Дальше я не слышала, вопросы душили, в три года сразу три вопроса — полный «капут», значит, «ей еще рано». Почему французы? Нас же немцы хотят захватить! Это я еще спрошу — может, они тоже с нами воюют? Но почему «отдана?» Ведь мы Москву не отдали, не отдали и никогда врагу не отдадим! Пожар я уже себе представляла, но неужели вся Москва совсем сгорела? Все равно она не сдалась, я точно знаю, папа уже чинит железную дорогу под Дмитровом, и зачем мы только уехали из Москвы, в Ярославле тоже бомбежки… Слово «Москва-сква-сква-сква» повторялось чаще всех слов, и второе хорошее слово — «довойны». Вообразить себе «довойну» и Москву я не могла, но когда уж слишком взахлеб ревела, выскакивало оправдание: «Я подумала, что Москва вся сгорела…» И так посложно, осторожно уяснив пугающую строку, я уже могла выскочить в рубашке к гостям и, перекрикивая патефон, прочесть им в новогоднюю ночь: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром…» Встречали сорок второй год, однако же смеялись… Брат мой родился в октябре сорок первого. Помню воздушную тревогу, мы бежим в подвал, маме удалось донести его спящим, и в полной темноте, в тесноте, в напряженной тишине наш младенец отчетливо изрек — «алигу-ква-ква-ква…» Подвал сотрясался от хохота, весь двор запомнил первые его в жизни слова. «Покажи, Юрик, как квакушка квакает? Ой, я прямо обсикалась! Ква, ква, ква!» И я подсказывала с гордостью — «Москва!» До лягушек ему было еще далеко, уверена — он сообщил спросонья единственное слово, застрявшее в ушах, — «Москва». Ярославское оканье искажало любимое слово «до войны», получалось тягуче и грустно, но я знала, что мы не здешние, мы скоро вернемся в свой потерянный рай. Прошла целая эпоха — шесть лет! — с победными салютами, веселыми песнями — «Барон Фондершпик попал на русский штык, остался от барона только пшик» и особенно любимой, детской: «Вернись, попробуй, дорогой, дорогой, тебя я встречу кочергой, кочергой». Сквозь пришепетывание патефона слов было не разобрать, одна «кочерга». Кто тогда знал, что она английская? Наша русская, плясовая, народная! Прошла и тайная досада, что война уже кончилась, а нам не досталось повоевать, но ничего, мы тоже будем бороться, мы уже боремся — за мир во всем мире. Прошел и долгий, слившийся с победой праздник — день рождения Москвы, восьмисотлетие… И вот я впервые в жизни оказалась далеко от Москвы — одна, без родителей. В этом «лагере санаторного типа» дети были ростовские, тихорецкие, белореченские, дети Северо-Кавказской железной дороги, и только я одна — москвичка. Девочки ходили за мной, куда бы я ни шла, и старались взять под ручку, хотя бы прикоснуться. Они подглядывали за мной, и когда я дежурила одна в палате, врывались из других, старших отрядов — взглянуть на меня. Всем хотелось заплести мне косы или накрутить мои ленты на спинку кровати. Они по очереди застилали мою постель и клали одежду под матрац, чтобы сама гладилась. Потому что я видела Сталина. Я не хвасталась, а так, между делом, сообщила, что всегда хожу с папой на демонстрацию, и один раз мы его видели на мавзолее. — Ты правда видела Сталина? Они хотели, чтобы я подтвердила при всех, когда все уже легли, в торжественной тишине, как бы поклялась, что я его видела, и выбрали меня председателем совета отряда. Хотя я была самая младшая и не слишком бойкая, скорее робкая, и культ моей личности, моей «столичности», поначалу меня смущал. Как положено, я возразила что-то нетвердо, предложила соседку по койке Жанну, но все-все-все единогласно закричали, что у меня «авторитет», меня все слушаются. В той дивной местности у моря, возле города Туапсе, в теплом месяце июне, когда детям вот-вот разрешат купаться, а пока только репетируют песни к костру, я оказалась единственной, кто видел лестницу-чудесницу и елки у Кремлевской стены и топтал вот этими самыми сандалиями священную брусчатку Красной площади. Я смотрела на свои сандалии, и они были уже не совсем мои, и я уже была не совсем я. Как председателю мне особенно мешал младший брат, незаконно попавший в лагерь дошкольник. Он бежал от мужского коллектива, прибивался к девочкам и мешал нам плясать краковяк или убегал один в овраг, его вылавливали и в наказание ставили лицом к стенке, к свежевыкрашенной под мрамор, с жутким масляным запахом стене нашей веранды, и, когда меня послали его утешить, я только прошипела: «Так тебе и надо, тебя вообще исключат». Потому что «москвич должен показывать пример, а он тянет назад всю группу». Я старалась за двоих показывать пример, переписала в пионерской комнате все стихи и песни, какие помнила, в том лагере ни одной книги, даже песенника, не было. Получилась целая тетрадь, и никто не хотел учить, все хотели танцевать. Как я ненавидела эти репетиции, эту «польку-бабочку» и лезгинку, матросский танец «Яблочко» и гопак, — но старательней всех прыгала, и косточки на ногах были всегда до крови сбиты сандалиями. А когда долго, невыносимо долго поднимался утренний флаг, я держала руку в салюте, а она сама падала, я вспоминала про партизан, как им еще хуже приходилось, их пытали, и незаметно поддерживала правую руку левой, и было до обморока страшно, что все заметят, как я плохо «держу салют», и тогда все узнают мою страшную тайну. Я была самозванкой. Я не была пионеркой, но сознаться в этом, когда на рукав нашили две красные полоски, уже было поздно. Девочки не так меня любили как прежде, любить председателя это значит «выслуживаться», и когда все, сговорившись, подняли голодный бунт, стучали ложками, мисками и требовали добавки, я не знала, что делать, я только тихо уговаривала: «У нас в Москве еще хуже кормят; и никто не кричит». Я оставляла все на тарелке, не помню голода вообще не помню, чем нас там кормили, я все время думала об одном — сказать или не сказать? А за спиной уже часто слышала: «Подумаешь, москвичка!» Я решила признаться Жанне, серьезной девочке, на два года меня старше, самой умной, решила посоветоваться с ней, когда все заснут, а мы будем лежать и шептаться, как в первые дни нашей дружбы. Но она всегда засыпала, пока я готовилась про себя, с чего начать: «Знаешь, Жанна, я давно хотела тебе сказать… Когда принимали в пионеры некоторых из нашего класса, я проболела всю вторую четверть корью и ветрянкой, а когда пришла — их уже приняли, шесть человек, а потом еще троих наметили, кто достоин, и нас, которые болели, нам даже велели купить галстуки, а потом только „кормили завтраками“, у нас же в Музее Ленина принимают, там очередь со всей Москвы, и я не знаю теперь, сказать или не сказать: я вообще не имею права носить галстук». Я ловко подводила к последнему вопросу, чтобы Жанна ответила: «Тю-ю, никому не говори!» И сама бы поклялась — никому… И вот в одну беспокойную ночь, когда волны грохотали рядом, начинался шторм, а в горах завывали шакалы, и вся палата говорила про утопленников и спорила, можно ли увидеть шакала, я почувствовала, что Жанна тяжко ворочается и, кажется, даже плачет. «Ты боишься, ты шакалов боишься?» — мы стали шептаться. «Я про отца все время думаю, — сказала Жанна. — Он работает ночным шофером а у нас в Ростове много бандитов, мы всегда за него ночью боимся». Я тоже вспомнила, что мой отец работает ночью. Тогда все министерства (или это называлось еще НКПС?) работали ночью, пока Сталин не спит в Кремле. Я рассказала Жанне, что мы тоже всегда очень за него волновались, когда жили за городом, в Лосинке, а ночью же электрички не ходят. Поэтому нам к восьмисотлетию дали квартиру в Москве, и он идет домой пешком, это близко, от Красных ворот до Краснопрудной, там вокзалы и не страшно, я только боюсь там цыганок, я не совсем еще привыкла к Москве… Слово за слово — я всю жизнь рассказала, но не решилась признаться, что я не пионерка. Почему же я привезла с собой галстук? Вот в чем был главный вопрос. Я тайно сунула в чемоданчик новый шелковый галстук — вдруг в лагерь без галстука не примут? Стало быть, заранее замышляла подлог. На другой день я услышала: «Тю-ю, какая она москвичка? Она из какой-то Лосинки, это не считается». Они не требовали меня к ответу, не спрашивали напрямик: «Почему ты наврала, что ты москвичка?» Я бы тогда ответила, что Лосинка — всего пять остановок от Москвы, мы всегда ездили смотреть иллюминацию и салют, и бабушка брала меня с собой на работу, мы ездили на метро до «Библиотеки имени Ленина» оттуда виден Кремль, а работа ее в красивом как дворец, доме в мавританском стиле, его построил еще Савва Морозов, а теперь там «Британский союзник». Я сама цепенела от подробностей — вдруг они спросят, что такое «мавританский стиль» и кто такой Савва Морозов? Но они ничего не спрашивали, они все подружились между собой и потеряли ко мне интерес. «Я уже целый учебный год в Москве, если не верите — можете меня перевыбрать!» — я всегда была наготове, а они не спрашивали, и «авторитет» мой переместился к хорошенькой Томочке, волоокой «нимфетке» — я вспомню ее и всю их загорелую неприступную компанию, читая Набокова. Они загорали, а я облезала. Они шушукались, а меня знобило от мыслей, поднималась температура, меня не брали на море и однажды сослали в «изолятор». Не помню, долго ли я проболела, а когда очнулась в чистой мазанке, в целебной тишине, в обществе доброй фельдшерицы тети Ляли, от слабости, что ли, стала тосковать и плакать по своей родине, пытаясь вообразить до мельчайших подробностей какой-нибудь ее кусочек, но ни Красносельская — Краснопрудная, ни Красные ворота, ни Красная площадь не давались моему воображению, а только зеленая травка и пруд затянутый ряской, и темная-темная картина без рамы — овраг в дремучем лесу, — пугавшая меня в бабушкиной комнате. Моя родина была зеленой и неподвижной. Любимые стихи — «Плакала Саша как лес вырубали…». «Говорят, ты Сталина видела?» — спросила добрая фельдшерица. «Не знаю, его все видели, а я…» «Изолятор» располагал к чистосердечным признаниям. Для того меня и сослали, чтобы выпытать правду и очистить от лжи. От Красных ворот до Красной площади мы шли медленно, то бежали, то стояли, и на стоянках взрослые объединялись в кружок, пели песни, обнимались или играли «в жучка», а дети томились, шныряли по чужим рядам, и очень просто было заблудиться, зазеваться, отстать от своих железнодорожников и долго петлять среди «легкой промышленности», получать из незнакомых рук то хрустящий гофрированной бумагой цветок на проволоке, то шарик на резиночке и в ужасе метаться, догонять — а вдруг они уже там, за Кировской, а после Дзержинской все побегут галопом, там уже не догонишь, потом в Охотном ряду шествие надолго встанет на старте, там сливаются колонны со всей Москвы — «разберитесь по рядам, поднимите транспаранты!» — там уже никто не поет, не пляшет. Хорошо, что мой отец выше всех, я всегда заблуживалась и всегда его находила. И ни разу он не сказал: «Я тебя больше никогда не возьму на демонстрацию». В тот раз мы почти бежали от Охотного на Красную площадь, отец подхватил меня на плечи, как всегда, но было почему-то страшно, строгие дядьки со всех сторон кричали: «Выше праздничное оформление!» Все знали, что на мавзолее — Сталин. Я ехала выше всех, рядом с праздничным оформлением, отцовские погоны впивались мне в ноги, я заметила, что таких больших детей никто не несет на плечах, наверное, он мог бы вместо меня нести какой-нибудь транспарант, и я завопила: «Папа, сними, я сама пойду!» И те полмгновения, когда все невольно замедлили шаг, поравнявшись с мавзолеем, он меня снял, я пошла сама, выворачивая голову — «он там, там, вон, в середине, видишь?» Снизу, из плотной колонны, я ничего не видела. Но там, где земля особенно круглая, за Василием Блаженным, где собирали праздничное оформление и складывали в грузовики, меня все спрашивали: «Ты Сталина видела?» — «Конечно, видела». — «Этот день она запомнит на всю жизнь!» Я призналась фельдшерице, что родилась у платформы Яуза, а жили мы в Лосинке, и я неизвестно еще, привыкну к Москве или нет. Это же сумасшедший дом, там нигде не погуляешь. Наш троллейбус номер четыре идет до самой Калужской заставы, но я только один раз проехалась до конца, это же деньги, туда надо брать за рубль шестьдесят. Мы на Русаковской берем билет за двадцать копеек и едем, пока не выгонят, у Орликова всех выгоняют, редко кто из девочек доезжал до центра. А я накопила два рубля и одна поехала до конца. Но обратно — страшно вспомнить! — я не умела, как опытные московские дети, размазывая лживые слезы, говорить: «Я заблудилась», я и так проехала за сорок копеек две лишние «зоны», заячье сердце уходило в пятки на каждой остановке, и меня только спросила кондукторша: «Девочка?..». Я сама выскочила и топала в слезах от Кировской к вокзалам, а там цыганки торгуют авоськами и пристают к детям, там инвалид на колесиках размахивает палкой, там надо отдышаться у ЦЦКЖ и выдумать, почему нас задержали в школе. Зайти в полуподвал к подруге и сговориться: «Мы навещали больную девочку аж за Сокольниками». Я врала всегда, ни дня без вранья. Я призналась фельдшерице, что привыкла врать, Москва такой город, и не хочешь врать, а так получается… Идешь после второй смены через Алексеевский парк, там газ проводят, там кости валяются, мы там череп нашли человеческий… «Зачем ты опять шла через парк, тебе сколько раз сказано — ходи прямо!» Каждый вечер — скандал и слезы. По ночам я предавалась воспоминаниям о привольной Лосинке, где можно заблудиться хоть до Красной сосны, и никто не спросит. Я тосковала по нашей террасе, оплетенной диким виноградом, по чахлому жасмину у крыльца и вишням у колодца. Я оплакивала каждое деревце — нашу единственную яблоню и нашу липу, и соседскую старую березу, и бузину у помойки, и нашу огромную, до неба, сосну, что корнями своими занимала пол-огорода и ее каждую весну хотели спилить, но в какую сторону ни падай, не было места, чтобы ей упасть: или на сараи, или на дом, и во сне мне часто снилось ее смертельное трескучее падение. Кстати, она до сих пор там стоит. Когда едешь на электричке, видна ее крона, и можно догадаться, где был наш дом. Когда говорят «корни» — все теперь ищут «корни», — я знаю: это корни нашей сосны, что отняли пол-участка у картошки, свеклы и брюквы. Говорили — тут будет Москва и даже метро, но не верилось. За каждой машиной мы бежали вместе с Жучкой и с Тобиком и кричали: «Прокати, прокати!» Когда машину облаивают собаки, я знаю, они просят: «Прокати!» А когда говорят: «Дорога к храму», — страшно вспомнить, как я заблудилась слишком далеко и попала на сказочно красивую гладкую дорогу, ничуть не похожую на наши улицы Большую и Малую Мытищинскую, и ветки сплетались над головой, и домов не было по бокам, я попала в другой, незнакомый город, но оглядываться нельзя, нельзя ничем выдать, что я чужая. Ноги сами внесли меня в церковь, и никто не остановил. Там, как в тридевятом царстве, было холодно и темно, горели свечи, кричали на непонятном языке и какой-то старик в длинной, как у старух, одежде чем-то махал и напускал дым. Я стояла как заколдованная, а потом бросилась бежать и бежала куда глаза глядят, пока не увидела знакомую козу и тощих пленных немцев, просивших у старушки лук с огорода. Впервые я не испугалась немцев, они были «наши», с тупика, значит, дом близко. Но дорожку к храму я потом искала, потому что не было ее красивей даже в нашей красивой Лосинке. Там стояли с «дореволюции» дачи — деревянные, резные, с башенками и мезонинами, а в одном доме, черном-черном, как головешка, остались цветные стеклышки на верхней террасе. Но туда не добраться, лестница провалилась. Говорили, что у нас до войны водились лоси, но никто из нас не видел лося, потому что их в войну всех поели. В этом «изоляторе», как попутчику в поезде, я открывала толстой тете Ляле тайны своей души и всю правду о Москве, какая она без иллюминации. «Большая деревня» — правда, в нашем третьем «В» почти все деревенские, не умеют переходить улицу. Одна девочка попала под трамвай, насмерть. Все время надо заниматься с отстающими, а они старше меня и не слушаются, прямо мучение. И боятся уколов, все сразу хором ревут, а я говорю — зачем же заранее реветь, пока не больно? И пошла первой, теперь я, значит, «воображала», меня выбрали санитаркой, а у них у половины вши и чесотка, но я же не могу их домой отправлять, я отворачиваюсь, как будто не вижу, я очень плохо работаю санитаркой. «Тю-у… — говорила тетя Ляля, — надо сразу под ноль!» На все она говорила беззаботное ростовское «тю-у!». Если я и не совсем москвичка — «тю-у…». Если я и не видела Сталина, а мне показалось — «тю-у»… Я представила, как признаюсь ей, что даже не пионерка, а она отмахнется пухлым кулачком — «тю-у…». Нет, я так не считала и донашивала свою ложь, как горб. Меня перевыбрали из председателей: кто-то же должен отдавать рапорт, а я болела и охрипла. «Под вечер старый обходчик идет, по рельсам стучит, увидишь его, услышишь его — махни ему рукой…» — я записывала для репетиции слова песни, которую поют все дети железнодорожников, она напоминала Лосинку, родной запах разогретых шпал, и было очень жалко себя, нарочно охрипшую на все оставшееся до костра время, — мне все равно не спеть, даже про себя не спеть такой сложный мотив. У меня тройка по пению, рука к горлу и слезы на глазах, когда надо спеть. И вдруг — отец! Он прятался за деревом, когда мы репетировали, он вырос как из-под земли, загорелый, худой, не в кителе, в непривычно курортной «бобочке», с фотоаппаратом на животе — я его и не узнала сразу, сперва увидела знакомый кожаный футляр «лейки»; я ждала его, но представляла немолодым мужчиной вкителе, а он оказался длинным парнем в штатском, с «бобриком» на голове. Я даже не заорала: «Папа!..», а степенно пошла, вглядываясь. Должно быть, я сильно изменилась, если он так изменился за месяц. Он кормил нас черешнями, мы фотографировались на скалистых уступах, где прямо из камней росли гигантские колокольчики и ромашки с ладонь, он хотел нас сразу забрать, но начальник уговорил его остаться на прощальный сбор, рассказать пионерам, как внедряется «автостоп» и вообще про сигнализацию на железных дорогах, потом посмотреть концерт… Это была пытка. Надо выйти на линейку в галстуке, а он спросит: «Разве ты уже пионерка? Когда это тебя приняли?» Ему врать я не умела, он всему верил, всему. Я вышла без галстука и наврала вожатой, что галстук потеряла в море. Она сбегала в палату и принесла свой, запасной. Пока спускался флаг, я отводила глаза от отца, а потом спрятала галстук в карман и скрылась за деревьями — не видела ни костра, ни концерта — в слабой надежде, может, он забудет… Когда осенью в Музее Ленина нас принимали в пионеры — «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…» — я поклялась себе начать новую жизнь, а всю эту испорченную, набухшую враньем, забыть и выбросить, как старую промокашку. Но вот ведь помню. Потом, уже настоящей москвичкой и пионеркой, я записалась в Московский городской дом пионеров, не в какой-нибудь районный, мне нужно было именно туда, в переулок Стопани у Чистых прудов, в самый звонкий звон пионерской жизни, чтобы окончательно распрощаться с девочкой из предместья. Москва давно проглотила нашу Лосинку, но она живет, пока я живу. Я спросила недавно отца: «Ты помнишь, где вы жили до революции?» Он уже очень стар, многое забывает, но ответил без запинки: «Трубниковский, дом восемь, квартира двадцать шесть, телефон 5-5055». Телефон помнит! Ему не было и шести лет, когда они лишились как телефона, так и всего остального. Он правоверный коммунист, он всю жизнь выметал из сознания свое подпорченное происхождением детство, но помнит — хоть ночью разбуди! — первый адрес, заученный ребенком на случай, если он заблудится.ВЕЧЕРА ПАМЯТИ
Бедуины говорят, что душа человека передвигается со скоростью верблюда. И если человек почему-либо передвигается быстрее, он должен остановиться и подождать, когда его душа его догонит.Из книги Ричарда Хьюза
Предназначение
На том курсе во ВГИКе было много девушек. На режиссерском так не бывает. Семь или восемь, и все разных национальностей, и все красивые, заметные даже во вгиковской эксцентричной толпе. Тот курс набирал А. П. Довженко. Вскоре он умер. Были другие преподаватели, но курс так и остался без своего родоначальника. Между тем он оказался очень сильным: теперь, по прошествии лет, это подтвердилось. Я училась на параллельном, сценарном, и помню наше любопытство к довженковскому курсу — там по воле Мастера складывалась обстановка священнодействия. Нас выгоняли из соседней аудитории, чтобы там было тихо. Довженко их не научил — он их «поставил». Чувство собственного достоинства и достоинства своей профессии в кинематографе, в этом сложном и отчасти безумном мире, сохранять ох как трудно, а без этого нельзя. Лариса тогда еще не была красивой. Она выглядела длиннорукой школьницей — в коричневом платье, сначала с косой, потом с пепельными кудряшками надо лбом. Однажды Довженко, стукнув палкой, выгнал Ларису — срочно, под кран, размачивать кудряшки. Она потом рассказывала. Это не было обидно, потому что не прихоть, а наука: ты должна быть не такой, а вот такой, вот твой облик, ты не сама для себя, ты принадлежишь окружающим, тебя слушают, на тебя смотрят. Эта профессия, режиссура, публична, она осуществляется на людях. Кроме позиции, выработанной наедине с собой, требуется еще поза. Артист рано или поздно страдает от публичности своей профессии, от толков-пересудов, от снежного кома мнений, но даже артист в свое рабочее время скрыт за персонажами, которых он играет. Режиссер ищет, нащупывает свою позу, необходимую, как рабочий инструмент, а затем поза требует выправки, формы, она вечно чего-то требует, требует отчета: «А такой ли ты, каким назвался этим людям, которых ты убедил слушать тебя и слушаться?» Сказать «я могу», «я знаю секрет», — а ты еще ничего не знаешь. И теперь доказывай, выполняй, оправдывай, бейся. Подружились мы позже, к концу института, и дружили близко, по-домашнему, если можно назвать домашней нашу совсем тогда не домашнюю жизнь. А потому я не могу рассказывать о Ларисе, отделяя то, что может быть интересно всем, от того, что важно именно для меня. Хотя мы дважды работали вместе, мои воспоминания не укладываются ни в какую систему, я и не пытаюсь пока их выстраивать в какой бы то ни было порядок. Недавно мы говорили со сценаристом Юрием Клепиковым, который писал с Ларисой сценарий «Восхождение» по повести Василя Быкова, и сошлись в общем ощущении — чем была для нас гибель Ларисы: образовалась пустота. В том месте, где лихорадочно бьются наши желания написать, дописать, довести до осуществления сценарий, как будто вырвали важный орган воли, профессиональной воли. Ведь наша работа как раз такая, что сто раз мучительно и одиноко думаешь — стоит ли ломать голову, все равно далеко-далеко еще до кино, да и будет ли оно вообще, на пути еще тысяча препятствий, и нужно ли это кому-нибудь? Ларисе это было нужно, у нее была могучая уверенность в том, что это нужно, вообще, всегда, всем. Для всех, кто трудится в кино, нужно такое строгое око, которое умеет оценить не только достижение, но и предшествующее ему усилие. Лариса умела слушать — качество не такое уж частое у режиссеров. Она слушала литератора, актера, композитора, вообще людей, слушала жизнь. В пространстве и времени она ориентировалась со сверхнормальной чуткостью. Не все это замечали. В обыденной жизни она была человеком громким, и казалось, что она слушает только себя, но, как только дело касалось серьезных вещей и конкретной работы, она умела замолкнуть и слушать так внимательно, что от нее не ускользало ценное даже в самой невнятной речи, в не очень заметных людях. Вот, например, с чего начиналось «Восхождение». Лариса советовалась: «Как ты думаешь, кого пригласить сценарий писать? Может быть, поговоришь с Клепиковым, это для него работа». Клепиков живет в Ленинграде, они почти незнакомы, про войну он до того времени ничего не писал, но угадано точно, не угадано, а замечено, что именно он нужен для этой работы. Я передаю приглашение, уговариваю. Клепиков обещает: «Ладно, буду в Москве — зайду, расскажу, что я по этому поводу думаю» (книга уже прочтена внимательно, с прицелом на кино). «А писать не буду, некогда, свои сценарии не отпускают». Он-то еще не знает, а я уже знаю, что, как только он зайдет в Москве к Ларисе, вопрос будет решен сам собой. Он будет писать. Приезжает и говорит с несколько смущенной улыбкой: «Не понимаю, как это произошло, но я согласился и — без размышлений». Лариса умела слушать, несмотря на бесконечную сутолоку жизни, перенасыщенной всевозможными тяготами, болезнями, борьбой за свои замыслы, а потом за каждое слово, за каждый метр фильма. Она казалась виртуозом этой борьбы, у нее редко опускались руки, даже создавалось впечатление, что ей легка, ей по нраву эта борьба, но это, видимо, было только впечатление. Лариса связана с кино всей сущностью характера, это ее природное свойство, и потому кино не могло ее не выбрать, она была избранницей и, видимо, ощущая это, не впадала ни в уныние, ни в панику, хотя на ее долю и на долю Элема Климова выпали чрезвычайные трудности. Лишь очень редко у нее прорывалось что вот, годы идут, а ничего еще не начато. Мне трудно писать о ней, потому что мои теперешние воспоминания — почти родственные, они как жуткий сон и боль, а мы так чурались сентиментальности, так часто доказывали свое мужественное отношение к жизни, поскольку в наших профессиях к женщинам относятся подозрительно, а сентиментальность почему-то считается признаком женского мироощущения, хотя это совсем не так. Так вот, если без этой самой сентиментальности: ее облик кинематографичен и всякое воспоминание о ней вычерчивается в напряженную, выразительную, слишком яркую для будничной жизни сцену, историю, новеллу. Обычно это свойство воспоминаний юности. Наша юность кончилась еще до картины «Крылья». Долгие дружбы состоят из незаметных мелочей. Я помню все, как будто это только что показали в хорошем кино. А это двадцать лет. И чего-чего только не было за эти двадцать лет. Кажется, все было, кроме скуки. И вот я перед белым листом сижу уже которую ночь и пытаюсь… нет, уже не пытаюсь написать ее портрет для тех, кто ее не знал или почти не знал. Я вспоминаю? Нет, никакого усилия памяти, никакого припоминания — я и так помню, чрезмерно, с избытком деталей, цвета, света. Ослепительно. Она была заметной и незаметной быть не умела. Как будто бы жила, чтобы запомниться, остаться в глазах, в ушах, вместе со всем, что было рядом. Как будто поставили сильную, как для кино, осветительную аппаратуру. Как будто каждый эпизод был исподволь, замысловато неслучайно затеян умелым драматургом. Как будто тут поработали художники по интерьеру, по костюму, и крупность и мизансцена продуманы самой природой, чтобы мгновение не изгладилось из памяти. И голос то увеличен, то уменьшен, то в трубу трубит, то истончается до писка. Да, природа создала Ларису для кино, ей было не угнаться за собственной природой, и она гналась и задыхалась на бегу. Это кино не задумывалась как трагедия. Но были знаки. Было несуразно много разговоров о смерти, предчувствий. И было чувство, не теперь, а всегда оно у меня было, что она, как само кино, — увеличительное зеркало событий, сильное и беззащитное на перекрестке мнений и суждений, похвал и хулы. И всегда на перекрестке, как будто не знала, что есть тень и в тени так хорошо… Так вот о чем будет наше кино — про человека на свету и человека в тени, и каждый хочет туда, где его нет, но — не переступить… Это, конечно, будет сказка. Притча. Мы бы сейчас сидели на кухне или где-нибудь в Болшево и медленно мечтали, зная, что ничего не сбудется. Сбудется что-то другое. Мы дружили и ссорились, когда работали вместе. Бывало, до слез. Но после не терзали друг друга выяснениями обид и сложных отношений. Было легко жить в одной комнате в гостинице, в Доме творчества, легко где-нибудь в гостях, в машине, в магазине, было на редкость легко в обыденной жизни, как будто бы Договорились не смешивать обыденность с той работой, где каждый сам себе последний судия и отталкивание сильнее притяжения. Но зато и малая искра единства, полного понимания — радость, и были радости, и не было одиночества. Легко было говорить о вещах серьезных — без оглядки, не стесняясь своей наивности, и это, видно, нас и подружило в давние ученические времена, и, разумеется, все серьезное, что происходило вокруг и с нами, каким-то образом сопрягалось с кино, и вот тут-то мне в этом повезло — я видела, как Лариса училась. Она училась семимильными шагами, с размахом и азартом. Кто-то, может, традиционно вспомнит про категоричность и максимализм наших тогдашних оценок и прибавит привычно: юношеский максимализм. Нет, максимализм был взрослый. Так и осталось пугалом — застрять на уровне умения «отлудить» (словечко было любимое, произносилось уничтожительно) какой-нибудь случайный фильм. Все лучшее притягивало. Был нюх на лучшее, интуиция — задолго до понимания, до освоения. Чего не было, так это ленивого, самодовольного, пагубного: «А мы по-простому, по-нашенски, уж как-нибудь, как умеем». К работе относилась свято. Могла бы поставить вдвое больше фильмов, если бы не проволочки с каждым запуском и не строгость к себе — никогда не работать вполсилы, отдавать профессии только лучшее, что есть в душе. Лариса умела плакать и смеяться одновременно. Она почти не пила спиртного, но если вокруг пили, она не угрюмствовала, как обычно непьющие из-за болезней люди среди пьющих, а заражалась состоянием окружающих. Она прекрасно танцевала. Она умела издавать тонкий горловой звук, не слышный в двух шагах человеку, но на него откликались собаки со всех окрестностей. У нее был голос огромного диапазона. Вот мы на пустом певческом поле в Таллинне. Лариса залезла высоко-высоко и поет «Аве Мария». А вот мы зажгли двадцать пять свечек и празднуем ее день рождения и помолвку с плачем: нам уже было что провожать и что вспоминать. Между той девочкой, что крепко хлопала по плечу и наводила страх на мужскую половину ВГИКа, и тем двадцатипятилетним днем рождения случились два преображения, внезапных и заметных. Во-первых, она вдруг явилась красавицей. Где-то снималась, повзрослела, приоделась. И спрашивали: «Кто это?» — «Да это же Шепитько!» Потом — тоже вдруг — какая самоуверенность: «Лучше я не буду совсем снимать, чем снимать что дадут, лучше я поеду к себе во Львов и буду шляпки шить». Эту самоуверенность надо обеспечивать большим запасом прочности. И началось. Я смотрела, как две девчонки — они начинали картину «Зной» с Ириной Поволоцкой — требовали от маститого к тому времени сценариста Иосифа Ольшанского переделок сценария, чтобы социально заострить, укрупнить ситуацию, убеждали, сами писали, доказывали. Я думала: а вдруг он их сейчас прогонит и не даст им снимать диплом по его сценарию, зачем ему эти хлопоты? У меня была нормальная робость перед старшими, я еще не знала, что в этом деле нет старших и младших, не знала, что режиссера, который уверен в том, что он хочет сделать то-то и так-то, нельзя прогнать, что перед этим сильным желанием никакой сценарист устоять не может. Лариса на этой суровой картине стала режиссером. Потом было много бед, отчаяния, болезней, потом была разгромная статья об этой картине. Потом — премия. Картина оказалась заметной. «Ты что, старуха, мемуары пишешь?» — «Да, выходит так». — «А помнишь, как мы гуляли в последний раз?» — «Как не помнить. В Зарядье?» Взрослые женщины не гуляют просто так по городу, дел всегда полно, а мы назло делам гуляли просто так, пошли в Зарядье, днем в воскресенье там пустынно, летом в воскресенье там будто и не Москва, а декорация Москвы. И это было давно. По Страстному ходили и по Арбату, мимо наших временных жилищ: сколько надежд и планов там осталось! В тяжелую для нас обеих пору мы жили вдвоем в сумрачной комнате в Доме творчества «Болшево». Лариса только собиралась работать, сыну ее был год, ставить «Сотникова» ей не разрешали, она прошла уже первый круг отказов, и мы писали с ней сценарий по Достоевскому «Село Степанчиково» (впоследствии он был принят, но не запущен в производство). А в эти осенние дни мы только еще погружались в тяжелую литературоведческую литературу и ломали головы всерьез, как этот гениально открытый Достоевским тип — Фому Опискина — переместить в экранную конкретность. Кругом галдели, как всегда в Болшеве, осенние семинары, и вдруг (это было первого ноября семьдесят четвертого года) мы узнали о самоубийстве Гены Шпаликова. Они с Ларисой работали над фильмом «Ты и я». И ту работу я помню с самого начала. А как это волшебно начиналось! Гена писал стихи и монологи, еще не к кино, просто так. Лариса услышала в них что-то ей родственное, у нее была пора счастливой уверенности в себе и в кино. Она заразила этой уверенностью Гену. Она старалась создавать ему такую рабочую обстановку, такой уют, так верила в его талантливость, что он был какое-то время здоров и счастлив в этой работе. Но было девять вариантов сценария. А идеи высыхают и трансформируются. Это картина о человеке, который бежит незнамо куда от всей своей жизни, оказалась, на мой взгляд, перегружена слишком простыми подпорками. Но, не считая эту картину удачей, я все-таки думаю: как они были безрассудно талантливы, когда затевали такое невозможное… Вот мы сидим компанией бывших вгиковцев. Мы вспоминаем ее. Все ее знают, помнят, всем есть что рассказать о ней, у каждого есть своя новелла. Нет, это не моя память, у всех так — полжизни кануло бесследно, не припомнить, а вот про Ларису все всё помнят: что было, а чего и не было, а кем-то придумано. И у меня сто новелл, и я молчу. И думаю: вот пришла бы она завтра, о чем бы мы говорили? Медленно, медленно, мы не спеша всегда говорили, даже по телефону, а тем более — сидя друг против друга — вдвоем. Кто знал Ларису на публике, темперамент ее и страсть к «охотничьим рассказам», едва ли представит, как мы, степенно подперевшись ладонями, сидим, беседуем: о видах на урожай — что будет в кино в ближайшее время; о делах домашних; о заморских странах — это она рассказывает, а я слушаю; о друзьях и приятелях — сплетничали, правда, немного, только чрезвычайные, романтические истории любили перекопать; вспоминали, пеняли на возраст, на быстротечность лет — это уж как ритуал, и после всего ритуального — о темах, о том, что забрезжило в жизни и замерцало в уме, к чему бы надо подобраться, но как? Ах, наши старушечьи позы и отроческие разговоры — о том, что еще не понято, но надо понять. Больше этого никогда не будет. Утрата моя велика и напоминает о себе, словно часы с боем. И никакая память не вернет самого простого, самого дорогого — наших задумчивых детских бесед. Выступление на вечере памяти Ларисы, вошло в книгу «Лариса» (Л.; Искусство, 1987)Воспоминания о рассказе
Я помню, как слышала этот рассказ в первый раз. До мелочей помню, хотя это было… (Отсчитаю от первого фильма года полтора — получается шестьдесят четвертый). Да, в шестьдесят четвертом мы с Ларисой Шепитько и Валентином Ежовым сидели в Болшево, в нашем знаменитом, воспетом теперь во многих мемуарах Доме творчества и работали над сценарием, а по вечерам слушали Галича, живого, сорокапятилетнего, написавшего тогда еще не очень много песен, так что мы все их уже знали наизусть. И вот однажды, когда Галич все песни перепел и категорически отложил гитару и когда все с неохотой разбрелись по комнатам, прибегает Ежов и кричит громким шепотом: — Пойдемте! Только — никому!.. Фрида и Дунского уговорили прочесть рассказ! Вы такого никогда не слышали и не услышите! Только чтоб никто не увязался… Пробираемся бесшумно, приходим в тесную комнату, где Галич вздремнул за спинами Фрида и Дунского, и видим, что при нашем появлении авторы как-то нахохлились, завяли и прячут рукопись. А тут еще Элем Климов, муж Ларисы, с режиссерской непреклонностью велит нам выйти вон. Нельзя женщинам — и всё тут. Авторы — люди чрезвычайно вежливые, а с дамами вдвойне любезные, улыбаются уклончиво — мол, мы барышням очень рады, вы сидите, сидите, но пусть лучше Александр Аркадьич споет. И надо бы нам уйти, не портить людям вечер, не ссориться с Климовым, не показывать себя настырными хабалками, но мы — сидим, мы внедряемся, мы видим их неистощимое джентльменство и пользуемся. Я канючу: — А может быть — мы уши закроем? — под общий, разумеется, хохот. И тут прогрохотал Ежов: — Да как вам не стыдно, да какие же это женщины?! Они не женщины, они ВГИК закончили, они пишут, снимают, им все можно, скажи, Саша! Галич проснулся и подтвердил, что мы не женщины, что нам все можно, и большинством голосов велено было читать. Честно говоря, мы были как раз те девушки из благовоспитанных слоев общества, где не матерятся вообще, а блатной мир представляют не реальнее Змея Горыныча, и нам бы как раз и падать в обморок, Климов не зря беспокоился, он думал — мы и слов-то таких не знаем. Но мы не упали. Более того, оказалось, что слов, которых бы мы не слышали прежде, очень мало. Валерий Семеныч Фрид читал артистически, а Юлий Теодорович Дунский делал сноски, пояснял блатную лексику так быстро, что не нарушал волны повествования. Оно нас захватило сюжетом, героем, кинематографической зримостью и стройностью, и напрасно авторы, словно оправдываясь, предваряли чтение извинениями — мол, это словесный эксперимент, чтобы не забыть лагерную речь — мы записали… То было время, когда мы еще не читали Солженицына, когда едва возник Высоцкий и сочинял каждый день по новой песне для узкого круга друзей, но еще не нашел своего хриплого голоса. То время, когда «интеллигенция поет блатные песни», оказалось лучше, чем когда она вовсе петь перестала. Осенью 1968 года, на очередном семинаре, мы снова стали уговаривать Фрида и Дунского прочесть рассказ. Маша Хржановская (организатор и душа нашего тогдашнего семинара) обратилась к Дунскому, так сказать, «на голубом глазу»: «Вот мы слышали, и многие хотят…» Глаза у Маши действительно голубые, обращение деликатное, но Дунский ответил полным отказом: «Нет, мы при дамах никогда это не читаем». «А вы знаете, кто хочет послушать рассказ? Николай Робертович Эрдман…» — сказала Маша, и не успела она назвать имена других «стариков» — Вольпина и Каплера, как Дунский вытянулся (а был он очень сутулый) и безоговорочно согласился. А там и мы прошмыгнули за спинами стариков — мы с Ильей Авербахом и Маша. То было очень важное чтение: старики «знали матерьял», они получили сроки задолго до Фрида и Дунского, в комментариях и переводе с блатного не нуждались. Они очень высоко оценили рассказ. Представляю, как бы смеялись, если б узнали, что этот рассказ дословно напечатан, — Ю. Т. Дунский, А. А. Галич, Н. Р. Эрдман, М. Д. Вольпин, А. Я. Каплер, И. А. Авербах, Л. Е. Шепитько. Может, они и смеются, и все им известно про нас. Послесловие к рассказу «Лучший из них», в книге В. Фрида «58½» (1996)Памяти Габриловича
Умер Евгений Иосифович Габрилович, наш учитель, наш «старик», как называли мы его в далекие студенческие времена. Тогда он вовсе еще стариком не был и едва ли мог предвидеть, что ему суждена долгая счастливая старость. В пятом номере «Киносценариев» печаталась его проза, и под его портретом мы прочли: «…Нет, не пора! Господи, дай мне пожить хотя бы еще немного». Какое счастье — суметь и осмелиться так сказать в глубокой старости, когда тело немощно, а ясный и стойкий разум уже много раз перехитрил смерть. И вот он умер. В девяносто четыре года. В Доме кинематографистов сказаны благодарные речи. Поминальные тосты расцвели воспоминаниями приятными не тягостными, даже веселыми. Про мудреца сохранившего детство. Про Артиста — сотворившего кроме прекрасных сценариев свой образ и судьбу. Представить Габриловича, говорящего «в моем творчестве», как многие теперь говорят, да и раньше его ровесники позволяли себе говорить, невозможно. Чувства меры и самоиронии никогда ему не изменяли. У него был изумительный талант общения — с любым поколением. Он любил и умел задавать вопросы — может быть, по журналистскому опыту он знал, как человеку нужно иногда, чтобы ему задавали вопросы, как человек слаб и хрупок и нуждается в легком отпущении грехов. В миру, не в церкви. Просто кивком головы, удивленьем, шуткой. Признанием старика, что и он, старик, тоже мало что знает о жизни, и у него больше вопросов, чем ответов. «Эх, ребятки, в этом сложном море…» — говорил он, проглатывая букву «л», и замолкал, тяжко вздохнув. Он хотел научить нас, как плыть и выплывать «в этом сложном море» — в кино и в литературе, в этом суровом мире, где как раз был конец пятидесятых, и скупые капли «оттепели», и эйфория пятьдесят шестого отливались горькими слезами, и у него не хватало слов: он видел наши первобытные, бесшабашные, по-вгиковски самонадеянные головы и, кажется, не переставал удивляться, что жизнь — какая никакая — продолжается, и этих — то есть нас, не знавших ни-че-гошеньки, что было до нас, не вкусивших плодов мировой культуры, нас, попавших в волчью яму победившего невежества (тогда ведь Достоевского в школе не проходили, Есенина и Блока не издавали, не говоря о религии и философии) — нас, таких вот, тоже можно и нужно чему-то учить. И он старался. «Глубокомысленней надо, ребята, вот тут бы надо как-то поглубокомысленней», — говорил наш старик, теребя мундштук с незажженной сигаретой — он тогда бросил курить и был очень нервен. Что это значило — «глубокомысленней» — для нас, «спрыгнувших с ветки»? Да ничего не значило, зато потом припомнилось. Найдя хоть крупицу литературы в наших корявых этюдах, Габрилович у всех на глазах развивал из нее свой сюжет — один, и другой, и третий. И не забывал похвалить автора, забывая, что это он сам придумал, и автору остается только краснеть. Наш «старик» был настолько мастером и хозяином своего дела, что без всяких, как теперь сказали бы, «комплексов» открывал перед нами свои сомнения и тайны рождения сценария. Он говорил, что перед чистым листом бумаги ты всегда «начинающий» — нет ни опыта, ни возраста. Он тогда сочинял «Коммуниста». Все награды, почести, фестивали и юбилеи были еще впереди. Я много раз бывала на его торжествах, нас вообще часто сталкивала судьба, мы путешествовали по ближним и дальним странам, и я, к счастью, успела сказать слова благодарности своему учителю, но всегда старалась завернуть их как-нибудь «поглубокомысленней», чтобы не дай бог не впасть в пафос, чтобы Габрилович не опустил глаза, как в аудитории, когда он, стыдясь и морщась, произносил беспощадно: «Это просто вранье!» Не было слов хлеще, и это тоскливое, брезгливое «Вррранье!» — до сих пор в ушах. Хорошая была школа, немногословная. А все-таки жаль, что я не успела рассказать Габриловичу один маленький случай, который бы его обрадовал. Показывали по телевизору старую картину «Коммунист». Я сидела в чужом доме с двумя девочками семи и восьми лет. Я хотела выключить телевизор, чтобы звонить по телефону, но вдруг увидела их глаза! Они смотрели на Урбанского, который рубит деревья чтобы растопить паровоз, они смотрели прекрасную сказку, и никакая сила не оторвала бы их от экрана. Я и сама засмотрелась. Значит, живо это кино. Как живы для меня те уроки, когда на примере этого самого эпизода, еще не написанного, только придуманного, мы обсуждали — что такое сказка и что такое «просто вранье!» Габрилович тогда сочинил, что смерть коммуниста будет долгой, неправдоподобно долгой, пуля его не берет, его убивают, а он живой! И две девочки дрожали перед экраном, вцепившись в стулья, знать не знающие ничего про коммунистов, и едва ли они когда-нибудь узнают имена Габриловича, да и Урбанского, и Райзмана, они теперь живут в Америке, но благородный богатырь навсегда останется в их памяти. И замечу, кстати, ни один самый яростный антикоммунист не покусился на славу того знаменитого фильма, он стоит особняком, крепче памятников, которые можно снести. «Киносценарии», № 1, 1994
«Голос» — это кино о кино. И о смерти. Режиссер Илья Авербах. В главной роли Наталия Сайко. В роли режиссера Леонид Филатов. Фотография Елены Карусаар

Елизавета Никищихина, Наталия Сайко, Леонид Филатов. Фотография Елены Карусаар
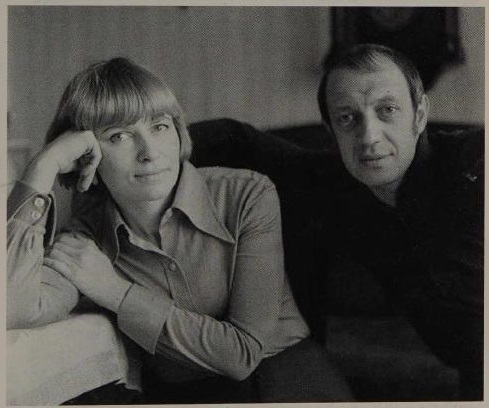
Мы с Ильей в нашей квартире на Подрезовской улице в Ленинграде. Для Ильи Ленинград всегда оставался Петербургом. Фото Ю. Колтуна

«Голос». Сергей Бехтерев в роли композитора. Фотография Елены Карусаар

«Голос». Татьяна Лаврова. Фотография Елены Карусаар

«Голос». Елизавета Никищихина в роли второго режиссера. Фотография Елены Карусаар

«Голос». Алла Осипенко и Наталия Сайко. Фотография Елены Карусаар

«Голос». Всеволод Шиловский в роли оператора. Фотография Елены Карусаар

Мы с Ильей Авербахом на съемке фильма «Чужие письма» в Калуге, 1975 год. Фотография Елены Карусаар

«Чужие письма». Ирина Купченко в роли Веры Ивановны. Фотография Елены Карусаар

«Чужие письма». Ирина Купченко и Зинаида Васильевна Зеленая в роли старой учительницы. Фотография Елены Карусаар
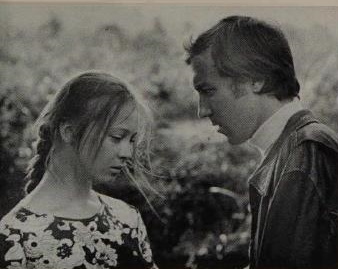
«Чужие письма». Светлана Смирнова в роли Зины Бегунковой и Олег Янковский. Фотография Елены Карусаар

«Чужие письма». Светлана Смирнова, Иван Бортник, Майя Булгакова. Фотография Елены Карусаар

Илья Авербах на съемке кинофильма «Чужие письма» В роли художника — художник С. Коваленков. Фотография Елены Карусаар

Григорий Михайлович Козинцев, руководитель режиссерских курсов «Ленфильма»

Евгений Габрилович и Илья Авербах

Илья Авербах на съемке.

Режиссер Кира Муратова. (Про фильм «Долгие проводы» читайте статью «За что?»)

Фильм «Долгие проводы». Зинаида Шарко и Олег Владимирский.

Зинаида Шарко в роли Евгении Васильевны.

«Долгие проводы». Мать и сын на кладбище

Наталия Рязанцева. Фото Т. Шахвердиева
Незабываемый тысяча девятьсот пятьдесят восьмой
Я рассказывала эту историю не раз. И не только я. Все, кто в те годы учился или работал во ВГИКе, причастны к этой истории, теперь уже ставшей историей. И где-то в архивах можно отыскать те газеты — «Комсомольскую правду» и «Московский комсомолец», где по указке сверху, в назидание всему неблагонадежному студенчеству, громили наш несчастный заблудший курс. Четвертый сценарный. Курс был дружный — до поры до времени, то есть устраивали вечеринки, собирались в общежитии готовиться к экзаменам и писать шпаргалки, выезжали на летнюю практику большими компаниями. Хотя все были разные — по возрасту и житейскому опыту. Например, нашему старосте Косте Бушкину было больше тридцати пяти, и был он до ВГИКа уже майором-артиллеристом, и еще было трое совсем взрослых, а я поступила неполных семнадцати лет, и пас — прямо из школы — тоже было трое. Полкурса — москвичи, остальные — из разных дальних краев, жили в общежитии, тяжело жили, впроголодь. Эти контрасты не мешали нам вместе пить водку, до одурения спорить, обсуждая больные «русские вопросы» и кто с кем «пошел бы в разведку». Теперь много написано про «детей ХХ-го съезда». Вот мы и были теми самыми детьми. На специальном собрании, в глубокой тишине, нам зачитали знаменитый доклад с разоблачением «культа личности», и всем вдруг показалось, что наступила долгожданная свобода слова, время больших разоблачений и всеобщего очищения, и каждому хотелось внести свою лепту в этот процесс. «…Но гражданином быть обязан» — еще в школе учили. И уж мы-то не будем тем стадом баранов, при молчаливом пособничестве которых творились страшные злодеяния. А тут — венгерские события, вторжение наших танков в Будапешт, и во вгиковской стенгазете кто-то осторожно подверг сомнению государственную политику. Пресекли, одернули, пропесочили на собрании, а вскоре появилось новое, извилистое ученое слово «ревизионизм», партия давала отпор всяким «отклонениям от линии партии», и взрослые, умудренные, пуганые, увещевали студентов веским аргументом: «Да вас бы еще недавно на десять лет упекли за разговорчики, а теперь — видите? — другие времена…» Однако вскоре посадили двух студентов сценарного факультета — Златверова и Кафарова, с того курса, где учился Гена Шпаликов. Это было в пятьдесят седьмом году, следующий за нами курс, ВГИК ответил на их арест стихийным митингом. Все, как по команде, сбежались наверх, набились в актовый зал: «Мы хотим знать, за что арестовали наших товарищей!» Начальство растерянно разводило руками и призывало к порядку. Решили выбрать комиссию по выяснению — за что? Помню, в нее вошел темпераментный первокурсник Эмиль Лотяну, призывавший не быть рабами, и уравновешенная студентка — сценаристка старшего курса Людмила Голубкина, пытавшаяся привести в порядок орущую толпу, написать официальный запрос, собрать подписи. Пока мы выбирали и собирали, к начальству подоспела подмога — прислали из райкома некоего Солдатенко, невзрачного функционера, который еще больше разозлил зал — все дружно затопали, захлопали, стали сгонять его со сцены. До драки не дошло — он незаметно смылся. (Кстати, потом он много лет был директором объединения «Юность» на «Мосфильме», а Голубкина была там редактором, и они прекрасно уживались, он ни в какую «идеологию» не лез, был исправным организатором, пока не выгнали.) Тот митинг закончился ничем. Когда Алик Кафаров вернулся через три года, выяснилось, что его посадили за анекдоты, и он знал, кто на него доносил, и придя в общежитие после лагеря, сразу встретил того доносчика-однокурсника, и тот его как ни в чем не бывало пригласил пить зеленый чай. И они пили и мирно беседовали — он сам рассказывал — и не было ни малейшего желания дать доносчику в морду и вообще «выяснять отношения». Да, к шестидесятому году мы уже не были теми пылкими «детьми». Вот если бы тогда записывать — день за днем, час за часом — те страхи, сплетни, споры-разговоры — было бы бесценное свидетельство, но никто этого не делал, едва успевали сочинять свои сценарии, что требовалось по программе, и наша всамделишная тревожная жизнь туда не попадала, казалось, главное — запомнится, осмыслится, придет время, и можно будет рассказать… Уже появился в центральной печати фельетон «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара» — про Литературный институт, из которого отчислили вдруг нескольких студентов, в том числе уже нам известных Юнну Мориц и Беллу Ахмадулину. Видимо, кто-то решил «почистить» вузы, усилить идеологическое воспитание. Нам то и дело напоминали, что мы «бойцы идеологического фронта». На нашем курсе была традиция: в начале и в конце учебного года записывали на магнитофон капустник — пародии и песенки, довольно остроумные, но чисто местного значения. Слушали в своем кругу и хохотали. Как меня изобразили — до сих пор помню. А в ту осень пятьдесят восьмого наши остроумцы оказались как-то не в духе, заранее собраться не успели, но капустник был обещан, и мой громоздкий магнитофон «Днепр» доставлен к метро «Аэропорт», в новенькую просторную квартиру Наташи Вайсфельд — ее родители еще не вернулись из отпуска, В том же доме, в соседнем подъезде, жил и главный наш мастер — Е. О. Габрилович, и его тоже приглашали на вечеринку, но он сказал, что занят, хотел бы, но никак не может прийти. Как в воду глядел. Собравшись на полчаса раньше других, комедиографы наши не сочинили ничего нового (должно быть, идея себя исчерпала), а стали просто валять дурака и записывать — раз уж магнитофон под рукой — что в голову взбредет. Пародию на историко-революционную пьесу. Я даже помню начало — как Дима Иванов серьезным дикторским голосом произнес: «Еще не успели смолкнуть исторические залпы „Авроры“, а у колонн Таврического дворца…» Пошла импровизированная пародия на «Незабываемый 1919-й». Изобразили белогвардейский загул. Единственная девушка Дая Смирнова (она перешла к нам с актерского факультета) вполне профессионально подыграла: «А помните, поручик, мы когда-то с вами ездили в Яр…» Тут вступал цыганский «хор» из четырех человек, а потом возникал Ленин в своем кабинете. Его, слегка картавя, изображал Володя Валуцкий. Он принимал посетителей — крестьянина, профессора, татарина… Послушали после первой рюмки, дружно смеялись, а потом вдруг наступила тишина, и Валерий Шорохов, взрослый наш однокурсник, бывший юрист, год отслуживший комсомольским секретарем всего института, проявил бдительность. «Ну, ребята, вы дров наломали, давайте-ка лучше это сотрем», — посоветовал он не слишком настойчиво, в смысле — «береженого бог бережет». И стерли, недолго думая. Никто и не собирался хранить эту импровизацию вечно. Записали на ту же катушку шум вечеринки — просто тосты, общий гомон, неразборчивое пение. Помню, Наташа спела — «По тундре, по широкой дороге…» Тогда входили в моду лагерные песни. Через много-много лет я узнала из достоверных источников, что уже наутро дирекции было известно про нашу вечеринку. Это несколько проясняет вопрос — кто стукнул? Но не вполне. Возможны варианты. А тогда… мы просто помешались на этом вопросе. И точно не помню, в какой момент нам с Наташей велели привезти магнитофонную запись с вечеринки. Ну и привезли. Даже охотно — пьесы там уже не было, да ничего там уже не было — сплошной «гур-гур», даже без «ненормативной лексики» — в наших компаниях тогда не ругались, во всяком случае, при женщинах. Но дело где-то раскручивалось. Володю Валуцкого увёзли куда-то (слово «Лубянка» произносили шепотом, одними губами), он вернулся бледный и молчаливый, в целях конспирации мы ушли из института к «Рабочему и колхознице», и там, в промозглых сумерках, прячась от ветра за мухинским монументом, долго обсуждали — что теперь делать и кто «заложил»? Во ВГИК повадились какие-то комиссии — то ли из райкомов, то ли следователи, и тут же набежали журналисты, стали изучать наши работы, хранящиеся в папках в кабинете кинодраматургии, вплоть до мелких «немых этюдов». В «Московском комсомольце» появился фельетон под названием «Зеленые леопарды». Это Дая Смирнова написала этюд на «сильную страсть» — про страсть филателиста, который гоняется за маркой с зелеными леопардами. Остроумный, на пару страничек, киноэтюд с преследованием. Журналисты его выставили как образец нашей общей безыдейности. Теперь бы сказали «пустяк, а приятно» — попасть в газету, а тогда было страшновато. «Комсомолка» копала глубже — в двух номерах целые полотна с примерами из наших ученических упражнений, перевранных, правда, до потери смысла. И два известных журналиста — Шатуновский и Суконцев, такие асы за что попало не возьмутся, матерьял явно заказной и срочный. Отец утром протянул мне газету — «смотри, и про тебя тут написано…» У меня был немой этюд про самоубийство некого начальника в домашнем кабинете. Мы тогда все пытались осмыслить смерть Фадеева. Я не про него, конечно, писала, но вот — лягнули в газете, и помню — сижу, подчеркиваю, что там в газете — чистое вранье. А кому жаловаться? Разве мы не знали, что в газетах врут? Разве не помнили «дело врачей»? Да, но когда тебя так близко касается… Бежали в институт, потом в общежитие, говорили только об этом — кто «стукнул», кого вызывали, расспрашивали? Началась полоса собраний: закрытое, открытое, факультетское, общее… Впрочем, меня никуда не вызывали, не вербовали. Пронесло. Может, благодаря той газете я уже была среди неблагонадежных, может, пощадили по малолетству, но образ чекиста со стальными глазами отпечатался в сознании задолго до того, как в обиход вошло иностранное слово «диссидент». Однокурсники, которых вызывали и вербовали, конечно, рассказывали «по секрету», как это все происходит. А моя подруга из Литературного института уже год отбивалась от откровенной вербовки, и ее Мефистофель под названием «Саша» был непохож на «стального чекиста» — молодой обходительный интеллектуал. Система запугивания действовала почти автоматически, им ничего не надо было делать, чтоб превратить простых советских комсомольцев в «тварь дрожащую», разделять и властвовать, но — палка о двух концах — так и нарождалось диссидентство, в те годы, когда мы еще не слышали про Солженицына, еще не пел свои песни Галич, еще не везли «из-за бугра» Бердяева и даже мало кто всерьез прочел Достоевского. В школе его «не проходили». Собрания предварялись мелкими пасквилями в институтской газете. Понемногу подтягивали «компромат». Общественное осуждение иногда выливалось в наивные стихи. Помню начало:«…За все, что ему второпях не сказали…»
воспоминания об А. Галиче
Помните эту песню Галича про то, как уводили Мандельштама, про обыск в его квартире: «А два понятых, словно два санитара», «А две королевы небрежно курили, а после казнили себя и корили…» (имеются в виду Анна Ахматова и Надежда Мандельштам). Много лет крутятся в голове эти строчки: «…за небрежный кивок на вокзале, за все, что ему второпях не сказали…» Строго говоря, нельзя писать про Галича, потому что в душе навсегда остался привкус собственного предательства, и тысячу раз себя спрашиваешь, имеешь ли право, ибо унылое оправдание «А что мы могли?..» — не ответ на молодежно-бестактное «А вы-то где были?». Как мы пытали старших в конце пятидесятых годов: «А вы-то где были, неужели не видели, не понимали, например в тридцать седьмом?» Кстати, и Александра Аркадьевича спрашивали, было у нас много таких откровенных разговоров: когда, как приходило прозрение, понимание того, что происходит в стране? У него, как он рассказывал, это случилось как-то внезапно, одномоментно, именно как прозрение в конце сороковых. Он был романтиком по складу души и таланта — в самом лучшем и уже забытом смысле этого слова. Да, человек, написавший язвительные строчки «Романтика, романтика небесных колеров — нехитрая грамматика небитых школяров», был для нас, молодых скептиков, уникальным, неправдоподобным примером романтизма и идеализма. Возможно, последним в этой стране и в этом веке. Так мы и смотрели на него — восхищенно и оцепенело, понимая, что он сам выбрал свою судьбу: «Я по тонкому льду иду, я иду и дразню беду…» Жизнь Александра Аркадьевича была вся на виду, и многим, многим есть что о нем рассказать. Да он и сам все о себе написал. Его стихи и песни пропитали нашу жизнь на много лет вперед, и он знал, что так будет. Теперь, когда его интонации стали расхожим достоянием бардов, и часто с досадой отмечаешь — «Да это же испорченный Галич!», я думаю — а как бы он к этому отнесся? Может, где и поморщился бы на плоские строчки, а в общем — снисходительно, без обиды, без насмешки. Он знал, что его «растащат», он хотел, чтобы «растащили». И был он на редкость снисходительным, доброжелательным, уважительным к каждому отдельному человеческому существу; не было в нем ни тени высокомерия или той угнетающей окружающих требовательности и подозрительности, что так часто свойственна людям, знающим себе цену. Мы были молодыми, и для нас он был — «маэстро». Мы с мужем, с Ильей Авербахом, только начинали работать в кино, ездить в Дома творчества и, должно быть, оказались последними из кинематографистов, кто успел довольно близко познакомиться с семьей Галичей. От них исходил дух праздничности и некоторой театральности. Почему-то мне до сих пор представляется Галич во фраке — должно быть, во сне приснился, во фраке с дирижерской палочкой, в жизни я его во фраке не видела, видела в вельветовом рыжеватом пиджаке или в черной гладкой фуфайке, в каких все тогда ходили. Как же странно — ездили мы с ним по пригородным магазинам, «по точкам», как это называли в Болшеве искали ботинки мужчинам, купили мне платье, обмывали его в неопрятном кабачке, говорили про футбол — высоко ценимое им «единственное в стране зрелище, в котором не знаешь конца», спешили к телевизору, а я — к очередному сценарию, и тоже помню: «Так дайте почитать, я вам обещаю полезный совет, я ведь самый лучший редактор» — и читал быстро, и давал советы, и не было у меня трепета, как перед всеми «взрослыми» и знаменитыми и даже перед самыми «нелучшими» редакторами; и вот над всем этим будничным, чепуховым, чего и не вспомнишь, возвышается крупная фигура «маэстро во фраке» — явственней и реальней реальности. Словно есть у нас третий глаз, чтобы видеть суть без помех и хаоса жизни. Я всегда видела двух Галичей. Один, с которым так просто и приятно поболтать, человек светский — то есть и комплимент умеет сказать как-то изящно и уместно, и посплетничать о том о сем — в меру, без злобы, без яда, смягчая любую беседу то шуткой, то тяжким вздохом, то отрешенным взглядом (а русская беседа сами знаете куда клонится — «вывести на чистую воду» и «расставить все точки»). Но я всегда видела другого — в котором кипят стихи, играет музыка, который точно знает свое место во времени и в пространстве, провидит свою судьбу и торопит ее. Горько и смешно вспоминать: Ангелина Николаевна, Нюша, жена Александра Аркадьевича, с утра, и за обедом, и после просит, умоляет: «Не надо, Саша, не надо нам никуда ехать, надо позвонить и сказать… Ты болен, ты устал… Что там за люди? Ты их знаешь?» Он соглашается, он решительно скажет, что «сегодня — никак». А к вечеру они оба соберутся и поедут. Как-то так получилось, не удалось позвонить, «люди же ждут». Смешно, потому что на третий раз мы уже дословно знаем весь этот спектакль. Галич мается, хмурится и как будто всерьез просчитывает, чем грозит очередной магнитофон. А на самом деле он просто очень хочет петь. И рад, что пригласили, и рад, что любят, ценят, зовут. А горько потому, что из любого времени, хоть и сегодня, наученные горьким опытом, знающие все, что с ним, и с другими, и с нами произошло, мы ничего не сможем посоветовать — нет правильного совета. И тогда мы это знали — что присутствуем при трагедии. «Ехать или не ехать?», «Петь или не петь?» — вопросы из житейской суеты, а за ними нарастало от паза к разу: «Быть или не быть?» Можно было только сидеть потупившись — зрителем, только зрителем «в безвыигрышной этой игре». После Новосибирска, впервые выступив перед огромной аудиторией, Галич был счастлив. Он упоенно рассказывал какая там молодежь, как они всё понимают, воспринимают. Он пребывал в какой-то эйфории хотя уже сгущались тучи, его вызывали в Союз писателей для строгих предупреждений, но об этом он рассказывал без раздражения, посмеиваясь в усы — как его «пожурили» — и очень входя в положение тех, кто «пожурил» — неохотно, по обязанности: «Ну, Саша, ты же понимаешь, ты же сам все понимаешь…» Он умел показывать в лицах, он был драматург и актер, он понял суровость предупреждения, но он любил свою эйфорию и сознательно не спешил видеть вещи как они есть. Его трогало, например, что какой-то профессиональный комсомольский работник подошел к нему и как-то подобострастно произнес: «Извините, я, конечно, комсомольский работник, но мы тоже любим ваши песни». Он охотно рассказывал всякий такой случай сближения со стражами официальной идеологии, которым надлежит его топтать, а надо же… тоже понимают… Он радовался этим отдаленным звоночкам нынешней перестройки. Он был человеком Веры — с большой буквы и во всех смыслах. Из Союза кинематографистов Галича исключили тихо, безо всяких собраний, чисто формально. (См: Протокол исключения А. Галича из СК СССР № 3/14 от 17 февраля 1972 г. На этом заседании секретариата было 14 вопросов по проблемам узбекского кино и один (№ 7) — исключение Галича по письму Союза писателей СССР. Председательствовал А. Караганов.) Живя в Ленинграде, мы даже не знали, когда это произошло. Считается, что это хорошо — когда исход предрешен, лучше без боли, его истерзанные к тому времени нервы не вынесли бы позорища. И это верно. И возможность эмиграции успокаивала душу: хоть и ссылка, но не в тундру, а в прекрасную, спасительную Европу, о которой — вот только что, несколько лет назад — и помыслить было невозможно. Когда я говорю о привкусе предательства, я имею в виду не предательство по отношению к Александру Аркадьевичу, этого чувства у меня нет, тем более что беседовала с ним в 1976 году в Париже и даже успела сказать какие-то нежные слова, а Ангелина Николаевна пришла на наш просмотр первой, до начала, и мы радостно расцеловались в пустом зале, — нет, никакая тень между нами не пробегала, и я благословляю этот день, вижу Нюшу, красивую, здоровую, в расписном свитере. У них в жизни был первый просвет относительного покоя и благополучия. А может быть, они догадывались, как мне важно их доброжелательство, их отпущение нашего греха — не вступились, не пикнули, промолчали по углам. Где мы были? Да тут же, ходили как оплеванные, бормоча про себя речи, которые мы бы сказали, если бы нас собрали и спросили. Да, было бы что сказать и было кому сказать, такого уж мертвящего «присталинского» страха в те годы не было. Страх был на той стороне, где исключали втихую, где боялись полного зала людей, знавших и ценивших песни Галича. Потому и закрывались в кабинетах. То был единственный безусловный случай, когда простое пунктуальное следование демократическим нормам могло бы повернуть дело. Не люблю эти «если бы да кабы», знаю, что нашлись бы приказные ораторы, задавили бы демагогией, но дело не в исходе дела, дело в нас. После «Дела Галича» всякое самоуважение полетело под откос. Мы уже были опытные, битые, пуганые, плоть от плоти худших времен, но это «дело» саднило, этот «секретно-показательный» процесс стоял поперек горла и, конечно, издалека подготовил шум и ярость последнего кинематографического съезда. Галич много сделал для нас. Нет, он не «открывал нам глаза», все, о чем он пел, мы так или иначе знали, но он напоминал о гражданской совести, о том, что мы — общество, а не просто человеки. А мы по лени и беспечности пропустили тогда свой единственный, может быть, в жизни шанс проявить эту самую гражданскую совесть, и она болела, как старая рана. Тут уже неважно, кто какие песни любил или не очень, кому что-то казалось «чересчур» или «всё о том же». Он захлебывался в узком кругу, нужна была более широкая аудитория, публика, публичность. Клубы, молодежь, концерты, пластинки. Галич сам собою, существом таланта решал вечный спор между «элитарностью» и «массовостью». Он создан был, чтобы наводить мосты между высокой поэзией и грубыми жанрами народной комедии или мелодрамы. В этом смысле он уникален, он профессионал недоступного циркового класса, «человек-оркестр», человек-театр, с огромным, разнообразным, разножанровым репертуаром. Но кто-то решил, что еще не пора «наводить мосты», его запрещали люди, которым нравились его песни, «но народу еще не пора, не так поймут». Невидимое «есть мнение» отторгло от жизни Галича, а поскольку оно невидимо, вина на всех нас. Проанализировать этот путь отлучения было бы интересно и поучительно, и кто-нибудь в будущем это сделает. Ах, «еще не пора?» — спросите вы и будете правы. Но как это сделать? «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку!» — писал Галич про судилище над Пастернаком. А кого мне вспомнить? Вот сидим мы в очень узком кругу в болшевском «красном домике», август 1969-го, принесли гитару, попросили Галича спеть. Слышим — кто-то ходит по коридору. А жильцов нет, две другие комнаты пусты, и к нам никто не стучит. Выглядываем: «Кто там?» «А я шпингалеты проверяю», — это бывший директор, ныне покойный. Хороший директор, между прочим. Потоптался, послушал, пошел писать очередной донос. Или, например, мы едем в Дубну встречать Новый год. Галичи нас пригласили, там у них друзья. Но друзья встречают сконфуженно: билеты в Дом ученых, оказывается, именные; как узнали, что билеты для Галича, так и отобрали билеты или не дали — не помню. Это был удар. Черт с ним, с Домом ученых, можно встретить Новый год в однокомнатной квартире, и не петь Галич приехал, даже без гитары, но — как же, значит, его боятся! Или откуда-то сверху приказ? Что — идти выяснять, кто и кому приказал и почему? Нет, не выясняли, какой убогий чиновник распорядился. Решил, что физикам вредно присутствие Галича. Впрочем, нас пустили в гостиницу. Помню, как Александр Аркадьевич расхаживал по коридору, уже принарядившись к празднику. Настроение было совсем не новогоднее, но он сохранял спокойствие. Ню-ша сказала: «Да он сочиняет поздравительные стихи, не будем ему мешать». Он всегда так расхаживал, когда сочинял. У меня хранится эта пустячная, но переписанная набело его рукой строфа. Ее никто не поймет, «на грани чепухи», как иногда выражался Галич. «Так пожмите же плечами, Натали», — что-то в этом роде. Надо знать день и час, когда это было сочинено назло тревоге и страху и аккуратно переписано набело. И я навсегда благодарна Галинам за тот праздник, последний и самый печальный. После этой Дубны стало «все ясно», двери перед ним захлопывались, его судьбу кто-то решил. А потом, через много лет, стало ясно, что то был все-таки праздник, а после уж их и не было, потому что мы стали не жить, а выживать поодиночке. Написано для книги «Заклинание добра и зла» (1992)Памяти долгой счастливой жизни
Утром тридцать первого августа был такой туман, что самолеты не садились в Москве. Вышла на балкон — а башни нет, совсем нет нашей Останкинской башни. А ночью сверкала, как елочная игрушка. Привиделось, что туман накрыл нас навсегда, фантастический сюжет — вечный туман, следствие природной катастрофы. Вспомнила — завтра вечер памяти Вали Ежова. Редко кто называл его по отчеству — Валентин Иванович, для меня он остается просто Валей. У него был сюжет под названьем «Туман». Он мне рассказывал в Болшево в шестьдесят… незапамятном году. Он так рассказывал, будто только что посмотрел это кино. Как разъезжаются из какого-то санатория разные люди, туманное утро, и все будто не узнают друг друга, все спешат по домам, по делам, а ночью произошло что-то страшное, тайное, и никто не помнит ничего, все поглощает утренний туман, включая важную деталь, уносящую чью-то тайну навсегда, и слава богу, что она не открылась… Совсем не типичный для Ежова сюжет. Медленный и недосказанный, как у Антониони. Как у Пастернака в «Вакханалии»: «Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего». Да, мы в те годы увлекались Антониони, а Ежов старался уловить время, для какого-то режиссера сочинял этот «Туман», а может, на ходу придумывал… Шестьдесят третий год. Мы сидим в красном домике в Болшево, непрерывно курим и как бы сочиняем наш сценарий, а на самом деле Валя рассказывает свои великолепные сюжеты, военные, послевоенные, те, что не могут быть у нас никогда поставлены, и те, что потом превратились во всем известные фильмы, и случаи из жизни, и просто сплетни про обитателей болшевского дома, и местные легенды. И вдруг у нас кончились спички. Ну ни одной спички! Рыщем по всему красному домику, обшарили все углы, выходим к главному корпусу — все окна погашены, все спят, не у кого спичку попросить. А мы еще ничего не сочинили, все отвлекались на «коловращенье» (так это Валя называл), играли на бильярде и в преферанс, он еще и в шахматы играл, гуляли со стариками по дорожкам, и пора было взять себя в руки. Смотрю — Валентин Иваныч где-то в шкафу раздобыл утюг и ножичком его развинчивает. А там спираль, мы прикуриваем от утюга, и Валя, такой гордый, воодушевленный своей находчивостью, возвращается к нашему сценарию, которого еще нет. И вообще весь «проект», как теперь бы сказали, висел на волоске. Как потом он еще много раз висел, прежде чем из него получился фильм «Крылья», который, в свою очередь, тоже претерпел после краткого успеха у критиков массу злоключений и был, по сути, запрещен везде, кроме ВГИКа. Но про все не расскажешь. История фильма это всегда целый сериал, особенно в те годы. Ежова мне послал случай. Мы стали с ним соавторами заочно. В кино иногда случаются всякие чудеса. Ежов был недосягаемый преуспевающий сценарист, уже лауреат Ленинской премии за «Балладу о солдате», уже работавший по договорам где-то в Болгарии, в Чехословакии, красивый, сорока двухлетний, член творческих союзов и бесконечных каких-то комиссий, к тому же человек веселый и светский, не надувавший щеки в знак своего величия, хотя и носил на лацкане лауреатский значок, но как-то лукаво он его носил, как бы стесняясь. Я его, конечно, знала в лицо, и он тоже здоровался, хотя — видно было — не знает, с кем. Мы все крутились при Союзе кинематографистов, в молодежном объединении, просто — чтоб «не пропасть по одиночке» и получить билет в Дом кино. Я интересовалась женским авиационным полком, примеривалась, кому-то рассказывала, даже ходила к одному режиссеру — ветерану войны, обещала написать заявку, вообще тема эта носилась в воздухе и многих соблазняла — но с разных сторон. И вдруг меня зовут в гостиницу «Пекин», чтобы встретиться там с известным уже режиссером Тенгизом Абуладзе и директором грузинской студии, тоже Тенгизом, Горделадзе. Оказалось, что Тенгиз Абуладзе уже год как ждет обещанный Ежовым сценарий «Дунькин полк», комедию на военную тему. Вот и заявочка на страницу. Абуладзе всерьез надеется, а Ежов исчезает. Куда-то уезжал, другое писал, а сейчас его нет в Москве, он в Коктебеле. Меня попросили принести заявку, и помню, как я вслух им читала некий дежурный текст, набранный из воспоминаний ночных бомбардировщиц. Директор студии сказал, что хочет привлекать молодых авторов, и я могу тут же подписать договор, а Ежову они дозвонятся в Коктебель и скажут, что у него будет соавтор, потому что на него они больше не надеются. Горделадзе был неопытный, молодой и решительный директор. Я просила подождать хотя бы до Московского фестиваля, когда Ежов должен вернуться, но они, как ни странно, дозвонились, и Ежов, как ни странно, с радостью и с большим, видимо, облегчением согласился на мою кандидатуру. А потом начался фестиваль, пресс-бар в гостинице «Москва», новые знакомства, ночные прогулки, то самое «коловращение» с Ежовым и Абуладзе, и это можно было бы назвать «лучшими днями нашей жизни», но у сценаристов не бывает лучших дней. Я трепетала не только потому, что все вокруг взрослые и заслуженные, а я — кто такая? — уже хлебнувшая после ВГИКа достаточно унижений, уже понимавшая, что наступит час расплаты, и сценарий нужно будет писать, а я не представляла себе комедии про войну, вообще не представляла, как такое может быть, еще было далеко до известного фильма В. Мотыля «Женя, Женечка и Катюша». Во всяком случае, если и можно что-то веселое писать про войну, то не мне, а тем, кто это сам пережил на собственной шкуре. И вот час расплаты наступил как раз в Болшево. Я к тому времени придумала и написала целую историю про довоенных девочек из летной школы, там получалось что-то задорное и забавное, но война — это было для нас святое. И я с ужасом осознала, что для того, первого режиссера, я бы тоже не смогла писать, он хотел, наоборот, жесткой правды и единственного смысла — «женщина и война несовместимы», и я допытывалась — почему? — зная, как много женщин воевали по собственной воле и вспоминали потом боевую юность с гордостью, и сейчас вспоминают. И сегодня мой неуместный тогда вопрос к человеку, прошедшему всю войну, когда я еще пешком под стол ходила, к сожалению, снова уместен, как никогда. Того режиссера давно нет в живых, он не дожил до женщин-смертниц, взрывающих себя и все живое — вокруг. А тогда, когда мы в Болшево прикуривали от утюга, надо было на что-то решаться, мне — признаться, что комедию писать не могу, не надо обнадеживать Абуладзе и интересует меня только современная жизнь этих женщин, отдавших юность войне. Стало быть, договора и режиссера мы лишались, и надо было на свой страх и риск безо всяких заявок сочинять новую историю, и Валя с завидным легкомыслием согласился на это дело. И подхватил, и мы тут же решили, что не будем нашу летчицу привязывать к знаменитому женскому полку ночных бомбардировщиц, пусть она будет истребителем, были и такие в обычных мужских полках, он даже знал одну лично. Он был весь в договорах, обязательствах, заканчивал свой любимый сценарий «Соловьиная ночь» — это пьеса потом так называлась, а сценарий назывался «Генерал Лукьянов», и я часто на него обижалась, потому что он все время куда-то исчезал. Как Ежов умел исчезать — это многие, наверное, помнят. Зато когда появлялся — начинался праздник. В Москве, в суете, ему не давали работать. «Вот засядем в Болшево…» Он не вел никогда размеренную писательскую жизнь, когда отключают телефон или жена строгим голосом спрашивает: «Что передать? Он не может подойти, он работает». Мои воспоминания, в основном, связаны с Болшево. Но там тоже не необитаемый остров, там замечательные люди собирались. Приезжаем поздней осенью, дом почти пустой, но веселая компания драматургов пишет сценарий для Эльдара Рязанова, и среди них Галич. Галича, конечно, усаживают за рояль в старой гостиной, и он поет свои песни, которых еще немного, он с ними нигде не выступает. Только для узкого круга. Это было потрясение. Позже мы с Галичем познакомились ближе, но тот первый вечер, когда все тесно сбились в одной комнате и читали любимые стихи, забыть невозможно. Ежов не только сам любил рассказывать, но и слушать тоже умел. Например, Пырьева как-то сумел спровоцировать на целый вечер воспоминаний, а Пырьев был большой начальник и весьма своенравный господин. Сначала сели мы играть в преферанс, Ежов предупредил, что Иван Александрович очень не любит проигрывать и вообще нервный. Он попросил канцелярскую кнопку и приколол листок для записи посреди стола, чтобы не ерзал, не раздражал. Какие-то люди из восточных республик приносили ему дары — виноград, дыни. Он злился, что отвлекают, отмахивался — «отнесите в номер», а нам важно было хоть немного проиграть азартному Пырьеву, и тогда, в хорошем настроении, можно его завести на рассказы. Ежов это ловко срежиссировал и мы часа два ходили по дорожкам, и я услышала историю кино «из первых рук». Пырьев замечательно рассказывал про довоенные времена, как сдавали картины при Сталине, как боялись ночных звонков. Мы то хохотали, то холодели от страха, это был театр одного актера. Все истории правдивые, но выстроенные как новеллы. Это было талантливо и совершенно не вязалось с нашим представлением о Пырьеве как о режиссере. Вот бы тогда все записать! Но надо было, возвратись в номер, писать сценарий, Ежов уже обещал его журналу «Искусство кино». Писать сценарий в никуда и никому, без студии и режиссера, очень трудно. И вдруг однажды Валя появился с новостью: надо показать его Ларисе Шепитько. Он уже договорился с ее мужем Элемом Климовым, их обоих уже зачислили на «Мосфильм» в объединение М. И. Ромма, и Ларису может наша летчица заинтересовать. Я прекрасно знала и Ларису, и Элема, еще по ВГИКу, мы дружили с Ларисой, и поженились они буквально у меня в гостях, и я даже была у них свидетелем в ЗАГСе, мы встречались и перезванивались чуть ли не каждый день, но мне и в голову не приходило показывать ей недописанный сценарий, из которого еще неизвестно что получится. Лариса схватилась за сценарий и немедленно стала руководить. Руководить мной ей было несложно, у нее был лидерский характер, громкий, уверенный голос, я могла противопоставить ей только тихое упрямство, но до этого еще дело не дошло. Мы были с ней очень откровенны и могли обсуждать старшее военное поколение с нашей, двадцатипятилетней точки зрения. Ежов опять исчез, не вынес Ларисиного командного тона, она не церемонилась, ни его лауреатство, ни разница в возрасте в семнадцать лет для нее ничего не значили, могла хлопнуть по плечу, пошутить как-нибудь обидно, он сердился, но как-то добродушно, все-таки мы были перед ним — две девчонки, и он снисходительно посматривал, как мы будем выплывать. Вообще он не был таким уж добродушным и снисходительным. Некоторые персонажи и явления жизни его глубоко возмущали, у него был свой строгий нравственный отсчет. Например, его возмущала мать Зои Космодемьянской. Он где-то с ней вместе выступал и понять не мог, как эта железная женщина делает себе карьеру, и книгу, и всеобщую известность на трагической гибели своих родных детей. У него были очень стойкие понятия о добре и зле. Однажды в Болшево случилась такая история. Там посадили аллею голубых елок. Их берегли, охраняли, взяли овчарку, она бегала на длинной цепи вдоль всей аллеи. Однако под Новый год одну из этих елочек кто-то срубил, и директор Болшево, бывший офицер, сам не поленился, встал на лыжи и пошел по следу. И нашел эту елку в поселке. Ее срубил пятнадцатилетний парень и спрятал в сарай, и сразу признался. И директор предложил родителям — либо составим акт, и в милицию, либо я сейчас здесь при всех выпорю вора и снял свой тяжелый армейский ремень, и тут же во дворе при соседях выпорол этого пацана, и вернувшись рассказывал возбужденно, как он его порол — вот этим самым ремнем. Обитатели Болшево в основном одобряли директора — «Что с этими ворами делать? Только пороть!» А Ежов так дико посмотрел на всю интеллигентскую компанию, на директора. «Пороть пятнадцатилетнего парня, да еще прилюдно!» — у него в голове не укладывалось такое унижение человеческого достоинства. В глазах стояла эта сцена телесного наказания, и на глаза наворачивались слезы, как будто он там был и был этим самым мальчишкой. И я на всю жизнь запомнила, как директор показывал свой ремень с пряжкой. Вообще Ежов избегал конфликтов, легко прощал чужие грехи, как и себе самому, ненавидел эту советскую доблесть — «требовательный к себе и другим». Он не мог бы быть никаким начальником и счастливо этого избежал. Когда у нас с Ларисой возникали конфликты, откуда ни возьмись появлялся Ежов, как миротворец. Один такой случай описан в книге Анатолия Гребнева, в воспоминаниях о Болшево. Когда я, не дописав последней страницы окончательного, четвертого варианта сценария, улизнула в подвал, в бильярдную, Лариса ворвалась с проклятьями и слезами и раскидала шары на глазах у почтенной публики. Я тоже заплакала, нервы у нас были на пределе и смотреть мы друг на друга не могли. А жили в одной комнате. Ежов и Марлен Хуциев нас утешали в разных концах коридора и по отдельности провожали на станцию. Сценарий то принимали, то не принимали, то запускали, то откладывали запуск. Сменялись приставленные к нам редакторы и кураторы, мы пережили пять коллегий и худсоветов, а когда уже вот-вот должны были запустить, произошел всенародный переворот — сняли Хрущева. И нас опять не запустили — выжидали, затаились — никто не понимал, какие теперь наступят времена.Вчера в Доме Ханжонкова был вечер памяти Валентина Ежова. Я рассказала половину из того, что здесь пишу, — все больше про «коловращение», а не про муки творчества или гримасы времени, о которых хочется забыть, не травить душу. Как умел это Ежов. Он был в этом смысле «западный человек», у которого всегда все «о'кей», лучше прихвастнуть, чем плакаться в жилетку и навешивать на других свои проблемы. Хотя и мне случалось видеть его и обиженным, и «на грани нервного срыва». Но в общем он прожил долгую и счастливую жизнь, и в ней было много праздников, и проводили его в мае в последний путь с военным оркестром. И его студенты — сценаристы прошлогоднего набора успели его полюбить и говорили, что совсем не чувствовали разницы в возрасте, он казался им моложе их самих. И разговор зашел о поколениях: какое талантливое поколение, какие яркие личности пришли в кино и в литературу после суровой военной и послевоенной юности! И как весело, как беспечно жили и дружили, пили, пели, съезжались в Болшево и в Репино такие люди, каких «теперь не делают». Судя по легендам и воспоминаниям тех, кто успел их написать. Мне тоже приходилось невольно сравнивать и вспоминать — по печальным поводам — те болшевские посиделки, тот круг людей, в котором я оказалась смолоду. Вот первый — для меня — сценарный семинар: Фрид и Дунский, Лунгин и Нусинов, Галич, Гребнев, Метальников, Ежов, Каплер, Эрдман и Вольпин. И другие — всех не перечислить — с кем потом не раз сводила судьба. Перечисляю только старших и только сценаристов. Никто из них не сделал всего, что мог бы. Таланты их не умещались в подцензурное наше кино, рассеивались в болшевском воздухе и наших душах. Ежов оказался счастливчиком, к нему слава пришла вовремя и надолго. И «Баллада о солдате», и «Белое солнце пустыни» стали эмблемами советского кино и долгожителями. Но, сверкая лауреатским значком на зависть завистникам, справляя многолюдный юбилей в семьдесят лет, он отлично знал цену славе, и что есть Высший суд, откуда неразличимы все наши имена и названия. Сейчас бы за молодым Ежовым охотилось вездесущее телевидение. Он был сказитель. Он мог часами держать публику, и публика падала от смеха. Например, про собаку. Как генерал приехал с инспекцией, и в части все покрасили, надраили до блеска, замерли по стойке «смирно», и вдруг в самый ответственный момент грянул хохот — на плац выкатилось нечто, похожее на собаку. Собаку к смотру постригли, как стригут пуделей, только наоборот. Кто там знал, как стригут пуделей? Представляете — пудель наоборот? Колобок с палочками. Мне все равно не передать, как Валя рассказывал. И показывал. «А вот был у нас старшина…» Я хотела так и озаглавить эти заметки: «А вот был у меня старшина…» Я — новобранцем — попала к хорошему старшине — к Ежову. Но не время сейчас шутить. Пишу урывками в траурные дни, когда вся страна корчится от боли — после Беслана. А Ежов не дожил — опять ему повезло. Сентябрь 2004
Школа невозможного
Восемь лет назад, 25 ноября 1990-го, умер Мераб. Просвещенный читатель уже догадался — да, философ Мераб Константинович Мамардашвили, чьи книги вы можете встретить теперь на любом уважающем себя прилавке. Благодаря стараниям и самоотверженным трудам Юрия Сенокосова. Я имею в виду не те труды, что увенчиваются публикацией, Книгой в переплете, а ту давнюю, кропотливую черновую работу — при жизни Мераба, то есть «в стол». В моем столе лежат два курса лекций — больше тысячи страниц, это все Сенокосов расшифровывал. Я как-то попробовала записать с магнитофона одну — и сдалась. То есть записала, но в борьбе и сомнениях — хотелось отредактировать, сделать покороче, убрать повторы, а как?.. К тому времени я уже знала, что существует загадка Мераба, над которой лучшие умы и после его смерти ломают головы. О чем свидетельствует изданный четыре года назад сборник статей «Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили». Вот, например, В. А. Подорога внедряется в суть вопроса: «…И запись звуковая, и видеозапись не являются аутентичными свидетелями того жизненного пространства, в котором совершалась мысль. Речевое пространство Мераба Константиновича, пространство, которое он создавал своей живой речью, в котором многие из нас долгое время находились и с чем были прекрасно знакомы, — это, кажется, навсегда утрачено… Потому что он — человек, который творил изустно, он — устно творящий человек. Человек говорящий. И невозможно не учитывать, что в самом ходе его мышления, во время, когда он мыслит, — он говорит, что в значительно большей мере, чем события письма, происходят речевые события. Первое, что я отвергаю, — это то, что передо мною текст. Передо мною не текст» [1]. Вспоминаю: исписанная мелким-мелким почерком — по машинописи, между строк, по полям, по углам — страница, разбухающая вставками, сложного-чиненными уточнениями, и я в поте лица читаю. Мераб, отдыхая от очков («мои костыли» — он их называл), не видя, стало быть, кисловатого моего выражения, спрашивает: «Что, непонятно?» И устно делает еще уточнение, еще вставку. «Да слишкомпонятно, тридцать раз уже понятно!» — тут я должна сделать уточнение: это не был академический текст для профессионалов, с невы-го-ва-ри-ваемой терминологией, это мне недоступно, но то был какой-то доклад или запись лекции во ВГИКе. «Ну сократи», — сказал Мераб кротко. У него совсем не было авторских амбиций, сказывался опыт работы в журнале с чужими текстами. Так что позволительны были не только советы, но и шутки, например, про его «сталинский» стиль: «Ходишь, ходишь вокруг одного предмета, вдалбливаешь им, вдалбливаешь, Сталин так писал, как для идиотов». Мераб родился в городе Гори, в этом была ирония, а смысл моей критики сводился к тому, что во ВГИКе каждый «сам себе гений», если поймут — то с полуслова, а не поймут — перестанут слушать, и следует правильно расставить приманки и опознавательные знаки. Вот я и попробовала однажды сократить и «улучшить» текст. Ничего не вышло, хотя все, казалось бы, было — и какой-то цепляющий внимание парадокс, и глоток свежей для слушателей информации, и даже афоризм, удачно фокусирующий все рассуждение. «Но что-то главное пропало»: «отжав» две страницы до одной, мы выбрасывали не воду, а самое вещество мышления, не механизм, а именно вещество, которое извлекалось на глазах слушателей в ритме, абсолютно не зависящем от восприятия. Драматургическим ухищрениям этот ритм не поддается, он им противостоит. Цитировать Мераба невозможно, это всегда обман, ибо не результаты мышления, а процесс демонстрировал он на самом себе. Тяжкий труд философствования — навыворот, наизнанку. И его слушали. Он завораживал. Один слушавший его во ВГИКе режиссер советовал мне «пойти на Мамардашвили» (не зная, что мы знакомы): «Ну, это артист! Это театр одного актера». А я-то думала наоборот: «антитеатр». Все противостояло в этих текстах игре, интриге, не говоря об эффектах и композиционных выгодах. Противостояло и самой идее подтекста, на которой стоит не только театр, но вся жизнь, просто так случилось, что термин зародился в театре. Уникальность Мераба как раз в противостоянии любому театру — всемирному океану подтекстов, пресловутому «жизнь-есть-игра» и всяческой зашифрованности, упакованности смыслов в точки-тире художественных образов, житейских умолчаний и «подмигиваний». Любил он это слово. И любил свою адскую работу по извлечению смыслов до той превосходной степени, что это уже становилось искусством — цирковым, я бы сказала. И нашла описание этого своего открытия опять-таки у В. Подороги. Он тоже «старался понять, что это за испытание идет через чисто физическое напряжение, которое Мераб Константинович переживал. Какая-нибудь совершенно загадочная фраза о героизме, риске, которую он употребляет по отношению к мысли и которая может восприниматься как ложно патетическая, на самом деле совершенно серьезная вещь, потому что если задана какая-то программа размышления и в каждом повороте мысли ты должен к ней вернуться, то есть колоссальный поиск того, что ты к этому не вернешься. Другими словами, нужно удерживать ряд параллельных точек параллельных метафор, уметь их замещать и взаимно представлять друг через друга, чтобы удерживать начальную ситуацию мысли, в которой ты начал рассуждать» [2]. Тут стоит остановиться и спросить себя: «А вы могли бы?» Вот этот «запах цирка» приводил на лекции людей, далеких от профессиональной философии. Едва ли кто-нибудь усваивал содержание. Среднеобразованный интеллигент вроде меня как обходился без Декарта, так и обойдется. Более того, если я еще в 1974 году прочла беседы А. М. Пятигорского и М. К. Мамардашвили о метатеории сознания (через много лет изданные в Израиле под названием «Символ и сознание») и, как мне казалось, все понимала, это не значит, что поняла. В мой «активный язык» это понимание не вошло, а скорее всего не вошло и в «пассивный». И не только профаны и недоброжелатели ворчали, что Мераб так все объяснит, что окончательно запутает, но задумавшись, спрашивали себя: «А вы могли бы?» Есть красноречие на злобу дня, есть прирожденные ораторы, как выяснилось во время перестройки, когда на них открылся спрос, но всегда слышатся за ними давно созревшие смысловые композиции или накануне простучавшие в висках ударные слова. Что не умаляет их значения и моего почтения — при общем нашем косноязычии. Ведь всего лет десять назад человека, говорящего публично «без бумажки», можно было тоже в цирке показывать. Труд Мераба был принципиально иного рода Он стал «культовой» фигурой московского полуподполья задолго до «гласности» и не потому, что позволял себе непозволительные речи о нашем обществе и системе. А тут и без его «перпендикулярных» размышлений «все всё понимали», как в том анекдоте про листовки: «А чего писать? Все и так знают». Зря он травил себе душу и выходил из берегов «чистого разума», которого не бывает, но мы же своими глазами видели — в его жанре, в его цирке, в «понимательном пространстве», как назвал это В. Подорога. Для новых явлений трудно подбираются слова. Мераб не был «любимцем языка», потому что отыскивал еще не названное. Совсем молодые слушатели едва ли могли это оценить. Зато они открывали явление, которое Мамардашвили описывает так: «…Но есть третья категория ученых, для которых наука является как бы выходом из „тягомотины“ обыденной, повседневной жизни, с ее бессмысленной повторяемостью и пустотой стремлений, когда одно ощущение сменяется другим, и так появляется бег в бесконечность где предметы наших наслаждений, наших интересов сменяют друг друга в дурной последовательности; вся наша жизнь, как известно, рассеяна по таким вещам. Но если человека охватило ощущение, что все что бессмысленно, и он ищет чего-то другого — это и есть представитель третьей категории ученых, также необходимых науке. Судя по тому, как о них говорил Эйнштейн он сам тяготел именно к этому третьему типу и, наверное, косвенно описал себя. То есть он занимался абстрактной наукой потому, что она прерывала в этом жизненном процессе какие-то зависимости, самовоспроизводящиеся сцепления, — он как бы выпал из сцеплений стихийного потока жизни» [3]. А Мераб мечтал выпасть, но ему это не удалось. Когда для Грузии наступили «окаянные дни», он оказался в водовороте событий. Теперь и в России наступили окаянные — дни ли? месяцы? годы? Ученые предсказывали к 2000 году полное истощение нашей планеты — как энергоресурсов, так и почвы. Как к этому относился Мераб? Беспечно. «Человечество как-нибудь да выкрутится». Всегда оно что-нибудь придумывало себе во спасение. Оно может погибнуть и без экологических катастроф, и без войн — как че-ло-ве-чество. Это будут уже другие существа, он называл их «элементалы» или «зомби» и не хотел среди них жить. В 1974 году, когда Саша — теперь, конечно, Александр Моисеевич Пятигорский — окончательно решил уехать из своих Химок в Англию и уставал перечислять десять веских причин отъезда — а эмиграция тогда еще была событием, — он восклицал: «Я не хочу здесь стариться!» Тогда до старости было еще далеко, и так это странно звучало, что запомнилось. И вспоминается каждый день. С тех самых пор, как Мераб, разговаривая с Пятигорским по телефону — Лондон был слышен куда лучше Химок, — сказал каким-то не своим, сдвинутым голосом: «Вот я и вышел на последнюю прямую…» Ему было уже за пятьдесят, он был «невыездным», у него ничего не печатали, он был, мягко говоря, стеснен в средствах, и помыслить было невозможно, что когда-нибудь они встретятся. Мераб никогда не жаловался. В том 74-м, когда провожали Пятигорского — а его знало пол-Москвы, и прощание было долгим, — Мераба как раз «ушли» из журнала «Вопросы философии», из университета, где читал лекции, и жил он в коммуналке, и знал, что он «поднадзорный» — за общение с иностранцами и эмигрантами. То был год особой ненависти и подозрительности того истерического диссидентства, которое он потом назовет «инаконемыслием». Мераб ухитрялся в этом всеобщем дурдоме выглядеть респектабельным господином, устраивать свою жизнь благообразно принимать многочисленных гостей и философствовать — для желающих. Говорил, что все у него прекрасно, и, зная четыре языка, учил понемногу испанский и греческий. «Зачем?..» — «Это продолжение наших органов чувств, дополнительные органы чувств». — «Зачем? Разве своих недостаточно, по-моему, и так многовато». Языки при всей зависти к полиглотам, я представляла… ну, инструментами познания. Для философа это одно и то же, и философу не задают вопрос «зачем?». И вообще философов не бывает, все люди философы. Когда-то. «Но один — есть, от Бога, от рождения», — как уверял Пятигорский, обещая познакомить, наконец, с этим чудом природы. «В нашей стране — философ?!» — «Да, настоящий, и по странной случайности он как раз профессор философии и работает в журнале „Вопросы философии“». Процитирую напоследок Мераба, выбрав самое «понятное» из того, что опубликовано: «У Эйнштейна как-то спросили, как ему в голову приходят идеи. Он рассмеялся и сказал, что, дай Бог, если за всю жизнь ему пришло в голову хотя бы полторы идеи. Но если это случилось, если полторы идеи все-таки выстраданы, человек как бы самовосполняется» [4].СРЕДА ОБИТАНИЯ
За что?
Вот передо мной гора вариантов сценария — 1967, 1968, 1969 годы. Не верится, что я могла исписать этот пуд бумаги. Для того, чтобы весь он сгорел в ярком пламени картины Киры Муратовой. На премьере в прошлом году Кира Муратова сказала: «Я знала, что этот фильм когда-нибудь воскресят, но не думала, что доживу до этого». Она заслужила право на такие важные слова. Теперь фильм получил несколько премий, многим кажется, что он совсем не устарел или ровно настолько, чтобы пробуждать в душе еще и ностальгические чувства, а знатоки кино всегда ценили этот фильм и недоумевали: «За что? За что его сняли с экрана? За что казнили в печати?» (Казнили, впрочем, как-то бережно и гуманно — одним махом отрубили и больше не упоминали; ни один из серьезных критиков, насколько помню, не покусился на эту картину, а Кире Муратовой на много лет запретили ставить кино.) Ни разу — ни людям, ни самой себе — я толком не эти вопросы. Кира просто отмахивалась: «Спросите у тех, кто запрещал!» А я, тупея от собственных рассуждений, много раз пыталась поймать цепочку причин и следствий и до сих пор испытываю томительное желание «дойти до самой сути», найти ошибку в условии задачи, в самих условиях нашего — в кино — существования. Сейчас мне предоставляется возможность опубликовать сценарий и вынести, как говорили в старину, «на суд почтенной публики». Даже если он окажется всего-навсего свидетельством, архивным документом, «проливающим новый свет» на застарелые, но не устаревшие вопросы — суда я не боюсь, сценарий этот к судам притерпелся, свой срок получил и вышел по амнистии. Вот, предположим, вы написали «Стрекозу и Муравья». А вам и говорят: «Что это вы искажаете образ нашей современницы? И далась вам эта Стрекоза — лучше бы вы взяли трудовую Пчелу, это более типично. И Муравей — где же он был, когда она „все пела“? Почему не направил, не вмешался? Легко сказать — „поди-ка, попляши“, а сам-то он у вас положительный герой или отрицательный?» И так далее. Смешно вам? А попробуйте ответить. Ваш язык не приспособлен на такое отвечать. Вот так все и было. Только длилось мучительно долго. Теперь не так. Принятие и запуск сценариев сильно усовершенствовались. Но исчез ли тот язык, перед которым безответен любой художественный текст и любой нормальный человек? Нет, не исчез, только затаился в общем шуме, а при случае «выйдет из тумана, вынет ножик из кармана». Можно ли так бояться языка, можно ли им пугать? Года два назад я присутствовала на совещании, где отчитывались стажеры, молодые сценаристы, получившие счастливое право доучиваться после ВГИКа на студиях. Их вызывали «на ковер», и представители Госкино, то есть их благодетели, задавали типовые вопросы, чаще всего такой: «Ну а как вы думаете, сколько миллионов зрителей посмотрят вашу картину?» И вот он стоит, счастливец, благодарный за ежемесячную зарплату, с ним еще договор ни разу не заключили, и жилья у него нету, и заявки свои, написанные в лихорадочном желании «пробиться», он, стесняясь, показывает двум-трем друзьям и редакторам. И вот он краснеет и что-то лепечет, ибо надо выжить из ума, чтобы заявить: «Я пишу для двадцати миллионов». Десяти, тридцати, двух миллионов — какая разница! Унизительно было молчать, следовало вступиться — а как? Перед магией больших чисел, перед ударами «ниже пояса» — что скажешь? Вот задумал Чехов новую повесть, а его и спрашивают со злорадством: «Ну и сколько вы доходу казне намерены принести этими вашими дамочками да собачками?» Нет, про Чехова те, кто спрашивают, тоже знают, и знают без промаха, что никто не осмелится сравнить себя с Чеховым — дурак будет. Так и так дурак. Немота перед демагогией — психофизиологическая реакция, на уровне условных рефлексов происходят победы и поражения. Как же трудно потом извлечь реальное содержание из этого спорта, и неохота вспоминать, как ты был боксерской грушей, и неблагородно счеты сводить да и не с кем. Демагогия всегда «замыкается на массу» Призрак «самого массового из искусств» стоял неподвижной тенью и вот чуть-чуть дрогнул, запрыгал, сместился от пропагандистского пафоса к чисто коммерческому. И пока он там шатается, я расскажу эту долгую, долгую историю «Долгих проводов», начиная со сценария. Пока по порядку, «как было». Извлечь смысл из этих четырех лет трудно, но вот он уже брезжит, намечается причудливый сюжет… Эта работа начиналась легко. Впрочем — иначе никто бы ничего не начинал. Помню момент полной ясности. Мы уезжали с моря. Мой муж, режиссер Илья Авербах, сказал: «Кидай монету, бог ведает, когда еще сюда попадем». Была весна, над пицундскими соснами стояли зеленые облака цветения, а нам уезжать с тесного чердака, где мы так славно жили и не написали ни строчки. Он ворчал: «Зачем тащили пишущую машинку?» И в самолете, натыкаясь ногой на эту машинку, я от начала и до конца проговорила про себя заявку, которая начиналась так: «Прощайся, — сказал отец, — бог знает, когда еще сюда попадем». Я ее записала в один день на четырнадцати страницах. Она была похожа на рассказ, но тесноватый, ему хотелось развернуться в повесть. Заявка понравилась редактору Л. Голубкиной и без промедленья, с подозрительной легкостью была принята объединением «Юность» на «Мосфильме». Первый вариант сценария тоже был одобрен, хотя требовались сокращения. Сценарий получился длинный, размазанный в обстоятельную прозу. Помню выступление А. Хмелика — он был тогда главным редактором объединения. «Все стали хорошо писать!» — сказал он в упрек сценарию и всем хитрым молодым авторам, научившимся обходить жгучие социальные проблемы. Я радовалась, что сценарий такой гладкий, чувствовала себя отличницей, поскольку уже намучилась со сценарием «Кто я такой?», где подворотни и коммуналки были необходимой частью действия. А тут — благополучный быт, ни жаргона, ни драк, традиционное построение сюжета. Я добросовестно сделала три варианта, болтала воду в ступе, то улучшала, то ухудшала сценарий, и он был принят «Мосфильмом», послан на утверждение, и вдруг — полный отказ, да в каких выражениях! Положенного по поводу принятия сценария гонорара я, разумеется, не требовала, чувствуя, что на студии обескуражены не меньше меня, готовы поддерживать, но — за что зацепиться, как выловить из всемогущего заключения пункт, который можно выполнить? Режиссеры, готовые ставить сценарий, были все молодые, непроверенные но в те времена сценарии часто принимались впрок, их утверждали без режиссерской кандидатуры. Помню чувство безнадежности: если и это нельзя, то ничего нельзя! Отступать некуда, мой внутренний редактор и редакционная коллегия уже и так хорошо поработали, «подстелили соломки», а корень сюжета всегда уходил в тему неисчерпаемую, неразрешимую: юноша, рвущийся из своего круга, из детства, где все ему стало не по нраву, и тесным, и глупым — про это писали и будут писать до скончания века, а ум чиновника пуще всего боится вечных тем, его самодовольство не позволяет помыслить о трагизме человеческого существования и верит, что — проинструктируй человека по всем вопросам, и все будет в порядке. Тот первый раунд борьбы продолжался еще год — четвертый вариант, поправки, еще поправочки, а потом и мне пришлось побывать в начальственных коридорах, куда не часто звали даже и немолодых, известных авторов. Тогда я еще не знала, что тут не принято, времени нет на возражения и объяснения, а можно только улыбаться и обещать «подумать», благодарить, что тебе открыли глаза. Ну один меня пожурил по-отечески, прочел нотацию, а другой вдруг закричал: «Мы вам не позволим противопоставлять народ и интеллигенцию! Это не ваши умные мальчики войну выиграли, а народ!» Не успела раскрыть рот: «Как? Где противопоставляю? Может, вы перепутали — не тот сценарий читали?» Нет, оказывается, тот: героиня-то у меня машинистка, то есть народ, а мальчик рвется к папе-ученому. Спасение! Можно дать маме высшее образование, это не так важно… «Выбирайте: или вы с нами, или — против нас! Третьего пути не будет, мы вам не дадим сидеть между двумя стульями!» Вышла я от Владимира Евтихиановича Баскакова (бывшего тогда зампредом Комитета по кинематографии СССР) с оледеневшим позвоночником и с чувством какого-то «Зазеркалья», кривизны пространства и времени. Потом я проанализирую это профилактическое запугивание, но тогда — и за это можно только благодарить — его яростный тон был столь несоразмерен моему скромному сценарию и тишайшему поведению, так намеренно зловеще звучали его слова, что все это могло показаться только театром, сеансом «психодрамы». Он вылечил меня от склонности к самоуничижению, я стала думать: «Значит, в этом сценарии что-то есть и во мне что-то есть, раз такой начальник на меня так кричит». И ответила себе навсегда: «Да, я против вас, вы по ту сторону стола, а я по эту». Сейчас молодой автор не счел бы за дерзость произнести это вслух, да с иронической улыбкой. Я же, разумеется, вслух не дерзила, за десятилетие — с 1958-го до 1968-го — мы научились многим «правилам игры». Когда еще через год на каком-то семинаре все тот же В. Е. Баскаков снова ни с того ни с сего избрал меня мишенью своего воспитания на тему: «Или вы нам служите, или…», озадаченные участники семинара хлынули меня поздравлять и завидовать: за что он тебя так? Стыдно сказать — ни за что! Теперь думаю: может, эти театральные приемы, эти электрошоковые прививки, которым каждый из нас рано или поздно подвергался, — может, они тоже входили в какие-то нам не подвластные, потусторонние правила игры чтобы не «порвалась связь времен», чтобы мы могли себе представить, как это бывает, как люди попадали во «враги народа», в «немецкие шпионы» и не могли оправдаться, чтобы мы хоть чуть-чуть ощутили, как это на самом деле просто — захочу и задавлю. Нет, я не шутя благодарна В. Е. Баскакову за то интуитивное злорадство, за проекцию исторического опыта, и теперь, когда изредка приходится сидеть по «ту» сторону стола, а по «эту» — так называемый «молодой», тридцатилетний автор, я всегда помню, что он — молодой — опытней меня на целое поколение, ибо к своему уже огромному опыту он прибавил и мой, не личный, но социальный опыт всего моего поколения, уже открывшийся миру, явленный, его же опыт еще таится, еще не сформировался в новые книги и песни, и, может быть, он не впишется в мои модели и схемы. Итак, я решила поменять профессию героини, оснастить ее высшим образованием, сделать переводчицей. А сценарий тем временем закрыли и списали. Я постаралась про него забыть. Уже и картины часто закрывали. Появился жаргон — «проходимость», «непроходимость», «чернуха», появились десятки способов маскировки истинных намерений, сужался круг тем. Мы карабкались «вверх по лестнице, ведущей вниз», осознавали, что попали в круговое «нельзя!», а ведь десяток лет уже потрачены на овладение профессией, уйти невозможно, надо искать «щель». Поменять профессию героини куда проще, чем свою собственную. С Кирой Муратовой мы давно дружили, но тут нас свела безнадежность. У нее закрыли очередной сценарий, у меня тоже дотлевали в поправках два сюжета. И в 1969 году начался второй раунд — в Одессе. После некоторых стратегических маневров, поисков сторонников и защитников, после короткой артиллерийской подготовки на сверхрасширенном заседании в Одессе, шестой, уже вместе с Кирой собранный вариант сценария вновь был пропущен сквозь строй равнодушных людей, и они с подозрением читали эту прозрачную историю, требовали от нас «экспликаций», проводили строгие беседы, ничего, думаю, крамольного в ней не находили, но тем более были бдительны. Подозрение, однажды запущенное, — опять-таки сюжет из нашей истории. Превосходящие силы противника устали видеть Муратову в министерских владениях в Гнездниковском и после месячной ее осады нанесли сокрушительный удар: «Что вы все тут ходите, неужели гордости нет — унижаться тут из-за бумажки?» А заключение не подписали. Тут наконец Муратова пренебрегла своей гордостью и обратилась к учителю — С. А. Герасимову и он быстро уладил дело «на самом верху» Так сказать «поручился». А ведь Кира была Не председателем режиссерского бюро на Одесской студии пользовалась авторитетом. И у нее, и у меня было по две картины, мы давно были членами Союза кинематографистов и профессионального недоверия, казалось, не вызывали… Тут надо отметить, что вся эта огромная машина, включая наших первых, прекрасных, доброжелательных редакторов — Л. Голубкину на «Мосфильме» и Л. Донец в Одессе, — ни в малейшей степени не представляла, что это будет за картина. Все это был чистый «мартышкин труд», война самолюбий, должностей и подозрений, беспредметная до абсурда. Все равно что стрелять из рогатки в «летающую тарелку». И я не представляла, и Муратова тогда еще не знала, что встретит актрису Зинаиду Шарко, что выбросит, уже отсняв, целую линию сценария. А кто мог предсказать холеру в Одессе? А ведь без этого карантина не было бы, наверно, и фильма. Потому что его закрыли после проб. Киев снова проявил бдительность. Помню — Кира встретила меня на аэродроме и хохочет, аж пополам перегибается: «Нас закрыли!» А что — плакать? Кричать — грабят, растаскивают наши лучшие годы?! Нет, снова сидим втроем с редактором, поливаем линолеум в маленькой Кириной квартире, жаркое лето, душные ночи, стучим на машинке, хохочем, выполняя седьмую обязательную поправку! «Приметы времени»? Пожалуйста — «Одесские Черемушки»: «Проезжая мимо новостроек»… И не верим уже в картину, хотя у нас серьезные сторонники — директор студии, один из секретарей обкома, министр кинематографии Украины. Но у каждого из сторонников есть свои серьезные противники, и бедный наш сценарий, временно переименованный в «Быть мужчиной» для полной маскировки, попадает в омут каких-то неведомых нам вышестоящих должностных распрей. Однако отправляем на всякий случай поправки… Тут грянул холерный карантин. Всё — не только наша картина — всё закрыто, весь город закрыт. Долго я выбиралась тогда из Одессы, поставив окончательно крест на этом сценарии. А поздней осенью в опустевшем городе Муратовой удалось каким-то чудом приступить к съемкам. Это чудо — производственная необходимость, она вдруг сломала все запреты. Сезон, конечно, был упущен, артисты мерзли, изображая лето, но именно благодаря «холерному» опустению, развалившему планы студии, Кире удалось сотворить картину, которую она же и окрестила так удачно — «Долгие проводы». Название мне нравится, к нему теперь привыкли, и я с благодарностью ставлю его над сценарием. Летопись злоключений фильма не мне писать. Я могла бы подробно вспомнить, как мы ссорились и спорили на последнем этапе, при монтаже. Истина в тех спорах не рождалась, напрасны были мои продуманные советы или попытки что-то исключить или добавить и горючие слезы и обиды — «зачем ты меня тут держишь, если все равно все делаешь по-своему?» Все эти вкусовые разногласия не имели никакого отношения к тому, за что потом «убивали» эту картину. Я всегда знала и повсюду твердила, что Муратова — прекрасный уникальный режиссер, независимо от моих претензий к картине. Да и ей, знаю, никогда бы не пришло в голову сказать: «сценарий был неважный», как теперь, случается, говорят молодые режиссеры, будто сценарий им кто-то подсовывает, чтобы они выполняли. Говорю об этом не из этических, нравоучительных побуждений, а как о горькой примете неблагополучия — если такую самостоятельную, лидерскую профессию, как режиссура, низвели до покорного служения стандартам. Я сумела по-настоящему полюбить этот фильм только после того, как четырежды забытый сценарий перестал быть для меня «горячей точкой», после того, как фильмы о терзаниях юности пошли косяком и почти все оказывались плоскими и неверными, и все сильнее стал светиться, все чаще вспоминаться великолепно снятый финал, романс «Белеет парус одинокий», спетый беззащитным, самодеятельным, ни на кого не похожим голосом. Нет, не «все хорошо, что хорошо кончается». Все было нехорошо в этой долгой истории, кроме случайной фразы на море (из нее вышел сценарий), случайной встречи с подругой и совсем уж случайной холеры в Одессе (из нее вышел фильм). А зачем же все остальное? Если нам остается верить только в прихоти судьбы? «Если б знать!..» — как сказано у Чехова. Нам не пора еще подводить итоги. Журнал «Киносценарии», 1988, рубрика «Полка». Предисловие к сценарию «Долгие проводы»Обман зрения
«Обман зрения» — назову я эту заметку, которую не могу написать. Но не написать тоже не могу. Вы поймете почему. То есть зачем я все-таки пишу комментарий к этой «братской могиле». «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Нет, эпиграфа не будет. Эпиграфом будет вся жизнь — куда ни ткни, все имеет отношение к тем документам тридцатилетней давности, к тем актам на списание сценариев — какие имена, какие люди сошли с ленфильмовской дорожки на первом же круге!.. «Сценарный резерв» — забытые, сладкие слова. Но к ностальгическому умилению примешиваются мерзкий кладбищенский озноб, колотун, попросту говоря, и закипающая досада, и еще много разнообразных чувств, составляющих горючую смесь. А если подумать, если подойти научно, без лирики — можно определить все эти нервные вибрации как род клаустрофобии: вот тебя заживо укладывают в братскую могилу, ласково засыпают землей, воздают последние почести, а ты еще рвешься что-то сказать объяснить, прокричать, но — поздно, и голос пропал. Да сознаюсь — задевают меня все эти публикации: зачем же печатать их списком, «акты на списание» — ведь между ними ничего общего. Или список можно продолжить до бесконечности. А разве вам не известна простая до гениальности истина, что мир — это кладбище неосуществленных желаний, неисполненных проектов, угасших надежд? Охладив себя философическим этим замечанием, позволю себе вопрос «на засыпку»: а теперь, в океане свободы и гласности, будь вы директором и хозяином собственной студии, пригласили бы этих молодых, подающих надежды писателей, дали бы им авансы, на которые можно скромно прожить несколько месяцев, довели бы до конца их проекты? Из этих документов, напечатанных скопом, получится, что какая-то Л. П. Иванова подписывала приговоры и была губителем блистательных кинозамыслов, а на самом деле Лариса Павловна была просто редактором-организатором, и, смею заверить, во всей стране не было лучшего редактора-организатора. Всегда на месте, всегда точна и доброжелательна, всегда на страже интересов автора, любого, маститого или молодого, или вовсе подозрительного с точки зрения начальства. Это многие помнят, как Лариса Павловна бегала по этажам, выбивая авансы и гонорары, хлопоча, утешая, примиряя, и в длинной цепочке посредников между заказчиком и автором была, безусловно, «первой от конца». И вот попадет в историю с обратным знаком — как злодейка первой величины — по документам, которые ей по должности приходилось подписывать. Вот эта частность, несправедливость местного значения побудила меня откликнуться, хотя я обещала себе не участвовать, не ввязываться в споры о нашей недавней истории и не переношу слова «шестидесятники», запущенное к нам публицистами прошлого века словно в назидание. Тогда это называлось «вульгарно-социологический» подход. И обидно, что люди нового времени, тонкие, эрудированные критики, не нам чета, — никак не выберутся из старой системы координат. Я читаю в шестом номере журнала «Искусство кино» (про неосуществленные замыслы разных времен и народов) статью Михаила Трофименкова «Натюрморт» с остроумной классификацией «несуществующего» кино, с мимолетными прозрениями на темы действительно еще нетронутые и важные, например, «убийство зрителя». Но как только автор спускается из теоретических высей в «здесь и сейчас» — его немедленно сносит в развязную журналистскую риторику: «…А если бы цензура и пожары не мешали режиссерам'? Если бы ранние короткометражки Рене и Уэллса сохранились для народа? Если бы кухонные герои непризнанные шестидесятники получили в свое время от идеологического отдела ЦК все условия для свободного творчества? Тогда что? Мы наслаждались бы бессчетными шедеврами?…» Нет конечно. Но сама интонация больно напомнила монолог одного верховного, весьма циничного редактора: «Ну если бы вы мне шедевр принесли — тогда было бы за что бороться, вплоть до ЦК…» Честно говоря, его хотелось убить — с его апломбом, с его безотказным способом отшить автора. Да, мы всегда просители, так было, есть и будет, но при диктатуре Шариковых возникала здоровая злость, ритуалы «коллегиальности» оставляли какую-то лазейку для самоуважения: тебя «зарубят», но иной раз и комплиментов наговорят, и обнадежат — вроде кому-то нужен, пиши еще, ну постарайся… Какой-то она будет — диктатура Чичиковых плюс прессы? Я, конечно, с той кухни, и меня задевает в умной статье Михаила Трофименкова такой, например, пассаж о «Покаянии»: «Яркий пример мифа, которому воплощение лишь повредило — „Покаяние“ Тенгиза Абуладзе. Общественное сознание действительно перевернулось, но благодаря не фильму, а предшествовавшим его премьере статьям, столь многочисленным и обстоятельным, что фильм можно было и не смотреть: мы знали его по кадрам… Это была уникальная ситуация, когда интерпретация предшествует произведению и не нуждается в нем…». Да, поймали первую ласточку гласности и принялись терзать, как голодные, извините, коты. Фильм-то тут при чем? Это внутреннее дело, киноведческий «междусобойчик», опять-таки обман зрения — сами сотворили миф, сами же его и крушат. Полная аналогия с сотворением культа тирана. Но я не хочу загонять себя в теорию сотворения мифов. Я пыталась всего-навсего честно прокомментировать «приговоры» и даже обратилась к Юрию Клепикову за свидетельскими показаниями, поскольку их с Фридрихом Горенштейном сценарий тут фигурирует, и я его хорошо помню, участвовала в благожелательном студийном обсуждении, после чего он был послан в Госкино. Цитирую письмо Юрия Клепикова: «…да, напиши для „Сеанса“ про душные времена, когда ленивые властители давали либеральной редактуре возможность оставаться приличными людьми. Горенштейн говорил мне в Берлине, что его упорно не печатали, но при этом у него поставлено семь сценариев. Относительно нашего с ним зарубленного сценария я помню поразившее меня обстоятельство. Обсуждение состоялось часов в восемь, то есть после рабочего дня. Кто был? Уже тогда люди пожилые: Сытин, Блейман, Юренев Арнштам и, кажется, Коварский. Короче, по-нездоровые люди добросовестно в течение двух часов отрабатывали кучку рублей как члены какой-то там коллегии… Наверное, в моей старой записной книжке что-то есть из реплик этого мерзкого события. Никогда я не был так оплеван и растоптан, как в том (семидесятом?) году. Бог им судья». А дальше — про другое, но процитирую и конец этого письма из деревни: «…не теряем надежды увидеть тебя в наших краях, хотя проклятая новая жизнь так злобно препятствует нашим желаниям… Поневоле вспомнишь о застойных временах. Было душно, противно. Но не был нищим и был…неужели свободным?! Да, свободным в клетке, в лагере, в зоне. Нет, и здесь не хватает слов». Про «те времена» написано много, и чем лучше пишут, тем труднее читать. Например, статья Инны Соловьевой с каким-то виноватым названием «Попытка справки» и статья Владимира Турбина «Шестидесятники: блеск и нищета» напечатаны в «Искусстве кино» мелким шрифтом, не умещаются — тесно мыслям, и словам тоже тесно в журнальной публикации, и обидно за эту торопливость, за этот как бы оправдывающийся тон. Накопилось, мысли набегают одна на другую и — увы — канут в вечность. Лучшие мысли умнейших людей. Они были отделены от государства, а теперь они как будто бы в нем, о чем свидетельствуют лохматые стопки периодики — надо же, все напечатано, все типографским шрифтом! Но это тоже обман зрения. От времени остаются одни глупости, бойкие словечки «застой», «перестройка», «свобода, равенство, братство», «пусть расцветают все цветы» и «экономика должна быть экономной». Теперь высокий рейтинг у «духовного возрождения» и «красота спасет мир». В этом роскошном интеллектуальном пространстве, где все закавычено и можно перекликаться цитатами, никто не стал мудрей — вот что приходится отметить с печалью и некстати. «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». А что — разве не сбылось? Если бы знать, что только это одно и сбудется — так бы и остаться там, в тех непросвещенных временах, где половина населения ставит вместо подписи крестик и бежит от своих керосинок в кино, а кто-то маленький и одинокий уже дотумкал, что Павлик Морозов — не герой, а доносчик, но кому про это скажешь, не поймут. Страшно, неужели ждать тридцать лет? Но вот ведь в чем вопрос: наша свирепая диктатура пролетариата (которую, оказывается, отменили в семьдесят втором, но никто этого не заметил), никогда не проводила последовательно «культурную революцию» из какого-то суеверия содержала не только наиважнейшее из искусств, но и другие, неприбыльные искусства, и кой-какую академическую науку и музеи, и издательства. И каждая кухарка, управлявшая государством, первым долгом считала дать детям высшее образование, а внуков выучить языкам и музыке. Не очень, видать, верили во власть серпа и молота. Предлагаю вам свежую тему: «дети коммунистов». Почти все нынешние герои, диссиденты поэты и кинематографисты, прочие, стоявшие против режима — дети правоверных большевиков репрессированных или выживших, но предавших потомству непокорный характер и бессмертную Фразу: «Мы пойдем другим путем». Маленькое воспоминание, семейная сценка шестьдесят первого: Гена Шпаликов включает телевизор, а на экране Бэла Ахмадулина читает стихи. Мы с Бэлой уже знакомы, и все в нее влюблены. Мы вытягиваемся перед экраном а Генин отчим-подполковник негодует — вот взять бы ее за эту челку да оттрепать как следует! Не за стихи даже — за прическу. Что же Гена? Вскинулся, хлопнул дверью, как сделала бы я в своем доме? — Ничуть не бывало. Хохотнул, подмигнул и продолжал уважать своего отчима. А в стихах у него есть такие строчки: «Бэла с белыми плечами, пятьдесят девятый год, Бэле челочка идет».АКТЫ НА СПИСАНИЕ
июль 1962 года Настоящий акт составлен директором 1 творческого объединения Гринером Б. Г., главным редактором 1 творческого объединения Жежеленко Л. М. и старшим редактором Бураповой Э. И. в том, что 13 декабря 1961 года был заключен договор с писателем Гладилиным А. Т. на написание полнометражного литературного сценария «Сильные остаются». Сумма договора 5 000 рублей, срок сдачи сценария — 15 апреля 1962 года. При подписании договора автору выплачено 25 проц. договорной суммы. Первый вариант сценария сдан автором объединению 14 марта 1962 года. Сценарий по своим идейно-художественным качествам не удовлетворил студию. Второй вариант рукописи сдан автором 25 мая 1962 года. Однако и этот вариант не удовлетворил 1 объединение по идейно-художественным качествам, так как автору не удалось разрешить достаточно художественно-убедительно замысел, изложенный автором в заявке. Считая дальнейшую работу бесполезной, объединение расторгло договор с т. Гладилиным 6 июня 1962 года. Учитывая большой труд, проделанный автором (…), полученный т. Гладилиным первый аванс (…) оставлен за автором. Всего подлежит списанию 1 250 рублей.ноябрь 1963 года Настоящий акт составлен директором 1 творческого объединения Гринером Б. Г., главным редактором объединения Маркулан Я. К. и редактором-организатором Ивановой Л. П. в том, что 1 февраля 1962 года 1 творческим объединением был заключен договор с писателем Балтером Б. И. на написание полнометражного литературного сценария «Когда не кончается молодость» Сумма договора — 5 000 рублей. (…) При заключении договора автору выплачено 25 проц. договорной суммы. (…) Основная задача осталась нерешенной. (…) Драматургическая недосказанность, характерная для всего сценария не дает возможности в полную силу ставить и разрешать конфликты. Считая дальнейшее продолжение работы над сценарием нецелесообразным, объединение 18 июля 1963 года расторгло договор с т. Балтером, оставив за ним полученные авансы. Подлежит списанию 1 964 рубля 50 коп.
декабрь 1964 года 1 творческое объединение, учитывая активную заинтересованность режиссера Баталова А. В., в августе 1962 года приобрело у писателя Максимова В. Е. право на экранизацию его повести «Жив человек», выплатив автору 1 500 рублей. В дальнейшем объединение предложило Максимову самому написать сценарий «Жив человек» по одноименной повести, переориентировав его с работы над сценарием «Тундра начинается с костра». (…) 15 января 1963 года с Максимовым был заключен договор на сценарий «Жив человек». Сумма договора 6 000 рублей. (…) Сценарий «Жив человек» впоследствии был рассмотрен, не рекомендован к постановке и не включен в тематический план сценарно-редакционной коллегии Главного управления художественной кинематографии. Попытки переработать сценарий с учетом рекомендаций сценарной коллегии Главного управления художественной кинематографии не дали положительных результатов. (…) Поэтому автор и режиссер отказались от дальнейшей работы над сценарием, а режиссер Баталов приступил к работе над другим фильмом (широкоформатный цветной фильм «Три толстяка»). Подлежит списанию 6 244 рубля 27 копеек.
апрель 1965 года Настоящий акт составлен директором 1 творческого объединения Гринером Б. Г., членом сценарно-редакционной комиссии Шварцем В. С. и редактором-организатором Ивановой Л. П. в том, что 3 января 1962 года заключен договор с писателем Аксеновым В. П. на написание литературного сценария «Рядовой гений». Сумма договора 6 000 рублей. Срок сдачи сценария 1 мая 1962 года. (…) Участие В. П. Аксенова во всех встречах руководителей партии с творческой интеллигенцией, серьезная критика некоторых его произведений привели писателя к сложным размышлениям, к пересмотру творческих позиций. (…) Объединение предоставляло В. П. Аксенову () многочисленные пролонгации, будучи заинтересовано работе талантливого писателя над сценарием о современности. Сценарий был сдан в объединение 19 апреля 1964 года и обсужден сценарно-редакционной коллегией в присутствии автора, где были высказаны серьезные претензии к идейному качеству рукописи, и сценарий не был принят как вариант.(…) Объединение рассматривая это как идейно-творческую неудачу В П Аксенова, прекратило работу над сценарием.(…) Подлежит списанию 1 557 рублей 59 коп.
август 1969 года В связи с тем, что бывший писатель Кузнецов А. В. совершил предательскую измену Родины — сбежал за границу, оклеветал советскую литературу и отказался от всех своих идейных убеждений и художественных произведений, киностудия «Ленфильм» аннулирует с ним договорные отношения. (…) Выплаченный аванс в сумме 1 534 рубля 80 коп. подлежит списанию за счет резерва на брак сценариев.
июнь 1972 года 15 апреля 1971 года 1 творческое объединение заключило договор со Шпаликовым Г. Ф. на сценарий «В поисках пространства и света» на сумму 6 000 рублей. Срок сдачи сценария 6 сентября 1971 года. По просьбе автора, в связи с трудностью разработки темы освоения космоса ему предоставлены пролонгации до 31 декабря 1971 года, затем до 5 февраля 1972 года. Сценарий представлен 10 февраля 1972 года, обсужден объединением и отклонен, поскольку предложенный автором поэтический жанр содержит в себе попытку «глобального» охвата темы освоения космоса (…) с использованием такого документального материала, который вряд ли возможно практически реализовать в кинематографе. (…) Подлежит списанию за счет резерва на брак сценариев 1 531 рубль 54 коп.
июль 1972 года 2 июля 1970 года 1 творческое объединение заключило договор со сценаристами Антоновой О. С. и Марамзиным В. Р. на сценарий «Одним махом» на сумму 6 000 рублей. При заключении договора авторам выплачено 25 проц. договорной суммы.(…) Представленный б марта 1972 года сценарий широко обсуждался в объединении режиссерами и сценаристами. Однако основные недостатки сценария (неточная разработка центрального характера, слабость второй половины, неудача основного женского образа) (…) лишали возможности принять сценарий. (…) Подлежит списанию за счет резерва на брак сценариев 3 080 рублей 73 коп.
ноябрь 1972 года 12 ноября 1968 года 1 творческое объединение заключило договор со сценаристами Горенштейном Ф. Н. и Клепиковым Ю. Н. на сценарий полнометражного художественного фильма «Испытание». Сумма договора 6 000 рублей. Срок сдачи сценария 20 апреля 1969 года. (…) После получения заключения ГЛАВКа от 4 ноября 1970 года сценарий был кардинальным образом переработан авторами и вновь направлен на утверждение 12 февраля 1971 года. В заключении ГЛАВКа по этому варианту (…) отмечалось, что он «свидетельствует о значительной работе, проделанной авторами», но тем не менее, не может быть принят, ибо «авторам не удалось главное — показать, что народ побеждает в грандиозном историческом испытании и что значит чувство этой грядущей победы для каждого…» (…) В связи с вышеизложенным числить далее сценарий «Испытание» в резерве нецелесообразно. Подлежит списанию за счет убытков 6 290 рублей 99 коп.
декабрь 1972 года 31 мая 1972 года 1творческое объединение заключило договор с драматургом Вампиловым А. В. на написание сценария «Сосновые рудники». Сумма договора 6 000 рублей. Срок сдачи сценария 15 мая 1973 года. При заключении договора автору выплачен аванс — 25 проц. договорной суммы. 19 августа 1972 года А. В. Вампилов трагически погиб (см. некролог в «Литературной газете» 35/4373 от 30 августа 1972 года). В связи со смертью автора следует списать за счет резерва на брак сценариев 1 595 рублей 34 коп.
ПРИМЕЧАНИЯ
К сценарию Анатолия Гладилина «Сильные остаются» В сценарии по мотивам собственной повести «Песни золотого прииска» Анатолий Гладилин намерен был проследить за «становлением передового рабочего рабочего нового типа (…) в борьбе за утверждение нового метода работы с людьми». Объединение сценарий отклонило, поскольку автору не удалось показать становление молодого рабочего достаточно убедительно. Гладилин попытался внести требуемые изменения, но и второй вариант сценария был отвергнут с той же формулировкой.К сценарию Бориса Балтера «Когда не кончается молодость» Главный герой сценария Бориса Балтера — немолодой полковник запаса — возвращается в родной город Судьба сводит его с компанией недавних школьников (один из которых — сын его погибшего товарища) и бывшим соучеником, проделавшим путь от секретаря комитета комсомола до главы горкома партии Сценарий вызвал возражение со стороны объединения. Балтер переработал его, «высветлив» интонацию и изменив трагический финал. Тем не менее, уступки не помогли и работа была прекращена.
К сценарию Владимира Максимова Жив человек Ознакомившись со сценарием В. Максимова по мотивам повести «Жив человек», объединение предложило восстановить хронологическую последовательность снов-воспоминаний и вернуть из повести военные эпизоды с целью усиления «гражданского звучания». Во втором варианте сценарий был принят. Однако Главная сценарно-редакционная коллегия не рекомендовала его к постановке, поскольку автор не сумел «ярко нарисовать контраст между горькой судьбой героя и судьбами людей радостной и большой трудовой жизни».
К сценарию Василия Аксенова «Рядовой гений» Сценарий «Рядовой гений» («С утра до темноты») был задуман Василием Аксеновым как вольная экранизация собственного рассказа о молодом ученом, посвятившим себя онкологии. По разным причинам (занятость на другой картине, творческий кризис, связанный с осмыслением итогов встреч интеллигенции с партией и правительством, болезнь) Аксенову были предоставлены многочисленные пролонгации. Ознакомившись с первым вариантом, сценарно-редакционная комиссия посоветовала автору внести уточнения в сюжет и характер главного героя. Второй вариант сценария вновь не устроил объединение, которое на дальнейшие пролонгации не пошло.
К сценарию Анатолия Кузнецова «Огонь» На обсуждении заявки Анатолия Кузнецова редколлегией главной редакции отмечалось, что в романе «Огонь», по мотивам которого автор предполагал написать сценарий, отсутствует осязаемая атмосфера влюбленности героев-доменщиков в работу. Анатолию Кузнецову было предложено это замечание учесть и 1 сентября 1969 года сдать сценарий в объединение.
К сценарию Геннадия Шпаликова «В поисках пространства и света» Сценарий о космонавте-дублере и покорении космоса Геннадий Шпаликов намеревался поставить на «Ленфильме» сам. Первый вариант сценария нуждался в дальнейшей работе, и автору была предоставлена пролонгация. Однако работу Шпаликов не продолжил. Получив приглашение от «Мосфильма», он приступил к работе над сценарием «Девушка Надя, чего тебе надо?» «Девушка Надя…» стала последним сценарием Геннадия Шпаликова.
К сценарию Ольги Антоновой и Владимира Марамзина «Одним махом». Сценарий Ольги Антоновой и Владимира Марамзина рассказывал незатейливую и остроумную историю об университетском выпускнике, который прибывает по распределению из столицы на завод маленького провинциального городка. Возможно, унылый 1972 год не мог допустить столь беззаботного обращения с ответственной «производственной темой» — все варианты сценария были отклонены в виду их «незначительных художественных достоинств».
К сценарию Фридриха Горенштейна и Юрия Клепикова «Испытание» Сценарий Юрия Клепикова и Фридриха Горенштейна произвел «сильное впечатление своей суровой правдой» на сценарную комиссию и был включен в план производства киностудии «Ленфильм» на 1971 год. Тогда же «Ленфильм» обратился в Госкино с просьбой утвердить одного из авторов сценария Юрия Клепикова в качестве режиссера-постановщика будущего фильма. Однако Госкино не утвердил не только кандидатуру режиссера, но и сам сценарий «Испытание», разойдясь с его авторами и студией во взглядах на «суровую правду» военных лет.
К сценарию Александра Вампилова «Сосновые рудники» Заявка Александра Вампилова кратко излагала сюжет будущего сценария. Молодая девушка вынуждена сойти с поезда на захолустной станции. Там она знакомится с молодым человеком, который приглашает ее к себе. Запутанные отношения между героями осложняются тем, что наутро к молодому человеку должна приехать его невеста… Написать по этой заявке сценарий Александр Вампилов не успел. Журнал «Сеанс»
«Астенический синдром» Киры Муратовой
…И вот, наконец, в 1989 году стало ясно, каким режиссером была бы Кира Муратова, если бы ей не мешали. Нет, это мягко сказано — мешали всем, но всем по-разному, расстояние от свободы до осознанной необходимости каждый сокращал как умел. Судьба Муратовой, изнемогавшей в борьбе с инстанциями, надолго отлученной от своей режиссерской профессии, вдруг оказалась укором совести, примером стойкости и терпения и большим вопросительным знаком: за что?! Молодое поколение в толк не возьмет — как это могли запрещать, кого это могло возмущать, — ведь Муратова никогда «не лезла в политику», ни впрямую, ни путем «кукиша в кармане» не высказывала инакомыслия по отношению к деятельности, к целям и средствам, к ошибкам и преступлениям, творящимся здесь и сейчас — государством ли, правящей партией или обществом. Но «что-то чуяли», не умея назвать, и особенно раздражались и ставили палки в колеса на каждом этапе каждой из ее картин именно из-за неумения обращаться с тонкой материей искусства, которое по природе своей философично. Муратова никогда не умещалась в рамки сюжетов, выбранных для постановки. Выбор был невелик у всех уважавших себя режиссеров, а у нее — еще меньше. Сейчас часто приходится слышать, что история не имеет сослагательного наклонения. А я начала свое рассуждение как раз с этого — «если бы да кабы», потому что последний фильм Киры Муратовой — «Астенический синдром» — освещает все двадцать пять лет ее тяжкой борьбы в кино, и впервые открыто, свободно, не прячась за более или менее случайные сюжеты, предстает перед нами личность режиссера, замечательного уже тем, что умеет мыслить кинообразами, думать — языком кино — о феномене человека. Это редко случалось в кино вообще и особенно в нашем кино. Вы скажете: а Тарковский? Да, в каждом фильме своем он декларировал и отстаивал право кино на философствование, каждым кадром, самой их медлительностью и значительностью приглашал к размышлению о высоком и непреходящем. Это было важно для мирового кинопроцесса, это было героическое противостояние мировой «киношке», но это было объявленное философствование, в одном из фильмов, в «Сталкере», замкнувшееся, как мне кажется, на самом себе. Позволяю себе это замечание — вскользь — лишь потому, что речь пойдет о необъявленном философствовании. А к нему мы совсем не привыкли, да и само слово — «философский» — связываем с чем-то смиренно-рассудительно-мечтательным, не от мира сего. А Кира Муратова — вся — от мира сего, искусствоведы назвали бы гиперреализмом ее умение ловить конкретность непредсказуемой жизни, а сама она как личность с ее режиссерским деспотизмом и своенравием с артистизмом и актерскими способностями, с бурной сменой настроений и открытой реакцией на все-все-все с беззащитностью полной искренности и защищенностью нормальной затурканной советской женщины эта личность — кто бы мог подумать? — полярно несовместимая с ненавистной ей «умозрительностью», в последнем своем фильме поднимается до вершин умозрения, заповедных или труднодоступных для кино. И ее зрение, зрение ее ума восхищает меня остротой и бесстрашием. Как всегда, дело не в сюжете. Как всегда, хорошее кино литературно неописуемо. Я уже обмолвилась — «феномен человека» — по странной ассоциации. Одесский трамвай, 1970 год. Я еду к Кире Муратовой работать, а рядом сидит мальчик, юноша, лет семнадцати, и что-то напряженно читает, подчеркивая карандашом. Заглядываю — что же он читает в этой жаре, под крики одесских хозяек: «Женщина! Вы встаете?» Не верю глазам: «Тейяр де Шарден. Феномен человека». Сложная книга французского антрополога и философа, изданная у нас в шестидесятых и переизданная сейчас. Ну ладно, мы в ленинградской интеллигентской компании не пропускали таких новинок, но я-то — по диагонали, а этот мальчик — так вдумчиво и цитаты выписывает. Мне кажется, что он все едет и все читает, и, если не совсем отверг кино, он посмотрит картину Одесской студии «Астенический синдром», и ему не придется растолковывать ее смысл. Киноклубы горячо принимают эту картину, как и многие картины Киры Муратовой. Кинокритики — по-разному, многие отдают должное мастерству, но считают ее мучительным зрелищем, усложненным и лишенным освобождающего душу катарсиса. Да, традиционных опор в виде сопереживания кому-то против кого-то тут не найти. Сопереживать приходится всем против всех, или никому, или самому себе. Как в толпе. Как в жизни. Но я с удовольствием посмотрела картину дважды, она меня крепко «держала», ничего мучительного в ней я не увидела, кроме погибающих собак, представленных специальной надписью: «На это не любят смотреть…», напротив, увидела много смешного и часто испытывала «ликование от узнавания», удивление, жалость, досаду и прочие перепады ощущений, гарантирующие от скуки. Впрочем, на скуку не жаловались и те, для кого картина «мучительна», разве что черно-белая вставная новелла вначале показалась кому-то однообразной, и я готова с этим согласиться. Присутствуя на одном из обсуждений, я поняла, что похвалы картине основаны на слишком плоской, в духе времени, трактовке — мол, до чего же мы докатились. До какой бездуховности, до какой жестокости, до какого равнодушия к ближнему. Мы — то есть наша страна, наше общество. А речь идет о человечестве. О человеке как существе биологическом. На данном витке — или, может быть, тупике — эволюции, на нынешней ступени или, может быть, на окончательной вершине прогресса, откуда нет уже пути вверх. «Научное, медицинское, международное название на редкость подходит этому фильму. Сцена с очередью за мороженой рыбой, где галдит людская стая не человеческим, и не птичьим, и не звериным, а каким-то еще — фантастическим хищным хором — это не про то, что у нас всюду очереди, это смещение в сторону „сайенс фикшн“ звучит как камертон и позволяет воспринимать всю фауну картины как цельную биосистему, и с точки зрения рыбы или попугаев можно спросить: что за странные существа — огромные, шумные, глупые — теснятся всей своей человеческой фауной вокруг нас и зачем-то еще сделались хищниками — по какой ошибке природы? Они устали, они спят на ходу или сходят с ума, они действуют сомнамбулически. Откуда они вообще, куда идут, и чего хотят, и почему хотят того, чего не могут? Но кроме легкого налета условности в фильме есть совершенно четкие ориентиры для тех, кто не улавливает намеки стилистические и привык мыслить социальными категориями. Есть сцена педсовета, есть изможденный директор школы (его играет режиссер В. Аристов) — рыцарь перестройки, говорящий и говорящий какие-то умные, благородные слова среди общего шума-гама и непрерывной склоки. На него огрызаются, его никто не слышит, вообще никто никого не слышит (это Муратова умеет делать виртуозно и всегда по-разному), как будто все говорят на разных языках, в несоприкасающихся пространствах. Нет, не „как будто“ — на самом деле так, прием становится отчетливой формулой смысла. Но — спешу заверить — это не про „некоммуникабельность“. Было такое полузабытое сладкое слово в искусствоведческом обиходе, оно связалось для нас с именем Антониони и звучит теперь, как старое танго или как пресловутый „гуманизм восемнадцатого века“. Трагикомическая разноголосица из прежних фильмов Муратовой слилась в общий поток, образовала водопад, но — вам, зрителю, не дадут оглохнуть, дадут паузы, чтобы думать, — меткие реплики, чтобы сопоставить жизнь на экране со знакомой вам жизнью. Ирония и самоирония направят усилия вашего ума в сторону, определенную автором. Интеллигенты, „мыслящие тростники“ предстают в этом фильме во всем своем бессилии. Руководитель киноклуба, выводящий на сцену сконфуженную актрису и взывающий к равнодушной публике: „Товарищи! Не расходитесь!“ И что-то про трудное кино — Германа, Сокурова, Муратовой. Остаются солдаты и спящий в зале герой. А в нашем зале остается здоровый смех от комедийного эпизода и бодрость мысли. Нам предстоит постигать очевидное и невероятное, приблизиться к тому, что мы давно знаем, но сказать боимся. Мыслят „мыслящие тростники“, домогаются внимания и понимания а жизнь бесформенной массы инертной туши человечества течет по своим непостижимым законам. Вот дурачок Миша. Его обижают, его и жалеют. У него своя радость для вас недоступная. Вот бедные, очень бедные люди в своих коммуналках и трущобах. У них свои заботы и свой даже пафос, своя гордость. Вот старушка рассказывает про собачку и про свою обиду. Вот прыткий воитель за права и демократию носится в дурацкой шапчонке со значком, за что-то кого-то агитируя. У каждого свой „пунктик“. Помешательство на почве переустройства мира не лучше и не хуже всякого другого. Но безнадежней. А вот толстая-толстая дама, завуч. Она рявкает и тявкает, но вдруг взрывается справедливой тирадой на тему о том, что „где же возьмешь таких умных, каких вы бы хотели? Мы — какие есть!“. Цитирую по памяти, неточно, но смысл такой. „Мы — какие есть!“ — кричит каждый кадр фильма, огромная галерея портретов наших усталых и немного свихнувшихся современников. Вот завуч ест суп, неудобно приткнувшись у себя в кухне. А вот она музицирует, разучивает старую мелодию Синатры. И душа переворачивается. И поворачивается колесо нашего обозрения, чтобы застыть в той точке, откуда видно все. Что я увидела? Скажу словами Евангелия: „Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное — ничего не значащее — избрал Бог, чтобы упразднить значащее“. И еще: „Ибо всякий возвышающий себя сам унижен будет, а унижающий себя возвысится“» (цитирую по книге «Гептамерон Маргариты Наваррской», издание 1982 г., с. 202). Человек засыпает в кино, в метро, в школе — везде Астенический синдром — это реакция организма на сильный стресс. Они бывают разнообразны, эти синдромы, как разнообразны и стрессы, и организмы. У меня — не такой, как у засыпающего героя, и не такой, как у женщины из первой новеллы, впавшей в агрессивную ярость после смерти мужа. У меня он ближе к усредненному, к поразившему вдруг все общество. Мы впадаем в тревогу и в панику. Мы тычемся в замкнутом пространстве и предчувствуем тупик. Мы тратим много-много слов и знаем — не о том, не о том говорим. Мы смотрим сессию Верховного Совета и убеждаемся, что наши лучшие представители трагически не понимают друг друга, они говорят на разных языках; не национальных, разумеется, а на языках разного уровня сознания. Прогресс и демократизация наворачивают все новые противоречия. Они усиливаются. Это уже не преходящее противостояние богатых и бедных, сытых и голодных. Обнажилась иная суть: как сдержать разумным и честным первобытный хаос «немудрого и уничиженного»? «Астенический синдром» — это предварительный диагноз Этот фильм не нагнетает страхи, он скорее констатирует, напоминает и призывает к трезвой опенке мира в котором живем. Он апеллирует к господам интеллигентам, разрушая их самомнение и самообманы После фильма мне стало легче, как будто сброшен груз давних одиноких размышлений. Я благодарна Кире Муратовой за ее огромный труд и снова восхищаюсь ее искусством. Ее кинематограф безмерно богаче того, что можно выразить в беседе даже с самыми близкими друзьями. Но… Картину не приняли. Госкино не принимает. Почему? Смешно сказать. «Изъять нецензурные выражения». Там в последнем эпизоде сидит одна дама в метро и громкими матерными словами рассказывает о своей жизни. Это шокирует. Это и должно шокировать. Тем более — дама красивая, прилично одетая, нацепляет очки. Моя первая реакция — горький смех и зависть: жаль, что не приучена материться, не защищена этим. А Кира Муратова и вовсе не выносит сквернословия. А эта дама защищена, она величественно спокойна и по смыслу картины прекрасно рифмуется с той, что металась в начале картины и бросалась на людей (актриса Ольга Антонова). Она, наверно, тоже не ругалась и потому впала в «неадекватное поведение». Муратовой предложили заглушить фонограмму. Она категорически это отвергла. Это принципиальный художественный прием. Ее уговаривали: «Кира, это ваш каприз!» «Да, каприз», — ответила она и улетела в Одессу. Все ее «капризы» в кино тщательно выверены и многократно обдуманы. Если она настаивает, то знает, почему и зачем. Каждый, кто работает в кино, знает, что такое непринятая картина. Началась борьба. Она еще идет Я не буду вдаваться в эстетическую дискуссию — нужен ли именно этот текст в этой сцене. Это право режиссера, авторское право. Тем более что официальный цензор подписал монтажные листы фильма со всеми имеющимися там словами и объяснил присутствовавшим на пресс-конференции в Союзе кинематографистов, что цензура запрещает только три вещи: разглашение военной тайны, открытый призыв к свержению государственного строя и порнографию. А «нецензурных» слов для цензуры нет. Это — дело нашего вкуса, нашей, я бы сказала, эстетической совести. В том, что эстетическая совесть Муратовой безупречна, ни у кого сомнений нет. Но почему-то всякий раз получалось, будто она бросает вызов обществу. Например, когда сняла свое имя с титров картины, которую ей не дали завершить. Предварительно заявив начальству: «Пусть мне дадут четвертую категорию не заплатят ничего, это ваше дело — оценивать и наказывать, а мое дело — закончить картину как я хочу». Неслыханная дерзость! Казалось бы, все это в прошлом. И вот снова конфликт. Довольно, правда, курьезный. Без улыбки, без ухмылки трудно и говорить на эту тему. Убеждена, что руководители Госкино прекрасно видят нелепость ситуации. Едва ли они выходили с иностранных фильмов, заслышав ругательства. Еще недавно у нас запрещалось на экране показывать курящих и пьющих водку. Якобы — от этого и в жизни… Редакторы, разумеется, понимали, что такой связи между искусством и жизнью нет, но боялись возмущенных писем, невежественного нажима сверху и снизу. «Народ не поймет». С перестройкой все эти абсурдные запреты полетели к чертям собачьим. Разумеется, снятие многих табу развязало руки не только хорошим режиссерам, но и дурным. Появилось, говорят — я не видела, — много всякой похабщины и спекуляции на запретных темах интимной жизни. Думаю, что все осталось в той же пропорции: дурной вкус свирепствовал у нас и раньше, и без интимных сцен: чего стоят некоторые эстрадные песни! То, что Козинцев называл «самодеятельность каннибалов», неизбежно для нашего общества. Диктатура невежества не могла не сказаться на массовой культуре. Язык насыщался плоским жаргоном, и нечувствительные к языку авторы переносили его в свои сочинения. Но в искусстве всегда важнее не «что?», а «как?». Не может быть запрещенных слов, запрещенных частей тела и вообще никаких табу. Новый «каприз» Киры Муратовой я понимаю и принимаю хотя бы потому, что он заставляет разобраться в важных вопросах. Мы живем среди матерщины и всеобщего хамства. Я просыпаюсь под трехэтажные залпы, поскольку живу над магазином. Наши подъезды, и лифты, и порушенные церкви исписаны непристойностями. Мы притерпелись. При всех режимах — сталинском, хрущевском, брежневском — на неизменно недосягаемой высоте стояло потребление матерных слов нашим народом. Подключились и интеллигенты, во всяком случае, люмпен-интеллигенты, которых большинство. Хотела бы я знать: а блюстители хорошего тона (сами-то они, конечно, не сквернословят, упаси бог!) когда-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь остановили? Лет тридцать назад так боролись с проституцией у вокзалов: провоцировали проституток на мат и сажали на сутки за хулиганство, ибо статьи о проституции не было. Выполнявшие это милиционеры сами, разумеется, сквернословили, но для них это не было криминалом. Им приказали подвести несчастных баб под двести шестую статью, они и не догадывались о безнравственности этой ситуации, они проводили кампанию по борьбе. Запрещение фильма Муратовой сильно напоминает ту кампанию, отдает тем же лицемерием и ханжеством. В стране, где считалось нравственным писать доносы, очень удобно создавать комиссии по нравственности, ставить галочки и палить из пушки по произведениям искусства, по электрогитарам, по сексуальному просвещению и так далее. Только все это к нравственности никакого отношения не имеет, как и алкоголизм, как и наркомания, как и сквернословие, хоть оно и отвратительно. Безнравственно только доносы писать и читать чужие письма. И не выпускать интересный фильм из страха перед тетей Маней, которая, по словам Ильфа, «все еще верила, что на свете существует неслыханный разврат». Впрочем, страх перед этой тетей, кухаркой, научившейся управлять государством, у меня тоже есть. Это мой «астенический синдром». А у Киры Муратовой его нет, потому она и сняла замечательную картину. «Советский экран», № 3, 1990Третий глаз
Предлагаю сюжет детского сериала «Новые приключения неуловимых». Папа и Петя пошли в зоопарк. Пока папа покупал пиво, Петя куда-то пропал — как провалился. Мама сказала: «Ищи. Пока не найдешь — домой не пущу!» А сама пошла и купила — не пожалела ползарплаты — детский мини-искатель «Петушок» (корейского производства). Старый, громоздкий «Рекс-18» — для крупных собак — совсем чего-то забарахлил, да и Петька умный стал, цепляла ему мама на самую макушку датчик, так он его либо терял, либо выбрасывал, либо пригнется — под сигналом прошмыгнет Умный ребенок — не в маму пошел. Глупая мама как ни следила за мужем своим Невидимовым Вадимом, а не заметила, как он на другую работу перешел и служит теперь не в паршивой ментовке, а в самом УПППЖПП (управление полной прозрачности половой жизни публичных политиков). Во как! За особые технические заслуги перед отечеством III степени его туда назначили на большую зарплату. От жены он скрывал не почему-либо, а чтобы все излишки на свои железки тратить. Так что отловить Петьку ему не стоило труда: домой только зайти и открыть «слоника» — свой заветный несгораемый сейф. Пришлось сознаться, кто он теперь по званию и почему у них изменился образ жизни. Стали они ловить Петьку на мониторе. Вскоре поймали. Стоит, ест мороженое и язык им показывает. А где стоит, неизвестно. Анжела (мама) заметалась, запричитала, налаживает свой ширпотреб корейский — курам на смех, а Невидимову вдруг стало не до смеха. Пока они техникой манипулировали, обнаружилась страшная вещь: никто его не прослушивал, никто не просматривал. Вырубили его из поля слежения. А по должности полагалось круглосуточно. Позвонил сослуживцу: «Ты меня видишь? Взгляни, не ленись». Тот как раз рыбу чистил в ванной. Взглянул — одни помехи. Успокоил мнительного Вадима: «Да на кои ты им сдался в выходной?» Невидимов впал в панику — может, уже с работы поперли, а может, сам напортачил, когда ввинчивал «Егозу». Стал квартиру обыскивать, учинил разгром, точно как в старинном фильме Копполы «Разговор», только наоборот. Весь вспотел, пока заподозрил причину. Исчезла «тычинка», в люстру вмонтированная под самым потолком. Хотел впаять новую, но жена приняла меры — увела на воздух, за овраг, за кольцевую, в лес. Там у них была пещера для «интима», в дупле — бар, под елкой — тайничок. НЗ на случай ЧП. Благодать. Можно оттянуться: помычать, помолчать, поухать филином, почитать классику. Книга хорошая попалась из библиотечки УПП. Про «прослушку» — «В круге первом» называется. Сняли стресс, вспомнили про сына: как его воспитывать, ремнем, что ли? Совсем отбился от рук, вундеркинд, изобретает шапку-невидимку… Может, врачу показать его? Вдруг из дуба, из дупла, где бар, высунулась Петькина голова да как захохочет: «Папку-невидимку! Папку-невидимку! Вы сами все сошли с ума!» Отец за ним погнался, но Петька залез на дерево. Сказал, что жить теперь будет здесь, «тычинку» украл и не отдаст, лучше съест, вот она — в руке, и на жалобные вопли родителей отвечал строго: «На первый-второй рассчитайсь! Командовать парадом буду я!» Так началась неравная борьба маленького отважного Невидимова с крупным специалистом ПП (полной прозрачности) хитрым и упрямым отцом Невидимовым. Вундеркинду удалось порушить безнравственную карьеру папы-технаря. Тот остался без работы, начались поиски. Каждая серия — новое место работы, от частного сыскного агентства до торговли на птичьем рынке. Мальчик узнает изнанку жизни, видит очень плохих людей — воров, мошенников — и из маленького правдолюбца превращается в маленького террориста. Его «акции» заимствованы из литературы: от гамлетовской «Мышеловки» до «Собачьего сердца». Он выводит своего Шарикова и, обладая феноменальными способностями, умеет им руководить. Выручая то отца, то себя, сражаясь за честь или кусок хлеба, он последовательно воплощает идею «добро должно быть с кулаками». В последней серии папа и Петя пришли в зоопарк. Выпустили шимпанзе из клетки и стали там жить. Папа решил дочитать потрепанную книгу — все недосуг было — «В круге первом». Как вдруг что-то вспомнил, что-то ему не так… «Ну да, — объяснил ему сын — дойдя до середины жизни, ты заблудился в сумрачном лесу». «Нет, — вспомнил Невидимов, — книжка-то библиотечная, из УППП. Как неудобно — забыл отдать…» Петька посмеялся, обозвав папу интеллигентом и чистоплюем. «Да она же меченая!» — «Сам ты меченый!» Но вдруг книга заговорила человеческим голосом: «Невидимов, в который раз вам напоминаем, что за вами числятся…» Бородатый, бомжеватый, прибитый жизнью изобретатель в клетке хорошо просматривался с библиотечного поста. Охранник-«качок» с автоматом брезгливо поморщился а библиотекарша, видимо, пожалела и, вздохнув о прошедшей любви, сказала: — Ладно, вычеркиваю. Освежая в уме все последние дискуссии об интеллигентности, интеллигенции, в том числе и в «Искусстве кино», о ее месте в нынешней жизни, вписалась — не вписалась и т. д., и что это вообще такое, что за мамонт чисто российский, не могу да и не хочу добавлять свои ненаучные формулировки, потому что: 1) надоело; 2) нет слов, жалко мамонта; 3) да он живой! 4) сама мамонт, в чем печатно призналась в интервью «Обломок трех империй» в журнале «Киносценарии»; 5) стало быть, чья бы корова мычала, а твоя бы… стоп! Как неинтеллигентно выражаешься, ну так я ведь только наполовину из… б) изнутри данная туманность не осмысливается, не описывается, подобно мозгу, сознанию — из него не выскочить, инструмент все тот же — мозг, сознание; 7) извне — да что они могут в этом понимать? Чушь несут несусветную! 8) «Ты сердишься, значит, ты не прав»; 9) потому что все это прекрасно понимают и без формулировок, различают по духу, по нюху, по слуху — даже слепые. Вот пример. Я давно слушаю интеллигентное радио «Эхо Москвы». Иногда там вдруг возникают новые голоса, какие-то, что ли, инородные, «не из того профсоюза», как говаривали в старые времена. Пока разберешься, какое тридевятое чувство они коробят, обязательно позвонит слушатель с настоятельной просьбой это инородное убрать. И убирали. Снова кто-то мелькнет — знаю, надолго не задержится. Словно их берут, чтобы мы понимали разницу и ценили интеллигентное радио «Эхо Москвы», чтобы мы перекликались своими тридевятыми чувствами, что лежат в тайниках языка; 10) последняя, десятая причина — не говорить прямо на эту скользкую тему, а говорить криво, уклончиво, обтекаемо и иносказательно — самая простая: страх. Если кто-нибудь только подумает, что его не считают интеллигентным человеком, отказали в причастности к тайному ордену — он смертельно обидится и когда-нибудь отомстит. Так что ваша правдивость и отточенность мысли обернутся если и не лично против вас (не прибьют завтра в подъезде, не уволят с работы), то в любом случае приумножат количество зла в мире. Об этом не говорят вслух. Где больше двух. Я вот однажды попалась на этой теме. Рассуждала при студентах так: интеллигент — это такое существо, в котором автоматом, без усилий разделяется, что продается, а что не продается. Мне понравилось мое определение, я его запомнила и повторила через много лет другим, нынешним студентам. Сразу посыпались возражения: «А что не продается? Все продается». Некоторые даже не поняли, о чем я говорю. Другая система ценностей? Легко сказать, да смысла в этом мало. А вдруг — ни ценностей, ни тем более системы? В работах, иногда талантливых, превалирует игровой момент, пародийно-подражательный, фантомный — по американским лекалам, естественно, насмотрелись с детства страшилок, «Твин Пикс» в лучшем случае; «все понарошку» — таков состав ума и воображения, что с жизнью этой наличной, русскоязычной, мало сцепляется. Но жизнь, хочешь не хочешь, она всех достанет, и язык у нас один — русский, «надежда и опора» вывезет, так что свою «систему ценностей» навязывать не спешу, даже когда задирают, дразнят каким-нибудь «лавэ» — молодежным сленгом или пугают рецептами «дури». Перемелется. Вот подарили мне словарь «Так говорит молодежь», толстая книга, на первый взгляд — страшно, помесь английского с подзаборным, добрый староблатной вообще вымирает, половину слов не понимаю, ужас! А потом — смешно. Это мне-то смешно, которая не выносила всех этих «прикидов» и «прибамбасов» и до сих пор от слов «трахаться», «обалденно» и «прикольно» хочет выть на луну, мне, которая убила бы (было бы чем) тех оболтусов, которые исписали новый наш лифт своими «факами», — мне почему-то смешно и даже весело листать этот добротный словарь. Потому что он есть. Пока одни пишут в лифте, другие издают книги хорошего уровня, и их все больше, и газеты, и журналы — «бери — не хочу!» — радуют глаз изобилием. Их же кто-то делает — образованные ребята, их же кто-то научил, и вечно виноватое лицо нашего интеллигента предстает не в пространстве, где он бессилен перед варварами, а во времени, где он «великий и могучий», поскольку он и есть язык. «Свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». «Наше все!» А студенты «прикалываются». Почему меня, кстати, не смущает этот глагол, а «прикольно», «прикольный» несносны? Не объяснить, а кто-то поймет. Язык залегает в нас на разной глубине, но остается защитным слоем, нашей кожей. Натуральную кожу от дерматина было легко отличить, а стало трудно. Насчитав у себя десятки капризов вкуса (да и вы насчитаете, может, сотни), в русском устном и в русском письменном отдельно (почему они все говорят «простынь», она же «простыня»?!), обозвав себя принцессой на горошине, я вовремя вспомнила про кожу. Помните, как мы проснулись в другой стране? И в этой стране все вдруг разом оделись в кожу? Вот только что стояли в мучительных очередях, меняли сахар на водку и обратно — и вдруг словно очнулись от сна. Выходишь на улицу, а там другое племя, незнакомое, и все как один — в коже. До времен «перестройки и гласности» я побывала как-то в маленьком сонном итальянском городке, где улицы были забиты кожаными пальто и куртками. Людей не было, ни покупателей ни просто прохожих. Жара и «самая дешевая в Европе кожа» отменного качества терзали больную советскую душу — вот бы наших сюда, смели бы за полчаса! Не прошло и пятилетки, сбылась мечта: смели и оделись. Люди с Востока показали торговую прыть, а ротозей-славянин снова ропщет на московском восточном базаре — опять он все проворонил! Ропщет и интеллигенция. В «систему ценностей», безусловно, входил интернационализм, позже — «философия неравенства», а раньше, до всяких систем, из детства — образ интеллигента, который чисто одет и не ругается матом. «Шляпу надел!» — ругались в трамвае. Шляпу хотелось защитить. Потом пришли «Жигули» и джинсы. Интеллигент и жлоб перемешались в потной очереди за «резиной». А в Болшево на семинаре сценаристов Николай Робертович Эрдман произнес бессмертную фразу: «Где это видано, чтобы старые евреи ходили в ковбойских штанах?» Но и позже, когда уравнялись в едином строю — за водкой, за сигаретами, мой наметанный глаз отличал по повадке «своих». В той стране хотелось заснуть и не просыпаться. Мне удалось перетерпеть качку, «под собою не чуя страны»: то лечу куда-то, ночую в роскошных отелях, то в грязи бесплацкартной везу из Литвы кусочек сыру, то хватаю — коту — последние щупальца кальмаров. Мама плачет: «Неужели голодовка?» У людей засосало под ложечкой. Старый интеллигент хвалился, как он уплетал макароны, молодой «на халяву заначил» бутылку и пустил слово «халява» в долгий путь. Я тогда еще их различала, хотя мало смотрела по сторонам, больше в телевизор — на депутатов. Да и сама то и дело заседала, чтобы эту жизнь окаянную не видеть. И прозевала. Очнулась, вышла на ВДНХ — ВВЦ: все в коже и жрут бананы. Кожуру бросают под ноги. «Музыка играет так громко, так весело…» Еду на «Таврии» по пустынному мокрому шоссе. Из деревни, с подругой, с котом, с котомками. Сзади гудит, прижимает к обочине серебристый, как самолет, лимузин. Прижимаюсь, выглядываю — может, колесо спустило? Пятеро мальчиков с Кавказа — все в коже, двое выходят. Душа в пятки. Подруга-то видная, и грабят, слыхали, на дорогах. Улыбаюсь жалко, приветливо. «Ты что, ох…, старая карга?» О счастье! Всего-то матом покрыли, дорогу я им загородила. От «старой карги» расцветали в душе незабудки. Натерпелись мы страху, проснувшись в другой стране. Опуская страшные истории, расскажу смешную, десять раз рассказанную, даже и студентам — не постеснялась, обсуждая выразительные свойства «ненормативной лексики». Иду в ресторан Дома кинематографистов. При входе мужик — тоже в коже — толкнул случайно и говорит: «Извините на х…!» Правда же, лучше не скажешь? Прямо из души вырвалось — в знак окончательного слияния классов и прослоек и окончательной победы всех над всеми. «Главное — правильно окопаться», — говорил мудрый старик, солдат первой мировой, оператор Анатолий Дмитриевич Головня. Актуально как никогда. Интеллигент всегда умел окопаться, не носил опознавательных знаков (со времен пресловутой шляпы), не бросался в глаза, был хитер и двусмыслен, как сам язык. Он всегда на обочине, но не должен уходить с поста, распространяться вширь — ходить «в народ» и говорить «на их языке», одеваться в чужую кожу. Он меченый, его сразу разоблачат. И порвется тончайшая материя, хранителем которой он поставлен судьбой. «Гражданином быть обязан»? Тоже ведь входило в «систему ценностей». Если бы автор этого «слогана» дожил до всенародного электронного компромата и предстал со всеми семью женами и карточными долгами на потеху коробейникам, он взял бы свои слова обратно, он предпочел бы «окопаться». У черни нет понятия чести, а забавы ее грубы и ненасытны, заразней спида и наркомании. Когда мир глазел на Монику Левински — неинтересная у них любовь! — не разглядели главную героиню, ее прожженную конфидентку Линду, писательницу. Ее дьявольский промысел неосуждаем, несудим и нашим Дашам по плечу и по нраву. Мир под бесстыжим просмотром телекамер и СМИ с третьим глазом и ухом — этот мир, конечно, неописуем в прежних терминах. На виду останутся носороги и дураки, остальные попрячутся, унося свои компьютеры, но вирус… Вирус бродит по Сети… Наш век до предела сблизил интеллигента и люмпена и всех прочих перемешал, выводя «массового человека». Процесс продолжается по инерции, но и обратный «процесс пошел». Пока огораживают, бронируют недвижимость. А движимость, живность перепуганно тоскует по «свободе-равенству-братству». И братается с «братками» — язык все стерпит. Огораживайте, бронируйте, окапывайтесь! Не то новое поколение очнется в другой стране и своих не узнает. «Искусство кино», 2001 Из цикла «Среда обитания»Плоды покаяния
Наконец похоронили останки царской семьи. Смотрела по телевизору, пыталась испытать хоть какие-нибудь чувства. Ни-че-го. Только облегчение, что церемония прошла достойно, политическая заминка не развернулась в скандал, а главное, кончился этот научно-популярный сериал с идентификацией костей. Впрочем, обещают еще поискать тех, кого недосчитались. «Я не знаю, кому и зачем это нужно…» И никто не знает. Во время похорон по «Эху Москвы» простодушный А Гурнов высказался без затей: «Мне абсолютно наплевать, чего там похоронили…» И тут же стал рассказывать про опрос населения: «Верите ли вы что сегодня хоронят действительно останки последнего царя?» Откуда людям знать и зачем? Большинству абсолютно наплевать, как и Гурнову. Бедные ропщут — на что деньги тратит государство? А те, кто душой почувствительней, вообще закрывали глаза и уши на это бесстыдство: зачем оповещать да еще и с картинками — вот-вот ужо идентифицируем, есть метод… Каждый раз я не к месту вспоминала фильм Герца Франка «Диагноз». Он начинается с анатомического театра, со вскрытия трупов, а кончается кладбищем, могилами, крестами. Помню общее недоумение, душа противилась такому эпатажу на темы смерти, и автору пришлось объяснять свой эксперимент именно как рискованный. Не убедил: таинство смерти и опыты над материальными остатками человека не сопрягаются даже в самой атеистической голове. Где-то они в разных полушариях мозга. Кино, несомненно, тонкий инструмент познания этих малоизученных связей между полушариями. Документальное размышление Г. Франка хоть и покоробило, но достигло цели: я, например, давно ощущая свою нерелигиозность как изъян, какой-то порог или даже порок сознания, об этом и задумалась — о врожденном устройстве и последующем взаимодействии двух половинок и явной связи нашей психофизики с религиозностью — врожденной, нажитой — или непоправимым скептицизмом. Наверное, каждый в меру своего невежества о чем-нибудь таком серьезном задумался — в том и была провокация Г. Франка. Лет пятнадцать прошло, и за эти годы кожа у нас значительно потолстела, броня стала крепче. «Опять эти кости!» — ничего, кроме черного юмора, вся эта морока не вызывала. За десять лет свободы слова и «картинки» атрофировался важный орган, которым различают кощунство. Вот молодые забавники сделали Ленина в виде торта и съели. Ха-ха-ха! Их показали по телевизору. Подумаешь, на фоне всяческого «осквернения» и «вандализма» как не простить озорникам кондитерское ерничество? И на фоне этого всего публике «абсолютно наплевать», чьи там кости, и смешон пафос «всенародного примирения» и «всеобщего покаяния». Вокруг несчастного семейства Романовых, чей трон задолго до кровожадных большевиков, до роковой войны, еще и до японской, расшатывался русским ерничеством — анекдотцами, частушками, сплетнями — «бойцами невидимого фронта». Успешней, чем прокламациями «Долой самодержавие!». У бабушки моей в детстве висел в комнате портрет Государя, и подруги над ней смеялись — либералками росли эти девочки дворянские в начале века, уже не в моде был монархизм. А бабушка моя, Наташа Ржевская единственная губернаторская дочка, воспитывалась в английском духе, из легкомысленной моды выпадала и я хорошо зная по рассказам и фотографиям их уклад, допытывалась в детстве, правда ли, что она любила царя? Правда ли, что они были такие консерваторы? Бабушка умерла в тот год, когда я — в тринадцать лет — спешила в комсомол. В книге Н. Вирты «Вечерний звон», такой длинной и скучной, что едва ли ее кто-нибудь одолел, нашлась и моему прадеду, а стало быть, и бабушке индульгенция. Там написано: «Он (фон дер Лауниц) был недавно назначен в Тамбов вместо камергера Ржевского. Камергеру ставили в вину его якобы отеческое расположение к учащейся молодежи, бунтовавшей повсюду, и недостаточность мер по устрашению тамбовских либералов. Носились также слухи, что камергер водил близкое знакомство с опаснейшим из всех тамбовских „красных“ присяжным поверенным Николаем Лужковским» [5]. Но он и с Витте водил знакомство, а бабушкины дневники тех лет пестрят фамилиями, которых уже не существует, сгинули, не став символами и знаками, как Витте или Победоносцев, и не оставив письменных свидетельств, разве что частные письма в истлевших сундуках. При жизни бабушки я лишь одно успела уяснить — что бывает не либерал и не консерватор, а просто порядочный человек, хоть и губернатор, и счастье, что он умер «до разора». Впрочем, парк, который он разбил у себя во Власьево на реке Осетр, сохранялся почти до наших дней, туда экскурсии ездили, потом был пионерский лагерь, а теперь — джунгли, лопухи в человеческий рост, липовая аллея едва угадывается, и склеп разворотили совсем недавно — кому-то камень понадобился. С детства я слышала — «вырождение дворянства», а видела выживание дворянства, с моей деятельной бабушкой никак не вязалось «вырождение», а она и была крайней в угасании древнего рода. Но вынесла все — без мужа с двумя детьми, старой матерью и нянькой начинала с нуля и не роптала. Принимала как расплату за счастливое детство, как покаяние (за чьи только грехи? не иначе — поручика Ржевского), свои «окаянные дни», и не было им конца. И в церковь не ходила, но и в грех уныния не впадала. Сбылась мечта Льва Толстого — детей по миру пустить; он-то не пустил, но хорошую прививку толстовства, кстати, получили те, кому пришлось пуститься. С клочка земли, со своего колодца своими дворянскими, но уже обмороженными руками поднимала бабушка новую жизнь «со всеми наравне и заодно с правопорядком». И в 1937-м, привел невестурабоче-крестьянского происхождения то есть мою маму, предупредила: «Мы из бывших подумай хорошенько, могут посадить». Так, в результате примирения всех сословий, появилась на свет я, чтобы и впредь примирять, до окончательного «стирания граней», до полной победы коммунизма на почве общего толстовства и опрощения всей страны. Как давно все это отдумано, отболело, улеглось — скоро тридцать лет, опять круглая дата, с вторжения «нашего», уже не нашего, в Чехословакию, и окончательного повзросления. Поняли, в какой стране мы живем. Отгородились. Затихли с «русскими вопросами», застыдились. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» О нет, я связана по рукам и ногам. «Можешь выйти на площадь?..» — пел Галич лично мне на день рождения. Нет. Мы еще, помню, шутили: «Зачем? Чтобы разбудить Герцена?» И вот дожили, повод, наконец, нашли для «общенационального покаяния» и «всенародного примирения». Что, покаяться больше не в чем? Не случайно так долго конфузились и препирались, все криво выходило. Да бывает ли коллективное покаяние? У кого спросить — у РПЦ? Ладно, тетки в ЖЭКе писали — «участник ВОВ», содрогнется душа, а за талонами прибегут, но за покаянием — в РПЦ? Неладно что-то в нашей РПЦ. Бог, видно, не любит аббревиатур. Положим, это СМИ придумали. А что ж батюшки смотрят? Могли б наставить. Или хоть горшком назови, только не показывай Скорсезе? У нас страна согласных — ВПК, ФСБ, ДТП, РПЦ. Пока виртуозные наши СМИ раздували, изнемогая, фитиль русской истории и рассеивали в эфире праздные мысли об исконном нашем монархизме, и я пыталась наладить «связь времен» — взглянуть глазами бабушки, пропустить через себя событие, объявленное историческим, отделить все читанное-перечитанное от собственного опыта. Ведь, в отличие от большинства, у меня он есть, я много видела «бывших» — пусть обывателей, пусть «опростившихся». Только таких Бог и сберег — к земле пригнувшихся, «окопавшихся». Не прерывалась для меня «связь времен» — хотя бы в пределах XX века. Но помню — когда Илья Авербах собирался ставить «Белую гвардию» и мы стали всерьез, вслух проговаривать свои ощущения, сверять «домашнюю» историю с читанной, оказалось: пропасть между нашими «бывшими», хотя все принадлежали к обреченным сословиям. Его бабушка — по матери — преподавала в Смольном институте. Наши бабушки на фотографиях похожи даже внешне, и судьбы похожи: обе выживали брошенные, без мужей, с двумя детьми. Смольный эвакуировали в Новочеркасск. Там и истоки какой-то ненормальной, не литературной любви Авербаха к «Белой гвардии». Бабушка Ольга Николаевна из военных, петербургских, дед — генерал, муж — офицер вовремя успевший эмигрировать. А по отцовской, еврейской ветви дед был финансист, управляющий банком в Рыбинске, семейство процветающее, по-теперешнему — «новые русские». Давно я заметила, что через поколение, внукам, передаются черты неслучайные, глубинные, следы неосуществленных помыслов и т. д. Петербург Серебряного века был для Авербаха божественным городом: «Расцвет русского капитализма!.. Ты посмотри, что они понастроили! Да если бы не пришли большевики — да их тогда никто и не замечал…» — «Потому и пришли, что Петербург в столичном упоении не замечал…» Дальше, сами понимаете, про «сослагательное наклонение», которого не имеет история. Теперь этот спор затерт до дыр, стал сказкой про белого бычка, но я одно тогда поняла: «с миром державным» мы связаны совсем по-разному. В моих четырех сословиях не было ни военных, ни купцов, ни вообще людей коммерческого склада. Что прискорбно. В русский капитализм мы не вписались ни с какой стороны. Революционеров тоже не наблюдается, к счастью, но и в белую гвардию никто не пошел, а что, спрашивается, было защищать? Казенное жалование, когда уже ни царя, ни казны? И покаяться не в чем — с монархией мы квиты. Авербах любил «Белую гвардию» генетически, всей досадой своих предков: было что защищать, было кому защищать, а вот проворонили. Был странный случай: будучи в Киеве по какому-то делу, он напросился к Виктору Платонычу Некрасову — просто познакомиться, поклониться. Просто режиссер из Ленинграда, тогда еще и речи. не могло быть о постановке Булгакова. Некрасов сам открыл дверь и спросил через порог: «Ты белогвардеец? Тогда входи». «Пили самогон с деревенской сметаной, говорили — с ходу — о „Белой гвардии“». «Мистика! Как он узнал?» — Илья всем рассказывал эту историю. Видимо, мы доживаем чью-то жизнь, и писатель, как цыганка, видит — чью. «Теперь у нас не Ленинград — Петербург», — сообщаю я на тот свет каждый день. Илья не дожил до перемен, чуть-чуть. «У нас Россия, а не СССР. Многопартийная система и почти капитализм. Вот, царские останки хоронят в Петропавловке. Поговаривают о монархии…» — пусть будет и у него праздник. А мое «национальное примирение» (долгая и склочная, кстати, работа) завершено и — прямиком — на свалку. Я, как всегда, опоздала, и мне ли судить, почему с таким опозданием хоронят останки? Не было среди предков ни купцов, ни банкиров, ни военных, ни охранки, ни священнослужителей. Некому руку подать или хотя бы совет — «из-под глыб». Полистаю хорошие книги. Как невнимательно мы читали! Вот сборник «О Владимире Соловьеве» — 1911 год. Из статьи кн. Евгения Трубецкого «Личность В. С. Соловьева»: «В особенности в области экономической он поражал примитивностью своих суждений Однажды он высказал мне, что признает грехом брать проценты, хотя бы и незначительные; однако тут же выяснилось, что он считает совершенно негреховным держать процентные бумаги, так как в данном случае плательщиками процентов являются государство банки вообще учреждения. Попытки объяснить ему какую-нибудь экономическую истину были бесполезны он отказывался слушать и даже уверял в своей неспособности понимать» (изд-во «Путь», 1911, с. 49). Не так ли и мы, господа беспечные, жители казенные? Выдержим ли русский капитализм с нечеловеческим лицом, без царя в голове и без его останков? Или уж сразу царя назначим, чтоб было на ком зло срывать? Есть подходящие кандидатуры. «Искусство кино», № 11, 1998Перелет из сов в жаворонки
Зачем люди летают? Вот вы — он — она — я — пассажиры дальнего рейса, хмурые, как осеннее московское утро, добравшиеся в Шереметьево по первому гололеду, прошедшие таможню, контроль и контроль, истомившиеся в «накопителе», пристегнувшиеся ремнями и уже отстегнувшиеся, уже проглотившие свой униланч, мечтающие вздремнуть — там, над облаками — и проснуться в другом полушарии — вы ответьте мне: о том ли мечтали наши недалекие предки, восклицавшие: «Отчего люди не летают?» А вы сидите, как большая кукла с закрывающимися глазами, с затекшими ногами, и листаете, допустим, газеты, а в газетах — все про свободу да про свободу — вековую мечту человечества. Вот одна уже сбылась — летаем! Воспарили! Над морями-океанами, над заморскими странами летим в заоблачных высотах, гордые за человечество, припечатанные к своим креслам, свободные, как рабы галерные, как узники кандальные. Нет, человек в летательном аппарате — это и не человек вовсе, даже и не муравей в муравейнике. А теперь еще и не курить всю дорогу. Вот когда перед посадкой засосет под ложечкой и когда шасси мягко стукнется о бетон, и когда наконец на своих затекших, полусогнутых вы спуститесь по шаткому трапу и ощутите под собой такую родную — хоть и в дальнем зарубежье — земную твердь, вот тогда, возвращаясь из небесного небытия, постепенно вочеловечиваясь, изловив свой багаж с транспортера, вы поймете, зачем люди летают. Ради этого сладкого мига, ради своего единственного неписаного права — на земное притяжение. Нет, лучше бы летать под гипнозом. Или под наркозом. Когда-нибудь анестезиологи о нас позаботятся — подберут подходящую дозу, для курящих — посильней. Протянул паспорт — отключился — и проснулся в другом полушарии! Мне бы радоваться — меня пригласили в Нью-Йорк! Обо всем позаботились, взяли билет, и поездка какая приятная — со старыми фильмами, в хорошей компании. Мне бы прыгать от радости — я в Америке вообще не была, я в первый раз! Я и прыгаю — вот нежданно-негаданно, такой сюрприз, американские каникулы, наконец-то и я восполню пробел, все уж по пять раз туда смотались, а я… — как это, не была в Америке?! — стыдно сказать. Честно говоря, и не мечтала, и не хотела. И в давние, доперестроечные времена, во «время желаний», когда каждая поездка была чудом и предметом зависти, мои мечты ограничивались своим континентом и в основном — с опозданием, — но исполнялись. «Увидеть Манхэттен и умереть» — и в мыслях не было, потому что самой близкой из всех заграниц для нас всегда были и остаются Штаты. Благодаря кино. Еще и телевизор, и радио, и доллар. Виртуальная Америка так крепко и незаметно вживлялась в сознание, что еще до наших «Макдональдсов» и супермаркетов, до отъездов-приездов друзей и знакомых я с полным равнодушием заявляла: «Да чего я там не видела?» Однако вот лечу, раз выпала удача, хлопочу, как водится, перед дорогой, надуваю паруса странствий… А они что-то не надуваются. Там у них везде ветер, вроде тепло, но холодно. Межсезонье — что взять с собой? И нигде не курят, выгоняют на улицу. И напряжение у них сто десять, так что наш кипятильник… А зачем кипятильник? В хорошей гостинице… вот она — в путеводителе — прямо напротив Центрального парка, в пяти минутах от Линкольн-центра, отличная гостиница… Нет уж, кипятильник нужен всегда! По счастью, у брата моего нашелся американский кипятильник. И ничего смешного — этот прозаический предмет, комический герой рассказов о русских за границей, на самом деле достоин хвалебной оды, ибо он дарит нам маленькую человеческую свободу. «Вот ты и человек, — говорит он с ласковым бульканьем, — можешь не спускаться в ресторан, хоть в ванну лезь, хоть говори по телефону — свобода выбора… Знаю-знаю, что вам, людям, нужно». Когда мы, рабы вредных привычек, пересекаем часовые пояса в некурящем самолете, нам следует впасть в детство, по крайней мере, в отрочество. Мне почти удалось. Отсюда и философические мысли о разнице между самолетом и кипятильником. И обнадеживающая догадка: если я здесь сова, то там я буду жаворонком! Может, мы все, совы несчастные, родились не в том полушарии? Всех сов — туда а тамошних сов — сюда, и готово дело — нервная система человечества молодеет на двадцать девять процентов все вскакивают без будильника и поют: «Нас утро встречает прохладой»… Я стану ревнительницей здорового образа жизни, я стану, как те бодрые американские старушки, что неутомимо путешествуют. В Китае, например, сама видела — хором всей группой, за завтраком учат китайский язык… Давно я вышла из возраста, когда мечтают начать все с чистого листа, сбросить надоевшую скорлупу и проснуться вдруг другим человеком. А тут волей-неволей: не покуришь девять часов, и ничего — живая! Может, это уже и не я? А веселый некурящий жаворонок? Вот негр стоит, седой и величественный. «Да будь я и негром преклонных годов…» — само собой проносится в голове. Чур меня, долой «этих строчек тыщи» и все, чем набита моя голова, долой! И не «негр», простите, а «афроамериканец». Оказалось — мы уже за границей. По этому негру и проходила граница. Погрузились в лимузин с окнами в потолке. Производит впечатление. Когда смутные предместья сменяются небоскребами, на ходу кажется, что скалистые горы сейчас на тебя обрушатся. А внизу — бар, бутылки-баночки, фужеры-стаканчики позвякивают, сверкают, приветствуют тебя в Новом Свете — ну прямо-таки с восточным гостеприимством… Не до бара полусонным пассажирам, он остался нетронутым, а может, и был бутафорским? Зачем люди летают? Вот была я когда-то в Северной Корее, в этой невероятной, невозможной, заколдованной стране. И поездка была утомительная, затянувшаяся, бестолковая. Но, изнывая на краю света в ожидании самолета, что само по себе — раз в жизни — полезно, вдруг увидишь мир с «обратной точки», словно из космической невесомости, вырвешься из своей центропупии «Земля — Кремля» и хоть на одну бессонную ночь, слоняясь по номеру, в котором побывал Ким Ир Сен, пугаясь своего отражения в зеленоватых корейских зеркалах, поймешь всей кожей, не умом — «есть многое на свете, друг Гораций», кроме тебя, друг Гораций, и кроме Москвы. Которая — по возвращении — оказалась такой похожей на Пхеньян. До сих пор напоминает. Вот за чем люди летают — за новой точкой отсчета. Закосневшим в «патриотах» и «западниках», слабо нам стать «землянами». В женском роде вообще смешно: выходит, я землянка? Занятное слово. Как часто в русском языке подводит женский род! Он — «гражданин мира», он — «председатель земного шара» а «гражданка» едет в зощенковском трамвае. Так и тянет впасть в лингвистический феминизм, но удержусь вернусь к теме: за свежим взглядом люди летают, за обновлением ума, за самоидентификацией, конце концов, выражаясь по-научному и в духе времени. В Нью-Йорке никакого такого «улета» не случилось игры мои дорожные в «я — не я» пришлось тут же забыть: поездка наша была чисто ностальгической — со старыми фильмами — и короткой, и она во всех отношениях удалась. Удалось мне и продлить ее на несколько дней и пожить дома — «как дома» — у друзей моих Беломлинских, в их квартире, так похожей на ленинградскую их квартиру, но — в Квинсе. Мы не виделись двенадцать лет, но будто и не расставались. В первый вечер ретроспективы посмотрели «Монолог» Ильи Авербаха, очень питерскую картину очень ностальгическую и знакомую — наизусть — и уже забытую, и не стоило больше предаваться воспоминаниям — фильм их заместил, там и так в финале зрители плачут хором над счастливым примирением деда и внучки, и нам было о чем поплакать, но мы пошли приветствовать Михаила Андреевича Глузского, выпивать, не узнавать знакомых, договариваться о встречах и продолжать праздник в переполненном, шумном «Русском самоваре». И не стану я рассказывать, как проносятся стремительные нью-йоркские каникулы, вы ведь там бывали, и не раз? И столько встретили «своих», что чувствовали себя как дома? Замечу, кстати, что публика на наших конференциях и просмотрах была не сплошь из эмигрантов, которые якобы тоскуют по родине, но наполовину из любознательных американцев, и вопросы их были совсем не глупые, с большим знанием дела вопросы… По-моему, за десять лет произошел какой-то информационный скачок, и причина тут не в политике и не в средствах информации, а в миграции населения, много русских газет в Америке, потому что есть кому их читать. Хорошие и разные фильмы 1960-х были в нашей программе, и первый же вопрос был: «Как же так случилось при вашей пресловутой цензуре, может, творцам и нужен ошейник?» Но я не пишу отчет о поездке и с благодарностью ко всем, кто нас принимал и опекал, перехожу к сугубо частной жизни и именно к тем редким моментам, когда я оставалась одна, наедине с Нью-Йорком, научилась кое-как пользоваться его некрасивой подземкой и исподтишка — там неприлично кого-то разглядывать — все-таки разглядывать туземцев. Откуда я взяла, что они все там улыбаются? «Американскими улыбками», к счастью, никто не одаривал даже на Манхэттене. Да они вообще не смотрят, и бегут резвей, чем в Москве, а трудовой люд в поездах такой же хмурый и усталый, как в нашем метро, только разноцветный. Всех цветов и рас, и не поймешь, кто есть кто. А зачем понимать? Вот в чем вопрос. Ну конечно, когда едешь в Гарлем и вокруг сплошные афроамериканцы, то есть негры, а мы с Сашей Свиридовой — вызывающе белые, расовое меньшинство, тут уж заведомо знаешь, что не понимаешь ничего, никого — кто из них кто и откуда, и какой? То, что мы знаем здесь и без слов — по облику первого встречного. А улица в Квинсе, что вела к метро, совершенно индийская: благовония, золото, шелка, и шлепают в домашних тапочках безмятежные «лица с цыганским оттенком». Стараюсь не глазеть. Не этнографический музей, а немытые лоточницы, «лимита»! Где-то они живут, ютятся, рожают — уже американцев — и счастливы тем, что здесь. И не у кого спросить дорогу. Ищешь старожила, а они проносятся в своих автомобилях, попрятались в квартирах и офисах, а в подземке любезная негритяночка долго изучала со мной карту Нью-Йорка, и вижу — она читать не умеет, разбирает по слогам. Ее американский — разговорный, ей и не надо знать грамоту, и вдруг, окончательно заблудившись в подземелье, я открываю страшную тайну человечества: мы более животные, чем кажемся, и если сбросить затейливые покровы родных языков, обходиться только мимикой и жестами — «твоя — моя — понимай», — мы, может, лучше понимали бы друг друга. Пришлось признаться Вике Беломлинской, что становлюсь, кажется, расисткой. Не из врожденной «белой» гордыни — какая уж там гордыня без языка! — а просто потому, что люблю понимать окружающее, а без понимания мне тревожно и страшно, как в страшном сне. И Вика рассказала по этому поводу: когда они приехали, ее младшая дочь подружилась в школе с какой-то девочкой, и Вика случайно спросила: «Она черная?» На что получила суровую отповедь: «Никогда такие вопросы не задавай!» Вика, разумеется, учла урок, а теперь, по месту работы общаясь с самой разной публикой, на своем плохом английском, с чужим плохим английским, приспособилась вполне к этой жизни. А можно и вовсе не знать языка, существовать в своей диаспоре. Примериваю на себя — я бы так не смогла. И в молодости не смогла бы. И скверный привкус зависти к тем, кто может, смог, не покидает меня. Я не хотела бы жить в этом городе на семи ветрах, в этом экспериментальном поле будущего, быстро чернеющего человечества, и зависть моя другого рода: будто недодали чего-то от рождения — «сверчок, знай свой шесток»! А допотопным, физиологическим патриотизмом перегрузили. Москва не принимала самолеты. Покружились над ней и полетели обратно в Хельсинки. Мечтала по пути домой — надо устроить себе московские каникулы, пожить, как в гостях, любознательной иностранкой — ведь на Поклонной горе даже не была… Когда-нибудь побываю. А вот приехала Люда Штерн из Бостона — она где только не была! Издала тут красивую книгу про Иосифа Бродского, которую я с удовольствием читаю, и вот наткнулась на любопытное письмо. Иосиф, прожив года три в Америке, инструктировал Штернов, туда собравшихся: «Одну вещь следует усвоить насчет Штатов. Никакая ситуация (работа, место жительства) здесь не является окончательной. Дело не только в том, что прописки нет: нет и внутренней прописки. В среднем раз в три года (вообще чаще, но для тебя пусть будет раз в три)американ грузит свое семейство в кар и совершает отвал куда глаза глядят… Во всяком случае, к любому поступающему предложению следует относиться как к временному явлению. А у русского человека хоть и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь. От этого — хотя бы чисто умозрительно — надо поскорей отделаться, а то потом нерв сильно расходиться будет… …Что касается инглиша, то три месяца перед теликом сделают свое дело лучше всяких курсов Берлица — и вообще, запомни, что иностранных языков как таковых не существует: существует другой фонетический ряд синонимов» [6]. Возвращение мое обратно, из жаворонков в совы, стало тяжелым и продолжительным, как болезнь. Открывшийся там расизм удалось упрятать на его позорное место: может, и рас как таковых не существует, и куда существенней наши птичьи различия — между журавлем в небе и синицей в руке, между уханьем совы и пением жаворонка… «Летят перелетные птицы», а «где-то плачет иволга, схоронясь в дупло…» «Искусство кино», № 4, 2001Американец Парамонов и «низкие истины»
Эта статья была написана для журнала «Искусство кино» семь лет назад. Сейчас она требует предисловия и примечаний. Не потому, что время прошло, а потому что журнал «ИК», и особенно эта рубрика — «комментарии» — с вольными эссе на любые, далекие от кино, темы — предназначены для узкого круга, для тех, кто знает, кто такой Борис Парамонов, слушал по радио его «Русские вопросы» и читал его сборник «Конец стиля». Одна статья в этом сборнике называется «Американец Розанов». Вообще Парамонов любит парадоксальные названия — «Русский человек как еврей», «Моцарт в роли Сальери». Отсюда и моё название. Процитирую Парамонова: «Интерес Розанова к вопросам пола, собственно и создавший на девять десятых славу этого писателя в России, оказывается, таким образом, не причудой индивидуального вкуса, а разведкой путей будущего человечества». То же можно сказать и про самого Парамонова. Его называют «мастером интеллектуального эпатажа», последователем Розанова и Шкловского. Я не помышляла писать рецензию на его книгу хотя она не оставила меня равнодушной, чего автор и добивался. Прыгая по кочкам и ухабам его азартных провокаций, я часто отвлекалась на свои грустные кинематографические мысли и собственные «русские вопросы». Заметки мои плохо укладывались в отпущенный журнальный формат, они потребуют примечаний и разъяснений, я буду помещать их в скобки. А начну с извинений. «Литература о литературе о литературе» всегда была мне как-то подозрительна, напоминала известные строчки Николая Заболоцкого:Шкловский в старости часто плакал. Однажды на семинаре в писательском доме «Дубулты» под Ригой мы стали Виктора Борисовича расспрашивать про книгу Валентина Катаева «Алмазный мой венец». Тогда ее все обсуждали, пытаясь уточнить прототипы кто под каким именем зашифрован — где Есенин где Мандельштам? Сначала Шкловский что-то отвечал объяснял, а потом вдруг заплакал и прямо со сцены проклял Катаева, прорычал что-то вроде — «нельзя же так!» — и не смог больше говорить. Его увели под руки. Мы притихли, но не расходились. «Они живые!» — кричал мальчик в пьесе Розова — про рыбок, выброшенных за окно. И вот великий старец, бывший боксер, эсер, «скандалист», как окрестил его в своей книге В. Каверин, предстал перед обомлевшей аудиторией тем самым розовским мальчиком. Для него они были — «живые!» — через пятьдесят лет, и ему было обидно и больно за тех, кого походя унизил «этот бандит Катаев». (Хотя Катаев дал своим героям другие имена или прозвища, но это еще больше разжигало любопытство). Через полчаса Шкловский вернулся на сцену, и больше его про «живых» не спрашивали он окунулся в историю и со своей гуттаперчевой улыбкой инопланетянина доказал нам, как дважды два, что до Шекспира никакой любви не было вообще, любовь выдумал Шекспир, и люди в нее поверили. Из всей дискуссии вокруг «Алмазного венца» — а сколько было наговорено, написано — можно ли из реального человека делать персонаж, и когда — «уже можно» а кому — вообще нельзя? — из всей той высоколобой, ожесточенной дискуссии мне запомнились только слезы Шкловского. Вспоминаю и записываю, ничтоже сумняшеся. Ну, а если это сценарий, если снять этот выразительный эпизод для кино? Не дай бог! Кто будет Шкловского играть? Он был уникален, и никакой «двойник» его не заменит. А публика любит «биографические фильмы», и они повалили на телеэкран как из рога изобилия. С частной жизнью известных персон можно делать что угодно — они на том свете и беззащитны. Публика повсеместно ловится «на живца» и готова смотреть даже такой кич, как про Айседору Дункан или про Коко Шанель. Выходит, я одна «иду не в ногу». Мои этические «табу» были самыми строгими. Да что там этические — просто не могла смотреть на «чучела» — даже и Льва Толстого в известном исполнении С. А. Герасимова, даже и Ленина, хотя помню, как добросовестно «вочеловечивал» его мой учитель Габрилович для режиссера Юткевича. Было, впрочем, исключение — фильм «Шестое июля», стилизованный под хронику, и там Спиридонова, сыгранная Аллой Демидовой… До костей пробирало, и верилось… Но тот фильм Ю. Карасика — не биографический, не о персоне, а о событии, иной центр тяжести. Значит, все дело в том — как? В каком жанре, стиле? (Я сдавала свои позиции постепенно. Уличала себя в ханжестве: «мемуары, письма — читаешь?» — «Еще бы, только их и читаю!» Пробираться в закоулки чужой частной жизни — да кто ж этого не любит? По — наедине, с книгой в руках, а когда ее адаптируют для экрана, то есть для массового употребления — увольте! Не все, что позволено на бумаге, позволено и в кино. Это разные «знаковые системы», разные способы восприятия. Тут лежит тема для целой диссертации, но мне ее не осилить, и даже под влиянием Парамонова я не впала в теоретический зуд и продолжала свои субъективные заметки.) Помню, в детстве (скорее, в отрочестве, классе в восьмом) мы с подругой нашли в каком-то пыльном сундуке книгу неизвестного автора, где научно доказывалось, что все великие люди были сумасшедшими. Титульный лист был вырван, и имя автора аккуратно вырезано с нижних полей. Как позже выяснилось — не случайно: это был Макс Нордау, а за немецкую книжку в войну могли и посадить. Мы взахлеб читали про патологию гениальности и не задумывались — откуда автор берет подробности из жизни поэтов и композиторов ХIХ-го века. Но что-то неприятное, несправедливое уже тогда ощущалось в той запретной книге — уж больно автор старался подогнать всех под свою концепцию. Мы тогда смотрели много биографических фильмов из жизни «замечательных людей», и особенно мне нравился фильм «Мичурин», и в голову не приходило поверять его правдой. Уже и тогда ползали слухи, что Мичурин никакой не великий ученый а наоборот — своими опытами все русские яблоки перепортил, но это ничуть не мешало. Мичурин, что у Довженко, и какой-то реальный садовод из города Козлова — это разные существа, и детское сознание напитанное сказками и «житиями великих», легко разводило поэзию и правду. Так что, надо признать, аллергия моя на «чучела» — не врожденная, а приобретенная, от культурного опыта, от неореализма, от чисто «киношной» привычки все воображать на экране. Я работала с В. А. Кавериным над «Открытой книгой». В основе этой романтической, для отроческого чтения книги лежит реальная история, реальные трагедии, близко касавшиеся Вениамина Александровича. Когда он дал мне прочесть истинные документы вокруг пенициллина — потускневшие хрупкие бумажки, записку на папиросной бумаге — из тюрьмы, целую папку казенных отписок — по делу Захарова, по делу Зильбера — я сломалась, я не могла больше открыть «Открытую книгу» и громоздить этажи лжи для актрисы Л. Чурсиной и режиссера В. Фетина. Только изумлялась — как он-то, В. А. Каверин умел преображать правду в поэзию? Он-то знал всю подоплеку, но, видимо, соцреализм — не только веление времени, но — качество души. Там, у Каверина, нет, конечно, реальных имен, там чистая беллетристика, «игровое кино». Оно в конце концов и получилось, после долгих препирательств с Госкино. Хотелось внести туда хоть толику правды. А Каверин снисходительно посмеивался: «Учитесь у меня, у меня нет ни одной ненапечатанной строчки». А я не могла смотреть этот фильм и стыжусь до сих пор своего в нем участия. Почему вспомнила? Вот читала одновременно, попеременно — «Конец стиля» Бориса Парамонова и «Низкие истины» Андрея Кончаловского. Ничего общего между этими книгами нет, кроме одной темы — «открытие Америки», но она слишком обширна, чтобы здесь ее обсуждать. То, что в моей отдельно взятой голове сложился такой треугольник — Парамонов, Кончаловский и «Америка-разлучница» — случайный, допустим, факт, но они лежали на одном прилавке, у них наверняка будет много общих читателей, и я поместила их в одно название не по общности американской темы, а потому, что в «Низких истинах» не обнаружила никаких следов «низких истин», зато Парамонов в своем занимательном литературоведении высекает их из всего. Особенный скандал вызвала «Солдатка», статья о Марине Цветаевой, напечатанная в «Новом русском слове» в Нью-Йорке, возмутившая русскоязычных критиков. Я прочла их горячую дискуссию в Нью-Йоркском журнале «Слово» («Word»), еще не читая самого текста «Солдатки», и решила — не поддамся их убедительному красноречию, все равно я Парамонова люблю! Хоть и не видела никогда. Но — слушаю. А «женщины любят ушами» — напомнил как раз А. Кончаловский старую истину. Досадую, когда пропущу какой-нибудь «русский вопрос». Вот недавно услышала «Блокову дюжину», с энергичной концовкой: «Россию нужно развести с Блоком. Он ей не муж». Ну да, заступиться за Любовь Дмитриевну давно пора, а психоанализом вокруг Блока и семьи кто только не занимался, но вот вопрос — при чем тут Россия? Как это случилось, в какие времена — во всяком случае задо-олго до Парамонова — Россию включили в семейно-любовные страсти, и всегда — исключительно в женском обличье. Тут Блок особенно постарался: «лирическая величина» и — «слопала-таки родимая, гугнивая матушка-Русь, как чушка своего поросенка» — это все помнят, и так затвердело в уме, что только научные термины, длинные иностранные слова медицинского назначения, что Парамонов вдруг впрыскивает в свой поэтический текст, такие, например, как «репрессированный гомосексуализм» — тормозят внимание, заставляют задуматься — а почему, собственно, мы наделяем место своего рождения и обитания половой принадлежностью? По названию женского рода? Так все европейские страны — женского рода, но вряд ли кто-нибудь из норвежцев или итальянцев так часто поминает «Родину-мать», любят ее, «как невесту», жену, «но — странною любовью». Это чисто мужская система координат, солдатская, милитаристская. Все мы живем при патриархате, но привычно этого не замечаем, как то, что «говорим прозой», но почему-то именно русским (отчасти и немцам) свойственна эта сентиментальная гигантомания. «…Чтоб мог в родне отныне стать» — написал Маяковский в поэме «Про это», — «отец — по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать». Продолжая эти романтические метафоры до взрослого разумения и ниже, любую страну следует считать гермафродитом, ибо человечество состоит из мужчин и женщин. Договоримся о среднем роде — «Отечество»! И улыбнемся. На плакате «Родина-мать зовет!» нарисована баба, и не надо ходить далеко за Фрейдом, чтобы понять, как по-разному впечатывались эти картинки в подсознание мальчиков и девочек. Несколько лет назад, когда до нас дошел западный феминизм, мы обнаруживали повсюду — в языке нашем, во всей культуре — эти устойчивые «сексистские» сцепления. А Борис Парамонов знает толк в феминизме, и первое, что мне хотелось прочесть в его сборнике, это статью «Воительница», про нашумевшую книгу Камиллы Палья «Сексуальные маски» (или «Личины» — предлагает он более точный перевод). Это сочинение по истории искусства, но, как пишет Парамонов — «…книга Пальи попала в феминистский контекст, чем, собственно, и был вызван главный скандал, приведший к таким происшествиям, как пикетирование лекций Пальи в одном из филадельфийских вузов, где она преподает. Ее позицию иногда называют „антифеминистическим феминизмом“. Палья считает себя феминисткой, но нового типа: она призывает к соревнованию с мужчинами на культурном поле, а не к борьбе за покровительственную социальную политику в отношении женщин». Когда эта книга до нас дойдет, и дойдет ли? Я стала читать «Воительницу», где Парамонов обильно цитирует Палью, за что ему отдельное спасибо, но — каюсь! — устала от его безграничной эрудиции, отложила, так и тянуло на «Солдатку». Что же можно сказать про Марину Цветаеву, вдоль и поперек прочитанную, все о себе рассказавшую, чтобы вызвать скандал? Можно, оказывается, Парамонову удалось. В последнем абзаце читаем: «Марина Цветаева — сама Россия, русская земля и — одновременно — гибель ее и разорение. Это от нее, от матери-земли, в ужасе и отвращении разбегаются сыновья». Таким пафосом меня уже не проймешь, и по «Свободе» слышно, как Парамонов пристегивает свою всеохватную ученость к «русским вопросам», да и во многих статьях он делает это прямо и открыто, и всегда — интересно, но здесь, в «Солдатке», дух захватывает от его открытий. Первая же фраза: «У Цветаевой, сдается, легче понять самый трудный текст, чем основополагающий биографический сюжет — факт ее самоубийства. Этого факта не должно было быть, он не укладывается в наше представление о Цветаевой…» С какой высшей точки — трудно понять? Все, читавшие ее письма, умирали «в уме своем» вместе с ней и раньше, до Елабуги, изумляясь, как она-то дотянула до войны, до Елабуги, до сорока девяти? Единственное самоубийство, не оставляющее тайн, неизбежное, обязательное. При ослепительной ясности ума — судя по предсмертному письму, что действительно странно — в последней стадии нервного истощения. Но Парамонов творит свою Цветаеву «по-над бытом»: «Цветаева быта не замечала, быта для нее не было, быт и был — небытие». Не хочется вырывать цитаты, но придется: «…Самоубийство ее было — захлеб жизнью, попросту — подавилась; …заглотнула слишком большой кусок. Чрезмерность — в ее стиле. Бытийная жадность: все впитать, все, попросту, съесть. Возникает мифологический образ Природы как порождающей — и пожирающей! — Матери…» После тяжелой артиллерии доказательств и оговорок — «поэтому здесь неуместен никакой психоанализ, и я отнюдь не этим занимаюсь», автор переводит Цветаеву в разряд мифических чудовищ, не людей, а чудес: «Случай Цветаевой — ни нормы, ни личности. Цветаева — не личность, она — архетип, миф». Стало быть — все позволено, и Парамонов как раз приступает к психоанализу, призывая в свидетели то сестру Марины Анастасию, то Пастернака, то тексты самой Цветаевой, и как-то незаметно подводит к сладкому слову — «инцест», и как-то непонятно, воспринимать ли его буквально, или как подавленное влечение к сыну, или вообще как метафору — все годится, если героиня — миф. Зато публика ошарашено пятится — «позвольте, так было или не было?», и в меру своего буквоедства и сексуального свободомыслия бросается листать дневники и письма — «стоять со свечой». Тут я и вспомнила слезы Шкловского. «Они же живые!» — для меня. Я не всю поэзию Цветаевой люблю и перечитываю, но — письма, но — прозу — читаю как лично ко мне обращенное послание. Там все написано — про этот самый быт — на грани отчаянья и за гранью, про долги и кастрюли, баранью голову, что кипит на чужой плите чужого дома, и разъехавшееся единственное платье, и про трудных детей, и про больного мужа, там все описано без затей и прикрас, простыми словами. Там, в письмах, хорошее воспитание — сдержанность и достоинство, и вежливость в «готовых формах», и — правда, только правда, навязчивое, почти толстовское желание всю себя объяснить — берут верх над юношеской одержимостью, над с детства запланированным мятежом. Парамонов замечает: «Необычность Цветаевой в том, что ее искусство — это прямоговорение. Я бы не стал искать у нее иносказаний». По-моему — ровно наоборот: искусство ее — сплошь иносказание и «кривоговорение», даже в самых пылких строках хрестоматийных «попыток ревности», в навязчивом «бытоборчестве» и декларативной свободе страстей, там всегда — не она, лирическая героиня почти нигде не совпадает с ней, бредущей с «кошелкою базарной». Какое счастье, что сохранились письма, статьи и черновики, и можно прочесть Цветаеву целиком, как «роман в стихах» или «поэму в прозе». Можно сложить этот роман подряд, по дням, но никто еще не проделал этой титанической работы. Цветаева нам открывалась постепенно, и для меня, как образ, открылась в изумительных строчках Мандельштама: «Полюби мою речь навсегда за запах несчастья и дыма, за смолу кругового терпенья и совестный деготь труда…» Он писал о себе, а я вижу ее, собирающую табак из окурков, чтобы ночью взять реванш за «круговое терпенье» дня.
В прошлом году вышел двухтомник «Дневники Георгия Эфрона» — того самого «Мура», сына Цветаевой, чье имя склоняли на все лады, иногда даже как виновника гибели матери. А этот мальчик записывал свой каждый день и почти каждый час. Вот где «прямоговорение»! Весь ужас их московской жизни, когда отца и сестру уже посадили, а они скитаются по чужим коммуналкам, и некуда перетаскивать вещи, и завтра могут вышвырнуть вообще, и мать — «непрактичная», не умеет продавать привезенное на продажу, однако Мур всегда накормлен и щеголяет во всем французском, и ходит в концерты, и жадно ищет общества, друзей, и жадно верит — наивный французский юноша, не по годам начитанный, — что все будет хорошо, что «временные трудности» они преодолеют, только нельзя унывать. Как он стремился стать «советским», отсечь Францию насовсем! Эти дневники невозможно читать. От них нельзя оторваться. Парамонов этих дневников еще не читал, хотя знал об их существовании. Читал он только письма военных лет, уже тогда изданные малым тиражом, и приводит оттуда сообщение Мура о самоубийстве Марины. «…Скажу только, что она была права, что так поступила, и что у нее были достаточные основания для самоубийства: это было лучшее решение, и я ее целиком и полностью оправдываю». Вокруг этих писем вечно голодного юноши шестнадцати-семнадцати лет Парамонов и строит свои спекуляции. «…А почему, собственно, Мур не желал жить с матерью, не мог, буквально, ходить с ней по одной земле? Почему их отношения должна была разрешить только смерть?» И рядом, на другой странице: «Вместо матери была „мачеха“ — Федра. Реакция Георгия на мать была типичной реакцией ребенка, подвергаемого сексуальной эксплуатации, инцесту. Нужно ли это доказывать? Это нужно увидеть, „герменевтически“ узреть…» Пожелал он «узреть» греческую трагедию там, где хватило бы одного только «квартирного вопроса»; «ходить по одной земле» — или тесниться в чужом углу с сундуками и примусами, с загнанной, полусумасшедшей матерью? Кто бы вынес? Парамонов в «Солдатке» не захотел это «узреть», заслонился от очевидного — невыносимого. Побрезговал «ползучим реализмом» ради своих интеллектуально-филологических затей. Теперь, когда я редактирую старую статью, уже от-плакавшись над дневниками Мура, трудно даже вспомнить, чем разозлили умопостроения любимого Парамонова — это же просто чтиво, беспардонное американское чтиво, чисто «игровое». Сейчас все читают «Код Да Винчи» Дэна Брауна и ничего, только истинно верующие христиане негодуют. В той же статье «Воительница» Парамонов разъясняет: «Книга „Сексуальные маски“ была бы бесспорной, если б автор осознал и подчеркнул ее игровой характер. Она была бы вне претензий в качестве „игры в бисер“, чем, в сущности, и является. Но Камилла Палья, кажется, не всегда это понимает, она говорит слишком всерьез, утрачивая необходимое в таких ситуациях чувство юмора, — в чем ее и упрекали уже рецензенты; для людей англосаксонской традиции это принципиальный недостаток». Вписался Парамонов в англосаксонскую культурную традицию, и я бы не утратила чувство юмора, когда бы не Цветаева, родная, как бабушка, и мальчик ее, оставивший по себе бесценную, уникальную Книгу, таскавший в военном рюкзаке томик Малларме… Но вернусь к своей статье.
…В общем, «игровое кино» — Парамонова, а документ — Кончаловского, всю жизнь снимавшего игровое кино. Исповедальная книга, очень своевременно, нужно про себя все самому рассказать, оставить свидетельство из первых рук, а то ведь по сплетням разнесут и сконструируют потом мифическое чудовище. Жанр «чистосердечных признаний» вообще нынче в моде, и такая увлекательная биография на прилавке не залежится, но каждый читатель — в силу нашей вековой недоверчивости — станет искать в ней «черные дыры» и «белые пятна» — не может же быть у нашего талантливого человека все «о'кей», да еще в нескольких поколениях. Автора и самого это как-то смущает, он будто оправдывается за свое благополучие, за отъезд в Америку — не на «сладкую жизнь», на преодоление и унижения. «Огорчительно, — признается он вдруг серьезно и простодушно, — что теперь надо думать и о своем имидже. Сегодня упаковка важнее содержания». Что ему-то беспокоиться? Теперь, к счастью, мы часто можем видеть Андрона по телевизору, слушать по радио, он всегда говорит что-то содержательное, обаятелен, уравновешен, снисходителен, как и положено победителю. Вернулся признанным мастером, получил недоданные когда-то награды, снимает кино. Однако вся книга пронизана каким-то беспокойством, кончается главой «Печальные размышления», и, кроме «русских вопросов» и всемирных тревог о путях человечества, пробиваются и чисто личные тревоги: «…и по сей день ощущаю, что никогда по-настоящему не сделал этого, не снял своей лучшей картины». Я поняла, что читаю эту книгу взамен недоданного мне кино. И не только мне — всем, кто читает такие книги. Тут Кончаловский (Андрон Михалков, как назывался он во ВГИКе) — безусловно, должник. Однажды на режиссерском семинаре в Болшево еще не уехавший в Америку, но уже мэтр, он вел то, что теперь называют «мастер-класс», раскладывал по кадрам, по паузам и репликам «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, и так он здорово показывал, как нужно снимать такое кино, что я, заслушавшись, подумала: «Вот сам бы и снял „такое кино“, кому, как не ему?» Но он шел другим путем, а у нас эта ниша так и осталась пуста, своего Бергмана так и не случилось. Теперь уже никто не отважится на такое подробное, естественное, честное кино про людей, без эффектов, реприз и госзаказа. Да, я пристрастно читала эту книгу. В ней есть больная тема: отношения с Тарковским, их дружба и разрыв. С тех пор, как Тарковский объявлен классиком — хлеб насущный для историков кино. Но легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Кончаловскому сказать то, что он на самом деле по этому поводу думает и чувствует. Сто раз, наверно, приходилось объяснять, но тут корректность(«упаковка») заметней содержания. И мне было бы что добавить про свое понимание этого деликатного вопроса, но — начитавшись Парамонова — не стану домысливать за персонажей. Заразительная книга «Конец стиля» в конечном итоге дает обратный эффект: одно дело — анализировать «амбивалентное индивидуальной психики» Камиллы Палья, нам неведомой итальяно-американской, — это пожалуйста дело профессорское, и совсем другое — когда споткнешься о родную Цветаеву, чья жизнь по картинкам, по кадрам в глазах стоит. Тогда не прощаешь «игровой филологии», игры в «Солдатку». Дочитывая «Печальные размышления» Кончаловского, сама предалась печальным размышлениям. Этот режиссер всегда заботился о массовом зрителе, искал всенародного, всемирного признания, снял много-много фильмов, и все разные, и все — «классные», а тем временем его потенциальный зритель уходил и ушел к Тарковскому. Его изучают, он входит в «джентльменский набор» каждого интеллигента, иногда просто как имя, знак времени, предмет культа. И это мне очень печально. Как быстро время громоздит эти культы, и всем современникам приходится жить в их тени, в тени имен. Процесс возведения в культ — сам по себе уже сюжет, и уже не новый. Человечество словно забыло — «не сотвори себе кумира», и все глупеет по мере ускорения массовых коммуникаций… «Но это, братцы, о другом». А собиралась я поговорить о том, что можно и чего нельзя — по нашим старорежимным понятиям. Что можно — в книге, на бумаге, и нельзя — по радио, для всех, а тем более — в кино.
Мне пришлось отфильтровать старую статью, прямо скажем — наполовину переписать заново. За это время все попривыкли к этому безобразию — уже Брежнева нам показали в игровом кино, а его дочь непутевую — в документальном, и много других реальных лиц стало добычей телеканалов, и совсем не жалко, а просветительские передачи — лекции с фотодокументами и легкой реконструкцией — даже смотрю с удовольствием. Вот недавно про Томаса Манна смотрела. Так что почти уже «иду в ногу». «Человек привыкает ко всему, ко всему…» — написал Кушнер, тот, который — «Времена не выбирают»… 2005
«Страшные истории в детском санатории»
Прочла в «Искусстве кино» (2002, № 11) статью Михаила Трофименкова «Как я стал фашистом» и, как говорится, «не могу молчать». Статья — отповедь врагам, обозвавшим известного критика фашистом за то, что он, будучи членом жюри, голосовал за присуждение премии «Национальный бестселлер» книге А. Проханова «Господин Гексоген». Думаю, что многие смотрели «Школу злословия», где Дуня Смирнова и Татьяна Толстая с цитатами в руках и с полным досье на героя пытали нашего «господина гексогена» — А. Проханова, и что? Не дался, отплевался. Перезлословил одними комплиментами — бывалый боец, без «камуфляжа», без бронежилета — неуязвимый. Повысил рейтинг — и свой, и программы. Критик М. Трофименков тоже умело раскидал «врагов»-журналистов, едва ли «Гексогена» читавших, обвинявших его по принципу: «Ах, ты за Проханова — значит, фашист». Случилось так, что я прочла эту книгу от корки до корки, предварительно обернув толстой бумагой, чтоб не вздрагивать от устрашающей обложки, а теперь еще прочла в журнале «Знамя» (2002, № 10) превосходную статью Сергея Чупринина «После драки», где он как раз исследует — с именами и цитатами — всю эту интригу с печатанием Проханова в высоколобом издательстве «Ad Marginem» и последовавшую за сим свару, когда «буйная ватага критиков», как пишет Чупринин, «уже вышла на тропу пиара». Замечу — «пиар» уже пишется без кавычек. Что за зверь? Помесь пиявки с лемуром? Дурно пахнет, как скунс? Я его не видела, а кто видел? Я опоздала к скандалу и, хотя у меня есть что сказать об этом сочинении, в пиаре не участвовала, но — перефразируя поэта Левитанского — «я не участвую в войне, „пиар“ участвует во мне». В данном случае — Трофименков, ставший «фашистом». А я вот недавно познакомилась с живым фашистом. В поезде дальнего следования в одном купе мы с ним ехали. Бритоголовый крепкий парень. Он сразу — к слову пришлось — ошарашил: «А что? Я фашист. А что? Давить их всех надо!» (имелось в виду «черных, чурок, черномазых»). Я, как и вы, предпочитаю фашистов в телевизоре, а так — лоб в лоб, на двух квадратных метрах — не случалось. Не вступая в дискуссию, вышла покурить. Фашист оказался курящий и общительный. Выяснилось, он казак. Хотя и москвич. И не простой казак, а в чинах. Их казачье войско охраняет один из крупных московских рынков. Обещал и мне защиту, если кто обидит. Вежливый, улыбчивый, любитель породистых собак. Беседовали мы о собаках и об автомобилях. Фашист был «крутой», менял иномарки, как перчатки. Вообразила я себе их казачий рыночный рэкет, ну конечно, собирают дань с торгашей. Но не так все просто, мой казак-фашист с простым именем Михаил Сергеевич (в Конотопе на самой границе заглянула в его паспорт) сам страдал от поборов (он держит магазинчик у Белорусского вокзала), он ехал в Западную Украину по торговым делам. Превратился на глазах из лукавого балагура — «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» — в собранного господинчика с чиновничьим чемоданчиком «дипломат». Как-то не сходились концы с концами в этом персонаже, и я после слова «фашист» натягивала исторические параллели, свою интеллигентскую систему координат — ну да, «мелкие лавочники — сумасшедший фюрер»… пока не пришло в голову — а вдруг этот парень врал от начала до конца, сыграл перед случайными попутчиками пять-шесть ролей? Зачем? А так, для «прикола». Все они понемногу «прикалываются». В меру своего артистизма. Потому и словечко стало универсальным. Отмотала назад эти сутки, проведенные рядом с фашистом, и перевела стрелки на комедию благо приближались к румынской границе, после нищих украинских теток с варениками, подозрительных менял с гривнами и хамоватых таможенников сделалось веселей на душе, и в долгой паузе, когда колеса переставляют на европейскую колею, как не воспарить мыслями о своем умом не познаваемом отечестве? Вот Гоголь, бывало, так воспарит, что сверху видит все: продувных бестий, родных наших плутов Чичикова и Хлестакова — прапрадедов нынешних «лохотронщиков» и «пирамид» — и так, бывало, уморительно их опишет… Фашист сошел, я поместила его в кавычки и предпочла досочинять в «карнавальной традиции»: кем угодно он мог оказаться — «ментом» в штатском, барменом, шулером, артистом местной эстрады… Электорат Жириновского-Митрофанова. Те тоже «прикольные». Не случилось повода фашисту ответить за свой фашизм. А вот ровно за год до того в том же вагоне ехали рабочие-нелегалы из Черновцов. Нарвались при отъезде на милицейский рэкет, откупились — всем, что заработали (впрочем, на коньяк еще осталось), едва поспели на поезд и ровно сутки проклинали на весь вагон — не судьбу горемычную, а нас, проклятых москалей, Россию-сволочь: «Хоть бы вас всех Чечня взорвала!» Народ, включая проводников, безмолвствовал. И правильно делал. Нашлась прелестная украинка, не позабывшая язык, хотя давно торгует на Урале «гербалайфом», и укротила ласковой мовой бушующих мужиков. Тот, что поперек себя шире, тут же сделал ей предложение и стал ручки целовать, забыв, что она бабушка двух внуков, и забыв поднести ее сумку на выход. Пока мы с ней вытаскивали ее «гербалайф», она извинялась за соотечественников: «Они ж дети, совсем дурные!» Дурные дети позабыли, что я москалька, и стали звать в вагон-ресторан, принесли коньяк и продолжали бузить, пришлось делать вид, что я не ем, не пью, не сплю, сидеть в коридоре и вспоминать счастливые имперские времена, дорожные споры, простосердечных попутчиков, горевавших, что вряд ли коммунизм можно построить — «не весь же народ сознательный»… После путешествия с немытыми нелегалами тот крутой фашист показался мне приятным попутчиком. Хорошо, что они не встретились на узкой дорожке, а то бы взыграло, не дай бог, национальное достоинство — искры бы из глаз посыпались и окна в вагоне. А мое национальное достоинство? А мои антифашистские убеждения? Тупо молчали — и в том и в другом случае. И не то чтобы неохота связываться с придурками, но даже про себя, в глубине сознания не закипел «разум возмущенный». Пришло, видимо, «позорное благоразумие» — ни малейшего желания поговорить по душам с фашистом, посеять основы политкорректности среди братьев (по разуму) — славян. Осталось только отстраненное любопытство ко «всякой твари». А ведь приходится вразумлять студентов — поближе к жизни да посерьезней, ищите истоки и смысл конфликтов, непроявленные закономерности происходящего здесь и сейчас. Куда там, только ухмыляются, ищут жанровые уловки, только бы не обжечься об эту жизнь всамделишную. А может, ее и нет? Всю, какая есть, журналисты выбрасывают на телеэкран, а вдогонку — что о ней думать, проехали! В этом году я взяла билет в СВ и с собой нашумевшую книжку Проханова — не читать, привезти друзьям-славистам образец национального бестселлера. Полистала в дороге, что за чушь — тут и Ельцин с дочкой Таней, и заговор какой-то на заговоре сидит и заговором погоняет, и змей, опутавший Кремль… «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…» Сломался кондиционер, вагон плавился от жары, и в тяжелой дремоте чего не привидится… Змей на груди… Ехала с фашистом, ехала с националистами, теперь вот еду с «гексогеном», там у Проханова еще на животе у негритянки действие происходит… «Русалка на ветвях сидит» с Гусинским и Березовским под псевдонимами… Чур меня! Но случилась трехдневная непогода на прекрасном Дунае, и все русские книги кончились, и вот тогда я внимательно и вдумчиво, как едва ли кто из критиков, растягивая удовольствие, прочла эту «энциклопедию русского бреда». Свидетельствую: никакого национал-патриотизма, которым славен Проханов с его газетой «Завтра», нет в этом «бестселлере». Более того — мое подзабытое великорусское достоинство было всерьез уязвлено. Было бы, когда бы можно было читать это всерьез. Судите сами: один бывший разведчик на поводу у других бывших, вполне омерзительных коллег, участвует в таинственном заговоре и как приговоренный исполняет все порученные мерзости — от провокации и съемки прокурора с проституткой до убийств в правительственных кругах. За мерзостями автор далеко не ходил, все изрыгалось когда-то в СМИ, явные нестыковки прикрыты псевдонимами и буйством фантазии на манер триллера. Попутно прочесана вся российская действительность, от церкви до чеченской войны, от безумца, переделывающего старый «Москвич» в боевой самолет, дабы покарать змея, угнездившегося на Красной площади, до его дочери, оборачивающейся то проституткой, то монашкой, то сестрой милосердия. Короче, международная мафия б/у разведчиков некоему «избраннику» прокладывает дорогу в президенты. Когда бы писатель работал в сказовой манере и все народное мифотворчество вложил в уста хоть того же безумца так бы оно и читалось: «Сказка вздор, а в ней намек». Но книга начинается чинно-благородно в задумчивых ритмах русской прозы, предлагает реального героя такого родного автору — генерала в отставке Белосельцева, тоже собирателя бабочек, и читаешь сперва как взаправду, а тут вдруг такое начинается! Преподносят отрезанную голову… Не без участия нашего благородного, ищущего смысла и веры героя. Я не читатель «пестрых обложек», но, думаю, их авторы не морочат голову подлинными именами и узнаваемыми персонами, а Проханову все позволено: рядиться под документ, мешать истошно-пафосные речи со скабрезностями, грубое «фэнтези» с освежающими впрысками ненормативной лексики, когда военные атакуют чеченское село. Орут, ну прямо как живые. Нет, мы так не договаривались. «Взбесившаяся бетономешалка» уже намешала таких неправдоподобных чудищ, что простой солдатский мат торчит как нечто человеческое, слишком человеческое. Но не стоит так волноваться — это же все «прикол»! Один большой длинный марафонский «прикол». Автор играет с нами, как кот с мышками. Но позвольте, он же мизантроп, злоба хлещет из каждой строчки, разве бывает мизантроп-«прикольщик»? Значит, бывает. Чувства юмора — ноль, а поглядишь его по телевизору — даже остроумный. Так в том и «прикол»! Палить без продыха, с равным отвращением ко всему террариуму… Единомышленников, злоумышленников?.. Диагноз не поставить. Что это — паранойя? Или «косит» под психа? Такая вот «загадка тунгусского метеорита» вела меня по этому безразмерному бесконечному тексту. Ведь это ж надо сесть и написать — долгий тяжелый труд, столько дней и ночей в постоянном припадке. Или ему надиктовано свыше? Впрочем, был у писателя Лескова один псих что свое имя не умел дописать — «Константантинтинтантин…» (цитирую по памяти, но смысл ясен?). Словом, как неопознанное явление психики книга меня продолжает волновать. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — в самый раз для пытливого ума на досуге. Вспомнила: «Суггесторы (псевдолюди)»… Есть у меня небольшая книжица, такая желтенькая, во всех киосках продавалась — «Цивилизация каннибалов», с подзаголовком «Человечество как оно есть». Автор — Борис Диденко, последователь профессора Б. Ф. Поршнева и продолжатель его концепции антропогенеза. Не вдаюсь в научную часть, а тем более в геополитические и морально-этические рассуждения автора, мне запомнилась его «занимательная антропология» — он поделил человечество на четыре вида: суперанималы, диффузники, суггесторы и неоантропы. Женщины рассматриваются отдельно, в главе о гибридизации видов. Книжка такая же азартно-мизантропическая и всеядно-публицистическая, как у Проханова, однако бестселлером не стала, хотя читать ее, поверьте, намного интересней, чем «Гексоген». Не потому, что научная или «как бы типа того», но мешает некоторая вменяемость, искреннее морализаторство, различение, добра и зла. А «самое главное для суггесторов (цитирую Б. Диденко — Н. Р.) — это яркий успех, слава, не важно даже на каком поприще и какого качества, вплоть до Геростратовой. Хотя власть для них приоритетна, однако власть без славы, тайная власть „кардинала инкогнито“ чаще всего их не устраивает… И если суггесторам предоставляется возможность добиться быстрого успеха на альтернативном поприще, то они изменяют своим прежним устремлениям без малейшего сожаления». И еще из той же главы (с. 80): «Суггесторы и суперанималы зачастую отличные ораторы „трибунного типа“. Дело здесь в том, что речь для суперанималов и большинства суггесторов является пределом функционирования их мозга. Многие из них думают только тогда, когда говорят — сами с собой или же при стечении толп». Вот почему я вспомнила антропологию Б. Диденко! Эти бурные, неостановимые потоки монологов у Проханова, непохожие на человеческую речь вообще, не говоря об индивидуальных речевых характеристиках, — что за странность (для опытного писателя)? Ни малейшей заботы о правдоподобии, будто даже назло читающей публике. Кто из нас не баловался занимательной антропологией, классификацией человеческих типов? Мы когда-то играли в Большую Химию. Вот тот человек из натуральных материалов, а другой — с большим процентом синтетики, а бывает — но редко — весь синтетический. В жизни они попадаются, но описанию почти не поддаются. Вот и для этого «гексогена» нет слов, а формулы я не знаю — знает Большая Химия. Или Большой «Прикол». А что критика М. Трофименкова обозвали фашистом, так это даже смешно, и выражаю ему сочувствие, так как мы с ним теперь «два берега у одной реки» — кроме нас двоих эту книжку целиком никто не читал. И представляю, чего он еще начитался в жюри «Национального бестселлера». Там же сплошная «энергетика»! Так и хочется крикнуть: «Не влезай, убьет!»Обломок трех империй
Интервью
Сколько всего сценариев вами написано и сколько из них поставлено? Поставлено четырнадцать, а написано… трудно подсчитать. Иногда писала совершенно разные варианты, исходя из одной заявки. Примерно двадцать пять. А по каким причинам — как вам кажется — другие сценарии не были поставлены? Причины разные, но если вынести за скобки времена суровой и абсурдной цензуры, получится, что сама виновата. Бросала на полдороге, не умела довести сценарий до привлекательной четкости, надоедало, отчаивалась, легко выбрасывала свои труды. Иногда вспомнишь — какой был отличный сюжет, надо бы к нему вернуться — и никогда не возвращаешься. Тем более, другие сделали нечто близкое по теме. Так бывало много раз. Ведь мы работали в очень ограниченном пространстве, и оно все более сужалось. Мы называли это «щель». Смешно вспомнить — даже «Чужие письма» пришлось протаскивать в очень узкую щель, и не все удалось протащить. История наших компромиссов — кому это теперь интересно? Это уже история. А когда был поставлен ваш первый фильм? Какой опыт вы вынесли из этой работы? Первый большой фильм был «Крылья», режиссер Лариса Шепитько, а сценарий мы писали с В. И. Ежовым, он был напечатан под названием «Повесть о летчице». С Ларисой мы были ровесницы и дружили еще со ВГИКа. Боже, как мы ссорились, когда случалось вместе работать! До слез. Я часто роптала, я еще не научилась тогда подавлять авторские амбиции, но ходила за ней как тень и получила представление о режиссерской профессии. С чего для вас начинается написание сценария, каков первоначальный импульс — тема, сюжет, характер? Пожалуй, с центрального персонажа. Если есть характер, достаточно противоречивый, чтобы о нем было интересно думать, чтобы он не надоел, мог что-нибудь «отчебучить» — тогда дело пойдет. Иногда я поддавалась профессиональным соблазнам — придумаешь интересную фабулу, даже сюжет — вот он весь на ладони, только сядь и прилежно разработай, но нет — сценарий выдыхается, он становится каким-то неодушевленным, если нет Личности. Это можно уподобить легкому флирту и истинной, иногда мучительной любви. Для любви нужна личность, может, и не прекрасная, даже ужасная, но личность. А вы писали когда-нибудь по заказу? Что называть «заказом»? Те, что не по душе и не по силам, естественно, не берешь. Прежде я часто отказывалась от заказов, которые могла бы выполнить, а теперь никто ничего не заказывает. Я не стала таким гибким профессионалом, который может все. Но в чужих сценариях разбираюсь — чем они дальше от меня тем объективней вижу просчеты, могу давать советы. В этом смысле я как раз профессионал, прошла большую выучку в кино, способна воспринимать чужое и на бумаге, и на экране. А писать в соавторстве вы пробовали? Как по-вашему, есть преимущества у тех, кто пишет в соавторстве? Когда-то пробовала — с Валентином Ежовым, Владимиром Валуцким, Ларисой Шепитько. Но вообще я кустарь-одиночка. Хотя, вероятно, могла бы вписаться в общий сюжет, например, телесериала, со своим отдельным куском. Вообще кино это сплошное соавторство. Оно требует общения, обсуждения, и прекрасно, когда есть человек, которому можно показать даже свой черновик, будь это режиссер или просто друг. Пока был жив мой муж, Илья Авербах, я не могла оценить, как это важно: мы постоянно все обсуждали, спорили и ругались, но на одном, нажитом общими годами, языке. Для режиссера это вообще полдела — создать товарищество, группу единомышленников. Это как семья. Впрочем, я говорю о кино, каким оно было и пока остается — трудоемким, громоздким делом. Когда каждый сможет взять видеокамеру и снять что хочет — хоть свой дневник, хоть письмо другу, — кино станет принципиально другим, и мы живем на этом переломе. Мы отходим в историю, как паровозы. А до новой техники — не доживем. Но ведь хорошие фильмы не стареют. Как вам кажется — у вас были несомненные удачи? Вы любите пересматривать свои фильмы? Ни в коем случае, видишь одни просчеты. Но однажды мне представилась возможность оглянуться, составить некоторое о себе общее впечатление Я выступала в Казани, в Доме молодежи, там показали по несколько частей из «Голоса», «Чужих писем» из «Крыльев», из «Долгих проводов». Не то чтобы мне устроили бенефис, а просто там много любителей кино, и все режиссеры у них бывали, а тут они позвали драматурга поговорить на тему «Женщины в кино». И я смотрела с интересом фрагменты из своих картин, и что-то даже связное из них сложилось, галерея женских портретов — причем таких женщин, которых уже не будет. Так сказать, «Россия уходящая». Я осознала, чем я занималась и почему. А почему именно женщин? В предыдущих ваших интервью много говорилось про феминизм. Вы феминистка? Видимо, да. Хотя до сих пор никто не знает, что это такое, и ни в какой «тайный орден» я не записывалась, но теперь не отвертишься: газета «Семья» так и напечатала мое интервью под заголовком «Я феминистка!», хотя я собиралась его назвать «Патриархат с человеческим лицом». Но это особая тема для длинного разговора и к моему сценарному делу не имеет прямого отношения. Так совпало, что я работала не раз с женщинами-режиссерами, и главные героини были женщины. Но это не от хорошей жизни — не могла же я писать про директоров завода, секретарей обкомов и генералов, как требовалось во времена жесткого планирования кинематографа. А мы проскальзывали только под рубрикой «морально-этические» и получали упреки в «мелкотемье». Впрочем, это был сознательный выбор, во избежание слишком большого вранья. Потому и героинями оказались женщины, и не только у меня — во всем кино 60-80-х годов. Мужчины были в принципе «неотразимы»: он, предположим, работает в «ящике», а в оставшееся время стоит за водкой и выражается нецензурно — как его «отразить»? Я, к сожалению, реалистка, прятаться за жанрами сказки, или фантастики, или чистого детектива не умею, да и не хочу. Старалась избежать «ползучего реализма», но ведь кино всегда под сапогом у реальной фактуры. «Абстрактного кино» не бывает. А что вы называете «ползучим реализмом»? Отсутствие кинообразности, буквальность? Но ведь это больше зависит от режиссера. Да, конечно. Но и от сценария тоже. Даже от выбора персонажа, от характера, диалога. Я запомнила выражение Сэлинджера — «пропускает потоки поэзии». Он описывал одну даму, чья личность ну абсолютно не пропускала никаких «потоков поэзии». Есть люди изначально некиногеничные. Они говорят именно то, что хотели сказать, совершают то, чего от них и ожидаешь, они всегда как бы адекватны самим себе. А реализм XX века, начиная с Чехова в драматургии и с Фрейда в психологии, — весь в проговорках, в подтекстах, в мучительном неумении себя выразить. Тут и обитает поэзия. Неоднозначность, многослойность. А вы считаете, что кино близко к поэзии? Конечно. Ближе, во всяком случае, чем к прозе. Оно более емкое, даже самое емкое из искусств. Но мы залезем, боюсь, в очень специальный разговор, о знаковых системах, о символах и так далее. Я лучше скажу как кинозритель: у меня с годами появился простой критерий — хочется ли фильм пересматривать, стоит ли его смотреть по второму разу, есть ли в нем обаяние, которое обычно, правда, подменяется обаянием кинозвезды и песней, которая застревает в ушах. Я не об этом обаянии, но когда читаешь сценарий, его полезно проверить музыкальными и поэтическими формами: романс, баллада, сонет, поэма, просто частушка. Есть истории, которые можно спеть, а есть — ну никуда дальше газетной полосы или сплетни не годятся. Сами себя исчерпывают. Менялся ли со временем ваш подход к профессии, способ работы и, если менялся, что его меняло — личный опыт, требования меняющегося времени? Вопрос, мягко говоря, многосерийный. Все равно что всю жизнь рассказать. В основном замечаю, что становлюсь все легкомысленнее. Вот как зритель после тяжелой работы не желает смотреть «тяжелое кино», так и я — хочется написать что-то смешное, легкое сказочное. По инерции лезут в голову истории трагические, ужасные, но их отторгаешь инстинктивно, прячешь голову под крыло. И хуже того — любая трагедия легко переворачивается в комедию. Раньше я бы ужаснулась своему цинизму, но с годами, с утратами в жизни утрачиваешь серьезное отношение к вещам и память имеет целебное свойство вытряхивать самые болезненные переживания. Знаете выражение — «время лечит»? Увы, оно лечит и от «высоких болезней». Какие у вас отношения с критикой? Никаких, кроме того, что иногда сама становлюсь критиком, пишу какие-то отзывы. Критика вообще мало влияет на режиссеров и тем более на сценаристов, у нее другие задачи — влиять на читателей, зрителей, продюсеров, прокатчиков, поддерживать критерии, создавать общественный климат. Информировать — как минимум. Я читаю и «Искусство кино», и «Экран», смотрю передачу Б. Бермана «Абзац» и вообще все, что касается кино. В нашем деле нельзя жить отшельником. А ваши отношения с режиссерами? Были случаи идеального партнерства? И вообще — это бывает? Придется повторить единственный всем известный пример — Александр Миндадзе и Вадим Абдрашитов. Но вопрос опять-таки непосильный. Я, наверное, могу лекцию прочитать с примерами из собственной практики — как следует строить свои отношения с режиссерами в разных случаях. Могу дать очень полезные советы, но сама никогда не умела им следовать. Тратила уйму времени и сил на безнадежное дело. Всегда казалось — если ты будешь делать все-все-все, что в твоих силах, — это поможет. Я знаю случаи, когда в монтаже режиссер не может справиться со своим же материалом, и тут нужен свежий взгляд, хладнокровие и бескорыстная поддержка, а отношения с драматургом испорчены вдребезги. Вообще режиссерская профессия — это искусство управлять людьми, и страшно подумать, как много зависит от этой тонкой материи. Вы можете придумать божественный фильм и даже написать недурной сценарий (совершенных сценариев вообще не бывает, сценарий не есть нечто застывшее и окончательное), а в производстве все начнет сыпаться и рушиться по каким-то вздорным, почти необъяснимым причинам. Молодые сценаристы обычно приходят из литературы и совсем не представляют себе режиссерской профессии. Да это и не профессия, а образ жизни и суть личности. Это диагноз, как кто-то удачно пошутил. Так было, когда мы начинали работать в кино, и так снова будет, уже по другим причинам — если кино вообще выживет. В нем выживут только фанатики, одержимые и те, кто способен их понять и служить им. Вы считаете, что кино на грани выживания? Ведь делается много фильмов… Которых никто не видит. Наша киносеть разрушена, люди сидят у телевизоров, им вообще не до кино, и их можно понять. Вообще современный человек перенасыщен впечатлениями, шумом в ушах и все более хочет тишины и покоя. Есть какой-то порог восприимчивости. Катастрофы, ужасы, сенсации — кино сильно постаралось подрубить сук, на котором сидит, притупить эмоциональную сферу человека. Но это, как говорится, процесс объективный, он вписывается малой долей во всеобщее самоубийственное безумие. А если поближе к нашей теме, а тему эту я бы назвала «тогда и сейчас», то войти в кино «тогда» было очень сложно, но это сулило награды, это была престижная область деятельности, изредка — высокооплачиваемая. Но главное: твое кино посмотрят миллионы, ты кому-то нужен, фильм будут обсуждать, спорить, он будет жить среди людей. В последний раз это случилось после «Покаяния» — такой общественный резонанс. А больше я не припомню… И конечно, люди нашего поколения (а я закончила ВГИК в 62-м, а первый большой фильм вышел в 66-м) уже чувствуют себя «обломками» — и СССР, и нашей малой «киноимперии». Все это можно было предвидеть? Да, теоретически, я, например, многое предвидела, но ни уезжать из своей страны, ни уходить из кино не собиралась. Можно назвать это «легкомыслием обреченности», я ведь чувствую себя еще и обломком той империи — «России, которую мы потеряли» — так что — «обломок трех империй», что-то из антиквариата. Кстати, я тут обнаружила, что в фильме «Крылья» многое было запрограммировано, меня тогда уже занимала тема человека, пережившего свое время. Там есть такой эпизод: героиня, бывшая военная летчица, оказывается в музее, где висит ее фотография, и дети спрашивают экскурсовода: «А она погибла?» А она стоит рядом и улыбается. Актриса Майя Булгакова. Тогда нам с Ларисой Шепитько было по двадцать пять лет, и героиня сорока четырех казалась нам старой, одинокой и неприкаянной. Теперь я бы посмотрела на нее по-другому. Но там есть хорошие, даже провидческие эпизоды. Они теперь насытились временем. Например, эту ветеранку, героиню, известную в городе персону, не пускают в ресторан, говорят — «вечером с кавалерами надо ходить, мы без кавалеров не пускаем». Видите, я и тогда была уже феминисткой. А ведь я хотела вас расспросить как преподавателя Высших сценарных курсов: каких сценариев вы ждете от молодых, какие требования к ним предъявляете, кто вам нравится из следующего поколения кинодраматургов? Многие нравятся, и особенно много женщин талантливых, и, как ни странно, мне это приятно, никакой ревности не испытываю. Имена? Марина Шептунова, Надежда Кожушаная, Елена Райская, Алена Криницы-на, Мария Хмелик, Светлана Василенко, Рената Литвинова, Марина Мареева. С последними двумя я и вовсе незнакома, но читаю, когда их печатают. Открыв журнал, почему-то сначала читаю женщин. Каких сценариев я жду? Главное качество — чтобы этот сценарий мог написать только он, именно этот человек. Или она, ведь Она теперь может не скрывать, что она — Она, а не Он. У нее много накопилось, и Она может оставаться сама собой, по крайней мере, в пределах сценария. Да нет же, я не завидую и поставлю эпиграфом к новому сценарию глубокомысленное предостережение: «Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться» (К.-Г. Юнг «Архетип и символ»). Беседу вела М. Крымова«Я феминистка!»
Еженедельник «Семья», 28 октября — 3 ноября 1991 — Доводилось ли вам, Наталья Борисовна, читать женскую почту в редакциях газет и журналов? — Конечно, и не однажды. Я вообще очень ценю эти документы женской жизни. — Тогда вы, наверное, согласитесь, что по доброй половине этих писем ни за что не угадать, какое нынче столетие на дворе. Как десятилетия был, так и остался неиссякаемым поток писем женщин о вечном — лично-домашне-семейном. Несостоявшемся. Чаще всего по двум причинам: муж пьет, любимый изменил… — Меня поражают эти женские истории. Глубоким горем, которое рукой не разведешь. Особенно письма немолодых. Каждое вызывает сочувствие, иногда до слез, изредка — желание что-то сказать, подумать вместе, когда видишь, что в основе самооценки лежит какое-то глубокое заблуждение. — Ну например? — Мне кажется неверным считать количество разводов показателем неблагополучия в обществе. Лучше подсчитать количество браков, без которых можно было бы обойтись. Думаю, три четверти браков заключаются отнюдь не на небесах, а по причинам вздорным, атавистическим. Сходить замуж, испытать это. Но чаще к этому примешивается проблема зависимости — от родителей, жилья, денег, желание самоутвердиться. Бывает брак-месть, брак-вызов, брак-утопия: начать новую жизнь. С понедельника. — Но, между прочим, на сознательный выбор женщиной формы ее личной жизни давит тысячелетний пласт общественного мнения. Во все времена считалось, что жизнь женщины состоялась, если у нее муж, дети, семья. — Однако обычная форма семьи не для всех. И это естественно. В прошлом были социальные институты для одиноких женщин, скажем, или монастырь, или публичный дом (эту профессию, я уверена, выбирают все-таки по призванию, по желанию, а не из страсти к деньгам), или существование при большой семье в качестве экономки, воспитательницы. Теперь эти рельсы разрушены, барьеры сметены. Свобода выбора или ее иллюзия дает огромные нагрузки на психику, человек шарахается из крайности в крайность. А без религии — еще страшнее страх одиночества. Так вот вместо того, чтобы подумать — а нужно ли мне было вступать в брак? — человек клянет все на свете и ищет причины в другом. Конечно, я не имею права и не хочу винить женщин. Они часто бывают приперты к стенке социальными условиями, общественным мнением, а потом сами загоняют себя в угол и ищут справедливости там, где ее и быть не может: когда на маленькую, компромиссную, кривобокую любовь наваливается вся сложность современного существования семьи. При всем многообразии современных разладов половина их упирается в жилье: некуда разойтись, хотя бы на время. Очень коммунальная у нас жизнь, и психология коммунальная. Величайшая из свобод — свобода от общения — многим недоступна и непонятна. Я не религиозна, но две драгоценный вещи, утраченные вместе с религией, хочу назвать. Человек с Богом никогда не одинок, он всегда вдвоем. И второе — религиозный человек всегда помнит, что тот, кто рядом с ним, не принадлежит ему целиком, он сначала принадлежит Богу, а потом уж ему. А почему я рискую напомнить эти хорошо забытые вещи — потому что личная жизнь женщины сегодня та же, что и десять, и двадцать лет назад. Будто ничего не изменилось. Женщины по-прежнему все беды свои и надежды соотносят только с семейным жребием. — О чем говорит эта неизменность? Хорошо это или плохо? — Не знаю. Раньше бы сказала: что ж они так все заклинились, зациклились? А теперь думаю по-другому, вижу в этом женском микромире твердыню и опору, связь времен. — Под влиянием феминизма? — Да, не без этого. Я, очевидно, всегда была феминисткой, но об этом не знала. С тех пор как мы перестали дичиться Запада, нам открылся заодно и феминизм, который был у нас предметом шуток как борьба за женское равноправие: ведь мы такие опытные — за что боролись, на то и напоролись. На самом деле феминизм — это не политическое течение, там только на поверхности борьба за права и против сексизма (слово, аналогичное «расизму», означает дискриминацию по половому признаку: «женщина, но умная» все равно, что «еврей, но хороший» или «женщина играет огромную роль в жизни человека»). Разумеется, мы всегда знали, что живем при патриархате, язык и искусство бессознательно отражают доминирующую роль мужчины в этой цивилизации. Но что это за цивилизация, где «первым делом, первым делом, самолеты, ну а девушки, а девушки потом»? И может ли быть — говоря «их» языком — патриархат с человеческим лицом? Феминизм забил тревогу на пике совершенства мужской цивилизации. Ядерное противостояние, под которым мы все ходим, заставило вспомнить, что история написана мужчинами про мужчин — история войн и революций, драк и разрушений. Кстати, самым «феминистским» произведением в литературе и в кино я считаю пьесу А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» и поставленный по ней фильм Г. Панфилова «Валентина», где на жизни маленького поселка видно все, что происходило со всеми нами. Помните: мужчины передрались, перестрелялись и все время ломают калитку, а женщина — жертва, страдает и все время чинит калитку, безмолвно чинит и чинит… — Многие считают, что мужчины природно агрессивны. Двухлетние мальчики уже выясняют отношения на кулачках. — В том-то и вопрос: природно ли это? Есть разные догадки, уйма профессиональной литературы, а я не психолог. Важность феминизма я вижу в том, что он пытается обстоятельно, с разных сторон подвергнуть анализу, так сказать, ревизии основы мужской цивилизации, ее военно-спортивную сущность. Известный австрийский зоолог и антрополог Конрад Лоренц в своей работе «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», которая написана двадцать лет назад, а опубликована у нас только в этом году в журнале «Знание — сила», делает такой вывод: «Но зачем нужны человечеству безмерный рост численности, безумная конкуренция, все более страшное оружие и т. д.? При внимательном исследовании оказывается, что все эти явления представляют собой нарушения механизмов поведения, которые некогда были необходимы для сохранения вида. Все эти явления — патология». В этой патологической цивилизации феминизм был всегда. Как оппозиция к позиции грубой силы. Всегда так или иначе проявлялась борьба полов. Одно только противостояние дано нам действительно от природы и навек: два пола. Как условие продолжения рода. А еще чего? Расы смешиваются, деформируются этносы и границы, а секс разделил мир пополам навсегда. На что еще годится этот универсальный мотор, если мы в отличие от животных способны поверять его разумом? К этим вопросам, детским и философским, что, впрочем, одно и то же, возвращает нас феминизм. — Кажется, сегодня мы их не решим. Поговорим лучше о том, что изменилось в нашей стране, насквозь милитаризованной. И изменилось ли? — По-моему, лед тронулся. Лет пять назад в интервью для радио я позволила себе фразу: «Лучше кружева, чем ракеты». И сама испугалась, потому что журналистка аж поперхнулась и выключила диктофон. А всего-то-навсего мы говорили про женщин в кино, про то, как нас вечно подозревали в мелкотемье, мол, мы «кружева плетем». Я и сказала: «Лучше кружева, чем ракеты». Но какая это была крамола! А сегодня молодым даже непонятен вопрос: мол, в чем же крамола, кружева лучше — это ясно, как мир! Но еще урчит ползала на российском съезде, когда депутат Нелли Якименко в последний момент своего блистательного выступления встала и сказала: строительство одного авианосца стоит больше, чем весь наш годовой бюджет здравоохранения! Но другие ползала ей аплодировали, кто-то даже руку поцеловал. Раньше я назвала бы ее мужественной женщиной, но теперь ловлю себя на слове — что за пережиток сексизма? Я же не скажу в похвалу — «женственный мужчина»… Конечно, еще достаточно военных и политиков, которые не слышат этой тревоги, потому что они вообще слышат только то, что им в данный момент выгодно. И все-таки лед тронулся. Потому что поумнело молодое поколение появился другой строй мысли. И это во многом благодаря женщинам, суждения, разговоры которых дети слышали с малолетства. — Но ведь сейчас женщины во всем участвуют — в политике, публицистике, объединяются в клубы и ассоциации. Вместо «кротких и терпеливых» мы все чаще видим громких и агрессивных. Появилось много женщин, которых П. Логинова в «Литературке» назвала ПЖП — «пожилая женщина с плакатом»… — Остроумно, конечно, но мне не нравится такое остроумие. Напоминает ППЖ — я услышала ребенком эту веселую аббревиатуру — «походно-полевая жена», и помню, мне чуть дурно не стало от несправедливости и пошлости. Разумеется, в сексуальных отношениях я не понимала ничего, но, может быть, я и стала тогда феминисткой в пику ерничеству. Я всегда была за ППЖ. Помните Нину Ургант в «Белорусском вокзале»? Или у Симонова? «Но живет еще где-то женщина, что звалась фронтовой женой, не завещано, не обещано ничего только ей одной»… Нет, это не имеет отношения к нынешним митингам, хотя какая-то связь есть. Пожилые женщины, теснящиеся в толпе, вызывают комок в горле — независимо от содержания плакатов. Но про политику мы сегодня не будем. Для женщин этот спорт пока малодоступен. Конечно, я за неравенство, за равноправие в неравенстве. Вот как это осуществить? Следующее поколение, быть может, найдет свои формы участия женщин в политике. Если будем живы… Нервы у женщин все-таки слабее, даже у «сильного типа нервной системы». Большинство женщин как раз по этой причине чуждаются политики. И правильно делают. Убеждена: женщины живут в более глубоком мире. Каждая мыслит себя, во-первых, внутри своего микромира: дом, дети и те, кого знаешь; затем внутри всего Космоса, от которого зависишь, от Земли, от которой зависишь… То есть для нее есть масса вещей, от которых она гораздо больше зависит. Она отвечает за себя, за ребенка — за этот личный, обозримый мир. За свою синицу в руке. А там журавль в небе и почти никакой ответственности… Нет, это сладкое слово «свобода» — не для женщин, мы-то знаем, что мы зависим от всего, и там политика на десятом месте, в этом глубоком мире.Примерка женской логики на мужскую политику
Эдакий экзистенциализм в юбке!В книге З. Фрейда «Тотем и табу» есть описание одного древнего племени, исполнявшего такой ритуал: головы побежденных врагов они приносили в свое стойбище, украшали их, ставили перед ними еду, кланялись и просили прощенья — мол, извини, друг, я не мог тебя не убить, так надо было, сам понимаешь. А по моему бульвару все бегут солдаты, сдают «ГТО»; и ковыляют по мартовскому льду старушки — за талонами. Как много вдруг оказалось старух, вы заметили? Их показывают по телевизору — в очередях, богадельнях и бесплатных столовых. А по мартовскому телевидению — чуть сконфуженной, чем прежде, с уклоном в политику и проблемность — выполняется ритуал поклонения прекрасным дамам, слабому полу. Этот праздник себя изживал, гордые женщины сердились — «почему это нет тогда мужского дня?» На Западе их гордыня пошла бы в дело, в борьбу с «сексизмом». Мы и слов-то таких не знаем, нам даровали выходной день, и гордячки заткнулись — «хоть горшком назови…» (кстати, вы обращали внимание на убогий прагматизм всех без исключения русских пословиц?) Теперь нам, кажется, даруют министерство «по делам женщин и семьи». А не хотели бы вы служить в департаменте «по общечеловеческим ценностям» или в комитете по «новому мышлению»? Вот кто-то из депутатов, очевидно, дама, подстилает президенту удобный вопрос: «А может ли случиться, что один из министров будет женщина?» «Конечно, может, может», — тут он и пообещал министерство по нашим делам. А прелестная женщина Г. В. Семенова, бывший главный редактор «Крестьянки», а теперь член — не скажу чего, ибо не знаю, как писать «политбюро», — кажется, с большой буквы, но почему? — так вот, она уже поговаривала о квотах, о равном или пропорциональном представительстве в разных органах власти, а на вопрос телекомментатора, будут ли женщины конкурентоспособны в политической борьбе, отвечала что будут найдутся такие, сейчас «мы проиграли» при демократических выборах, но мы не отступим, пробьемся. Хочется кричать, как в детском театре: «Не ходите туда! Не будете вы там конкурентоспособны, и не надо, не надо вам!» Страшные картины рисуются. Берешь простую аналогию со спортом. Как слабому полу, пусть даже с самым сильным типом нервной системы, участвовать в их играх? Даже серьезные соревнования по бриджу проводятся отдельно. Но вот, не размышляя, почему политика похожа на спорт, где-то на профессиональный, у нас — на полускрыто-любительский, а больше на физкультурный парадна стадионе, представляешь чисто экспериментальный вариант, отдельные палаты «М» и «Ж», и в женском зачете схлестнулись — кого бы взять? — ну, скажем, неутомимая Бэлла Куркова и Нина Андреева. Первая — при горячей поддержке сторонниц, разумеется, победит — ну и что? Резолюцию напишет и стальным голосом зачтет к общему «ах!» С. П. Горячева. Такова расстановка сил, и если я болею за отдельных женщин, участвующих в игрищах так называемой большой политики, то только за то, чтоб не надорвались, чтоб депутатство не пожирало все силы, не увело бы от своей профессии, не клеило ярлыков, что неизбежно в политике, короче — чтоб держались в тени, не «засвечивались». До какой поры? А есть ли у нас политика? Вот в чем вопрос. Они — с Запада — не перестают удивляться, почему у нас женщины не участвуют в этом? Вот и профессор Мичиганского университета, знаток русской истории, умная женщина, сказала: «Меня огорчает распространенное здесь убеждение, что политика — это зло». Это про меня. Может быть, другие «неполитизированные инакомыслящие» найдут еще десять ответов, а я отвечу так: на нашей шестой части суши в беспартийном, бесклассовом государстве осуществленного коммунизма (не удивляйтесь — вы его просто не узнали, это он самый и есть!) и народной демократии (если таковая бывает, то она именно такая), в вареве теневой экономики (ничего страшного, а «почему вы боитесь собственной тени?» — так называлась статья Льва Тимофеева в «Литгазете», ссылаюсь справедливости ради, сама бы под ней подписалась), в этом царстве теней и первобытного хаоса может быть только теневая политика Теперь это принято называть Зазеркальем. При первых же соприкосновениях с гласностью, с названностью, с вылезшей на свет публицистикой полетели искры, случились непредсказуемые реакции, опасные взрывы, волчком завертелся «аппарат», пытаясь выяснить где право где лево, и пусть выясняет до второго пришествия. Нет, она не живет на свету, наша теневая подпольная, «аппаратная» — политика ли? Наконец нашелся пристойный образ — самогоноварение. «Аппарат» продолжает гнать сивуху из марксистских опилок. Сам не пьет, знает, что отрава. Переводчики с ихней «фени» на общечеловеческий изнемогают, уже не реанимируют, а констатируют признаки агонии призрака. Сам Ф. Бурлацкий, высшего класса «призраковед», предоставляющий страницы «Литературной газеты» интеллектуалам, которые недавно осмелились на подозрение — а есть ли у нас партия и не формируется ли она сейчас, формируя себе оппозицию, — в своей статье («ЛГ», 1991, 6 марта) вдруг так грубо, как нарочно проговаривается: «Авторитет и популярность партии стремительно идут вниз. Поэтому в перспективе она будет стоять перед дилеммой: либо проиграть следующие выборы, либо отменить демократию и вернуться к старым формам авторитарного руководства». Ничего себе, партия — может отменить сами выборы, закон, съезд, демократию. Сами условия своего существования как партии. Но может — это точно. Но не отменит — зачем? Политика пишется симпатическими чернилами, пусть советологи упражняются в дешифровке, а нормальной женщине недосуг. Я провожу эксперимент, потому так прилежно склоняюсь над «политикой» в мартовской газете. Что это? Вопрос всесоюзного референдума. Венец творения бессмертного призрака (что призраки не умирают — вы, должно быть, согласитесь? Агонизируют, но выживают. Философия равенства бессмертна, как смерть, ибо порождена могла быть единственным известным в природе видом равенства — все умрем, и все умрет, а в живом никакого равенства не наблюдалось). Нет, я не позволю себе философствовать, только замечу, что сама потребность в неравенстве есть одна из первейших потребностей человека, то есть первая —.вслед за биологическими его потребностями, как раз пограничная между биологическими и духовными, если их делить, или — пронизывающая и те, и другие и объединяющая их в человеческую неповторимость и самодвижущую силу. Но в практической политике у нас до «философии неравенства» далеко, тут у нас — всеобщий референдум. Уже неловко потешаться над поставленным вопросом. Нас с вами дразнят. Помните, как в детстве: что тяжелее — пуд пера или пуд железа? Это говорит во мне обидчивая интеллигентная гражданочка, как бы сохраняющая еще собственное достоинство. А «нормальная баба» говорит: «Да что они — офигели — столько бумаги изводить? Писали бы на талонах, давно бы узнали все мнения по всем вопросам. Дармоеды!» Нормальная баба пойдет голосовать — вдруг там чего-нибудь дают? А как и за что голосовать — она и в голову не берет, она знает, что все это цирк, туфта, чужие игры в демократию. Она нутром это знает и жалеет интеллигентную гражданочку — та шипит и плюется, как сковорода, сейчас побежит на митинг протеста… Но нет, почему-то не побежала. Устала «демократка»? «Во-первых, никакая я не демократка», — подумала «демократка» и обратилась к истокам. К грекам. В демос не входили рабы. Тут вся загвоздка и разгадка. Рабы меж тем работали. Если, опуская все детали и метаморфозы, перекинуться к современным пусть несовершенным, но сносным демократиям, то легко заметить что да рабов у них нет, но есть один огромный Раб, робот — полуавтомат, запущенный давно и надежно регулируемый правом, законом, а в основном саморегулирующийся рынок. Уж сколько писали об этом! Запомнилось хорошее выражение — «экономическое достоинство» — это Яковлев — не тот Яковлев и не тот, а третий — юрист А. М. Яковлев предостерегал, что правовое государство невозможно без «экономического достоинства» граждан. Значит, опять — «у попа была собака» — замкнутый круг — экономика, право, политика, вперед — Рынок, а потом уж… Или ты такая уж «матерьялистка»? Да боже упаси! У нас в Зазеркалье давно опрокинут логичный порядок вещей, тут — не хочешь, а к Богу придешь, задумавшись: а почему это все существует, работает без всякой заинтересованности, кое-как строится, учится, лечится, размножается и кормится, короче говоря — «почему трамваи ходят?» (еще Булгаков удивлялся). Да по воле Божьей. Есть мистический и даже какой-то кликушеский оттенок в русском патриотизме («Умом Россию не понять… В Россию можно только верить» — и целая поэзия собственной загадочной души). Откуда он? Да вот отсюда: этого не может быть никогда, но это есть. Сама страна как доказательство бытия Бога. Мечта анархиста — «государство в самом себе». Трудно побороть природный анархизм (в том числе — нигилизм, фатализм, мазохизм и прочие женские ингредиенты.) Подсознанию не прикажешь. Но они стараются, сидят над газетой ради моего эксперимента — «нормальная баба» и философствующая «лжедемократка» (вообще-то она считает себя аристократкой или рабом, или тем и другим вместе, но «демос» — такой увлекательный мужчина, чего не сделаешь, чтобы ему польстить? А потом — понять, а потом — простить…). В этой газете я нашла для них партию, в первый раз в жизни я воскликнула — «есть такая партия!» — в которую можно и нужно вступать, чтобы честно, цивилизованно участвовать в политике, не в теневой, а в самой насущной, практической, «столыпинской». Ведь вы, я надеюсь, за частную собственность на землю, за развитие фермерского хозяйства? А как им сейчас трудно приходится! Почитайте-ка Ю. Черниченко, вы всегда его с восхищением читали. Вот тут он пишет про создание КПР — Крестьянской партии России. Очень подходящая партия, тем более — в ней не будет принципа демократического централизма и партийной дисциплины (вход и выход в Крестьянской партии сугубо добровольны, личная жизнь и совесть члена КПР неприкосновенны). — Так какая же это партия? — говорит «нормальная баба». — Что, на общественных началах? — и скептически хрюкает. — Что, что? Я прослушала. Ты — в партию?! В какую — в христианскую?! — изумляется «раба-аристократка». — В крестьянскую! За фермерство! Присоединимся к полезному делу, отдадим наши голоса на следующих выборах — хоть будем знать — кому и за что, а еще лучше вступить и участвовать, а что без централизма — так прекрасно, значит придумали что-то новое, надо когда-то творить новые формы общественной жизни! — это я их вербую. — Будешь ходить с обрезом и сторожить чужую ферму от колхозников? Новые формы «придут с топорами и вилами…» — И буду! Наймусь на ферму… — Сторожить? — умиляется «аристократка». — Я в прошлом году заезжала в свое имение, прадедовское… Так грустно… Парк совсем зарос. Никому за семьдесят три года не пригодилось. Я видела Строгановскую, Гагаринскую усадьбы, все в развалинах, все — ничье, от кого сторожить? И вообще — о чем вы, сударыни? Пока они придумают новые формы, будет совсем другая диктатура… — Будет одна диктатура — диктатура Земли! — говорю я твердо. — И она уже пришла! И все умные люди задолго о ней кричали! И все нормальные женщины цивилизованных стран участвуют в экологических движениях… А она смотрит на танки. Она листает газету, там представлены виды вооружений — американские и иракские (наполовину нашего производства). Я знаю, что она скажет, что они обе скажут — что над Землей есть еще диктатура атомного противостояния, диктатура военного бюджета, что наш ВПК (военно-промышленный комплекс) вместе с КГБ не потеснятся, пока не сожрут всю матушку-Землю вместе со всеми ЛПР («лица, принимающие решения»), будь они хоть демократы, хоть крестьяне, хоть одних баб в правительство посади, интеллектуалов или коммунистов — а колесница катится, ружье, повешенное в первом акте, все равно выстрелит, вся их история такова, история войн и революций, мужская история, другой они не знают, они будут греметь своими танками до упора, они не слышат, у них уши заложены, и если уж занесло в XX век, то нужно радоваться, что хоть повезло родиться женщинами, и сидеть тихо-тихо, не чувствуя хотя бы вины за причастность к кровопролитиям. Нас не спрашивали, мы жертвы и служим живым укором для отдельных прозревших. Полчища нищих старух на исходе самого мужского, революционного века. Но они говорят другое. «Нормальная баба» говорит: «Зато у этих старушек — по холодильнику и телевизору. А в том веке они бы сто раз померли именно от диктатуры Земли или от тринадцатых родов». А «философствующая», засмотревшись на красивые силуэты ракет и бэтээров (заметьте, как слово укоренилось в языке), говорит совсем странное: «А может быть, Земле или Творцу нужно столько же мужской крови, сколько женщины ее проливают естественным и полуестественным путем? Нужно поровну и мужской пол обречен на войны, как на естественные отправления? Они не властны над этим, иначе нечем объяснить…» Догадка, достойная праздника 8 Марта. Есть о чем подумать на пороге нового феминистского мышления. И мы думаем. Мы думаем в разных жанрах, я бы сказала, с теми западными женщинами, которые напропалую борются с сексизмом во всех его проявлениях, отстаивают свои «квоты» в структурах власти, которые, заметьте, уже обладают той политической культурой, в какую женщины могут почти вписаться. «Почти» — очень существенное. Феминистки перегибают палку, намеренно заостряют вопросы, борясь с тем же сексизмом, они очень серьезны в искоренении векового неравенства и многого добиваются. Но стоит ли добиваться того, что явно несовершенно в мужской цивилизации, и перенимать их методы? Мы выглядим смешно, когда это делаем, и попадаемся на этом, как дети. На очевидном противоречии: хотим, чтобы нас заметили — смотрите, мы другие! — но не хотим, чтобы замечали именно это — что мы другие. «Женская логика» женских движений видна невооруженным глазом. Вот вы прочтете статью о «сексизме» и все поймете: даже конкурсы красоты, забава, на мой взгляд, невинная, хотя и безвкусная, выдает махровый сексизм — женское тело становится объектом измерений, красотой торгуют, как рабами или лошадьми. Но поняв все это: что дискриминация по признаку пола — это нехорошо, что сексистские стереотипы в массовом сознании и в культуре надо выявлять и истреблять, вы не можете не сказать: «Позвольте, а зачем же тогда они (то есть мы) издают женские журналы, сборники женской прозы, создают женские советы и всячески подчеркивают свой пол и особый женский взгляд на мир?» Именно это вызывает иронию. «Мужская логика» живо поставила бы все на место, «нормальный мужик» сказал бы так: «Разберитесь, бабы, сначала, у вас есть два течения, ну и разбейтесь — направо, налево, которые за равенство — сюда, которые за „особый взгляд“ — в оппозицию, ну и сражайтесь между собой. Достигнете консенсуса — приходите, выслушаем, тогда и определимся. Вы же все разные, черт возьми!» Уже и то хорошо, что заметил — разные. И в каждой еще заключено разное, целая «матрешка» (гениальные намеки даны в этих игрушках — «Ванька-встанька» и «матрешка», не вообразить, например, «Маньку-встаньку» или семислойного солдатика), и почему-то женщины от этой своей путаницы отказываться не хотят, в стаи сбиваются с трудом и только по чрезвычайным поводам, хотя — ясно — в единстве сила и куда как проще… Проще дать четкий «мужской» ответ на поставленный вопрос про политику: «В настоящее время в СССР нецелесообразно массовое участие женщин в принятии политических решений так как обострилась борьба между „группой гарантий“ и „группой шансов“. Женщины традиционно принадлежат к „группе гарантий“, в массе своей не осознают своей зависимости от „группы шансов“, и разумные решения легче принимать без их участия. В дальнейшем, после окончательной деидеологизации и гуманизации, мы предусматриваем их участие в структурах власти пропорционально их занятости в различных сферах производства». Умею формулировать? Как будто прямо из «аппарата» — сильно несет перебродившим призраком. А мы так не хотим. Мы — другие и разные. Мой опрос про Крестьянскую партию — а я агитировала десяток женщин — показал, что само слово «партия» они (включая двух членов КПСС) на дух не переносят. Но воевать с сексизмом мы тоже явно не готовы, я, например, в нем по уши погрязла, могу сказать «вошли два человека и женщина», могу и хуже проговориться. Люди никогда не расстанутся с сексизмом, в отличие от расизма. Они аналогичны, но не идентичны. Расы перемешиваются, цвет кожи и иные расовые признаки даны природой зачем-то (зачем — никто не разгадал), но не навечно. А два пола — как вечный двигатель, как намек на непознаваемое. «Плодитесь, размножайтесь»? А потом что? На пороге перенаселения планеты — или уже за порогом — снова возник интерес к этим фундаментальным вещам, хотя человечество о них постоянно думало, культура и искусство взрастали на загадке двух полов. Гармония или противостояние, но мы с этой парностью или противоположением были и пребудем. Этот вид борьбы дан универсально, может вытеснять другие виды или, напротив, ими вытесняться, человек может научиться в какой-то мере управлять этими процессами, но он не будет властен в своих «проговорках», подобно тому как он, будучи атеистом, восклицает: «О, Боже мой!», ибо воспитан в христианской культуре и останется «христианским атеистом». Борьба с сексизмом хоть и приняла серьезные, даже юридические, формы — все-таки «телега впереди лошади». Феминизм уперся в эти внешние признаки дискриминации, чтобы забить тревогу по другому поводу, вслед за учеными, предвидевшими сегодняшние катастрофы. Феминизм лет двадцать назад, как безумная Кассандра, кричал о грозящих бедах. Я узнала о феминизме именно с такой стороны — критики этой патологической «мужской цивилизации». К нам почти не просачивалась их литература, феминистки не оформлялись ни в какие партии, но и не молчали, «пилили», как в семьях жены пилят, и перепилили — по части практического равноправия многого добились. Упрекали нас в лени и равнодушии — как им объяснишь, что мы боремся ежечасно, с утра, когда с трепетом ждешь пьяного сантехника и подобострастно суешь ему пятерку, ну и так далее… Мы в разных галактиках. Но преодолевая отвращение к «изму», я поняла, что феминизм был всегда, это природная, единственная Богом данная политика, наша женская оппозиция к позиции силы, наша никем не записанная история — история выживания. «Да женщины — уже партия!» — заметил кто-то шутя. И уже не шутя самые догадливые из мужчин предвещают: «Женщины спасут мир». Так было всегда, но так больше не будет — некому будет спасать. «Пейзаж после битвы» обнажился: очереди голодных старух и матери дебильных детей — не женщины, в том смысле, что как рабы они бесполезны, а молодежь, вкушавшая в детстве «апельсины из Марокко», в юности — Афганистан как начало агонии, и уже уставшая, — не будет впрягаться в колхозных волов, разве что себе картошки посадит; в этом разница — ни в войну Священную, ни в «сурового бога войны» нынешние не верят, они отпели все это в своих ансамблях и «в гробу видали». Пик военного патриархата у нас уже прошел, заговор невежества тоже ломается, теперь — терпенье, надо только нам пройти, окончиться нашему поколению порченому. И сидеть тихо, не встревать, затаиться, способствовать по мере сил благим делам. Выживать, как всегда выживали, — можно и при лучине, все равно уже надоело слушать эту муру по телевизору, да и они теперь одумались, пошлют свои полки в деревню строить дороги и коровники… — Держи карман! — говорит «нормальная баба». — Они не затем власть брали, чтоб работать. Смотри! Иду и смотрю. «600 секунд». Невзоров. «Паноптикум». Кто видел — тот запомнит навсегда. 15 марта. «Измена» называется этот «Паноптикум» про конверсию на ленинградских заводах. Не все теперь смотрят Невзорова после его литовских истерик. Но что же это — уже паранойя? «Измена» — это конверсия. Рушится военное производство, бедняги рабочие из своих «ящиков» вынуждены уйти в кооперативы, начальники печалятся, что дело их жизни — увы! — никому не нужно! Их жаль. Когда мозги в бронежилетах, как догадаться, что военная профессия изначально трагична — или война, или профессия не нужна. Но они сдержанны: приказано — демонтируются. Горячечный пафос Невзорова: «Вокруг враги!», «изменники Великой Державы!» Пляшет баба в кокошнике под «не нашу» музыку, а еще мужик окунает в землю руки, и они делаются красными — там кровь, это кровью политая земля — наша, и еще ворочается какой-то скелет с красными отметинами — это, видимо, корчится наша империя — подожженная, что ли? Врагами? Конверсией?! Видеоряд, похоже, пародия, толсто намекающая на безумие ведущего. Невзоров против всех. Он раздавал пощечины Советам, правительству, республикам и самому телевидению. Он независимый рыцарь огня и меча. Без страха и упрека. Он представляет армию и МВД, империю, замешанную на крови и военно-патриотическом воспитании. О Господи когда ты разорвешь эту цепь? Прости их, Господи, и вразуми! Они все у нас — военнообязанные А мы — «пейзаж между битвами». А на Западе: «Сексизм, сексизм»! Ужас! Эпиграф к этой статье вы не вполне поймете, если не сказать, что за такие слова можно там и к суду привлечь за явный сексизм: «Эдакий экзистенциализм в юбке!» Спешу заметить, что мой феминизм пишет в брюках.Из рецензии П. Басинского на книгу новой женской прозы «Не помнящая зла»
Попробую подвести итог. Герой тургеневского «Дыма» говорит: «Нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем». В разгар «перестройки», 1862 год. Неужели и сейчас рано? При нашей жизни мы знали две «политики»: ту, за которую сажали, и ту, что варилась на московских кухнях (разумеется, не только на московских, и больше — не на московских, но на кухнях). Вторая, безусловно, значительней по простой причине: ее слышат дети. Если и не слушают, все равно слышат. Отсюда всеобщее неожиданное «поумнение». Вот и подумаем — участвуют у нас женщины в политике? «Искусство кино», № 6, 1991
Отречение по принуждению
Прочла где-то у Льва Толстого, что большинству людей разум дан только для того, чтоб задним числом оправдывать свои поступки. Придется признать, что принадлежу к большинству, и эту печальную историю, которую попытаюсь коротко изложить, следовало бы назвать поэтически — «…И жалкий лепет оправданья». Помните, откуда эта строчка? Или, например, «виновата ли я?». Ну конечно, виновата. И оставим рефлексию, припомним факты — в строгом стиле объяснительной записки. Показаний подследственного. Лет четырнадцать назад я написала сценарий «Собственная тень», и в 1988 году он был напечатан в журнале «Искусство кино», принят Сценарной студией и ждал своего режиссера, как невеста на выданье. Почему я дала героине смешную фамилию Курослепова, а всему сценарию подзаголовок «трагикомедия»? Потому ли, что маленькие трагедии провинциальной леди кончились благополучно и она вышла сухой из воды, или ей так показалось — Курослеповой? Каюсь, в этом была роковая ошибка — не надо любимых героев называть смешными фамилиями. Все когда-то аукнется. Первый режиссер — Ю. К. — отнесся к сценарию трепетно, мы с ним встречались и переписывались, все шло к запуску, как вдруг ему категорически предложит и снять другое кино — криминальную историю, остросюжетную. Он позвонил, извинился, объяснился — что тут поделаешь? Наступали другие времена — г чернухи и ширпотреба. Я не обиделась на родную студию — выживать-то надо, и вскоре появился другой режиссер — давно знакомый, Б. Ф. Он прилетел из Нью-Йорка устроили худсовет, обсудили, как мы сократим сценарий и в каком городе его снимать. Но потом что-то заколодило. У Б. Ф. накопились собственные сценарии, и на один из них он нашел деньги. Я не обиделась — свои-то ближе к телу. Были и еще два-три мелких эпизода сценарного сватовства, даже и отказать пришлось одному деловому режиссеру, а в общем, суета сует, и остатки авторского самолюбия вовремя подсказали — все это забыть, считать, что, может, и к лучшему: не пришлась ко двору «Собственная тень» — значит, не судьба. Я достаточно в нее наигралась и для себя «закрыла тему». Писала как для себя. Перестаралась. Просчиталась. Сама виновата. Зато свободна от утомительных последствий превращения родного сценария в чужое кино. В ту пору, помню, мне очень нравилась шутка не то А. Инина, не то А. Арканова: «Если вы упали в лужу, объявите себя островом Свободы». Вот как раз про Курослепову, подумала я и с улыбкой с ней распрощалась. Так бы — элегически — и закончилась эта история, но… Прошло лет шесть, и бес попутал — предложила одному молодому режиссеру, узнав направление его поисков, найти старый журнал и прочесть этот старый сценарий. Режиссер — назовем его С. Ш. — сделал две короткометражки, вторая была удачной и совершила «круг почета» по всяким маленьким европейским фестивалям. Режиссер был не москвич, без связей, денег и жилья, уже постранствовавший по заграницам, уже прозевавший кое-какие шансы утвердиться в профессии, и наша с ним работа по подгонке сценария добра не предвещала. «Я пойду поброжу», — говорил он после обеда и где-то на лавочке писал так называемую «экспликацию» — некие смутные мечтательные каракули. Я понимала его вкусы и возможности и многоопытной рукой перевела на язык документа мечты бродяги и поэта. Сценарий легко прошел экспертную комиссию, С. Ш. как дебютант получил полную поддержку Госкино, а я — в деревне, в Псковской губернии — получила радостную телеграмму, что все прошло успешно. Приезжаю в Москву — режиссер исчез. В тот момент, когда нужно «ковать железо пока горячо», скакать по кабинетам в боевой готовности, мы с продюсером — назовем ее А. Н. — скачем, пожилая дама скрупулезно проверяет сметы, а режиссер затерялся где-то в среднерусской полосе. У него сложные семейные обстоятельства, и картошку надо выкопать, и жалко нам его очень, и где-то кто-то его видел — то ли в Алма-Ате, то ли на каком-то фестивале, и так проходит осень, он звонит из дальних странствий, что завтра будет, продюсер приискивает ему жилье, а его все нет. Терпение лопнуло, и я твердым голосом объявила, что он не будет ставить это кино. Всю ночь он звонил из Алма-Аты с оправданиями и мольбами, но я была безжалостна и две следующие ночи, чтоб не передумать писала ему пространное письмо про разгильдяйство и безответственность; старалась не обижать да и он, надо отдать должное, не грубил, не хамил, письмо, зачитанное при продюсере, выслушал смиренно. Развод прошел мучительно, но в благородной манере. С. Ш. был кругом не прав, мы кругом правы, но от этой правоты до сих пор на душе кошки скребут. За такую правоту хочется убить вот этого взрослого, насквозь тебя видящего, грехи твои хладнокровно просчитавшего. Мы сидели перед ним, как две учительницы, начальницы-людоедки. Он даже не сказал, как любой бы другой на его месте: «Все равно сценарий г…о, не очень-то и хотелось». Ему было не до сценария, его чувства были глубже и сильнее. Мои тоже. Сколько раз меня жизнь наказывала за разгильдяйство и легкомыслие — не сосчитать, всегда наказывала, а вот самой наказывать… Нет, упрощаю. Отсутствие деловых качеств — так это пристойно формулировалось, а на самом деле — я его видеть не могла и работать для него не хотела, и были на то веские причины. Ни ко мне, ни к сценарию не имеющие отношения, и потому я их отсекаю. Легче признаться в самодурстве, чем копаться в старых чужих грешках. С. Ш. я с тех пор не видела. Вторая — бурная, но короткая — серия зашла в тупик. Деньги от Госкино мы не выхватили «пока горячо» и решили с продюсером подыскивать режиссера, показывать всем подряд. Первой на этом пути оказалась Ольга Наруцкая. Ее соблазнил не столько сценарий, сколько то, что он утвержден Госкино. Я это отчетливо понимала. Она засиделась без работы, долго билась за сценарий Н. Кожушаной «Бессонница», обе мы были «женщинами на грани нервного срыва» и хорошо относились друг к другу. По-человечески, вне кино. Как теперь говорят, «по жизни». Нас многое связывало. Кроме этого сценария, который Ольга когда-то читала в той его, первой, жизни и высказывала свои претензии — смутные, но существенные. Говорить подробней тогда не было нужды, но я догадывалась, что для Ольги это «брак по расчету» — делать ту «Собственную тень» она не будет, и надо подвергнуть сценарий не косметическому ремонту, как для С. Ш., а полной реконструкции. Проще — новый написать, ухватившись за одну из линий, благо их было много в той многофигурной, трехслойной композиции. Например, режиссер С. Ш. хотел про любовь — пожалуйста, расширим эту горькую сказку, возведем несуразный роман на природе в ранг любви — и пусть зритель плачет. Недаром женщины, далекие от кино, прочитав сценарий, говорили: «Тут все как про меня написано». Я готовилась упростить его до мелодрамы — и никаких трагикомедий никаких Курослеповых, пусть все «как про меня». Любимую, разумеется. И никаких отстранений, остраннений. Я старше Ольги Наруцкой на двенадцать лет и двенадцать фильмов, и мне ли было не понять, что у нее совсем иные амбиции. Из любовной истории ей нравился лишь один момент — как на голову героине обрушивалась дверь на чужой недостроенной даче, когда она выносила ночной горшок совсем постороннего ребенка. Над этой неслучайной случайностью, местью судьбы даме, забредшей «не в свои сани», я в свое время поломала голову. Другие, не долго думая, бросают персонажей под колеса или сталкивают с крыши, а мне нужен был трагифарс, идеально «несчастный случай», чтоб никто не виноват, сама виновата, и стыдно, и смешно — если кому рассказать. На этом строилась интрига — «страшная тайна» героини. Все это я постаралась забыть и работать для Оли Наруцкой, за какую бы ниточку она ни потянула. Любовь она отменила сразу — тут требовалась экспедиция, деревня, куча второстепенных лиц, а производственные возможности скукоживались до малобюджетного кино. Вслед за любовью порушились и бывшие любови. Встреча с молодой женой бывшего мужа — дачка, грядки; мастерская бывшего любовника, его бывшая жена, сын, коему героиня служит репетитором, — еще объект; квартира героини с неотступной матушкой и смышленой дочкой. Боже! Одних объектов на целый сериал. Среда обитания героини, казалось, уходила в прошлое, но это только казалось: киногеничная жизнь мафии и проституток в те годы вытесняла просто жизнь, которой и сейчас живут девяносто процентов населения. Мне показалось, что я подсовываю какое-то ретро, просроченный продукт, и я готова была порушить весь сценарий «до основанья, а затем…». Наруцкая выбрала из сценария одну линию — двух старых подруг, одна из которых вечно завидовала другой, а теперь вот — в больнице — должна опекать, защищать поверженную гордячку и попутно вести свое дознание, лезть в душу, обижаться, ревновать. Я села писать совершенно новый сценарий, так и не поняв, чего хочет режиссер. Общение с Ольгой из дружеских посиделок превратилось в тяжкий дурман. Из ее резких суждений и сбивчивых пожеланий можно было понять только всепоглощающее чувство — крик души: «Я режиссер, что бы вы обо мне ни думали, и все будет так, как я хочу!» А чего хочет, непонятно. Такой закомплексованности я не ожидала. Первая мысль — пригласить ее в соавторы — сразу отпала: тогда вообще ничего не будет, в этом состоянии сценарий не напишешь. Да она и не хотела, не собиралась ничего писать. Она уехала в Питер, а я сочиняла, не спеша — деньги от Госкино откладывались на долгий срок, — новую историю про двух подруг — как для себя, «не стараясь угодить». Или стараясь? Оказалось, что комплексы — хворь заразная, я постоянно чувствовала себя виноватой, что я со своим утвержденным сценарием, как старый постылый муж в браке по расчету Или жена, что еще хуже. Мне давно мерещился сюжет про такого беднягу, а в жизни я подобного испытания еще не проходила. Отправив Ольге полсотни страниц неоконченного сценария, я заранее знала, что все это ей не понравится, едва ли она даже прочтет внимательно мой черновик. И надо срочно искать соавтора — не пропадать же добру в виде отложенных на потом-потом-потом денег от Госкино. Я пригласила Марину Шептунову, с которой мы дружили и она знала всю эту мучительную историю изнутри, даже участвовала в наших с Ольгой переговорах, стать соавтором. Могла бы раньше догадаться, уже вертелось на языке: «Пусть вам Марина и напишет!», уже казалось, они за моей спиной договорились, а сказать не могут. Ситуация «ни тпру — ни ну». Все соблюли правила приличия. Кроме Госкино, которое денег давать и не собиралось нашему продюсеру. «Вот если бы в Питере, у Голутвы, то еще есть шансы», — так мне шепнули. Пришлось взять на себя грех — нетяжкий, но противный — «отречения по принуждению» (тридцать седьмая драматическая ситуация, открытая В. К. Туркиным, вероятно, в 37-м году). Мы поменяли продюсера. Наша А. Н. передала документы на «Ленфильм», и началась новая, питерская серия как бы «Собственной тени». Кстати, и словечко «как бы» входило в моду. Мы перезаключили «как бы договор» — без сроков и сумм, и я ходила к А. А. Голутве, а потом мы вместе с ним сидели в Госкино над какими-то финансовыми выкладками, и ворох документов все рос и рос, а денег все не было и не было, потом в качестве продюсера вдруг возник С. Снежкин, и мы снова торжественно перезаключали договор — в весенний день не помню какого года бегали по белокаменным лестницам Госкино всей компанией — Наруцкая, Шептунова, Снежкин и я с ними — и чему-то как бы радовались. К тому времени М. Шептунова быстро написала новый как бы сценарий — обаятельный текст от первого лица про двух подруг в клинике, и О. Наруцкой он понравился. В нем не хватало логики событий и вообще событий, зияли сценарные дыры и несуразности, но — о счастье! угодила! режиссеру! — я искренне радовалась, что все так хорошо устроилось. Недостатки сценария исправимы, Марина — профессионал, сама их видит, для Ольги сценарий только повод к самовыражению, а главное, денег-то на кино все равно нет, только аванс за сценарий. Эти «смешные деньги» по госрасценкам мы получали порциями примерно раз в два года. Я — ни за что, за муки и за позор. Я не верила, что эта картина когда-нибудь будет. Отчаявшаяся Ольга призывала Марину к работе, а та не могла приехать, и обе они мне жаловались на полное непонимание, поскольку тогда мы еще дружили. Как бы. Все мы понемногу друг друга предали, понемногу соврали каждой было на что обижаться и за что себя винить. В се мы не приспособлены к бракам по расчету. Я их втравила и, грешным делом, радовалась, когда в длинной очереди в Госкино мы опять почему-то оказывались в самом хвосте. Значит, не судьба. Но Ольга Наруцкая проявила волю и в конце концов каким-то чудом сняла свое кино. С прекрасным оператором Д. Долининым и с прекрасными актрисами Е. Германовой и В. Коротаевой. Читаю в книжке Дома кинематографистов: премьера — «Собственная тень». Читаю в газете отчет о фестивале в Выборге — она получила приз за режиссуру! Отзыв критика — кисловатый. Почтительное недоумение. Зрители уходили. Читаю две рецензии в газете Союза кинематографистов: не столько ругают, сколько вопрошают — что бы это значило? Про что кино? И мне интересно. Правда, года полтора назад Ольга вдруг позвонила из Питера, спросила: можно ли сохранить мое название? Обещала приехать или позвать — показать материал. С тех пор ни слуху ни духу. То есть слухи-то были — глухие, непроверенные. И вот — зовет на премьеру. Говорю: не пойду, при чем здесь я? Хоть фамилия и стоит в титрах. Но можно, хоть из приличия, материал показать? Выговариваю свои обиды. Проговариваюсь: почему «Собственная тень»? Какой смысл в названии? Когда моей «прекрасной даме» дочь говорила: «Ты боишься собственной тени!» — понятно, она и была — собственная тень, а кто из этих двух остервенелых баб? Обе? Картину-то я уже посмотрела — тайно. На премьеру не пошла — не в знак протеста, а из-за двусмысленности своей ситуации. Не объяснять же со сцены, что там от меня пара эпизодов, завязка и странное название. «Автор проекта»? Есть теперь такая неясная должность. Тогда — от двусмысленности — и решила написать эту статью. Вспомнилось: «отречение по принуждению». Когда профессор В. К. Туркин вдалбливал нам тридцать шесть драматических ситуаций, они сразу после экзамена вылетали из головы. Почему-то застряла только одна — тридцать седьмая, им выдуманная. Я сочиняла этюды — на его «тридцать седьмую», хотела порадовать и отличиться. Но не успела — он умер, выйдя из ВГИКа, с нашего экзамена. А теперь и выдумывать не нужно — все уже случилось. Но вот что интересно: я согласна с жюри Выборгского фестиваля, давшего Ольге Наруцкой приз за лучшую режиссуру. «Режиссура» несомненно присутствует. Если перемешать все эпизоды и показывать фильм фрагментами, я бы заинтересовалась этим режиссером, не понимая, про что история и какие чувства она должна вызвать. Когда актриса В. Коротаева получила приз женского фестиваля за лучшую роль, я очень за нее порадовалась: блистательно играет, и это заметили. При всем том я согласна с недоуменными рецензиями критиков, подставляющих свои догадки и трактовки на место несуществующей сценарной идеи. Возникает вопрос, старый, но каверзный: бывает ли режиссура как самоценность, кто и когда выдумал это фестивальное разделение — приз за лучший фильм и за лучшую режиссуру? Казалось бы, очевидная глупость: «фильм замечательный, только вот режиссура подкачала», или наоборот — «фильм неважный, а режиссура классная». По каким-то спортивным соображениям разделили эти «номинации», и прижилось, узаконилось, въелось в сознание. В мое тоже. Это идет от школы, от учебных, студенческо-преподавательских радостей. Этюд, отрывок — нашел нетривиальное решение — ура, отлично! Во «взрослом» кино режиссура незаметна, она везде и нигде, и даже в редчайших случаях истинно авторского кино умение выстроить сюжет и увлечь персонажами не отменяется; в этом в первую очередь проявляется уровень мышления, дающий право на «особый взгляд». Между кадрами, между эпизодами, а не в темпераментных актерских этюдах. У театральных критиков появилось выражение «бешенство режиссуры». Я давно его придумала, задолго до фильма «Собственная тень», но опасалась произносить публично. И здесь не место приводить примеры, ускользать в теорию и культурологию, обсуждать регламент фестивалей. Случайно соскочила на эту «общественно значимую тему». А наша-то отдельная, многосерийная история кончилась хорошо, хоть и «за гранью нервного срыва»: Ольга Наруцкая доказала, что она режиссер, и поблагодарила меня за то, что я дала ей такую возможность.РАССКАЗЫ О РОМАНАХ
Завтра — завтрак на траве
Теперь надо вспомнить все по порядку. Как на следствии: вопрос — ответ. Что он сказал, что я спросила, почему вообще разговор перекинулся на Алису, и зачем я ему вдруг позвонила? Был бы «черный ящик», как в самолете, записал бы нашу историческую беседу — не столько беседу, сколько смех, мой глупый смех, и его — дребезжащий невпопад, и прослушать бы нашу болтовню без комментариев — вот тебе и одноактная пьеска. Да разве вспомнишь? Мысли разбегаются, как мыши. Нет порядка в моей бедной голове. «Но нет его и выше» — или как там? Давай-ка без иронии и без цитат, своими словами и ближе к делу, давай-ка четко — вопрос — ответ — разберемся в этом скверном анекдоте, чтоб не сосало под ложечкой, чтоб не просыпаться, как сегодня, от стыда — не то сделала, не так сказала… А что не так? Нет, надо было продать к черту эту дачу со всеми ее гнилыми потрохами, сразу, прошлым летом, и не пошла бы Алиса на тот берег пасти детей Судаковых, то есть уже внуков, даже правнуков, если считать от старика… Не познакомилась бы там со всем этим безразмерные, неувядающим кланом Судаковых — Мусатовых… И не сидела бы я, вечерами ее поджидая, гадая, кто у них там «герой романа», как был у нас когда-то Л. М. Кстати, у нас с ним совпадают инициалы. Мы когда-то обнаружили, что подписи одна к одной, можем друг за друга расписываться. А теперь повсюду сигареты «LM»: красные «LM», голубые «LM», лезут в глаза, не дают забыть. Вы мне, кажется, задали вопрос — часто ли я его вспоминала и почему никогда не звонила? Отвечаю: я вообще никому не звоню на тот берег, не только Л. М., но и никому. Да и некогда мне, и некому. Наши два берега окончательно разбежались и раззнакомились. Тот берег, как всегда, процветает, а мы чудом выживаем, доживаем в нашей резервации. Да, были поводы, сидела у телефона и думала: как его теперь называть, по имени-отчеству или просто Лева? И как зовут его теперешнюю жену? Вроде мы с ней знакомы, а вроде и нет. Назовусь по имени, а она и не вспомнит. Вся эта канитель с запахом уязвленного самолюбия мне ни к чему уже — «не к лицу и не по летам»… А память — поди знай, на какой цветок она осядет: открываю пачку «LM», выбрасываю — опять что-то родное в помойном ведре. А позвонить меня заставила старуха Фирсанова. У нее телефон отключили. Каждый день ковыляет ко мне на костылях — «не откажите в любезности»… От этих оборотов речи на фоне нашей рухляди прямо плакать хочется, я ей в ухо кричу: «Может, отключили за неуплату?» — «Ах, вот оно что! — притворяется, что не слышит, шутит над своей фамилией. — Я как старый Фирс, заколотят, забудут…» А вчера ей взбрело в голову, что Мусатов ей поможет. «Он непременно все уладит, у него большие связи». Кричу: «Не по тому ведомству, не по связи!». Слуховой аппарат она забыла дома. Стало быть, я и должна позвонить — от ее имени. «Вы можете себя не называть, если вам неловко, скажите — медицинская сестра, скажите — Вера Фирсанова терпит бедствие. SOS! Он не откажет, он хороший мальчик…» Почему она так заботилась о моем инкогнито? Вчера я не обратила внимания, а теперь понимаю. Ее редкие реснички с угольками туши так невинно подпрыгнули — «если вам неловко» — с намеком на какую-то печальную тайну. Да, с намеком. А я отвернулась. Я грубо ее отшила: «Почему неловко? Вечером позвоню». Не могу видеть старушечий подслеповатый макияж, бабусю она мне напоминает. Бабуся, тоже бывшая красотка, в панбархате, за ветхим нашим «инструментом», читала нараспев при гостях: «Встречаются, чтоб разлучаться, влюбляются, чтоб разлюбить — так как же не расхохотаться?..» Не помню, и не спросила, кто автор, сгорала от стыда и ненавидела семейные торжества. Но я отвлеклась. Спроси меня — почему я позвонила только вечером? Да, я готовилась. Настраивалась, что подойдут домочадцы, потом будет натянутый разговор про дачу, про родных и соседей, беглый отчет за десять лет, угадывание — а что тебе, собственно, нужно, по какому делу, говори уж сразу… Я вываривала краску и репетировала до полного одурения. Предусмотрела все варианты, все поводы и причины — разве он поверит, что я могу шпионить за собственной дочерью, да таким сложным путем? В конце концов — я звоню «просто так!» плюс старуха Фирсанова и другие дачные вопросы. Контора у нас общая, правление, что думает центральная власть про наш Богом забытый берег? Я хлопнула рюмашку и отважилась. Лева сам взял трубку, сразу, как будто ждал моего звонка. — Чего не заходишь? Могла б навестить больного товарища. — Без предисловий, будто виделись вчера. — Лежу тут один, как в темнице сырой. Как раз послал узнать твой телефон. Память стала дырявая, меня ж сюда из больницы привезли, а записная книжка в городе, мне до тебя не доскакать, колено еще не гнется, я на том свете побывал, теперь как новенький, склеили из кусков, замечаешь разницу? Я не успела спросить, по какому поводу он собрался мне звонить. Вопрос завис. Я спросила — ну и как, есть ли там свет в конце туннеля? «Меня все спрашивают, я всем говорю по секрету… разное!» — жизнерадостный у нас пошел разговор, детский треп о жизни и смерти. Он обрадовался мне, это точно. Я тоже расслабилась, отметив про себя — какой неприятный у него смех и что мне совсем не хочется его видеть. Про аварию я, конечно, знала — что он зимой, на гололеде, шарахнулся об автобус. Говорили — при смерти. Я не верила, ни секунды не сомневалась, что он выживет. Впрочем, мне было все равно — ничто не шевельнулось в моей душе, когда Алиса — со слов Таты Судаковой — сообщила мне эту дачную новость. Душа стала как подметка. Первая любовь ее не колышет. Ни первая, ни вторая, ни третья. Тот берег, где Л. М. и их родовое гнездо, вообще остался за горизонтом. Всю зиму я вкалывала — стыдно сказать, где и на кого, — зарабатывала на ремонт дачи. Еле ноги унесла. Получила шиш и коленом под зад. Теперь у нас Алиса — глава семьи, кормилица, получает неплохие денежки как гувернантка с английским. С чего наш разговор с Л. М. перепрыгнул на Алису? Я рассказала, как она в прошлом году канючила: «Мам, давай продадим эту дачу, станем богатыми, пошлем меня учиться куда-нибудь подальше… Ты от меня отдохнешь, а так ты погрязнешь до конца жизни под обломками», — и почти уговорила. Я почти сдалась. А она вдруг пошла поступать в актрисы — тайно от меня, я была против. Вот этот момент — когда она срезалась на третьем туре и где-то, не при мне, отплакалась, — яупустила этот момент, я была враг номер один… А потом мою барышню как подменили/взяла себя в руки, летала, как на крыльях, к Судаковым-внукам по выходным — на дачу, и, что самое интересное, категорически заявила: «Ни за что не продадим эту дачу! Я была дура. Мы вытянем, мы отремонтируем, мы лучше квартиру сдадим». И еще она сказала этой весной, я дословно запомнила: «Тут я наконец-то поняла, что такое родина, а то это был для меня пустой звук». Да, у нее время больших перемен, не уследишь. «Попала в вашу орбиту и сделалась патриоткой», — сказала я Л. М. Патриоткой того берега. Ну конечно, там главная тусовка вокруг теннисных кортов и старого клуба, там у вас детский театр, говорят, и рабочий день Алисы плавно переходит в вечерние посиделки — у кого? У тебя за стеной или во флигеле? Говорят, племянник твой, Левушка маленький, весь в тебя пошел и по твоим стопам; надо думать, что он и есть «герой романа»… Я болтала и болтала, a Л. M. как-то примолк. Я вопрошаю — уже, чувствую, в пустоту: что они там репетируют? С тобой советуются? Или ты к ним не снисходишь, и вообще — знаешь ли ты мою Алису? Мне показалось, что он отключился, что ему все это неинтересно… А он, значит, в это время принимал решение: сказать или не сказать? — Я сам хотел тебе звонить. По деликатному вопросу. Лучше — не по телефону. Я, конечно, закричала, что теперь не засну, говори уж сразу. Он прикрыл трубку рукой и долго мялся, уговаривая: — Может, завтра зайдешь? Тут всегда под окнами кто-то ходит. Ладно, скажу. Тут ходят упорные слухи, что Алиса — моя дочь. — Чего-чего? — говорю. Как будто не расслышала. — Тут все, оказывается, считают, что Алиса — моя дочь. Вчера жена спросила в лоб. А я, признаться, как-то растерялся… — Чушь какая! — я залилась хохотом, а он там что-то бормотал, что за давностью лет чего там скрывать, историю не перепишешь, да он бы и не против, и жена отнеслась с юмором, а он — запамятовал, все даты перепутались, имена и даты, между Кларой и Кариной — сплошной провал и вообще ранний склероз — «что-то с памятью моей стало»… Не передать наш дуэт из оперетты. «Между Кларой и Кариной», да, веселая оперетка. Он — «запамятовал», что неудивительно — много нас таких было в те безумные годы его холостой жизни, когда Клара его бросила. Вот это был поступок, широко известный в узких кругах. Сама бросила — с маленьким ребенком, нет, с двумя, у нее уже своя была дочка. И страдал Левушка у всех на виду, а куда скроешься? Театр есть театр. Легкими касаниями мы пробежались по знакомым, по соседям. Оказалось — падчерица его навещает, гостила с ребенком, а сын их с Кларой — наоборот, отбился от семьи, зато племянники под их с Кариной руководством, родители вечно на гастролях… Я спрашивала и не слушала, я наливалась злостью. Мы уходили от темы — все дальше и дальше, и я не знала, как вернуться. Неужели они меня такой представляют — брошенная, несчастная, беременная, молчу, как партизан, кто отец ребенка, выхожу замуж, чтобы грех прикрыть, всю жизнь молчу, и вот, как в сериале, прекрасная моя принцесса приходит гувернанткой в богатый дом соседей — да разве это про меня? А почему бы нет? Я прокрутила про себя весь сериал, и вдруг меня как ошпарило: он мог подумать, что от меня исходит этот слух. А почему бы нет? Привет от президента Клинтона и Ива Монтана. Если бы не было всех этих дам, что набиваются в любовницы, с их адвокатами, свидетелями, анализами — позорище! — мне б такое и во сне не приснилось. На каком-то повороте разговора меня прямо потом прошибло, и я сказала монолог ни с того ни с сего: — Между прочим, у Алисы есть отец, вполне живой и звонит по праздникам, даже на похоронах моей матушки был, и если она его в грош не ставит, то это чисто моя вина, а Лисенков такой подлянки не заслужил, чтоб дочь отнимали. Кто это — «говорят»?! На вашем берегу много чего говорят про ваши две династии, кто их там разберет — детей и внуков, законных, незаконных, вам наплевать давно — одной больше, одной меньше — без разницы, а у меня она одна!.. Я еще много чего наговорила. Вылезла зависть, вековая зависть к тому берегу — это я сейчас понимаю. Он устал слушать. — Выкинь из головы, — говорит. — Если ты уверена — выкинь из головы, прости меня, дурака, и вопрос снят. — Так прямо и выкину! Я хочу разобраться… Человек бессилен против молвы, сам знаешь. Что теперь — на спине ей написать: «Я не дочь Мусатова»? Он не засмеялся. Он вообще как-то скис, будто локти кусает — зря сказал. — Приходи завтра, часов в двенадцать или пораньше. В двенадцать ко мне приедут из театра — будет завтрак на траве. Заодно и поболтаем в спокойной обстановке. Я, право, не думал, что это тебя так заденет… Дорогу-то помнишь? Как не помнить! Я готова была бежать хоть сейчас, в этом драном дачном узбекском халате, с немытой головой, но зачем-то стала ломаться — «я постараюсь, если получится…». И опять про дачу, про ремонт, что руки уже не отмываются, одичала, людей не вижу и не хочу — боюсь, испугаются. — Да ты ж меня видел прошлым летом, — зачем-то я вспомнила, — ты был за рулем, еще покрутил пальцем у виска, ты меня чуть не сбил — не помнишь? — на развилке к магазину, такая тощая седая девушка, типа Бабы Яги… Дура! Получилось, что он мне повсюду мерещится. Это был не он. У него никогда не было иномарки, у него девятка, и обычно жена за рулем. Я сказала: — Вот видишь, ты мне повсюду мерещишься, ни дня без Л. М. Даже вот сейчас, в помойном ведре — голубые «LM», красные «LM», увы — пустые. Да, я, пожалуй, пожалую завтра к тебе на завтрак, все равно идти за сигаретами. Только ты меня можешь не узнать — такая кочерга в шляпке и с белым зонтиком — это буду я… Эта шляпка с потолка упала — мамина старая шляпка из тонкой соломки. Я не отложила ее в «реквизит» — есть у меня такой сундук и два ящика в сарае, а решила куда-нибудь ее прогулять — классная вещь, самое то — «ретро»! А она пропала. И тут вдруг выскочила — она завалилась в щель за буфетом. Я потянулась — искать сигареты, какие-нибудь завалящие, не отрывая трубку от уха, и увидела шляпку. Знак судьбы — прямо к «завтраку на траве»! Вот она, простая бабская правда, — шляпку прогулять. А что он мне повсюду мерещится — это неправда, пусть ему так показалось, что мне терять? Я развеселилась от этой шляпки, нашла китайские сигареты, отчим мой Пан Паныч обнищал под конец жизни и дома курил китайские, называл их «легкая смерть» и чужим не показывал, и вот закурила я «легкую смерть» и ввернула к концу беседы легкий комплимент — что видела его по телевизору год примерно назад, и он совсем не изменился, а лысый череп ему идет. «Переходим к светским процедурам», — подумала про себя, язва, представляя, как утром искупаюсь в речке, натрусь песочком, потом льдом и камфарным спиртом, хорошо, что Алиса чемодан тряпок привезла из города… А интервью мне совсем не понравилось, я хотела выключить. И журналистка — дура жеманная, и они вдвоем с женой жалко смотрелись. Она, оказывается, организатор всех его побед и зарубежных гастролей, тараторила без пауз, а он кривился — будто зубы болят — от этой журналистки. Я не выключила, потому что Алиса не дала, она смотрела без разбора все эти «Кулисы», «Аншлаги», юбилеи, и она спросила: «Это разве он — тот самый Мусатов, который у бабушки на даче? В которого все были влюблены?». Я объяснила, что люди стареют и портятся, он явно не в духе, а во-вторых — не влюблены, это слово не подходит, не столько он нам нравился, сколько мы хотели ему понравиться, не только девочки, мальчики тоже, и даже взрослые дяденьки-тетеньки старались быть замеченными Его Величеством, а почему — тайна природы. Гипноз. Он и рванул в режиссуру, когда осознал это свойство — что все перед ним приподымаются на цыпочки и показывают лучший профиль. «Пристройка снизу, пристройка сверху», Алиса тогда любила порассуждать о театре — со мной. Теперь тоже любит — только не со мной. Этого я ему, разумеется, не рассказывала. Вышла на крыльцо, шатаясь, как с корабля. Вспомнила: забыла сказать про старуху Фирсанову. Ну да завтра поговорю — завтра, завтра, завтра, что-то будет… Ах завтрак на траве! Ходила по участку, мало что соображая, в рассеянности блаженной. От слова «блажь». Самое-то главное я забыла спросить: знает ли Алиса про эти слухи? Ну да завтра, завтра, дожить до завтра… «На вашей даче очень тихо, как будто здесь живет портниха…» Полезла всякая чушь из юности. Из детства. Память сбегала туда и обратно, натаскала «чушек». «Мы с тобой два Беринга без одной руки»… «Чушка-кая, чушкакая, чушь какая!» — бабушка учила плюнуть десять раз подряд, выплюнуть всю отраву. Мечтательность она тоже пресекала. Я опрокинула собачью конуру и долго над ней стояла, мечтала об апельсиновом дереве. Вчера — как в детстве. Надо сделать цветочные ящики, и пусть у нас на террасе зреют апельсины. Я видела когда-то у соседа за промерзшими стеклами апельсиновые блики и пыталась их нарисовать. Тот старый волшебник, что жил в оранжерее, влюблен был в маму, или так казалось, показалось — мне, когда он задержался у калитки и не хотел войти. Однажды мне причудилось — а вдруг он мой отец? Ни разу не спросила, почему отец нас бросил — как провалился. Хотела знать, но отгадать самой куда интересней. Ботаник был затворник и старик, лет пятьдесят. Седые лохмы из-под берета, длинное лицо и тайна одиночества. Меня волновали одинокие старики и старухи. Потом само прошло. Не помню, как и звали худого дедушку, куда он вдруг исчез. Тот берег завладел воображеньем. Высоким слогом говоря. «С велосипедами не входить». А куда же их деть, когда идешь в кино? Мы — дальние, с того берега — заводили их на участок к Судаковым, а там и Мусатов — через забор. Мы ждали, мы гадали — приехал ли из города Лева, приедет ли? Вслух никто не спрашивал, и «умненькая Тата», хозяйка вечернего салона, — с ее веранды просматривались владения Мусатовых — насквозь нас видела и наслаждалась «подтекстом». Л. М. не был душой общества, он был именно подтекстом. Все понимали, кого все ждут — не младшего, Кота, красавца, балагура. Кот был уже не в счет, поскольку знать не мог, одарит ли Л.М. своим присутствием. Тот вечер я запомнила дословно; мы выпили всю «кислятину», что покупали на станции, послали Костю добыть чего-нибудь из «погребов». Окно Л. М. светилось: а вдруг зайдет? Он явился вместо брата, с начатой бутылкой виски, разлил всем по чуть-чуть, а я прикрыла свой стакан: «Я крепкого не пью, а виски вообще ненавижу!». Лева схватил мою руку и поцеловал ладонь: «Умница, только не надо ладошкой закрывать стакан, никогда так не делай, так делают одни горняшки», — это он добавил громким шепотом, в самое ухо, щекоча усами. «Такой красивой барышне надо держать спинку, я не люблю, когда барышни сутулятся… и пальчик не оттопыривай, пожалуйста». — «Я не оттопыриваю!» — я залилась краской и дернулась от него в сторону, сбросив со спины его руку. «А я не люблю мужчин, которые…» — я не придумала, что сказать, только видела ухмыляющиеся рожи, все были наготове. «Ты не любишь мужчин, ты, может, лесбиянка?» Все разом грохнули. «Которые хватают барышень за плечи», — пояснила я ровным голосом и в наступившей тишине, не мигая, уставилась ему в глаза. «А за коленки?» — «Да ради бога!» — я выдержала его нахальный взгляд, его руку на моем колене, сидела, выпрямившись, не шевелясь, до судорог, с одной победной мыслью — «Ну, что дальше?» — «А так можно?» — он сказал и пальцем приподнял мой подбородок. Я позеленела — рассказывала потом Тата, что она даже испугалась. Изваяние вякнуло: «Могу и врезать» — дрожащими губами, и размахнулось стиснутым кулачком. Я помню — бутылка покатилась со стола, и косточка на среднем пальце долго не заживала. Помню — долго еще звучал его голос: «Учтем на будущее. Я больше не бу… Не бу…». Помню — рыдала всю дорогу над своей погибшей любовью. Кручу педали и не вижу ничего. Как я его ненавидела! И себя. И всех их, дураков хохочущих. Неужели не видят, что он просто пошляк, что он фамильярен и дурашлив, как отчим мой Пан Паныч. Этих фамильярных, дешевых сердцеедов я выбраковывала из племени мужчин, они не проходили мой строгий ценз. Кстати, Пан Паныч мне вчера приснился — конферансье, при бабочке, клацающий челюстью. Он дергался на ниточке и уносился в ритме вальса. Я собираю кукольные сны. Несчастный и беззлобный был старик, любил меня в придачу к маме, но омерзенье первого знакомства не поддается на уговоры разума, он снится до сих пор резиновым уродом, улыбка, улыбка и угроза в одном лице. Я выгоняю злых духов детства. Здесь, на даче, сны длинные, как цирковые представленья, и утром можно вспомнить весь сюжет. Вчера еще подумала: здорова, как корова, жизнь прекрасна, и, кроме денег, нет проблемы. И — на тебе! — вот зачем было звонить Мусатову? А затем, что нам, таким, как я, на чистом воздухе чего-то не хватает, нам бы приникнуть к выхлопной трубе… Нас дачная молва уже связала во время того поединка на веранде. На мне, как на воре, шапка горела. Я избегала его. Я влюблялась — поголовно — во всех приятных мальчиков, но первые же поцелуи обрывались приступами смеха, он сторожил меня, заносчивый профиль Мусатова маячил на общем плане, он дирижировал и отменял мои утехи, подкрадывался в трепетный момент и шептал: «Не верю». Порчу навел как теперь сказали бы. С шестнадцати до двадцати я была «порченой», с жадностью питалась рассказами подруг про недоступные мне страсти и метила в монашки, в старые девы, прямиком в одинокие старухи в глубине души любуясь, что я — «не как все». Легкая «шизанутость» тогда была в моде. Однажды, на спор я постриглась наголо и пришла в разных туфлях на выставку: правая с пряжкой, а левая замшевая, с бантом, мамина. Все на меня смотрели. Еще до панков, до зеленых волос, до дырок на колготках и серьги в одном ухе — мы в наши игры играли не коллективно, а штучно. Так мы и поженились с Сережей — на спор, спьяну, от застенчивости, можно сказать. Перескочили полосу препятствий и прожили счастливый год словно на сцене — в актерском общежитии. Когда возник Мусатов — не помню, но помню, как он нас стал знакомить — такой рассеянный, весь устремленный, погруженный… «Познакомьтесь, мой друг Сережа, он гений, из Читы, ты его полюбишь на всю жизнь…» Да знал он, что мы женаты! «Знал, но забыл», — объяснял он позже, когда я догадалась спросить. Они репетировали ночами на пыльном чердаке нечто «вокруг Есенина», а я делала костюмы и — за неимением актрис — должна была подыгрывать — то даму полусвета, то отрока в лаптях, то молчаливую старуху, кивающую головой в такт ходикам, немую русскую Кассандру. Он придумывал мне роли, чтоб я с Сережи не спускала глаз. Сережа успевал где-то надраться, «не выходя из кадра» — как после шутили киношники, уже посмертно, на панихиде, когда Сережу все полюбили и оплакивали. А я — помню — не уследила: он сползает с лавки, сползает, то ли играет пьяного, то ли на самом деле. «Где-то плачет иволга, схоронясь в дупло…» — и совсем съехал, покачнулся. Я сорвалась с места, нарушив мизансцену. «Только мне не плачется…» Лавка кувыркнулась, он упал, ударился. Я кидаюсь поднимать, а Лева как гаркнет: «Ты где была, любимая?! Я тебя зачем нанимал — эту сволочь сторожить! Пусть лежит, проспится!». Это он — меня — «нанимал»? Мне бы собрать гордо костюмы и реквизит, поднять своего Сергуню и удалиться без слов или послать Л. М. подальше, как я сейчас бы сделала… Нет, я побежала за ним, и ревела, и оправдывалась. А он отходчив, он сентиментален, его самого надо пожалеть, его жена покинула, вернее, выгнала. Он привез меня в чужую пустую квартиру и велел «вить гнездо». Ребята притащили две табуретки и ящик водки. Спектакль — гори он синим пламенем! — забыли, всё забыли, завили горе веревочкой, и я, как закодированная, играла «подругу дней моих суровых», невесту, хозяйку шалаша, Любушку-голубушку — «золотые ручки», и доигрались мы до свадьбы, дней пять беспробудно пили, но когда нам крикнули «горько!», я не смогла с Левой целоваться. Только в постели, то есть на полу, на матраце из спортзала, тело мое выделывало все, чтобы не перечить мужской поспешной жажде мщения. Он Клару ненавидел, он ее любил, он брал реванш, а я претерпевала свое невероятное счастье молчком, с большим достоинством, в трезвом уме и ясной памяти, хотя пила как все. Ему годилось именно такое глухонемое бревно, которое все понимает. С похмелья мы наговорились об искусстве, о бездарно прожитой молодости в бездарной нашей стране, и на седьмой день почти стали друзьями, и шевельнулась робкая мечта: «А вдруг — ?..». Недолго, правда, она шевелилась. «А вдруг» случилось все наоборот. Он впустил к нам пьяного Сергуню, а сам деликатно исчез. Предал меня Левушка, предал — если называть вещи своими именами. Сережа — да простится ему все на том свете — избил меня до полусмерти, швырял об стенки, пока сам не испугался. Лежу, кровь из подбородка хлещет, вся в слезах и в соплях, не вытираюсь, не встаю — нарочно — он лежачую бить не станет. Мне его даже жалко стало, когда он сам испугался. К счастью, ребята подвалили, в больницу отвезли. Шрам у меня на подбородке с тех пор. Никому не показываю, не рассказываю. Крем-пудрой в три слоя замазываю срам. Синеет на морозе. Вот если бы тогда прижить от Левы ребеночка и всему свету по секрету рассказать? Примеры были рядом. «„Ляля-бубу“ опять с коляской», — смеялись над гримершей Лялькой, она сама любила пошутить: «Чей? — Мой! — Не помню, жизнь покажет. Я по призванию — мать-одиночка». Я думала — лучше удавиться, чем так шутить. Она меня видела насквозь, однажды изрекла: «Как вижу счастливую семью, хи-хи, баран да ярочку, — так лучше удавиться!». Чтоб я не прятала глаза, ее жалея. Но это было позже. Это я вспомнила про шрам, про срам. Не люблю травить душу воспоминаниями. Больше меня никогда никто не бил, а тогда — поделом. Мы квиты. Я не хочу туда, обратно, на ярмарку невест. «Ляля-бубу», кстати, когда мы с ней подружились и пили роскошный португальский портвейн, который стоил меньше водки, да, в черных бутылках — где он теперь? — Лялька оказалась большим философом. «Мужчин любить нельзя, это разврат и наркомания. Любить можно детей, собак и кошек. Мужики нужны для переноса тяжестей и для зачатия, и вообще пусть живут — а при чем любовь? Пока мир не перевернулся, они платят проституткам, а не наоборот», — Лялька подавляла меня железной логикой и народной мудростью. «А вам, которые из благородных девиц, надо замуж позарез — а зачем? — чтоб срам прикрыть, а то ходите как голые — „выбери меня, выбери меня!“ — одинокая девушка всегда как голая, поставь табличку „занято“ штамп и кольцо, и не трать нервы на ахинею». Я ей показывала шрам — след замужества, да она и так знала. Все знали про побоище. Она меня научила орать во весь голос, проветривать легкие. «…Парней так много холостых, а я люблю Мусатова!» — психоаналитик мой, Лялька, подруга смутного времени, где она теперь — «Ляля-бубу»? Говорят, в Канаде, поехала к старшему сыну и нашла старичка богатого. Про что это я? Я выпила водки, стою на крыльце, ору деревенским голосом частушки, чтоб не зацикливаться на прошлогоднем снеге, а то со мной бывает, далеко заносит. Вдруг слышу — сзади подъехала машина. Фырчит, разворачивается, будто чертыхается. Попала в наш тупик. И кто-то ломится, как лось, через малинник. Там у нас щель, гнилой штакетник обвалился. Алису кто-то привез. Никогда ее пьяной не видела. Несется к дому зигзагами, в лицо не смотрит: «Мам, пи-пи — умираю!». А машина развернулась и стоит, полоснула дальним светом по сараю, по веревке с забытым бельем, назад подалась, осветила весь участок, включая меня, и встала у колонки. И выходит из машины женщина. Подхватила длинную юбку, лезет через крапиву. — Можно на минутку заглянуть? Я вижу — вы не спите. Лицо у нее белое-белое, в ушах серьги сверкают, улыбка до ушей — хоть завязочки пришей. Американская. Я ее сразу узнала. «Такая армянка типа американки», — болтали в гримерной, когда Мусатов на этой Карине женился. Познакомились мы заново, за руку, стоим, рассыпаемся в любезностях, а уже дождик моросит. Я, разумеется, благодарю — зачем вы такой крюк давали, тут в наших проулках и завязнуть можно, а пешком через старый мост двадцать минут, Алису всегда кто-нибудь с собакой провожает… Стоим мы под веревкой с трусами и полотенцами, мизансцена — нарочно не придумаешь, щупаем эти полотенца махровые, еще не высохли, да, сыро тут, на нашем берегу медленно сохнет, не то что у них на горке, другой микроклимат. Я снимаю полотенца с прищепок, тяну беседу про погоду да про климат, собачью конуру ей показываю — хочу, мол, на веранде оранжерею с апельсинами или хоть пальму посадить, ну да, маниловщина, я такая — с приветом. А у самой сердце выпрыгивает — как же ее в дом пригласить? Надо первой войти и убрать натюрморт: недопитая бутылка и рюмка прямо на видном месте торчат, и плевала бы я на это, а что Алиса перебрала — мне ясно, но зачем заострять внимание? Мать — алкоголичка, да еще с приветом, и дочь туда же… А она — ни слова про Алису, и я не могу понять цель ее визита. Она ходит за мной и про свое тараторит — сто слов в минуту. В городе жара, пробки, машина глохнет, пресс-конференция, презентация, она с ног валится, а здесь тоже покоя нет, у племянника — галдеж, музыка, они ведь на часы не смотрят, так и останутся спать вповалку, в общем, разогнала она компанию, девиц — на электричку, и Алису заодно подбросила, потому что давно, давно хотела взглянуть на наши участки — пора разъезжаться с родственниками не дача стала, а коммуналка, и кто же этим займется, коли не она? — Нет, — говорю, — мы не продаем, раздумали, а рядом уже продали, вон дом снесли… — А за сколько они продали — вы не в курсе? Какие тут примерно цены? Ну хотя бы порядок цифр… — Пристала намертво, а я все пожимаю плечами — «не могу знать скрывают», и про старуху Фирсанову и ее алчных наследников поговорили, и все тайны дома Мусатовых она мне выболтала — что приходящей бабе Варе платят — уж дом давно можно купить за эти деньги, а маму свою она не может привезти, потому что — не-ку-да! — и стало мне вдруг скучно-скучно, и жутко захотелось курить. Она вдруг говорит: — Пошли в машину. Я сигареты там оставила, а жутко хочется курить. — А у меня как раз кончились сигареты… Лезем через малину, через крапиву, я придерживаю забор, раздвигаю щель, она одной ногой — хлюп! — в канаву, туфли скинула, в машине у нее есть тапочки. Все у нее есть в машине. Два блока сигарет «Парламент». Дает мне пачку, дарит. Закуриваем и переходим к делу. Но не сразу. — А почему вы раздумали? Я ведь знаю, что вы искали покупателей, вас цены не устроили? Тут ведь с дороги надо начинать, дорогу насыпать, это отпугивает… И мы опять про цены, про убытки, про дядю Васю, про бригаду молдаван, что у них флигель строили. Я не выдержала — ну сколько можно про дядю Васю, сколько можно меня просвечивать рентгеном, приспичило ей купить наш участок, а то она цен не знает, прямо «Вишневый сад» с «Дядей Ваней», и такая злобная муть поднялась со дна души, вплоть до бреда, что хотят они нас купить с потрохами, раз Алиса — его дочка; почему бы нет — породнимся, родственный обмен… Сигарета ударила в голову. Я ей спокойно говорю: — Алиса раздумала. Ей тут понравилось. Да я сегодня Леве по телефону рассказывала, он вам не говорил? — Когда? Мы с ним еще не виделись, я заскочила на минуту, он вас, кстати, на завтра пригласил? Ах да, про Алису! Чуть не забыла. Почему она так уверена, что она дочь Мусатова? Может, это так и есть, я, собственно, не против… Вот, я вас напрямик спрашиваю, чтобы покончить со слухами, или — вы что, в первый раз слышите? Тогда — я не знаю… Я не прошу вас клясться на Библии, меня вообще не волнует, что было до меня в вашей бурной молодости, но тогда одно из двух — кто-то же ей это сказал, или она у вас с большими странностями, советую обратить внимание. Только не считайте, ради Бога, что это цель моего визита, я действительно хотела с вами познакомиться, и мы вам косточки перемыли, уж будьте уверены, но это мы все завтра обсудим, завтра… Я слишком долго молчала. Алиса — со странностями? Алиса сама распустила этот слух? Я не находчива. Когда много вопросов, все путается в голове, тем более — под тенью, под сенью Мусатова. Я сидела на его месте, вот так он ее видит — она у него водитель, она V них мотор. Она хочет меня пригласить в свой «Проект», если он «тьфу-тьфу-тьфу!» состоится, она навела справки, у меня прекрасная репутация. — Да какая там репутация!.. Пустяк, а приятно. Я честно ей объясняю, что поставила крест, как с Пташковым разругалась — на сценографию не зовут, на костюмы — от случая к случаю, с кем попало не хочется, сил нет… — Мусатов — не кто попало. Он вас очень ценил, но, говорят, вы в торговой фирме теперь пашете, за большие бабки, а в театре — сами понимаете… — Говорят! Вон напахала на ползабора… Как умеют деловые дамы разговор повернуть — восхищаюсь. Я вся у ней как на ладони. Трепещу и обнажаю суть. Свою рабскую суть. От легкой лести «в зобу дыханье сперло». Я засмеялась, наплевать, что двух зубов не хватает слева: — Про меня много чего говорят! Вон, я уже свой бутик открыла — говорят. От Мусатова дочку родила и молчу восемнадцать лет, прям мать-героиня! Кому это нужно слухи распускать? Нет, я теперь докопаюсь… Вот тут я перегнула палку, я наиграла возмущение. — Докопайтесь. Я и сама сначала поверила. Разве так не бывает? Лева тогда под капельницей лежал, я и не спрашивала, разумеется, потом вообще забыла… Поверьте, мы не делаем из этого проблемы. На «мы» она сделала большое ударение, «мы» у нее звучит гордо, того и гляди скажет — «мы с супругом»… Однако повезло Л. М. в третьем браке. В ней все прекрасно. Я бы тоже на такой женил… ась? Сколько дел она успела переделать после трудового дня! Неслась на дачу — завтра будут гости, девчонок пьяных отвезла, глянула на наши участки под видом делового предложенья — или наоборот? Убила трех зайцев и заодно меня поставила в известность, что с девочкой не все в порядке. Ну да, это мои проблемы. Лицо у нее гладкое, как мыло, хотя уже, наверно, под сорок. Их общий сын в школу пойдет. Какая-то была у нее жизнь до Левы, но прошлое — нет, не читается, должно быть, она спит спокойно на правом боку после всех свершений, и грехов за собой не знает. А я? Не пригласила ее в дом, сама не вошла — ну и мамаша! — дочурка напилась, а ей хоть бы хны… Привычное дело — такое впечатление может сложиться; в собачью конуру хочет пальму посадить, а мокрые полотенца в сарае бросила. В театре разругалась, в торговлю не вписалась — вот нелицеприятный мой портрет. «И с чего ты взял, что тебе должно быть хорошо?» — любимый мой девиз плюс чувство юмора вчера куда-то испарилось. Я привязалась к ней с вопросами. Она хрустела вафлями и неохотно вспоминала. Оказалось — племянник Левин, Лева маленький, влюблен был в Алису без памяти и даже родителям сказал, что хочет жениться. Но вдруг что-то произошло, и он нанес визит в больницу, он от деликатности не помрет, и Леву, полуживого, — стал терзать: правда ли, что Алиса его кузина? Мусатов и не вспомнил что за Алиса, он уж потом к ней стал приглядываться. Оказалось, что некая Сусекина, подружка подколодная моей Алисы, конфиденциально, совершенно секретно ему сообщила, что Алиса — незаконная дочь Мусатова, и это ей известно с детского сада, и всем известно — от бабушки!.. — От моей мамы?! Вот это был момент, о котором не хочется вспоминать. У меня вытянулась физиономия, все мои старания «быть выше этого» пошли псу под хвост. Меня как волной накрыло всем этим вздором жизни, которая не удалась. Мама так считала. — Поня-атно… — Я пускала колечки дыма и горестно усмехалась, пока она честно припоминала источники. У Судаковых об этом всю жизнь судачат, баба Варя хитро помалкивает — «со свечой не стояла», но намекает на какое-то кино, «кино они тогда снимали, а я у дяди убиралась, у покойного…». Она спросила — что за кино, и, не дожидаясь ответа, глянула на часы: — Ох, Лева там с ума сходит! Так вы придете к нам завтра на ланч? Он, как никогда, нуждается в поддержке, он собирает новую команду из своих людей, своих, понимаете, он новых уже не хочет… Я встала у ржавой колонки в позе семафора, чтобы она не съехала в канаву, показала ей, как большую лужу объехать — между сосной и забором. Она помахала мне пальчиками — «не упускайте свой шанс!». Я не могла войти в дом. Там всюду горел свет. Алиса не спала, а я боялась. Надела дождевик и долго-долго запирала сарай. Он «ищет своих людей»! Как эта Карина меня вычислила! Дождь хлопал по капюшону, как по крыше. Мама носила этот дождевик негнущийся, цвета самолета. «Командир-пилот самолет ведет, У-у-у-у — мы летим в Москву!» — Алиса не любила бабулины притопы-прихлопы, она делалась букой при стариках. Этот серебристый плащ-шалаш меня переживет. Карина мне ввернула про «театр вещей», моя была идея, несостоявшаяся, она изучала мою «творческую биографию» — да где она записана, в каком досье? Почему она про кино спросила? Позорный факт биографии. Я его выжигаю, как татуировку. Забыла даже название этого кино несостоявшегося. И кто меня на студию привел. Какой-то Пан Паныча знакомый ассистент. И вдруг прямо навстречу, как в сказке, вылетает Мусатов. Нет, сначала я его голос услышала. Идет и орет, и прямо столкнулись мы с ним, бросились в объятия друг друга, как будто ничего и не было прежде, как будто мы друзья детства. «Спасай, Любаня, мне тебя сам Бог послал, по-ги-баю! Через три дня съемки, никто ничего не умеет и не хочет в этой клоаке!» — Он извергал проклятия на публику, в коридоре, у костюмерной, а потом шептал мне в самое ухо: «Ты не представляешь, в какой я ж…! Меня в упор не видят, зачем я в это ввязался?». Он был там — никто, какой-то гений из полуподвала, пришел и чего-то требует. Мне б головой подумать и скромно оглядеться на другой картине, куда меня и вели. Мне б его спросить, почему художники разбежались накануне съемок, почему он сам обо мне не вспомнил? «Любаня, ангел, золотые ручки… а ты где была?! пока я тут… Опять в каком-то Мухосранске Бабу Ягу шьешь навырост?» Буря и натиск с легким хамством — ну в самую десятку, то, что нам надо, дурочкам. «Нет, я была в Мисхоре. Я замуж выхожу», — ляпнула, похвалилась. «Это серьезно… — он пригорюнился, две секунды держал печаль в глазах, отеческую скорбь, — ну ты подумай, подумай, медовый месяц я тебе не обещаю…» Я бегала по цехам и складам, комиссионкам и старушкам, одевала актрис, а ночью делала эскизы и не знала усталости — после Крыма, после бурного курортного романа мне казалось, что я все могу — звездный час наступил! — Лисенков меня любит, я его люблю, а работаю я с самим Мусатовым — он такой несчастный, такой одинокий на студии, среди врагов, ему даже посоветоваться не с кем, я одна у него — «луч света в темном царстве». Съемки все откладывались, назревал скандал, директора он выгнал за воровство и взял тайм-аут. Заболел и скрылся. Я одна знала, что он живет у дяди в мастерской, опять холостой и бездомный. Он как раз тогда от «бабуси» ушел, была у него балерина, в два раза его старше, но это неважно, суть в том, что я опять оказалась кошкой, которую запускают в новый дом первой — на счастье. Мы с ним опять вдвоем обживали логово. Жарили пельмени в закутке на плитке. «Жизнь всегда вовремя посылает нам нужного человека», — сей лукавый афоризм я на всю жизнь запомнила, я была нужным человеком, а он — наоборот — ненужным и не вовремя. Мы играли в такую игру. «Унижение паче гордости» — это его конек. Кроткий, мудрый, отвергнутый, «все в прошлом». Кстати — коньки, я в тот день достала «снегурки» с допотопными ботинками и беличью муфту, предполагалась сцена на катке. Он расцеловал меня в оба уха и велел примерить ботинок. Сам стал шнуровать. А ботинок на размер меньше, на актрису вообще не налезет, ору от боли, хохочу: «Возьми другую актрису, лилипутку, лолитку… больно, щекотно… Не прикасайся ко мне, я люблю другого!» — «Кто этот счастливец?» Мы опять листали «Столицу и усадьбу», распотрошили сундук с семейными фотографиями — «дышали воздухом эпохи», и по рюмочке, по наперсточку копили приметы времени для нашего кино, но лед уже тронулся, черти меня поджаривали на сковородке, за шесть лет у меня накопилось, что ему сказать, и я долго и витиевато объясняла ему, что никогда его не любила и не хотела как мужчину, и мы за это выпили весь коньяк из дядюшкиных запасов — за мою свободу от его царской власти, потому что я — «уже не та девочка», меня обкатал провинциальный театр — я выдала монолог типа Нины Заречной про свои одинокие скитания и про неслыханное счастье, ожидавшее меня в Мисхоре. «Я даже имени его не знала, увидела на водных лыжах, и все…» — «Такой — с бородкой, Лисин, что ли, или Лисицын? Такой — искусствовед в штатском?» Разве теперь вспомнить, как я ему возражала — про Лисенкова и про свойства страсти, напилась я до беспамятства, потолок плыл и шел надо мной кругами. Может, и не возражала. «Не учи меня жить!» — выкрикивала и падала на подушку, и опять вскакивала, изображала, что ни в одном глазу. «А мне наплевать, где он служит, от него мужиком пахнет, он мастер по трем видам, тренер по теннису…» — «Стало быть, в погонах», — дразнил меня Л. М. «А я люблю военных!» На нас напало дикое веселье, мы хором читали стишок — «Действительно, весело было, действительно, было смешно…». Из нашей первой серии или из второй. «Однажды красавица Вера, одежды откинувши прочь, вдвоем со своим кавалером до слез хохотали всю ночь. Действительно, весело было, действительно, было смешно…» — чей — не помню — стишок, двадцатые годы. «Ты его спроси, — не унимался Лева, — их там стихам учат? А то я дам списочек. Нет, что ты, что ты, что за общество без офицерства? Зачем они погоны прячут? Как было бы красиво…» Он издевался и почти что ревновал: «А как насчет дуэли? Он меня на дуэль не вызовет?». Я смеялась надрывно, до икоты, и повалилась спать, одетая, провалилась минуты на три, не могла я при нем спать, все слышала — как он шуршит альбомом, как гасит верхний свет, заваривает чай, как раздирает крахмальную слежавшуюся простыню. Эти драгоценные моменты я не могла проспать. Я помню запахи и звуки, и вещи помню лучше, чем слова. Я тыкала кулаком в свалявшийся ворс дядюшкиной, из одеяла сшитой блузы, пыталась выговорить «негиге… не-ге-ги…». От нее исходил застарелый запах сладкого табака, чужой, душный запах неукротимого в пороках старика — «сними, ты пахнешь дядей, сними — тошнит». Легенду о порочном дяде он нежно развенчал: та клетчатая блуза сшита из американского подарка в сорок шестом году любимой дядиной натурщицей Тасечкой, тоже «золотые ручки», как у меня, а вот ее портрет, вот прогоревший абажур ее работы, а вот сам дядя с трубкой — мешковат и крючконос, последний его автопортрет. «Не узнаёшь? — смеялся Лева. — Это же я в старости, если доживу…» Как он любил, однако, свои фамильные черты и все причастное к семейству — я после это поняла, когда перебирала в сотый раз вот эту ночь. Грехопаденья. Так я думала тогда и думаю сейчас, когда все прочие грехи себе простила, вернее, позабыла. «Пить надо меньше», — сказала бы я кому другому, сказал бы мне любой, любая, кому бы я покаялась. А я пила затем, чтоб не уйти. Меня как пригвоздили к той тахте, и я злорадно знала наперед, что будет. Грех для греха. Искусство для искусства. «Без божества, без вдохновенья» и уж точно — без любви, как приговоренные, мы на рассвете, размякнув, поплыли друг к другу сонными податливыми телами, а когда проснулись и застали себя за этим занятием, что теперь называют «заниматься любовью», старались не дышать друг на друга перегаром и не смотреть в глаза. Я думала — зачем я не ушла, про Лисенкова, про маму, где они меня ищут, подлую скотину, и потолок опять плыл и качался, не выветрился алкоголь, накатывала тошнота. И если, как на следствии, спросить — да было или не было то, от чего бывают дети? — не помню, хотела забыть и забыла, теперь хочу вспомнить — чего уж там, за давностью лет, «историю не перепишешь» — как он вчера пошутил… Она сама тебя перепишет. Вот не помню, не помню, не помню. Как в романсе. Недаром от этого романса меня тошнит. Еще помню — должна была в девять явиться прислуга — убирать, что-то взять дяде в больницу. «Варвара не войдет сюда, будет греметь ключами…» Та самая Варвара, что теперь баба Варя. «Бойся Варвары, спозаранку приходящей», — мы склоняли эту самую Варвару до одурения, спасаясь от самих себя, как от погони. С картины я сбежала, как крыса с корабля. Врала, что разругалась с режиссером, разошлись во вкусах. Мой Лисенков и бровью не повел, своей неотразимой бровью, «кисточки делать из этих бровей, ондатровые»… Он был таким самоуверенным мужчиной, а я — очередной бабенкой, мечтавшей замуж — «захомутать вольного стрелка», как выразился он позже, уже после развода. Да так оно и было, что скрывать. Я страстно, ежесекундно, со всеми ухищрениями и капризами беременной бабы тянула его в законный брак. Ради мамы, как мне казалось. Мать шипела и злилась — непонятно на что. На все. Вот тогда она и придумала мне Великую тайну. Вот откуда ниточка вьется, я вчера ловила ее конец и не могла поймать. Помню один эпизод, который хотела забыть. Мать по телефону докладывала подруге: — …Ну конечно, кому она там нужна — беременная? Мусатов ее тут же выгнал с картины… — Я сама ушла! — Я ворвалась в кухню так, что она вздрогнула. — Я не могу ехать в экспедицию, не знаешь — не говори! — А я не с тобой говорю… Ах, мамочка, как она умела отмахнуться красивой ладонью — показать, кто тут хозяйка, в нашей маленькой кухне: — Будь добра, прикрути, пожалуйста, газ. Варилось варенье из айвы. Я прикрутила, повернулась и услышала — «у нас опять бешеные кошки», и увидела ее беспомощную, самую обаятельную из ее улыбок. Я двинула кулаком по разбитому нашему, склеенному телефону и скинула его со стола. — Не ее собачье дело — с кем я работаю и с кем я сплю! Мать этого и хотела — скандала. «Не мое, не мое собачье дело», — чтобы, как в тысяче кухонь, над осколками битой посуды дочки-матери, обнявшись, утирали друг другу слезы, все-все-все рассказав, облегчив душу — «мы и сами воспитаем, зачем тебе замуж?». Но не такая я была дочь, не доставила ей этой радости. И не каюсь, не каюсь. Хотела бы, а не могу. Каждый день закипали у нас «бешеные кошки», но как вспомню запах закипевшей айвы — так тошнит, как беременную, и подслушанная фраза маминой главной подруги — «что ты хочешь — обыкновенный мещанский брак» — озвучивает всю эту малогабаритную галиматью. Нашу свадьбу — совмещенную с Новым годом, у друзей на даче. Мы там и остались на две недели. Красивая была пара. Да, на необитаемом острове мы бы с Лисенковым никогда не разошлись, если бы был такой остров. Может, потому мне и выдумали параллельную жизнь, что своей не было? Мы долго еще соблюдали приличия ради Алисы, а красивая наша пара вызывала зависть, когда мы появлялись где-нибудь в театре или ходили по пропускам на запретное кино, но как же мы ненавидели друг друга, уже и в постели помириться не могли. Лисенков «нашел себя в искусстве», в рекламе «Аэрофлота», стал грести денежки, «чаевые», как он выразился, и полюбил новое слово «дизайнер», чуть что вворачивал. Ладно, про бывшего мужа — или хорошо, или никак. Разошлись из-за слова «дизайнер», пусть будет так. Было у нас время большой бессонницы, все как у людей. Шутку он принес, не сам придумал: «Москва эпохи у-па-дэ-ка», то есть «управления делами дипломатического корпуса». На четвертый раз я заткнула уши и завыла в голос. В Москве эпохи «упадека» у пьяных жен случались необъяснимые истерики. «У вас лингвистическая несовместимость», — шепелявила моя умная Аська. Где она теперь? И Дина, по прозвищу «динозавр», объяснила вековую ненависть: «Да не потому, что он взяточник, а потому, что он квадратный!». Я присоединилась к незамужнему большинству, и все меня поздравляли. Я нашла в сарае, в «реквизите», мамины духи «Каменный цветок», там еще осталось полфлакона, а я выбросила. И вот с этой зеленой коробочкой из бумажного малахита вхожу в дом, снимаю плащ-шалаш. Водку, что оставила на веранде, допила, а то зуб на зуб не попадал. Алиса болтала по телефону «нездешним голосом», будто на сцене. — Да пожалуйста, хоть спеть, хоть сплясать! А басню — хотите, я вам прочитаю? Ха-ха! «Мартышке где-то бог послал кусочек сыру, на дуб мартышка взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась — ужель я к старости слаба глазами стала? На ту беду Лиса близехонько бежала…» Ну да, они все там попадали, такой коллаж-монтаж, а то же им там тоже скучно… А прозу мне советуют типа Зощенко, а у меня не идет, можно я с вами посоветуюсь, если можно? Я сразу поняла, с кем она говорит. Стоит в пижаме на одной ноге, второй тапочек потеряла по дороге. Предъявила свой поставленный голос, теперь внимает чутко, на каждое слово — «Ой! Да-а? А вы его не слушайте! Я-а?!». Увидела меня и продолжает играть этюд: — Ой, мама пришла! Она вообще против, мне даже не с кем посоветоваться… Мам, Карина давно уехала? А то там волнуются. Вам маму позвать? — Уже полчаса, как уехала. — Что, уже приехала? Ну слава Богу, а то мы тоже волнуемся. Я зайду завтра, да?.. Бай-бай. — Звякнула трубка, потом сковородка. — Мам, я все грибы доела, у меня от холода жор… — Она обхватила себя руками, и голубая старая пижама треснула по шву. Я заметила, что у нее мокрые подмышки. — Мам, дай что-нибудь выпить, а то не засну. — А нету, я все выпила, — я собрала посуду и понесла под дождь. Она вышла за мной. — Они на наш участок глаз положили. Я сказала — мама хочет продать за оч-чень большие деньги. Оч-чень большие. У них таких нет. Пусть пока смотрят, да? Пусть пока копят? — Ну что ты кривляешься, что ты врешь? Думаешь, тебя Мусатов в актрисы запишет — прямо так, сходу? — Он мне скажет — да или нет. — Она смотрела мимо меня и ждала, пока закипит чайник. Она умеет держать паузу, мне доказывает, что она актриса, и каждый раз я думаю — может, и впрямь? — Не смотри на чайник, а то он никогда не закипит. Кстати, откуда ты взяла, что ты дочь Мусатова? Кто это выдумал? Она облизала ложку с вареньем и сделала детские глаза: — А что ли нет? — Что ли нет. А интересно, откуда ты это взяла? Ты ж не могла сама это выдумать, правда? — Ну-у… Мне так казалось. — Давно? В детстве? Бабушка на что-то намекала, да? Она кивнула задумчиво и стала заплетать косичку. — А у меня спросить? Больше всего я боюсь спугнуть Алису с разговора. Я перед ней стелюсь, это все замечают. — Ну, я стеснялась. — В детстве. А потом? Ты что — всегда так думала? Мне же интересно — как это могло произойти? Что ты думала, когда с отцом встречалась? Ты думала, что он и не отец? — Да ничего я не думала. Вы меня совсем запутали. — Ты на него похожа. — Я на всех похожа. Я могу быть шпионкой, да? На моем лице можно нарисовать любую роль, это считается не минус, а плюс для актрисы, неуловимое лицо — да? — Она потянулась к своему отражению в темном окне и долго разглядывала свой профиль, разглаживала переносицу, где преждевременная складка портит ей всю жизнь. Называется «горе от ума» и требует работы над собой. — Дай выпить, мам. Я же знаю — у тебя есть, вон там. От меня что ли прячешь? — От дяди Васи. От себя прячу. Пока стоит по всем углам — значит, не сопьюсь. Она достала из буфета полфляжки дрянного бренди и мамины любимые граненые стаканчики. И просияла — «хорошо сидим!». Спиртное и тряпки — тут мне еще позволено давать советы, все остальное — не моего ума. Даже чай она заваривает по-своему и готовит свое ризотто, а не мой плов. — Уфф! — выпила, разгладила свою складочку, повеселела вмиг. — Ну мам, ну давай мне на майке напишем — «я не дочь Мусатова», ну что теперь делать-то? Ты кашу заварила, ты и расхлебывай. — Я? — Ну а кто же? Ну любила же ты его, чего тут скрывать-то, теперь-то? — Твои детские фантазии — это одно, это бабушка выдумала Великую любовь, ей во мне всегда чего-то не хватало. Я стала лепетать что-то про того ботаника, что у меня — тоже была фантазия, что я вообще подкидыш, ну и так далее. Она слушала внимательно и кивала сочувственно. Я поставила все точки над «и» — что она — дитя летнего Крыма, что я раз в жизни захотела ребенка, и вот сбылось, жизнь вовремя послала мне нужного Лисенкова, и мы были, были, были счастливы — да она видела сама на фотографиях. Надо купить альбом и разобрать, кстати, семейные фотографии. И тут она вдруг говорит: — Кстати. Фотографии. А что вы делали в дядиной мастерской, когда изучали эпоху, и ты принесла дореволюционные коньки? Про ту злополучную ночь не знал никто. А она знала, и ее душил смех, она делала вид, что ее душит смех: — Вот, мамочка, все тайное становится явным. Я ж не с потолка взяла, я все просчитала. Это ни для кого не секрет, скоро книга выйдет. Испугалась? Да там ничего такого, не бойся. Он Левушке диктовал в больнице, типа учебника по режиссуре, а получалось очень занудно, ее печатать не хотели. А Левушка ему подсказал ход — смешные такие рассказики, с картинками, типа комикса. Там есть такой рассказик — как он не снял кино, все от него разбежались, даже подруга юности А. М., сделала эскизы и сбежала, ну, в том смысле, что король-то голый, не знал, как снимать, и все это видели. — Остроумно. И картинки сам нарисовал? — Нет, Левушка. Там рассказ кончается, что у него остались коньки-«снегурки», и он не мог вспомнить, откуда, почему у него эти коньки, он вычеркнул это кино из памяти, а художница Люба Милашевич ему напомнила… — Все врет! Ничего я ему не напоминала! — закричала я, как ошпаренная. — И не потому я сбежала с картины, что он там не знал, что снимать, а потому, что была беременная, нервы берегла. — Ну какая разница! Зато ты теперь попала в историю. У них такая книжечка будет — с руками оторвут, байки, сплетни — это Левушка все за ним записывал, и это его поставило на ноги… Вот Тата Судакова, она же врач, она правильно говорит… Мне надоело это слушать — она вся была на том берегу, а про меня забыла. Их книжечка, их болезни, их сплетни… — Мне неинтересно это слушать. Хватит мне зубы заговаривать, ты-то зачем попала в историю? Стыдно же. Могла бы обо мне тоже подумать… — Да я о тебе и думала в первую очередь! Ты чего-то не понимаешь. Сидишь тут, всеми забытая, как старуха Фирсанова. Не напомнишь — не вспомнят. Мне именно важно было эту Карину на уши поставить, ну пусть она думает, что я — «ку-ку», с приветом… До меня не сразу дошло. И сейчас до меня не все доходит, что она молола, прихлебывая чай, обжигаясь и фыркая. Нет, все же ей хотелось оправдаться. — Ну так совпало, понимаешь, так само совпало! Левушка мне совсем не нравится, ну как мужчина, увы, а он же для меня столько сделал и вообще он лапонька, я ж не хочу его терять, он меня теперь называет — кузина, я из себя вся такая — гувернантка, знай свое место, очень гордая девушка, ну оч-чень гордая! А то ведь это не инцест, да? С кузинами еще как трахались, да? — Солнышко, не говори при нем — «трахаться», Мусатов этого не любит, в артистки не возьмет. — А то я не знаю, я сама учу манерам. — Она стала разливать последнее, и я прикрыла рюмку рукой. — И при мне не говори. — Кстати, мам, «горняшки» от какого слова — от горняков или от горничных? Как будто она там была, на той веранде, где Лева учил меня манерам, была — за десять лет до своего рожденья, когда я не решалась спросить, кто такие «горняшки». — А ты у него спроси. Где слышала — там и спроси. Завтра у них завтрак на траве, тебя там тоже ждут? — Тебя ждут. Видишь, все так удачно сложилось. Ну что ты сидишь с опрокинутым лицом? — Думаю — идти или не идти. — Да вижу я, о чем ты думаешь. Думаешь — вот дочечка уродилась — «без мыла в жопу влазит», как говорит баба Варя. Она ж Варвара, которая со свечой не стояла. Не про меня говорит, не про меня. А кому от этого плохо — скажи, я ж только намекнула, и процесс пошел! Расшалилась моя Алиса, с ней ночью бывает — смех без причины, переходящий в рев. Я ночью прислушалась — вертится, читает. У меня тоже бессонница, и я не пошла на тот берег прогуливать шляпку, куда с таким лицом? Недолго я тешилась мечтой о завтраке на траве, и на том спасибо, Карина правильно говорит — надо обратить внимание на девочку. И вот я пишу, пишу, пишу, докапываюсь, а концы с концами не сходятся, у нее «неуловимое лицо», ну да, наши помятые жизнью лица уже открылись, какие есть, а у них — неуловимые, можно напялить любую роль, все роли еще впереди. Я думаю не о том — они же ее просекли, они раскусили, что она сама пустила слух. Таких в гувернантках не держат. Ее же выгонят! Одно только может быть оправданьем — я выдумала, девочку ввела в заблужденье. Или она, или я. Вот, наверно, звонит Карина. Господи, почему мы не продали эту дачу!..«Не говори маме»
рассказ внучки в электричке
— …Бабушка Ира — вот куда мы сейчас едем — у нас в детстве считалась королевой. Мы к ней ходили по праздникам. На меня надевали все самое лучшее. На елку, на дни рожденья, на Пасху. Нет, она в Бога не верила, но у нее всегда были самые красивые пасхальные яйца, и куличи, и старинная формочка для Пасхи с буквами «Х.В.» Я прислушивалась — чего-то они с мамой всегда не договаривали и меня гнали из кухни. У них уже тогда были натянутые отношения, мягко говоря. Отец как-то сказал, когда возвращались с елки: «Твоя Снежная королева детей бы лучше пасла, чем…» А я вступилась за бабу Иру, почему-то я всегда была за нее: «Она не снежная, она нежная». Они засмеялись — «ага, как Багира». Багира — это тоже от меня пошло. «Ба-Ира, ба-Ира» — я звала ее в детстве, а глаза у нее были тигриные. Вообще-то она Ираида, но Багира — ей понравилось. А потом уже, когда мать с отцом разошлись, я все подслушивала — чем они так друг друга раздражают? Мама в церковь стала ходить, приняла крещение, уже взрослой, а Багира этого не одобряла… Они сдерживались, при мне не ссорились. Только и слышно из кухни — «все, молчу, молчу!..» И опять заводятся — с чего, непонятно, а коронная фраза — «только мне не ври!» — на весь дом. Как у всех, даже скучно, но однажды — запомнилось на всю жизнь: Багира стоит уже в прихожей, новые перчатки натягивает и говорит маме — весело так, с огоньком в глазах: «А мне, — говорит, — Бог и так все простит — хотя бы за то, что я никогда не врала, что я в него верю». Умыла, в общем, мамочку мою новообращенную, да еще при мне. Последнее слово всегда оставалось за бабкой. А я потом в школе повторяла подружкам ее остроумное изречение. Мне нравилось, что она такая красивая, и выглядит моложе мамы, и одеваться умеет. Она как раз тогда замуж вышла в третий раз, за деда Витеньку. Это его дача — куда мы едем — академическая. Потом уж я узнала, от злых языков, что она деда Витеньку десять лет добивалась. Была тайной любовницей, потом «официальной», секретарем-референтом, и говорят, весь институт держала в руках, когда он стал болеть и из больниц не вылезал. А я у них только одно лето провела в детстве, вот на этой даче, куда мы едем… Дед Витенька бегал со мной за бабочками, он все их названия знал. Но они каждое утро уезжали на работу, меня оставляли с какими-то соседками, няньками — никого не помню; помню, что я целыми днями их ждала. Выходила на дорогу, высматривала машину, волновалась — а вдруг они не приедут? Они мне книги по очереди читали. Один раз Багира читала — читала и заснула прямо в кресле. Нужна я им была, как собаке пятая нога. Но разве в детстве это понимаешь? А потом уже, когда Виктор Семенович умер, я Багиру редко видела, она всегда на работе, живем в разных районах. Только пару раз к ней с мальчиками приезжала, деться же некуда. В девятом классе Вадик у меня был — «сурьезный» юноша, математик, программист. На два года старше, из «хорошей семьи». Багира как на него взглянула — он мне сразу и разонравился. Ни слова плохого не сказала. Все про лекарственные травы говорили, про кошек и собак, а он такой воспитанный — поддерживает разговор, якобы ему интересно… А я вдруг думаю — чего это он тут делает? И вся любовь. Но это, конечно, и не любовь была, а так — лестный вариант, перед девчонками хвастаться, что у меня «своя жизнь»… Но и со Славкой, в институте, такая же история. Славку ты помнишь. Мы с ним после первого курса все отношения выясняли. На даче целую неделю провели, и все, и разбежались. Он потом сказал: «Это твоя Багира порчу навела». Я у нее и спросила: «Правда, что ты умеешь порчу наводить? Всю любовь как ветром сдуло». «Ага, — говорит, — я их из рогатки отстреливаю, твоих амурчиков, а бедный Славик мне очень понравился, я бы его увнучила, а для тебя он слишком хороший». «Значит, выходит, я плохая?» Багира и глазом не моргнула: «Конечно, ты вся в меня». И все наши разговоры кончались страшным шепотом: «Только маме не говори» — «и ты не проговорись» — ну, например, что мы у нее неделю прожили. Мы с ней вместе придумывали, где я была и с кем. А у мамы просто тяжелый характер и никакого чувства юмора. И любимая у нее фраза: «Только мне не ври!» И такой у нас дома суровый климат, что и хочется иногда ее пожалеть, приласкать — «мамочка, родная то да се, кому же мне еще врать, я — в пределах нормы…», но как посмотрит — насквозь! «только мне не ври!» — всякое желание отпадает. Но почему-то я Багиру очень редко видела. Только по телефону мы душу отводили, когда дома никого. И были мы у них в институте, когда ее на пенсию провожали. Там, я заметила, многие вздохнули с облегчением, ее «железной леди» называли за глаза, а восхваляли неумеренно, стихи читали, частушки сочинили, пафосные речи… Она даже глаза прятала — от лицемерия. Как раз у нее глаз один чуть опустился — воспаление лицевого нерва. Она стеснялась с таким глазом на работу ходить, очки темные не снимала. Гордилась, что ушла вовремя, что оставляет институт в целости и сохранности. «А то они сейчас все передерутся, и их прикроют, но уже без меня, без меня!» Так и вышло, кстати. А сама стала жить на даче постоянно, в квартиру деда Витиного внука пустила, он женился как раз. А в прошлом году и дачу сдала, переехала во флигель. Избушка у них там, в саду, с кухонькой, летом вполне можно жить. И всегда все у нее — о'кей. По телефону. Бросила курить, бегает по утрам на речку. И дачное общество ее вполне устраивает. Играет со старичками в преферанс и поет им романсы. Записалась в детский кружок резьбы по дереву — всю жизнь мечтала! И все они вместе — старички и дети — возрождают старинную русскую игру в городки. «Матушка в своем репертуаре, — сказала моя мама. — Лишь бы во что-нибудь играть: в счастливую старость, например». А мы как раз с Мишаней собирались в Гурзуф, и с мамой, конечно, напряженка. Нудит и нудит, а у меня экзамены, две ночи не спала, и уже вещи собраны, а у нее, видите ли, сомнения… В общем, поцапались на нервной почве. А у меня и у самой, кстати, сомнения… Хлопнула дверью, сижу рыдаю на скамейке, а Мишаня, во-первых, билеты не взял, деньги ему задержали, во-вторых — вообще с работы не отпускают, должен дежурить. Отступать некуда, ушла с чемоданом. Ну переночевали мы в общежитии, я говорю — поехали к бабуле на дачу, посмотришь — если тебе там понравится… А про себя думаю — если он ей понравится… И вот мы приезжаем, идем не спеша с электрички, еще на травке повалялись, я его подготовила, что Багира у нас с характером, можешь хоть сегодня уехать, я не обижусь. Приходим — а там нет никого. На флигеле замок висит, ключ, правда, рядом под камушком, а в самой даче какие-то чужие дети телевизор смотрят. Бегаем по соседям. Говорят — видели сегодня, она у дяди Васи в гараже старую «Волгу» чинит. Побежали туда. Я про эту машину и забыла, думала, она ее давно на запчасти продала. А у дяди Васи глухой забор, и самого его нет, соседка видела — уехал на авторынок. Бегаю, кричу: «Багира, Багира!» Старый гараж в глубине участка, а новый — кирпичный, и ворота железные — крепость! А у меня уже какое-то предчувствие, сердце в пятки… Я такая трусиха оказалась! Я даже не смотрела, как они ее из гаража вынимали. Когда дядя Вася вернулся. А я бегала — «скорую» вызывала. Но они ее до «скорой» как-то откачали. Мужики все-таки: Мишаня санитаром работал, дядя Вася в пожарной охране служил. Видела только, как они ее на раскладушке в дом отнесли, к дяде Васе. А когда я к ней вошла вечером, она лежит — вся зеленая, отворачивается, слезы на глазах, и первое, что сказала: «Не говори маме, ладно?» И все просила: «Не смотри на меня, я страшная, вот теперь возись со мной…» И с такой укоризной посмотрела — мол, зачем вы явились, нарушили мои планы? Она никаких записок не оставила, только в гараже нашли бумажку, успела нацарапать карандашом — «Я сама. Прости, Вася». Значит, вспомнила, в последний момент, что его станут таскать в милицию. Значит, в здравом уме и твердой памяти она это сделала. Наверно, давно задумала, а тут случай удобный подвернулся. Я у нее не спрашивала, все и так слишком ясно. «Ну и как там, бабуль, на том свете?» — я старалась все в шутку перевести. Она говорит: «Ничего там, муть какая-то. Только маме не говори…» Мы решили от всех скрывать, дядю Васю попросили, чтоб — никому, а то по поселку разнесется, зачем это надо? Сказали — просто бабуля отравилась чем-то, пришлось «скорую» вызывать. А снимал у нее дачу как бы друг и соратник, любимый аспирант еще деда Вити, но сам он куда-то за границу умотал, а поселил там ребенка с тещей, которая оказалась уже бывшей тещей. Такая мелочная, плаксивая баба, все у нее болело, сплошной склероз. И денег они не платили, а Багира стеснялась требовать, почему-то чувствовала себя перед этой Аллой Ивановной виноватой: она как бы богатая, а они как бы бедные, хотя на самом деле все наоборот. Думаю, что это и было последней каплей. Пианино! Они в ее закрытую комнату попросились, ребенку же надо гаммы играть. Она с тех пор вообще в дом избегала входить. Тетку эту хитрую видеть не могла. Первую ночь мы с Мишаней вообще не спали — наговорились на всю оставшуюся жизнь, в ее флигеле с электрокамином. Меня всю трясло, а Мишаня такой был спокойный… Все познания про суицид выложил, как по учебнику. Что старухи это часто повторяют, если уж задумали. Она ж ему вообще чужая, а я все вспомнила — как мы ее не понимали, как она вдруг превратилась в старуху… У нее подруга, самая-самая, со студенческих лет, умирала в хосписе, и Багира ее навещала, а потом, как эту Галку похоронили, к нам после поминок заехала. Сильно выпивши, даже качалась, и все говорила, говорила не могла остановиться. Мать на нее прикрикнула: «Угомонись!», уложила спать, а она спать не могла, ходила как привидение, бормотала сама себе: «На меня кричать нельзя, мне семьдесят лет скоро — будет ли! Имейте почтение…» И «бу-бу-бу… дураки!» — какие-то слова из нее вырывались, мне страшно стало, и утром — она к врачу записалась, но не пошла, сразу на электричку: «От меня водкой разит, и страховой полис надо менять, ну их к лешему, не дадут спокойно умереть…» Я даже на электричку не пошла ее провожать, ненавидела эти разговоры похоронные. Она про самоубийства любила читать, особенно про поэтов и про женщин, от Марины Цветаевой до Юлии Друниной. Как будто примеривалась. «Жаль, — говорила, — я не из этой породы, я люблю эту тухлую жизнь, не надеясь, что это взаимно». Кривляться стала, вроде как в детство впадает: «Утречком, за молочком, с бидончиком, с палочкой, закутаюсь, без зубов, шамкаю — никто и не узнает…» Трудно ей там было первую зиму зимовать. Все это я Мишане рассказала, какие мы нечуткие были, не замечали в суете сует, что с бабкой что-то делается. Говорю ему — уезжай, она тебя еще стесняться будет, я сама ее окружу вниманием. У нас же намечалось как бы свадебное путешествие, чего ему с чужой старухой возиться? Утром выползли из флигеля — роса, жасмином пахнет… Мишаня говорит: «А давай я на тебе женюсь по расчету, очень мне ваша дачка понравилась». А мы тогда всякой занимательной психологией увлекались «Игры для взрослых» и прочее… У него по лицу ничего не поймешь, только левый глаз прищурит — значит что-то просчитывает, и он такую игру придумал — я не сразу врубилась… «Она же тебя любит? Ей не все равно, за кого любимая внучка замуж выходит?» — «Ну, — говорю, — если кого и любит — так меня. А вообще ей наплевать на человечество, она этого не скрывает. Устала делать вид, что её что-то интересно». «А если внучка влюблена как кошка, а он — совсем дуболом и к тому же глаза завидущие?» Он мне расписал эту модель с железной логикой — как мы Багиру будем из депрессии выводить. Нужно, чтобы жизнь потребовала ее участия, а то у нее эмоции атрофировались за ненадобностью, и необходимо их снова запустить. Мы этот курс лечения расписали по дням, сами визжали от смеха — он «дуболома» изображал, а я влюбленную кошку. Но сперва надо было выкурить жильцов. Мы им нашли комнатку с терраской, тут же, в поселке, помогли переехать. Багира вернулась в свою спальню. Мишаня ездил на дежурства, так что она его не очень и замечала. Однажды вдруг является с цветами и с шампанским. «Прошу, — говорит, — руки и сердца вашей внучки. А то без благословения старшего поколения как-то получается нелигитимно». Молол что-то про старые традиции, начал свою биографию рассказывать. Багира даже растерялась: «А я что должна делать?» Села за пианино, сыграла туш. Он открыл шампанское, я «держу лицо», глупо улыбаюсь, а он — так обстоятельно — в каких войсках служил, и про предков, и про родителей, и что он был уже женат, но не нашел в первом браке чего искал — настоящей «подруги жизни», она всего сразу хотела, а он еще пока студент, надо жить по средствам. Но в Москве он прописался, и с бывшей супругой официально разведен, и родителям уже про Иришку написал, так что они в курсе у себя в Курске. И главное — все правда, что он докладывал, а я сижу давлюсь от смеха. У Багиры глаза туда-сюда бегают — с него на меня: — Ну и чем я могу вам помочь? Хотите в этой даче жить — пожалуйста, я к своему флигелю привыкла. Друзей пригласить? Ради бога! Свадьбу справить? Можно за домом стол накрыть, там у нас раньше по двадцать гостей собиралось, шашлыки жарили, так что — нет проблем. А насчет «легитимности» — вы своих родственников хотите позвать? Тут, я вижу, она немного испугалась. — Это мы пока не потянем, — серьезно так отвечает Мишаня, — можно пока в узком кругу, — и тут же списочек развернул — чего где закупить подешевле и кого позвать необходимо — с его стороны, с моей стороны, а из старшего поколения — «на ваше усмотрение». Шампанское выпили, подробности обсудили, а когда он утром в Москву уехал, она мне устроила!.. Приняла за чистую монету. — И ты — вот за этого — не скажу кого — замуж?! Да ты с ним через месяц разведешься! Где ты такого откопала? — Он стесняется, — говорю. — А так он хороший и меня устраивает. Например, в постели. И по жизни… Она этих слов терпеть не выносит, прямо за голову схватилась: — Что-то я тебя не узнаю. Ты что, кому-то назло замуж выскакиваешь? Он тебя устраивает, ты его устраиваешь, а любовь? — А любовь, — говорю я нагло, — мне надоела на данный период. Хочу брачный контракт. — Ой-ой-ой! — кричит моя Багирушка, — прямо как в ТЮЗе, — у тебя настоящей любви еще не было. — Значит, будет. Никогда не поздно. Чья бы корова мычала, а твоя, бабулечка… Растравила я ее до полной откровенности. Давно, наверно, ей хотелось, но не рассказывала — кому это интересно? — Про свою молодость, до деда Вити. Она прожила много жизней. Ее покойная подруга Галка смеялась, что она «душечка, попрыгунья и дама с собачкой» в одном лице. Совмещает несовместимое. Кстати, на похоронах этой Гали она встретила своего первого мужа и не узнала, такой он благообразный старичок стал, а был пьяница и гуляка. Теперь служит в каком-то аптечном киоске, обещал ей хорошее снотворное подобрать. Проводил ее к нам с поминок; ручку поцеловал, договорились как-нибудь встретиться… В общем, Мишкина программа сработала. Эмоции мы «запустили». Исповедалась она, и как-то легче стало. Про маминого отца, который в Австралию уехал, она и в анкетах не писала, это у нее был гражданский брак, а на самом деле — такая любовь, что и на склоне лет остались вопросы… Был бы он здесь и живой, она б его спросила — правда ли он ту женщину полюбил, с которой эмигрировал, или — наоборот — для того и женился, чтоб уехать? Так и останется тайной… А Пашка что? Он и тогда ей был как брат, Пал Нилыч, что теперь в аптечном киоске, он долго по ней страдал, звал обратно — с чужим ребенком, но нет, они просто дружили, пока мама моя — первоклассница — не прогнала его пьяного. «Да какой ты Айболит? — сказала она, когда он пришел посидеть с больным ребенком и назвался Айболитом. — Ты пьяный дурак и уходи, мы тебя не любим!» Я уже раньше слышала эту историю, но Багира сказала одну интересную мысль: когда-то у всех были большие семьи, много братьев и сестер, а теперь — почему так часто женятся, романы заводят, меняют партнеров? Она, правда, этого слова не признает, но смысл такой: добирают себе братьев и сестер. Иллюзия, конечно, но если кому удается расстаться по-хорошему… Пока мы на эту тему философствовали, я подумала, а не позвать ли нам этого Павла Нилыча аптечного? Правда, слово «снотворное» мне не понравилось, мы там во флигеле у нее много лекарств нашли. Она все поняла, о чем я думаю, говорит: — Не напрягайся, деточка, я больше не буду, не буду, не буду. Буду к твоему Мишке привыкать и свадьбу готовить. Разоденем тебя, как куколку. Можно и Пашку на место деда позвать, для «легитимности». Вот, теперь у меня будет достойное занятие, не одной ведь свадьбы у меня в жизни не было, «жених» — слово-то какое смешное, или теперь не так? А на выходные мой жених привез приятелей, они на машине приехали, поиграть с Багирой в преферанс, а на утро рыбу половить. Я ужин подавала, все тихо-мирно, бабуля их обыграла, а когда они на рыбалку уехали, выдала такой монолог: — Твой суженый не простой мужичок, каким хотел прикинуться, скажи ему, что не надо ко мне психиатров возить под видом игроков-рыбаков. Который в самом деле рыбак — тот играть не умеет, как и твой Мишаня, а тот, что справа сидел, Игорь, он меня изучал на предмет старческого психоза. Я его сразу раскусила. Я глупости делала, играла безобразно, а он молчит, прощает. «Что, — говорю, — Игорек, пациент всегда прав?» Он аж заерзал, понял, что я все понимаю. «Вы не мой пациент», — такой был диагноз. А жаль, говорю, и на свадьбу его пригласила, ты не против? Он мне понравился. И такая энергия в ней взыграла, она вся устремилась к этой свадьбе, которая вообще-то в наши планы не входила. И Мишаню вдруг полюбила как родственника. Он и заботливый, и рассудительный, и уколы ей делает не больно. Мы почистили участок, перемыли весь дом, подлатали, подкрасили, а по ночам почему-то стали все время ссориться. Мы во флигеле, а она в доме, у нее бессонница, она по ночам садится за пианино, подбирает старые песни, те, что они певали с этим, первым мужем, с Пашкой, в девятьсот лохматом году: «Горят костры далекие, луна в реке купается, а парень с милой девушкой никак не распрощается»… Или вдруг к нам постучит, тысяча извинений, обсудить ей надо, стоит ли позвать дядю Васю. — Бабушки стало слишком много… Может, она ляжет наконец? — кричит на меня мой заботливый, рассудительный. — Ты же сам этого хотел! Ты же сам эту свадьбу выдумал! — Я — свадьбу? — Ну а кто же? «Дуролома» изображал, биографию вкратце… — Я думал, она тебя отговорит. Тут уж я взвилась. Он смеется, лезет обниматься, а я всерьез, я уже почти его ненавижу после этих слов. Хорошо, отговорила, отговорила, и уезжай хоть сейчас! А что она про меня говорила? Так мы ругались до полного идиотизма. Ну и мирились иногда под утро. А бабуля встает свеженькая, несет нам оладушки, стучит в окошко. — Тук-тук. Бабка в окошке! Пойдешь, Мишанечка, в городки играть? Мы им сегодня класс покажем. Он зарывается с головой в одеяло, а заснуть уже не может. А бабуля, как нарочно, сядет за пианино, бренчит одним пальцем и стишки распевает: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». Это она про меня?! — совсем Мишаня стал нервный и неуправляемый. Мечется по нашей избушке как зверь в клетке, и сказать ей ничего не может — она пожилой человек, хозяйка дома, а он кто? И свадьбу уже отменить невозможно — она старичков наприглашала, и Пашке своему позвонила, и мы кое-кого уже пригласили, я — Алену с Сережкой, он своих двух дружков. И не мы ее окружаем вниманием, а она нас, причем — плотным кольцом. Срочно нужно какие-то бумаги выправить, чтобы дачу мне завещать, мебель переставить, водку настаивать на каких-то травах и пропустить рюмочку. «Чтой-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» А он ей пить не позволял вообще. «Ну тогда спрячь, раз ты врач!» — то ли в детство впадала, то ли кокетничала: «Раз два три четыре пять — я иду искать!» А потом сядет и поет: «Жили у бабуся два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся…» И сама же потом объявляет: «Маразм крепчал, да, Мишанечка?» Он молчит и наливается злостью. — Маразм тоже можно симулировать, чем она и занимается. Распустили мы старушку, — и мой терпеливый рассудительный уже собирается уезжать. — А то я постепенно сойду с ума тут с вами… А тут как раз ураган, и дерево упало на забор. Ну как он уедет — он же мужчина. Так и дожили до свадьбы. Главное — в натуральном виде, когда она испуганная, растрепанная, старая — она его не раздражала. «Пациент всегда прав». Я его раздражала: то реву, то кричу: «Я же тебе говорила!» Вместо любви у нас любимая шуточка — «до свадьбы заживет». Только что не дрались. Я к Багире в дом переехала ночевать. Накануне гостей мы с ней так серьезно поговорили… Я попросила: — Не говори маме, никакая это не свадьба, а так… для нее мы в Гурзуфе, и не надо, ради бога, кричать «горько». Она стала оправдываться, что обоим нам желает счастья, что она хотела как лучше, но какой-то черт в ней сидит, и все получается наоборот. Никому она в жизни не пожелала зла, а вышло — никому и не принесла счастья, одни испытания… Это я уже от себя так додумала, что нам было послано испытание. А она вдруг как заплачет: — Это все гордыня, Ириш, гордыня. А на нашу как бы свадьбу первым явился как бы дед. Такой крепкий, аккуратненький старикан. В пиджаке, при галстуке, и не скажешь, что бывший алкаш. Ведет здоровый образ жизни, посещает бассейн и других учит — по какой-то восточной системе «ниши». А когда за стол сели, тут он конечно «развязал» по такому случаю, стал тосты произносить, бабулю восхвалял в стихах и красках, меня все время с Аленой путал. Стал всем рассказывать, причем до мельчайших подробностей — как их с Ираидой полвека назад из университета исключали, тут они с горя и поженились, и им на десерт морковное повидло принесли, и пели они дуэтом — «О голубка моя…» Стол разделился на две неравные половины. У них там вечер воспоминаний, то ее Галку поминали, то деда Витеньку, бабуля всех старичков увела в дом, чтоб не надрались окончательно, села за пианино, пели военные песни нестройным хором. В общем, вечеринка удалась, про свадьбу все как-то тактично забыли, просто выходной на природе, купание на закате. Мы пошли на дальний пляж. Пока шли, раздевались, смотрим — и старички за нами подтянулись. Этот Пал Нилыч стал хорохориться, что он речку первый переплывет. Разделся, приседает, мускулатуру всем показывает. А река у нас быстрая, сносит далеко. Мы, как всегда точку наметили, где вылезать на той стороне — где лодки лежат перевернутые. Бабуля его урезонивала: — Пан спортсмен, ты обратно-то доплывешь? Ты не гонись за ними, они молодые, а у тебя хмель еще не прошел. Мы с ней на берегу остались. Их всех — Мишаню, Сережку, Алену — далеко унесло по течению, за поворот, а старик упрямый, стремится к намеченной цели. Его сносит, а он против течения, и вылез «пан спортсмен» у самых лодок, и еще кулак вот так поднял, чтобы все видели. Мы ему похлопали, а он зашел за лодку, и не видать его. И долго не видно. Он там упал за лодкой, или лег — не знаю, скорее всего сразу упал и умер. Пока наши вернулись, стали кричать, звать… Поплыли туда, а уже поздно, он уже мертвый. Такая вышла свадьба, плавно переходящая в поминки. …Я теперь так спокойно рассказываю — был дед, и нет деда, «на миру и смерть красна», многие бы так хотели — доплыть, и все. Вся эта канитель — морг, оформление — на Мишаню свалилась, дед одинокий был, жена умерла, сын где-то на Камчатке служит, опоздал на похороны. С тех пор Багира Мишаню полюбила как родного. Он ее навещает чаще, чем мы. Всю весну у нее прожил. А любовь у нас испарилась сама собой, без слез и скандалов. Просто тупик, скука. Как будто мы уже всю жизнь с ним прожили, и даже разговаривать не о чем. В прошлое воскресенье приехала, иду с электрички мимо городошников, там Мишка с дядей Васей сражаются, а Багира сидит на пеньке — болеет. Козырек на ней от солнца, темные очки, спинка прямая как у балерины. Только похудела страшно, брюки висят. Но биту хватает — «пустите меня поиграть, мальчики!» А Мишка с ней теперь не церемонится, давно на ты, «бабуся»… В общем — «два веселых гуся». Вот я и думаю: а поехали бы мы тогда в Гурзуф, и не было бы всех этих испытаний, и я была бы той же дурой испуганной, как в прошлую весну. Всего я боялась — одиночества, мамы, экзаменов, унижений, бедности — и бежала, увиливала, а все такие пустяки, и ничего страшного нет — кроме смерти.
Мой прадед Сергей Дмитриевич Ржевский в своем саду в имении Власьево

Бабушка Наталия Сергеевна в детстве

Она же в юности, еще Ржевская

Она же в 1939 году, когда я уже была. (Читайте в воспоминаниях «Тайна предков» и в статье «Плоды покаяния»)

Колонна железнодорожников на первомайской демонстрации. (рассказ-воспоминания «Самозванка»)

Отец, Борис Сергеевич Рязанцев в молодости

Мы с братом Юрием в пионерском лагере под Туапсе

Мы с отцом на нашем крыльце в Лосинке (г. Бабушкин)

Мы со Шпаликовым (1960 год) весной на природе

Геннадий Шпаликов в северной командировке

Геннадий Шпаликов

Мы с актрисой Майей Булгаковой на встрече с первыми зрителями к/ф «Крылья»
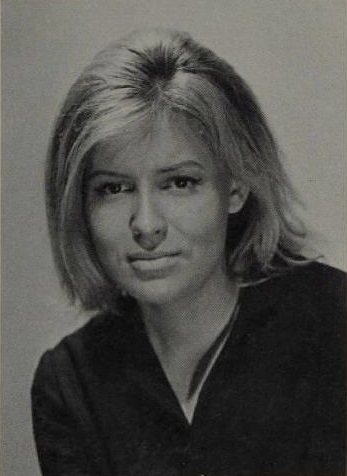
1964 год. В журнале «Искусство кино» напечатан наш с В. Ежовым сценарий — «Повесть о летчице», по которому Л. Шепитько сняла к/ф «Крылья»

Кинодраматург Валентин Ежов и моя подруга Маша Хржановская. Дом творчества «Болшево», 1968 год

Мы с Ларисой Шепитько. Дом творчества «Болшево», 1968 год

Это мой день рождения. Дом творчества «Болшево», 1968 год

Александр Аркадьевич Галич. Дом творчества «Болшево», 1968 год

В бильярдной Дома творчества

1976 год. Фото Н. Гнисюка для журнала «Советский экран»

80-е годы. Дома

90-е годы. Фотография для интервью о феминизме

Во ВГИКе. Двадцать первый век
Путем собаки
Кто первый высказал эту светлую мысль? Что пора Маргариту Леонидовну, «маму Риту», познакомить с «папиком». Теперь кажется, что хором — обе, вместе — пошутили. На самом деле, конечно, нет. Лиза — первая. Она упала в сугроб и не хотела вставать. Она была совершенно пьяная. Вероника принесла из общаги полбутылки ликера, и они выкурили полпачки сигарет. Пока гуляли с собакой. У Вероники в тот день была причина сбежать с этой тухлой вечеринки — как раз после Нового года — в единственный теплый дом, к голубоглазой Лизочке, смотревшей на нее во все глаза — «как смотрят дети», к ее чудной собачке Эрли и ее маме Рите, которая и выслушала бы, и тортом угостила, и ночевать оставила… Но без ликера и сигарет. В то утро Вероника — второй раз в жизни — встретилась со своим родным «папиком», и он произвел на нее странное впечатление. Он прямо, без подтекста, открыл все карты — про свою запутанную, «затрапезную», как он выразился, жизнь, нервничал, размахивал руками и напрямик спросил; «Тебе это надо?» А по мастерской бегали мыши. Или одна мышь. Он сидел с кисточкой в руке и прицеливался — хотел эту мышку пометить красной тушью, чтобы понять — одна она у него или много. Вероника сказала, что может принести из общаги кота, у них как раз кот бесхозный бегает, и — слово за слово — догадалась спросить: «А я у тебя одна такая или много — детей внебрачных?» Он сказал «одна» и глубоко задумался, прямо-таки ушел в себя с кисточкой в руке. «Сын, Игорь, тот законный, я вас, кажется, в тот раз познакомил… или нет?» Все спуталось у «папика» в голове, даже жалко его стало. А ведь была мечта — перебраться к нему постепенно. Оказалось, жена последняя его выселила в коммуналку, там склад пока что, «никак руки не доходят», и тараканы, а тут мыши в мастерской, и без горячей воды. Он и сам требует капитального ремонта. В общем, планы рухнули. А Лиза в тот вечер как раз поцапалась с мамой Ритой, как никогда прежде, и ляпнула что-то, и дверью хлопнула, о чем сразу же пожалела. Ну детский сад на фоне рухнувших планов Вероники и папика с кисточкой! Они распили ликер на мерзлой скамейке, и полегчало. — Ты поживи пока в общаге, под «две гитары за стеной», а я у мамы Риты, тогда узнаешь… Прикинули вариант обмена, посмеялись. — Да ты не знаешь, как она давит, — жаловалась Лиза, — даже когда молчит. Я вот ничего особенного не делаю, а спиной чувствую: мама не одобрям-с. Гипноз какой-то! Весь воздух пропитан… — Это чисто актерское, — объяснила опытная Вероника, студентка первого курса, — у нее такая энергетика. Надо же уметь держать зал, это вторая натура, она в душе все равно что-то играет, накручивает, наполняет паузы… — Да ни во что она не играла, пока был жив ее этот… — возразила Лиза и рассказала печальную историю маминого тайного, затянувшегося на семь лет романа. — Да она меня вообще не замечала! Потому что была занята другим! То студенты, то этот… из-за которого она с отцом развелась… Я как бы ничего не знала, смотри, не проговорись, на самом деле все знали. Из института ее турнули, она как бы сама ушла, и теперь я у нее одна! Ну да, играет, в ну очень сильную женщину («жизнь прекрасна, никто нам не нужен!»), конечно, энергетика, прямо током бьет, и всё в меня! У Лизы заплетался язык, и она упала в сугроб и барахталась там с серым пуделем Эрли, а Вероника срочно искала по карманам что-нибудь мятное — зажевать проклятый ликер. А то ведь мама учует и откажет Веронике от дома. — Ну-ка скажи «с переподвыподвертом»! Ну-ка выговори «Маргарита Леонидовна меня муштровала, да не вымуштровала…» Они хохотали до слез и умывались снегом. — Покупатель путеводителя купил путеводитель покупателя, — выговорила Лиза придуманную накануне чистоговорку и хотела еще что-то сказать (что маме, должно быть, икается, целый вечер они ей косточки перемывают), но вместо этого ее вдруг осенило: — А давай мы ее с твоим папиком познакомим! Вероника задумалась. Ей такое в голову не приходило. Этот папик с кисточкой и великолепная, всегда такая «прикинутая» Маргарита… И они полчаса еще обсуждали возможности: где и когда? — Нам же надо, чтобы они друг другу понравились. Вот в чем вопрос. Первый взгляд все решает… Вероника, приставив указательный палец к переносице, быстро листала в своем воображении «предлагаемые обстоятельства», проигрывала сценки знакомства «кому за сорок». Никак не получалось. — Мы с тобой попали в милицию, в КПЗ, а они приходят нас выручать и так случайно знакомятся в ожидании… Они как раз проходили мимо катка во дворе, и Лиза брякнула: — А давай купим им коньки! Стало совсем весело. Прошел месяц, и «светлая мысль» совсем забылась. Тут ботинки почистить некогда, все бегом, у Вероники — первая сессия, репетиции, заработки где-то на «подтанцовках», а Лиза бежала из школы на подготовительные курсы, и когда тут думать о предках, обделенных личным счастьем? Но в феврале мама Рита собралась в театр на премьеру нового спектакля своей старой подруги, и билеты в театр были в избытке, и Лиза сообщила Веронике, что мама будет в новом костюме и с цветами, и можно пригласить папика. — Только вот как его вытащить? — задумалась Вероника. — Он не вылазит из мастерской. — Не вылезает, — поправила Лиза, и они чуть не поссорились на почве рокового глагола. — Пожалуйста, не говори при маме «вылазит», это ей портит настроение. Маргарита Леонидовна готовила Веронику в училище и почти избавила ее от южного говора. — Пожалуйста, не буду, — сказала Вероника, — но когда волнуюсь, из меня еще не то вылазит. Она обещала подумать, и она придумала, как его «вытащить». Дистанция между ней и отцом сократилась благодаря принесенному коту, но — в театр? Виктор Анатольевич, обросший как дикобраз, долго почесывал в затылке и тупо повторял, что в театры давно не ходит, и приличный пиджак где-то в чемодане у бывшей жены, а за чемоданом как-то «ноги не доходят»… Вероника изобразила смущенный взгляд и легкую обиду: — Нет так нет, я вообще-то хотела тебя со своим мальчиком познакомить. Как бы случайно, потому что у нас какие-то… ну… непростые отношения, и меня интересует твое мнение… — Так приводи, в чем вопрос? Может, он уже под дверью стоит? Отец таял на глазах. От интереса к его мнению и сконфуженного лепета юного существа готов был уже и в театр. И пришлось Веронике подготовить «мальчика» — однокурсника, согласного для нее на все. И пришлось самой съездить за чемоданом к бывшей жене Зойке, очень милой болтливой бабульке, «старше папика, лет пятьдесят, и почему-то она про меня знала, прямо-таки мечтала познакомиться, задушила в объятиях. Она все про всех знала, сказала, что спектакль дрянь, а папик с этой режиссершей пересекался где-то в прошлой жизни, и — вот увидишь — он не придет. Такая смешная! Находка для шпиона. Как будто я должна их всех знать! А он постригся, как я сказала, и обещал не опаздывать…» Вероника ждала у контроля до последнего, третьего звонка, а Виктор Анатольевич так и не пришел. Он потом оправдывался, что перепутал числа и как раз заехал к приятелю, к черту на рога, без телефона, и такая у них запарка, готовят выставку… Врал, наверное, и путался. Вероника обиделась, но молча, кротко, ничего не требуя, и растравила в нем глубокое чувство вины. Перед всеми. Перед его Зойкой, от которой не знал как ноги унести, перед сыном, который все равно считает его нищим «шизиком», хотя все его заработки уходят туда. Гитары, мотоцикл, компьютеры, репетиторы и еще много чего будет нужно, а вот ей, Веронике, не досталось от него даже игрушки. И он уже пустился объяснять, почему так вышло, но Вероника пресекла его покаяние и намекнула, что она не «бедная студентка», как он, может быть, себе представляет, а наоборот, мама ей никогда ни в чем не отказывала, предлагала квартиру в Москве снять, но Вероника сама не согласилась — «пусть они там лучше свою фазенду достроят». Она достала фотографию, где они с мамой и бабушкой — все в купальниках — на своем участке, среди роз и винограда. Лишних денег у них, конечно, нет, мать вкалывает с утра до ночи, у нее своя ремонтная контора, вот машину купила «престижную», и обременять ее московскими тратами Вероника пока не хочет, но если уж очень припрет, всегда можно рассчитывать на матерьяльную помощь. «Так и батьке своему скажи, хотя я его и как звать забыла», — сказала ей мать по телефону. Вероника эти слова передавать не стала — «батька» и так сидел, весь скукожившись, весь начеку — того гляди ему матерьяльную помощь предложат! Нет, она просто поставила в известность, что меркантильного интереса нет, интересует ее только общество, лично его общество и вообще… Тогда он сказал, что совсем зашился с этой выставкой, и если она хочет ему помочь — рассылать билеты, а потом накрыть стол для скромного фуршета, — то он будет ей премного благодарен. Митька Коржиков, чью живопись они завтра начнут развешивать, вообще инвалид, все ему помогают — святое дело. «А ты приходи со своим мальчиком и с кем захочешь, всех приводи». Лиза взяла билеты на вернисаж и как бы случайно оставила на столе — чтобы мама сама заметила и спросила. А тут и каталог готов, с красивыми картинками — может, ей и понравится этот художник?Иначе бесполезно и звать, она терпеть не может эти вернисажи с фальшивыми комплиментами. Тем более — юбилей. — Бог мой! — воскликнула Маргарита Леонидовна и перекрестилась. — Он живой? А говорили — он под поезд попал… Я этого Митьку Коржикова помню когда еще… — Меня на свете не было? — Задолго. Неужели ему пятьдесят? Надо же, он самый… Пил много и куда-то все время попадал… в истории. И под поезд попал. Надо же, с того света… Лет десять про него не слышала. Надо будет зайти… И картинки ей приглянулись. «Такой нежный домашний импрессионизм». Лиза не очень верила, что она придет. Мама опять одолевала какие-то курсы, теперь по торговле недвижимостью, чтобы окончательно распрощаться с театральным прошлым и начать новую жизнь. Художник стоял с палочкой, маленький, скособоченный, в непривычном парадном облачении — при галстуке, и, завидев знакомых, всякий раз восклицал: «Какие люди!» И сразу предлагал выпить, а щеки его — над аккуратной бородкой — горели детским румянцем. Посетители дарили цветы и шли разглядывать картины, и долго перед каждой стояли, перешептываясь — надо же, столько операций перенести, и вдруг открылся художник, и когда он только успел? И умиление, благоговение застывало на всех лицах, особенно после цикла «Больница» — видно, многие его успели похоронить, а он вот воскрес! Вероника с Лизой несли на стол пирожки и в первый момент даже не узнали маму Риту — в потрясающем новом костюме из кожаных лоскутов, с каштановой копной волос, на высоких каблуках, она стремительно пересекала первый зал, и все перед ней расступались, пропуская ее к юбиляру. Она была не одна, а с какой-то незнакомой Лизе дамой и седовласым господином в отличном костюме. Остальные гости — кто в чем — свитера и джинсы, и на этих троих все стали глазеть. Мама с дамой расцеловали Митьку со всех сторон и, пока ставили цветы в ведерко, шептали радостно: — Мы тебе такую рекламу сделали! Вон покупателя привели, и еще двое сейчас появятся. — Какие люди! — восклицал Коржиков. — Но не сейчас, не сейчас. Вообще-то кое-что продаю. Откуда вы, богини? Тебе, Ритуля, все дарю! «Возьми коня любого!» Пойдем покажу… Ты помнишь, что я тебе на свадьбу подарил? — И они повернули в другой зал, а Лиза с Вероникой — в подсобное помещение, где оставили «своего мальчика» Глеба резать ветчину и помогать единственному официанту разливать напитки, Глеб уже с той злополучной премьеры был посвящен в тайный план как бы случайного знакомства. — Может, их уже познакомили? — Вероника волновалась, что ее папик как главный распорядитель слишком долго стоит у входа, встречает гостей на сквозняке, в одном пиджачке. — Как ты думаешь, он на нее глаз положил? — Кто? А, батя… Пойти спросить? — Глебушке нравилось работать «на подхвате», он пробовал закуски и запивал вином. — Нет, девчонки, вы пошли не тем путем. Надо было меня слушать. Путем собаки. Собака — это самое то. Знаю факт из жизни. — С набитым ртом, в комическом амплуа, он пунктирно набросал самый верный путь к удачному знакомству: — Ты берешь ее собаку, приводишь к нему, вот, мол, батя, тут псинка потерялась, жалко же животное. И вы даете объявление. Так и так, у нас тут серый кобель сильно тоскует по хозяевам, все приметы. Лизка берет объявление: «Мама, наш Эрлик нашелся! Вот адрес!» Собака встречает маму заливистым лаем. Поцелуи, слезы. А тут и батя, само обаяние. «Чем вас отблагодарить, он вам не очень тут мешал?» — «Ну что вы, что вы!» Ну и готово дело — «встретились два одиночества», безотказный вариант, сам был свидетелем… Они наливали из припрятанной под столом бутылки и заболтались, и пропустили самый пик церемонии, когда гости сгруппировались в центре зала и слушали старикана искусствоведа, а он говорил долго, проникновенно, как большая беда создала большого художника, про второе дыхание, про новый просветленный взгляд, и Виктор Анатольевич вынужден был его деликатно перебить, потому что и другие хотели сказать, и в какой-то момент, выглянув из подсобки, Лиза увидела, что они стоят почти что рядом — ее неузнаваемая мама и Виктор Анатольевич, с красивой серебристой щетинкой на голове, и берут бокалы с одного подноса и, кажется, взглянули друг другу в глаза. И разошлись. — На тусовках не знакомятся, гиблое дело, — рассуждал Глебушка. — Потому, что ходят туда-сюда, а хотят сесть, все ищут, где бы сесть… — и тут как раз к ним ворвалась пухлая тетушка, вся в браслетах и бусах, в затейливой пелерине, и стала сходу распоряжаться, чтобы накрыли отдельный столик для Митьки с его учителем Казимирычем, а то им стоять-то трудно, и без спиртного, а то им пить совсем нельзя. Вероника узнала в ней «бабульку», Зойку, к которой ездила за отцовским чемоданом, а та ее не заметила или не узнала, и тараторила, не закрывая рта: — А чего тут скрывать-то? Он свое выпил, бедолага! На одних свадьбах сколько отгулял! Кто меня с Витькой-то познакомил? Митька! Это у него хобби. Только ему девушка понравится, а он влюбчивый был — ну поголовно, во всех, и со всеми друзьями знакомил, ее — раз! — и уведут. «Митина любовь» называлось. Черный юмор. А его все бросали. Он их в свет выведет — и до свиданья! Вон актрисы набежали — все «Митина любовь», и Ритка, и Нинка, и еще одна в другом театре была. Он рассказывает — обхохочешься. Как он спился на свадьбах. И вот — не озлобился, опять в центре событий. Сорок пять — бабы ягодки опять. Че им надо-то, ягодкам? Покупателей, что ли, навели? Ща, держи карман! Надо Витюне сказать… Она побежала, расталкивая гостей, искать бывшего мужа, и у Лизы от ее болтовни все как-то замутилось в сознании, и она нашла маму Риту среди незнакомых «старых знакомых» и потянула за рукав. — Пошли отсюда. — Погоди, — сказала мама строго. И Вероника подскочила: — Погоди, вот он уже идет. Замри! Момент истины. Виктор Анатольич поцеловал руку Маргариты Леонидовны, и они неспешно стали прогуливаться. — Так значит, с вами я могу поговорить о ценах? Конкретно. — Конкретно — только со мной. — Предварительно… — Мама улыбалась лучшей из своих улыбок, а «батя» искоса осматривал ее с головы до ног и обратно. — Вы, извините, покупатель или посредник? — Он неприятно прищурился, оценивая ее дорогой туалет. — Коржиков сейчас задешево не продается. Вот эти уже берут — по пятьсот, а те — по тыще у. е. — Да вы что?! — замерла на месте Маргарита Леонидовна. — А вы думали?.. — и они повернулись друг к другу лицом, и они были одни в самом маленьком зале, и пришлось Веронике с Лизой отскочить за дверь — на самом интересном месте. Вскоре они послали на разведку Глеба. — Все нормально, — сказал он, вернувшись, — торгуются. На диванчике. Со зверским выражением лица. Ближе подойти не мог, там бумага упаковочная, шуршит. — Мама же не умеет торговаться, — заныла Лиза. — Зачем мы только все это придумали? — Научится, — сказала Вероника. — Отец тоже не умеет. Пусть учатся. — Я ж вам говорил — лучше с собакой, — потирал руки Глеб. — Пойду гляну, какое у них там выражение лица. Но девушек ему не удавалось развеселить. Они убирали посуду в тягостном молчании. — Может, еще шампанское осталось? Может, им шампанского открыть? — Мама не пьет шампанского, — сказала Лиза. — Я сама! — вдруг вскочила Вероника, сняла передник и устремилась через два зала в дальний закуток, где цветы и диванчик. И почти темно, и шуршит упаковочная бумага. — Па, ну где же ты? Все тебя ищут! Ой, простите ради бога! Маргарита Леонидовна! А вы — уже? А я как раз хотела вас с папой познакомить! А вы уже? Она кокетливо всплеснула руками, и очень удачно — за ее руку как раз схватился юбиляр. — Они уже. — И он, опять-таки удачно, приземлился на диванчик между «деловыми партнерами». — А вы уже пили на брудершафт? Нет? Детка, тащи чего-нибудь! Они уже меня продали с потрохами! Как это я вас раньше не познакомил? Это мое досадное у-пу-щение! Я совершенно трезв! Мы теперь… трое в одной лодке! — Митька, на нас дети смотрят! — сказали почти что хором мама Рита и папик. — Где дети? А ты не смотри, дитя! Тащи чего-нибудь! Песню знаешь? «Как смотрят дети как смотрят дети…» Это про меня! И он вдруг громко запел: «А тот кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил…» — и стучал палкой по паркету, отбивая ритм, и Маргарита Леонидовна первая встала и велела уводить или уносить юбиляра, и Виктор Анатольевич его поднял, но тот долго не сдавался: — Не надо ссориться, ребята! И продавайте меня сообща! Вы все — мои дети! Я вас всех люблю! Я вас всех познакомил! Маргарита Леонидовна пошла к своим знакомым, проводила их, а потом вдруг вернулась, оставила свой номер телефона и помогла усмирить Коржакова. Виктор Анатольевич не спускал с нее глаз и долго извинялся, что не может проводить. Договорились встретиться тут же, на выставке, и еще поторговаться. И вот встречаются почти каждый день, а по вечерам он звонит, и мама подлетает к телефону — «это мне, по делу». А по тембру ее голоса и особенно смеха Лиза сразу догадывается, кто звонит.В свободном полете
«О, море в Гаграх… О, пальмы в Гаграх! Кто побывал тот не забудет никогда…» Наша старая компания наперебой вспоминала и вспомнила весь текст — про кипарисы магнолии и «лимонов аромат». И мы рассказывали каждая про свои Гагры, те Старые Гагры 19… — не скажу какого года, — когда на пруду в парке еще не кричали павлины, а в ресторане у морвокзала играла на барабане пышная блондинка. Ну-ка признавайся, что ты там делала, в Гаграх? И с кем? Галина Матвеевна, с ее профессорской памятью, ловила нас на вранье, уточняла детали, а сама отмалчивалась. А потом вдруг решилась. Чего уж там скрывать? Скоро на пенсию… Мы как раз одну девчонку на пенсию провожали. И мы представили Галочку девятнадцатилетней. Как они с подругой Таткой глазеют из парка на вечерний ресторан… «Боже, какая пошлость!» — Я затыкала уши и тащила Татьяну домой, наверх, как только темнело. Ее отпустили в Гагры под моим бдительным присмотром, чтобы я глаз с нее не спускала. Таткина матушка так рассудила, что лучше уж в Гагры с благоразумной подругой, чем на картошку (у них весь курс посылали на картошку), откуда она как пить дать сбежит к своему Вадику. Их бешеный роман как раз зашел в тупик. Матушка вообще не хотела, чтобы Татка рано выскочила замуж, тем более за этого… Как-то она его называла смешно… Зануда и крючкотворец! Он заканчивал юридический. Всем было ясно, что они совершенно не подходят друг другу. Всем, кроме них и меня. Я покровительствовала их роману. Когда Татка не ночевала дома, она, конечно, «была у меня». Матушка мне доверяла: «Но ты-то, ты-то понимаешь, что Татьяну надо спасать?» Я понимала как раз обратное: что любовь надо спасать. Она выпытывала у меня подробности их сложных отношений, а я молчала, как скала. Я любила Таньку Фокину все школьные годы и еще два курса института, и надо же было приехать в Гагры, чтобы наша нерушимая дружба стала трещать по швам. Жили мы на последнем повороте к дому отдыха «Скала». Помните, самое красивое место в Гаграх? Мы поднимались мимо «Гагрипша», с обратной стороны, где кухня, и оттуда вечно несло шашлыками. А нам хозяйка готовила то борщ, то харчо. А под нами жили «любовнички» — немолодая парочка, сбежавшая из санатория. Она — бывшая балерина — целый день меняла туалеты, мазалась от макушки до пят кремами и душилась французскими духами. Их комната как раз выходила под навес, где мы обедали и щипали недозрелый виноград. Татка этой дамочкой восхищалась, а я уносила свое харчо наверх: «Меня с души воротит от этой парочки! Людям уже за сорок! У них, может, дети взрослые! А запах! Ну и что, что французские духи? Все равно эрзац, как и их любовь!» Татьяна от меня убегала с первого же дня — играть в волейбол в «XVII партсъезде». Помните санаторий имени XVII партсъезда? Там играли до полной темноты когда уже мяча не видно. Там она познакомилась с неким Вахтангом и нарушила первое обещание — не знакомиться с южными мужчинами. Прибегает ночью — в мокром сарафане и вся в слезах. Они пили вино где-то на скамейке, потом решили искупаться ночью, и в море этот Вахтанг стал хватать Татку за руки, за ноги. Она возмутилась и бежала прямо в купальнике. Сарафан унесла, а из кармана выпала цепочка, красивая бабушкина цепочка, которую мать ей с собой не давала, она увезла тайком. Ставим будильник на шесть часов и идем прочесывать пляж, пока никого нет. Ползком перебираем гальку напротив клумбы. «Девочки, что потеряли?» Я поднимаю голову, а вокруг Татки уже табун соискателей. Я эту цепочку нашла, а Фокина успела познакомиться с вальяжным господином, который тут же пригласил нас в кино, на новый фильм «Чайки умирают в гавани». Он оказался журналистом-международником, долго жил за границей. Рассказывает про «их нравы», а сам легонько обнимает Татку за плечо. «А теперь, барышни, куда мы направим свои стопы? Коньяк, кофе, можем посидеть под платаном…» Я с этим стариканом сразу поцапалась. «А жена ваша, — говорю, — что там делала? Тоже в корпункте работала? Вас же туда без жен не посылают. Почему же она с вами в Гагры не поехала?» Он что-то таинственно хмыкнул. «Так вы, — говорю, — должно быть, шпион? Ой, расскажите, какая интересная работа! Я никогда настоящего шпиона не видела». Он убежал к себе в санаторий, даже нас не проводив. У поворота, где белые столбики над обрывом, Татьяна обернулась ко мне… Помню дословно: «Если ты будешь вести себя как слон в посудной лавке, я тебя никуда с собой брать не буду». Она меня брала! Это была чистая правда. Куда бы она ни позвала, я бежала за ней как привязанная. У нее еще в школе был знакомый джазист, и она водила меня в клуб Русакова. Она бегала на подпольные танцы и знакомила со своими мальчиками, когда мы еще — помните? — танцевали «стилем» под польку и краковяк. И в нашей женской школе запрещались капроновые чулки. Фокина в восьмом классе сделала шестимесячную завивку, носила туфли «на каше» (стиляг в них рисовали в журнале «Крокодил»), а ей все сходило с рук. Кстати про туфли. Там, в Гаграх, все покупали у сапожников лакированные «лодочки». Еще на вокзале Таткина мама сунула мне деньги: «Если будете жить экономно купите Татьяне туфли, только рассчитайте, чтобы хватило на обратную дорогу…» И вот я достаю припрятанные триста рублей и заявляю: «Возьми свои деньги и иди куда хочешь, жри шашлыки, слушай чту пошлятину а меня, можешь считать, нет. Я буду уходить на медицинский пляж или ездить на экскурсии, у тебя как раз будет хата для курортных приключений» А сама чуть не плачу. Две ночи мы спали отвернувшись к стенкам. Кто кого перемолчит. На третий день Татка не выдержала. «Знаешь, — говорит, — я уже почти познакомилась с теми аспирантами..! Я бы пригласила их к нам, но не могу без твоего соизволения». Мы ведь тогда с первого дня заметили вашу компанию и мечтали познакомиться. Мы за вами ходили по пятам, запомнили весь ваш репертуар. «Сиреневый туман над нами проплывает» тогда я слышала впервые. Вы сидели тесно на длинной скамейке, пили вино и пели свои песни. И девушек было только две, а мужской состав пополнялся. И вот Татка «почти» познакомилась, поиграла в волейбол в парке с вашими мастерами. Я в душе ликовала, но стала кочевряжиться* «Зови кого хочешь, моего соизволения не требуется. У меня в голове не укладывается, как это можно — любя одного, флиртовать с кем попало». Я жаждала поговорить с ней о любви, как в школьные годы, но Татка была уже не та. Она не хотела разговаривать всерьез, только дразнила: «Может, Галюня, в тебе еще не проснулась женщина?» Ну можно ли страшней унизить человека? «А может, уже засну-да?» — отвечала я басом. При этом мы обе курим паршивую «Приму» и пьем дешевое вино у нас под навесом. «Смешная ты у меня, Галюня». Татка лезет за виноградом и попутно целует меня в макушку «У тебя?!» В приступе уязвленного самолюбия я выпалила ей все, что накипело: как я ненавижу эти Гагры эти похотливые взгляды, этих сексуально озабоченных людишек, приезжающих сюда утешаться короткими романчиками, брать реванш за бездарно прожитую жизнь — вот как наши «любовнички», загорелые престарелые… Татка слушала меня, слушала, кивала как доктор пациенту. И поплелась со мной утром на медицинский «голый» пляж. Помните: «Никакой загар не спасает от ожога солнца»? С таким легким «сталинским» акцентом: «Повернемся на левый бок…» Под этот голос из динамика подруга моя заснула и обгорела… А на другой день мы вообще решили уехать. В этот день Татьяна подралась на танцах. Какой-то местный атаман ее пригласил, она отказалась с ним танцевать, он в нее плюнул, она ему врезала по морде — и началось! Сразу погас свет, заглохла музыка, свист, крики, паника! Я ждала ее у колоннады, я танцульки эти презирала как высшее проявление женского неравенства. Как уж она вырвалась — не знаю. Вылезла из кустов вся ободранная, по рукам — кровь. Ей руки легонько порезали бритвой. Тамошняя шпана, мальчишки. А у колоннады стояла единственная машина, «Победа», и двое солидных мужчин отвезли нас наверх. «Все, все, все. Завтра утром идем за билетами. Домой, домой!» Как раз погода портилась, море штормило, ожидались дожди. Татьяна вся бледная, в шоке. Те мужики с «Победой» все языками цокали, обещали шпану наказать. Утром выходим, чтобы ехать за билетами, а «Победа» стрит у нашей лесенки — не обойти. Спасители тут как тут, готовы нас везти хоть на вокзал, хоть в Адлер: «Только позавтракаем вместе, а можно в Сухуми поехать, обезьяний питомник посмотреть». Они вежливы, и мы — взаимно. Спускаемся к морвокзалу тянем время, любуемся волнами, и вдруг — о счастье! — на пустой террасе ресторана появляется вся ваша милая компания. Татьяна подлетает к первому попавшемуся, закрывает ему глаза руками и целует в обе щеки. «Какая встреча! Наши мальчики приехали! Теперь наши мальчики нас проводят!» — отшили мы спасителей со всей любезностью. Они передали нас из рук в руки, по-отечески пожурили: «Нельзя таких красавиц одних отпускать…» Я говорю: «Танька, идем за билетами». А она уже все забыла: «Зачем, куда? Ну и что, что плохая погода? Мы садимся играть в карты». Заявляется через сутки, усталая, сонная. Говорит: «Как ты думаешь, выходить мне замуж за Оську? Он мне сделал предложение. А мне Кушаков больше нравится, я еще подумаю». «Какой такой Оська? Какой Кушаков? Ты что, Татьяна, совсем рехнулась? А родители, а Вадик?» — провожу я воспитательную беседу, а она уже спит. И тогда я пошла на почту и дозвонилась ее Вадику «Вылетай, говорю, сюда немедленно, наша общая подруга просто сбрендила. Если ты не приедешь, я не знаю, что делать, ее в горы умыкнут»: Напугала его так, что он прилетел. А Татьяна исчезла. И день ее нет и другой. Я даже адреса не знала, у кого они там играли в карты. И шли проливные дожди. Я таскалась одна по Старым Гаграм, от ущелья до вокзала, и никого ну никого: всех «диких» отдыхающих как ветром сдуло. О, холод в Гаграх! Этот промозглый южный холод! Когда нигде ничем не согреешься. Вадим лежал в нашем каменном мешке под тремя одеялами и пил чачу. «Любовнички» сразу сбежали от плохой погоды. На море грохотал шторм. Зонтик у меня сломался, его вырывало из рук. Наконец я догадалась зайти на почту. Там лежала телеграмма, ее просто не доставили наверх по случаю плохой погоды. «Привет из Сухуми. Не волнуйся. Пока Фокина». Шутка такая телеграфная: «Пока тчк Фокина». Вадим прочитал с кислой улыбкой и — никакой реакции. «Что, — говорит, — и требовалось доказать. Татьяна в свободном полете. Завела курортный роман. А ты тут крыльями машешь. Смешная ты, Галюня. Тебя мне жалко стало, вот я и прилетел». Мы пили вино у нас под навесом и оплакивали нашу общую любовь. Я его обвиняла, что это он довел Татку до жизни такой. Раз он сразу на ней не женился, она теперь — в свободном полете — способна на любые безумства. Я ее знаю двенадцать лет и все равно люблю, несмотря ни на что. И тогда он сказал историческую фразу, что он, если женится то на такой, которая способна любить двенадцать лет, несмотря ни на что. И если я согласна, то это буду я и это произойдет очень скоро, хоть сейчас. Я расхохоталась как припадочная. Это было выше моего рассудка. А хозяйка как раз убрала нижнюю комнату, дверь была открыта, и там все пропахло французскими духами. Балерина полпузырька оставила. Я там закрылась, побилась головой о железную кровать — от нервного смеха помогает — и придумала тонкий ход: «Ты можешь пожить пока здесь, если переносишь запах „Шанели“. Нам надо теперь решать квартирный вопрос». Мы ведь с ним две ночи спали в нашей комнате, как брат и сестра, в ожидании Таньки! Ну и мы стали принюхиваться, хватать друг у друга пузырек, одобрили французские духи и поспорили, кто из нас уйдет в эту комнату… И кидали монетку… Ну и так далее. Вместе мы ушли в эту комнату. И прожили мы с ним двенадцать лет. А Татьяна вскоре стала другом семьи. Мы и сейчас с ней иногда встречаемся. Вот и сегодня я ее к нам звала, но она где-то летает на помеле… В хорошей спортивной форме.«Поговорим о странностяхъ любви. Не смыслю я другаго разговора»
— Кто это написал? В каком произведении? — Пушкин! — непременно кричал кто-нибудь пока недоверчивые думали: «А вдруг не Пушкин?» — Правильно. А из какого произведения? Что там дальше? У Алеши это был любимый вопрос. Никто не знал. А она знала: «В те дни, когда от огненного взора мы чувствуем волнение в крови, когда тоска обманчивых желаний объемлет нас и душу тяготит, и всюду нас преследует, томит предмет один и думы и страданий…» Ну и так далее. Пушкин: «Гаврiилiада». Ада еще вспомнила: «Когда любви забыли мы страданье, и нечего нам более желать — чтоб оживить о ней воспоминанье, с наперсником мы любим поболтать». Зря она свою образованность показывала. Молодой человек почесал белокурую бородку и скис, как фокусник, когда фокус не удался и потерял к ней интерес. Нет, стоп! Не будем мучить Аду. Она и так измучена поздним раскаяньем и сомнениями. «Оживить воспоминанье»? Не дай бог, она помнит все до мелочей, эти воспоминания живей ее самой, они жгут и трещат, как сухой хворост, и никак не сгорают. А она скоро сойдет с ума. Расскажем все по порядку. Пропустим драгоценные для Ады подробности, из них все равно не извлечешь искомого ответа — любил ли он ее когда-нибудь, и способен ли он на это вообще, и что это такое было, если не любовь? Назовем наш сюжет —Бог Гименей
Этот древний бог поистине не знает, что творит, соединяя наших современников брачными узами. Он совсем сбит с толку. Например, Ада и Алеша познакомились на свадьбе в мастерской Люсина и только к полуночи догадались, что эта шумная попойка со слезами, поцелуями, легкой дракой и небольшим пожаром на чердаке — вовсе не свадьба, а проводы. Изаксон получил разрешение на выезд, а на Нинке он женится чисто фиктивно, его там ждет жена. «Зачем этот маскарад?» — обсуждали Алеша и Ада, проснувшись на пепелище, в незнакомом закутке чужого чердака в объятиях друг друга. Надо было встать и смыться, пока не пришел хозяин — он-то был вообще ни при чем, он просто оставил ключи. Вот так все начиналось — на анонимной, безразмерной, «трех-спальной» тахте, среди огрызков и пустых бутылок. Давно замечено: как начнется, так оно все и пойдет. Трезвонил телефон, а они не вставали, смеялись над богом Гименеем, сбитым с толку, и над собой: они-то тоже поверили, лопухи. А год был семьдесят шестой, и лучшие друзья Ады давно отвалили на Запад, и две подруги писали ей длинные подробные письма из Штатов, прилагая цветные соблазнительные фотографии, и вот уже год, как мать умерла, накануне переезда из коммуналки в центре в однокомнатную на окраине, и родной Ленинград стал чужим и мертвым, а длинная дорога городским транспортом располагала к одной лишь мысли: «Что ее здесь держит?» Словом, Ада почти решилась уезжать. Вот только съездит в отпуск, потом в Москву… Алеша почему-то знал об этом. Когда она ему сказала? Ночью? Да нет же, утром, когда опохмелялись. Это важно вспомнить. Зеркало там было ужасное, и в нем отражалось не то, что можно полюбить с первого взгляда. Мама покойная считала, что ее красота — «на любителя». Но не было «любителей» уже шесть лет, а были зеленые круги под глазами, нос с горбинкой и выражение умной обреченности на несколько лошадином лице. Говорили, что она похожа на Пастернака, — хорошенький комплимент для женщины! Почему этот мальчик назвал ее королевой и хотел тут же нарисовать? Да нет, никаких иллюзий: на фоне крикливой московской компании она отличалась благовоспитанностью и знанием двух иностранных языков. Вот и все «королевство». Она ждала, когда этот мальчик начнет уходить, избегая смотреть в ее сторону. Но он не избегал, он вдруг хлопнулся на колени и сказал с легким заиканьем: «Не валяй дурака, Ада! Надо бежать! Всем надо бежать, рвать когти, пока клетка не захлопнулась! И возьми меня с собой, Ада, а то я тут умру». Ада рассмеялась: «Хорошо, я учту чистосердечное признание». Он обиделся: «Да ты что?! Подумала, что я?.. Да я бы сто раз уже уехал на прицепе, как Нинка с Изаксоном, но у меня против этого — суеверие». Больше никогда про фиктивный брак они не говорили а когда поехали знакомиться и прощаться к его родителям, он показал ей на улице свою «первую любовь». Учительница. Вылитая Ада, только еще старше и на стоптанных каблуках. Тогда уж Ада — действительно королева, а он тот самый «любитель» волоокой неподвижной увядающей красоты, которого не дождалась для нее бедная мама. Сестра Антонина назвала Алешу «шизиком» и приняла Аду как очередную причуду, а мать, Шура Донникова, — та даже обрадовалась, хотя «и зубы желтые от курева, и нерусская, и постарше его, но хотя бы он определился, она-то его в руки возьмет, вон когти-то какие с маникюром». Они с отчимом смутно представляли себе «заграницу», куда, говорят, удирают отдельные евреи, кому дома не сидится. Ну да все равно он отрезанный ломоть. Объяснять про «заграницу» пришлось Аде, Алеша со своими вполне добродушными родственниками разговаривать не умел. Он закипал. В Ленинграде они сразу поссорились. Аде расхотелось уезжать. Она устраивала Алешу на работу, а он не хотел устраиваться. Потыкался в разные конторы и заорал на нее: «Мы уезжаем или нет? Я не могу унижаться перед большевиками, я не могу ничего у них просить!» Ада спокойно воспитывала: а где ты их видишь — большевиков? Можно жить в другом измерении, у нас свой круг, телевизора я не держу, по голосам все слышно, живем, слава богу, не в коммуналке на работе меня ценят, знакомых полгорода, любые связи — концерты, книги, билеты куда угодно… В общем, получалось, что «от добра добра не ищут». Это было испытание. Когда Алеша понял, что это именно испытание его любви на прочность, он оскорбился и ушел, пропал на неделю. Хотя теперь Ада может поклясться, что не было умысла в ее сомнениях, и когда она кричала: «Никуда не поеду! Мне и здесь хорошо!» — то так оно и было, она была счастлива и не хотела спугнуть свое счастье, растрясти его по дороге. И все-таки они уехали. Только ради его здоровья, говорит Ада. Спасать его больные нервы. У него всегда был такой вид, будто он уходит от погони. Или — сейчас за ним придут. У него была клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства, но и резкие ветры Финского залива он не выносил. Ада готова была спасать и нянчиться. Разве она была виновата, что после архитектурного института он и года не проработал — все было не по нем, никуда не вписывался, не желал плодить уродство и умножать безобразие. Он был дилетант — любил рисовать, фотографировать, писать смешные стихи по случаю и рыться в старинных книгах, выкапывая чужие гениальные прозрения. Уехали они после того, как Алешу вызвали к следователю по поводу одного приятеля-диссидента, и он там, у следователя, раскричался: «Какой я, к черту, диссидент? Лечу в ногу со всей вашей патологической цивилизацией в ту же пропасть, не желаю ложиться ей под колеса, чтобы быть ею перееханным! Ибо сострадаю пролетариату, невольно втянутому в карусель военно-промышленного комплекса, и принимаю их власть как компенсацию за убожество — физическое и нравственное! Я не сошел с ума, как вы хотели убедиться, а если и сойду — только после вас!» И он рухнул навзничь в кабинете. Ада поняла, что дело может кончиться «психушкой», и они уехали. Они путешествовали по Европе. Ада сделала все возможное и невозможное, одалживаясь у незнакомых родственников, изыскивая средства и связи, места для ночлега «у друзей моих друзей». Алеша блаженствовал. Незнание языка его не смущало, людей он сторонился, зато он знал каждый собор и каждую площадь, как будто уже жил тут, и «не мог надышаться». Он купил себе спальный мешок и на бог знает каком языке объяснялся с косматой молодежью на ночных вокзалах. Он «балдел» и «хипповал», заводил легкие знакомства и забывал, что Ада его жена, а не богатая тетушка. Превратности эмигрантской судьбы забрасывали их иногда и в приличные профессорские дома, и в роскошные итальянские виллы. Ада была искусствоведом почти с мировым именем, хотя не вылезала из своего музея дальше Москвы, но у них, у музейных работников всех стран, — родство душ, они легко сходятся. Алеша устроил сцену ревности ни с того ни с сего, потом впал в депрессию, извинялся, плакал: «Кто я для них всех — босяк босяком, шут гороховый при ученой даме!» Лучше бы она тогда сразу отпустила его в теплую итальянскую ночь — и будь что будет. Но были уже билеты на самолет, и она заставила его взять себя в руки. Правильно говорит грубый Изаксон: «Ты мне плешь проела со своим Донниковым-Подонниковым! Чтоб я больше этого имени не слышал! Ну любил тебя Донников, ну не любил тебя твой Подойников — какая разница! Если этот мешок дерьма, то бишь комплексов, сюда причалит — а он причалит — куда денется? — получит коленкой под зад, имей в виду!» А у Ады в глазах — спальный мешок, серебристо-серый, и Алеша, сбривший бородку, наполовину загорелый, с виновато моргающими, веселыми, лукавыми глазами. Как они расстались — она никому не рассказывала, пока… Пока все-таки она его ждет. Не рассказала — значит, еще ждет, так надо понимать. «Нет, расскажу, вместе посмеемся!» «Нет, я им и так надоела!» «Если я вам еще не надоела…» «Пить надо меньше, бабы!» И Ада носит по земле обетованной свое последнее унижение про себя. Они ночевали в богатом загородном доме, остались после поздней вечеринки и проснулись, когда все уже разъехались и очаровательная хозяйка — Тереза — укатила в Милан. По дому бродила злобная старушенция и проверяла, все ли на месте. Она бранила прислугу, и Ада поняла, что что-то пропало. Полиция приехала мгновенно, их не выпустили из дома до выяснения. Ада схватила Алешу за руку, но он вырвался, стал кричать, что он не вор, а интеллигентный человек, разве по его лицу не видно, что он не может украсть? Нет, полицейским это было не видно. Он устремился наверх, бабуся пряталась от него, Ада погналась за ним, чтобы не наделал глупостей, поймала за шиворот, высказала все, что накипело, и они подрались. Алеша полетел с винтовой лестницы и сломал себе руку. Через час дозвонились Терезе, оказалось, что она давно увезла ту шкатулку в Милан. Старушка причитала, умоляла простить ее и вызвала своего доктора. Разгневанная Тереза примчалась через полчаса, как на помеле, и прежде доктора уже сидела в ногах у Алеши, заговаривая боль и поднося таблетки и напитки. Она предлагала им погостить еще, ну ее, эту Америку, она терпеть не может Америку. Алеша сказал: «На хрен мне твоя Америка! Мне тут нравится, я тут остаюсь до полного излечения». Хорошенькая Тереза ласково мерцала глазами, а Ада приросла к стакану и в молчании наблюдала новорожденную любовь, и вчерашний вечер — как она могла не заметить те переглядки, умолчания? — молнией ослепил ее усталую душу. Когда вошел доктор, Алеша пошутил: «Девочки, помиритесь над гробом. Я уже в раю». Дура, дура! Ада вышла за ворота и завыла, и выла до самой станции, и корчилась от боли и ненависти до самого Рима, и не помнит, как укладывала вещи. Так он еще имел наглость прислать кого-то за билетом — то ли сдать билет, то ли поменять на потом. Ада вытащила его билет и разорвала на мелкие кусочки. Вот об этом она жалеет. Надо было проявить благородство. Но она была в таком состоянии — только «жечь мосты». И все знавшие Алешу, а тем более не знавшие его, кивают, что «правильно, нечего тащить за собой такое ничтожество, надо жечь мосты и начинать новую жизнь налегке — в другом полушарии, в другом измерении, как будто того — всего — не было и ты уже не ты — понимаешь? С чистого листа!» И переходят к своим воспоминаниям. Прошел слух, что Алеша Донников давно повесился в Лондоне. Изаксону передали записку для Ады, и он все откладывает, не знает, что в той записке. Он завтра передаст, или лучше пусть Нинка… Ада прочла на измятой бумажке: «Извини, что так получилось, Ада! Но ведь ты не жалеешь? Я все-таки прав, что погнал тебя в Штаты? Твой муж Алеша. Не поминай, не поминайте лихом». Нинка, опустив голову, спросила: — Ты уже знаешь? Как после долгих слез — сладостная пустота нахлынула на Аду — можно начинать жизнь налегке; с чистого листа. Они помянули его вдвоем, поминали долго, всю ночь, пока случайное пересечение их судеб не показалось им мистически предначертанным, исполненным смысла запредельного, исполнением какого-то завета, обета… «Он знал, он знает, что мы вот так сидим вдвоем и его вспоминаем, что именно я должна именно тебе сообщить…» — выкрикивала Нина на рассвете, когда уже рассказала Аде со всеми подробностями смешную историю своего знакомства с Алешей. Дело в том, что она его знала намного раньше, хотя была лет на десять моложе Ады. Но не будем слушать длинный и запутанный ее рассказ, она и в имени-то своем запуталась: была когда-то Нинель, потом стала называться Нэлей, потом Ниной, хотела переделаться в Эллу, но все еще откликалась на Нинку. Расскажем сами еще одну историю «о странностях любви», случившуюся с Алешей Донниковым в 70-м году, в Одессе, во время холеры, и назовем ее«Шаланда»
Так называлось кафе на берегу моря, где они познакомились в тот жаркий вечер, когда все перестали смеяться над холерой, когда грянул чей-то уверенный бас: «Ребята, аэродром закрыт!» Впрочем, Нэля тогда не смеялась, а плакала навзрыд, ревела на виду у всей мужской компании, даже не видела их, не замечала, ей было на все наплевать. А они ее очень заметили. Ей было тогда двадцать лет, и она все делала в знак протеста против родителей — почтенных работников высшего просвещения: в знак протеста влюбилась в этого лысого пингвина — фамилию-то теперь не вспомнить — только черный пиджак, потная нейлоновая рубашка, крик ее страшный: «Не бойся, не утоплюсь!», и как он уходит в гору, в гору. Они пошел в гору, этот Сысоев. «А пошел он — к тараканам!» — сказал Алеша и как рукой снял, наутро она излечилась от Сысоева благодаря Алеше. Нет, благодаря холере. Надо было выбираться из города. В знак протеста она не сказала родителям, что укатила в Одессу. Голубые джинсы, на размер маловатые, чуть не лопались на ее упитанном заду — в знак протеста, а голубые глаза с вызовом ждали от диких соплеменников пятибуквенного ругательства. Не по велению плоти, а в знак протеста носила она свою внешность «секс-бомбочки» — с трогательным несоответствием сути, как он потом сказал, Алеша. Неделю ползали слухи о холере, но никто ничего не знал, как всегда в той стране… Запах хлорки, «мойте руки перед едой», серые бачки с прикованными кружками. Американцы забросили им вибрион, одна старушка сама видела ампулу на трамвайном пути у «Аркадии». А когда аэропорт и вокзал закрыли и объявили карантин, когда у междугородних телефонов собрались несметные очереди, Нэля все еще не верила, что нельзя никак «прорваться». У нее появилось сразу три кавалера. «Прорвемся!» — говорил Гарик, у него был папа — крупный начальник в Москве. «Прорвемся!» — говорил Мишка-одессит, у него были свои ребята, они все тропы знали, и мотоцикл с коляской, и опять-таки чей-то папа с «Волгой» и фантастическими связями. А у Алеши ничего не было, кроме места в общежитии, которое вот-вот отдадут под «обсервацию» — так назывались эти строгие изоляторы. Приезжих было много, обсерваций — мало, толпы с чемоданами и узлами, с детьми стекались на стадион, образовывая живую сидячую очередь. Бегали шустрые тетки с блокнотами, составляли списки. Потом кто-то эти списки рвал как незаконные, и составляли новые. Две ночи лил дождь, но никто не уходил, под зонтами спали, под зонтами ели. Народовластие и самоуправление никак не налаживались: давка и драки, паника и истерика. В 70-м еще нельзя было митинговать против аппарата, и все проклятья изливались друг на друга. «Надо брать власть в свои руки!» — сказал Алеша и ринулся в толпу. Кого-то встретил, мелькнул и исчез. Как Нэля тогда перепугалась! Два других кавалера растворились без остатка, и было ясно, что папы и мотоциклы перед карантином бессильны. А ее крутило и выворачивало, и требовался соленый огурец, и от родственников она вчера ушла, а со скамейки, с этой, нельзя уходить, потому что где же он ее тогда найдет? Тетка узнала про Сысоева и не одобряла, и вообще всю ее, Нэлю, не одобряла, а если она еще и беременна, и родители узнают… Но еще страшней — «Девушка, вам плохо?» — и тогда в больницу, в холерный барак. А вдруг и правда холера? В этих крайних обстоятельствах оставалось одно — верить, и она верила, что Алеша ее не бросит, и тогда она тоже его не бросит, пойдет и скажет, что она беременна, а это ее муж. Пока она обдумывала план в деталях, над стадионом раздалось: — Чемодурова! Она помнит, как толпа стискивала ее со всех сторон как рвали из рук сумку: «Паспорт! Паспорт! И справку покажи». Она очутилась на коленях у Алеши в вагончике, откуда выкликали фамилии. Оказалось, он встретил знакомого из распорядителей очереди и придумал точно такой же план, как в мыслях у нее читал. Вечером их поселили в школе, выдали по раскладушке и по комплекту белья. Приютившая их организация заняла один класс — мужчины и женщины вместе зато все свои, раскладушки их, естественно, встали рядышком. Когда все заснули, Нэля вытащила его в коридор и шепнула в темноте: — Ты думаешь, ты их обманул? Я, наверное, правда беременная. — А ты думаешь, ты их обманула? Я, наверное, правда твой муж. И ребеночка вместе воспитаем. — Нет уж, ребеночка не будет, — сказала Нэля. — Почему? Я против убийства как такового. — А тебе не все равно, от кого он? — От бога, деточка, все от бога. Он был жутко взрослый! В темноте. Она спросила: — А ты в бога веруешь? Как интересно… Мужики пошли в уборную курить, захлопали дверьми. Дежурная заорала, разогнала всех. — А в кого мне еще верить — в электрификацию всей страны?! Школу запирали наглухо. Передачи «с воли» протаскивали на веревочках в окна. Фрукты-овощи были запрещены, а за нарушения грозились всех — всех до одного! — оставить еще на срок, для этого по звонку сгоняли всех на собрания, стращали и стращали. Много ли случаев холеры, умер ли кто — оставалось военной тайной, но кого-то убила толпа, кто хотел пролезть без справки, и целый автобус завернули обратно. В напряженной тишине вдруг Алеша взрывался веселым гоготом, все собрание на него шикало, потом поняли — «ну комик, клоун», и стали ржать заодно. Алеша собирал детей, они с топотом носились по коридору и кричали песни: «Жить стало легче, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длинней!» — Это твой муж там безобразит? Чему детей учит? — «Никогда не забудем холеру мы и анализы дружно сдадим, ведь недаром мы все пионеры, мы покакаем все как один!» Боже, какие глупости в памяти застревают, память заросла сорной травой, а главное… Главное, что вокруг была толпа, потная, огнедышащая толпа. Скандалы у окошка раздачи. Контроль. Масло! Разрезать два кило долгожданного масла на триста девять равных кусочков, а оно плавится на жаре… Напечатать на старом «Ундервуде» триста десять справок без единой ошибочки. За это Нэля получила поощрение — ключи от канцелярии на ночь. Директор вошел в положение молодоженов — подмигнул, похлопал Алешу по плечу и затолкнул в канцелярию. Там еще стояли малярные козлы, шел ремонт. Алеша выкинул эти козлы за окно, и получилась лестница во двор. Нэля не решалась сойти туда. Она сидела на подоконнике и смотрела как он гуляет. Он ее дразнил. Он лез через забор, а ей нельзя было ни крикнуть, ни рассмеяться. Везде дежурные — самоуправление. Воспользоваться предоставленной им для любви канцелярией он не захотел. Врезалось в память, как они затаскивали в окно эти козлы, так и не затащили, сломали и долго беззвучно хохотали, нервно, исступленно, до слез, до озноба, до рассветного холодка после бессонной ночи, и, лежа на соседних раскладушках, сцепившись руками, оба плакали — уже не от смеха. Нэля — от счастья, словно током ударившего, — что вот он, рядом, натянул на глаза белую кепочку, занавесок там не было, а он не мог спать при свете, а под кепочкой он плачет, потому что — да, с такими широкими плечами и повадкой Тарзана надо настигать свою девушку с кривой «колдуньи» у необитаемого ручья, а не в школьной канцелярии — это у него уже было, первая любовь с учителкой ютившейся при школе, и бегство — от пронзительной жалости к ней и ненависти к самому себе. Как она тогда его понимала, как будто вместе прожили век, как будто вышли из одной доисторической пещеры — братом и сестрой. Она думала о ближайшем будущем, как бы устроить все лучшим образом в Москве — уединиться, укрыться, и чтоб ни одна собака не знала, где она и с кем. Потом уже, взрослым умом, допустившим наконец вмешательство сил небесных, она поймет как дважды два всю тщету своих стараний: было на роду им написано бежать из толпы в толпу, любви их родиться под знаком холеры, под сетями «Шаланды», под взглядами береговой охраны, и шутки ради или в назиданье их гордыне им достались вместо брачного ложа две скрипучие раскладушки в классе на семнадцать коек, принудительный прием слабительного и шумный апофеоз карантина — день всеобщей сдачи кала на анализ. Потом был горячий аэропорт, куда их свезли на рассвете и томили ожиданием до вечера, и толпа у трапа, скандал, драка — какого-то негра из зала «Интуриста» пропускали вперед, а своих оставляли. Она не помнит, ей дурно стало, ее внесли втолкнули в самолет. А Алеша остался, его отпихнул какой-то крепкий гражданин в черном пиджаке, это как раз оказался Сысоев, вывозивший свое семейство, отбывшее карантин на теплоходе в море. Сысоев ввинтился в толпу, а Алеша остался. Нэля наблюдала в иллюминатор, как трое оставшихся за бортом уходили с поля. Он нашел ее в Москве не сразу. Она успела избавиться от последствий Сысоева, полечить зубы и сделать прическу, уклониться от поездки накартошку, подготовить дачу и подготовить родителей к новому этапу жизни. Все было замечательно! Три дня и три ночи провели они в уединении, в любви и согласии, потом начались ритуальные встречи с родителями, родственниками, друзьями, все перезнакомились и были приглашены на свадьбу. «Ты им сказала про маленького Сысоева?» — спросил Алеша. Стесняясь, он делался мрачным и деловитым. Нэля весело развела руками: «А его уже нет, слава те господи!» Он так и остался мрачным и деловитым, не хотел пойти в магазин для новобрачных, уклонялся от семейных обедов не хотел приглашать в Москву мать и сестру, и вообще не хотел этой свадьбы на радость предкам, не хотел и ее, Нэлю, сиявшую всеми красками любви и молодости в обрамлении золотой осени… Она догадалась: «Ты хотел совершить поступок, вытащить бедную девушку из помойки, взять с чужим ребенком — уж как благородно! Нет, я — не „поступок“, я в полном порядке. Так что беги скорей, в жизни всегда есть место подвигу». Она сожалеет, что так грубо сострила в тот трепетный час объясненья. Он взял велосипед и поехал на станцию за хлебом. Авоську с хлебом и велосипед ей доставил соседский мальчик.Акмэ
(сценарий полнометражного игрового фильма)
Это было давно, в молодости, но запомнилось… Как они стояли у окна в коридоре купейного вагона, провожали огни большого города, и ветер терзал занавески и волосы — у него были длинные, густые, копна до плеч, а Майя и тогда коротко стриглась; они стояли вытянувшись, не прикасаясь друг к другу, болтали и смеялись над глупым детством. — Ну скажи, скажи… Что ты об этом мечтал всю жизнь. Мы едем в одном вагоне, в одном купе. Ну соври! — А чего тут врать? В тебя все были влюблены. Не придуривайся, ходила, как королева. И я… Но не мог же я, как какой-нибудь… — Ну да, ты не мог как все… — Может быть и мог бы, но — помнишь, в восьмом классе, когда ты спела поставленным голосом «Мой Васин!» — Что? Слушай, как бы вырубить это радио? Ненавижу! «Пусть больше никогда не повторится встреча…» — тогда в поездах крутили любимые песни. Он пошел бороться с Клавдией Шульженко, она притихла но из соседнего купе — «…хочу сказать вам, дорогой…» — Любимая песня моей мачехи. — Майя потрошила сумку в поисках тапочек и удивленно оглядывала купе. — А к нам никого не посадили, первый раз так еду. Ты подкупил проводника? — Я? Ты хорошо обо мне думаешь. Еще не научился подкупать проводников. Я научусь. — Гордый, гордый Васин. Ты, говорят, на моей Галушке женишься? — Почему — твоей? Теперь моя. — Уже? — Майя усмехнулась, стряхнула туфли и вытянула ноги через проход, на его полку. — Ну ничего, поделим по-братски. А кто вас познакомил, забыл? Кто мне спасибо скажет? — Как забыть? Королевский подарок. Целую вашу ножку. Он так и сделал — повалился набок, и длинные его волосы рассыпались по ее ногам. — Ты бы хоть постригся, Васин, — прогудел над ним скучный словно и незнакомый, взрослый голос. — А то ребеночек родится, и что увидит? Испугаться может. Она смотрела мимо него, в окно, и чуть улыбалась — все-то она про них знала, может, и наперед. — Слушаюсь, ваше величество. Снявши голову, по волосам — что? Вдруг кто-то рванул дверь: — Можно? — подвыпивший где-то пассажир добрался до своего места. Майя, не убирая ног, прошлась по нему медленным взглядом. — Можно, — улыбнулась одними зубами. — Но не нужно. Мужик кивнул и исчез.Много лет прошло с тех пор, много всякого с ними было, но один день хотелось бы забыть, а рассказать надо. Тот день, когда Майя привезла из Москвы своего итальянца — показать родной город. Они прогуливались, красивые, не растворимые в нашей серости, от «Интуриста» до набережной, через сквер. Касьянова давно изображала «иностранку в России», одевалась так, что на нее оглядывались. Время было тяжелое, граждане толкались в очередях за водкой и за сахаром. Итальянец фотографировал Майю на фоне реки, купола церквей на фоне заката, мужиков у пивного ларька, старух, детей и позеленевшего Ленина на площади. — Я не люблю Москву, в России здесь красиво, намного… — Красивее, — Майя поправляла его ошибки и говорила фразу по-итальянски, тоже с ошибками, и они смеялись. За ними промчался мальчик на велосипеде обогнал, оглянулся. — Я хотел жить в такой… маленький город… провинция? — Хотел бы, — поправила Майя. — В гостях не говори «провинция». — О, я знаю, это обида… — Он заметил того мальчика, белоголового, десятилетнего. Он сделал круг и снова их обогнал, завилял, слез с велосипеда. — Он хочет что-нибудь ему дать? — Энцо поискал в кармане жвачку, Майя остановилась: — Это, кажется, Дима. Ну, их сын. Куда мы идем. Ты Дима? Ты Васин? Не узнала! — А я сразу узнал! Они там, наверху, у «Интуриста»! Машина там! Чииз, — оскалился мальчик нацеленному на него фотоаппарату и потащил велосипед вверх по крутой лестнице. Когда они подошли, он гордо стоял возле серой «Волги»: — Вот! Наша! Они в магазин пошли, там же очередь. Я сейчас! — он дунул на велосипеде прямо через площадь, к Гастроному, а итальянец с уважением осматривал большую машину. Вдруг запел с обаятельным акцентом, простирая руку в направлении реки: — «Издалека долго течет река Волга»… Майя подхватила, вторила ему, изображая Людмилу Зыкину. Они хохотали, обнимались и целовались у всех на виду. Майе было тридцать два года, он — сорокапятилетний вдовец с животиком и в смешном картузе. — Сладкая парочка, — заметил какой-то остроумный прохожий. — Русские всегда опаздают. — Опаздывают, — поправила Майя. — Они богатые? — Вообще-то нет. — Майя пожала плечами. — Тут разве что-нибудь поймешь, в этой стране? Вообще-то он архитектор, он конкурс выиграл, он тут знает каждый камень… — Воб-чето, воб-чето, — повторял итальянец, силясь произнести букву «щ». — «Умом Россию не понять!» — выпалил он давно заученные стихи. Вообще-то настроение у них быстро портилось.
Меж тем Дима подпрыгивал у винного отдела, откуда отец его, Андрей Васин, никак не мог вырваться. Паника перед закрытием, драка между алкашами и терпеливыми гражданами, свистки, милиция. Вырвался! Потный и злой, запихнул в карманы две бутылки водки, метнулся к продуктам, где Галя стояла, уже нагруженная до зубов, с коляской и корзинкой, в медлительной очереди в кассу. Все бабы, половина — знакомые, отоваривались всем, что «выбросили» перед закрытием: и сайру, и пельмени, и песок. А в магазин уже не пускали. Андрей так и остался стоять у входа, показывая знаками — «брось все, гости ждут, неудобно!» «Как же, как же, так все и брошу!» — отвечала Галя тоже знаками. Димка прорвался внутрь, но его толкнули, не пустили за кассу, он тоже орал и жестикулировал, чтоб она все бросила. В очереди раздались смешки. Все наблюдали за их пантомимой. Галя наливалась злостью. Сзади стоявшая коллега — врач из их клиники — молча ей сочувствовала. — А меня он спросил? Приемы им закатывать! Пригласил он, а дома шаром покати! Не надо мне итальянца — позориться! Майка фирмача своего привезла, а Васин мой — рад стараться… «Волгу» он как раз, с голым задом ему «Волгу» приспичило, фон-бароны у меня двое, а мясо… А песку по сколько дают? По четыре?! — Галя замахала руками, мол, идите куда хотите, а я как стояла, так и буду стоять. Андрей махнул рукой и пошел. Он не слышал, но видел весь ее монолог. В бывалой куртке, отягощенной двумя бутылками, поправляя на ходу седеющую шевелюру, он тяжело бежал через площадь. Остановился перевести дух. Но в баре «Интуриста», в мирной полутьме, под тихую музыку, он долго еще не мог унять вскипавшую злость и нацепить другое лицо. — Чин-чин, за встречу! — щебетала Майя. — Улыбнись, улыбнись, и тебе станет весело. У итальянцев такое выражение: «Что это у тебя кусочек дерьма под носом подвешен»? — Да? Сейчас пройдет. Хотелось стремительно напиться, бутылки перекатывались в карманах. Майя ласково остановила: — Ты же за рулем… Энцо вообще водки не пьет. Он хороший, ты не стесняйся, он не с луны свалился, привык к России… — Я не привык, — сквозь зубы буркнул Васин. — Андрюша, чин-чин! Не вешай нос! Как это говорить? Обмоем! Твою машину! У тебя сейчас лучший возраст. Как это говорят? Нет, не по-русски… — Акмэ. По-гречески. — Они перемигнулись — Майя и Васин, вспомнив что-то свое, важное. Дима бегал возле крыльца «Интуриста». Швейцар его не пускал с велосипедом. Без велосипеда тоже не пускал. Не слушал, что мальчик ему втолковывал: «У папы ключи от машины, мне только взять ключи…» Галя стояла с разбухшими сумками, звала Диму, кричала, что не пойдет она в этот бар. Прицепила к багажнику велосипеда мешок с сахаром — «Марш домой!» — а сама кинулась к автобусу, уже в слезах, но догнала, вспрыгнула, только дверью слегка ее прищемило. Бармен принес еще бутылку вина и американские сигареты. — …Я люблю, как вы читаете стихи, — говорил итальянец, влюбленно поглаживая Майины пальцы. — «Свои серебряные кольца…» Как это — у Блока? — Он тоже с приветом, — тихонько пояснила Майя. — У Блока так: «Слопала-таки проклятая, родимая, гугнивая матушка-Русь, как чушка своего поросенка…» — Начинался пьяный, интересный, бесконечный русский треп, и «фирмач с приветом», и Васин одновременно воспряли духом. — Блока слопала, — кричал Андрей, — а на мне — подавится!
Когда он приехал домой, Галя стирала. Как всегда, когда сгорала от обиды и злости. Стирка, говорят, помогает. По громыханию тазов, по воплям водопроводных труб Васин уже из-за двери понял, что там — стирка протеста. Глубоко виноватым голосом он сказал: — Ну чего ты…. Еще не поздно, поедем кататься. Там подруга твоя ждет в машине… — И получил по роже мокрым жгутом, выжатыми детскими штанами. — Моя, да? — Не по… нял, — он, виноватый, готов был стерпеть оплеуху, но жена выскочила в коридор и молча, молча, не замечая Димку, размахнулась изо всех сил кулаком, и — в челюсть, аж зубы щелкнули. Хлопнула дверь ванной. Потом — еще сильней — входная дверь. Дима поплелся на балкон с застывшей гримасой удивления — такое в первый раз. Он видел, как отец садится в машину. Он еще мечтал с ними покататься, но «Волга» уехала, про него забыли.
В красивой лесной местности, куда не доходил асфальт, где машины застревали в полноводных лужах, у Васина была хибарка из подручных матерьялов. Вокруг все обживали дачные участки. В ту осень будущий поселок выглядел как первобытное стойбище. Первые поселенцы, наработавшись за день, отогревались у костров и самодельных печурок. Майя восхищалась допотопным самоваром и собственноручно повесила подкову на ржавый гвоздь. Васин сдвигал ящики, придумывая, как усадить гостей. Был яркий осенний день. Энцо вышел из леса с девятилетней девочкой — дочкой Майи, они набрали грибов и листьев, и Олечка показывала, как она умеет ходить по бревну, можно и с закрытыми глазами. — Пускай гуляют, не зови. Надо же им познакомиться. — Майя села на ящик, закурила. — Олька тоже хочет в Италию, а я еще… посмотрим. — Все у вас будет о'кей. — Васин нахлобучил ветровку по самые брови, занялся самоваром. — У тебя тоже. Здесь будет вилла «Самовар». Хочешь — проект подпишу? — Майя листала толстый альбом с чертежами и эскизами. — У меня легкая рука, ты знаешь. У Галюни тяжелая, а у меня легкая. Он вздрогнул; он, разумеется, не рассказал про ту позорную сцену. — Откуда ты знаешь? — Значит, Галя сама рассказала. Он тихо выругался в капюшон, вскочил, пнул ящик, больно ударил ногу. — Ну хочешь — я вас помирю? Я могу. — Ты все можешь. Только зачем? Это начало конца. И конца ему не видно. Вот она уже Димку с нами не пустила. Ладно, перезимуем… — Ты стал совсем другим. — Я здесь живу. Как в пещере. Пещерный человек. Завтра пойду на мамонта. — Я тебе напишу, ладно? — Напиши, только куда? Из-за горы досок показались Энцо и Оля, усталые, но довольные друг другом. Майя и Васин сделали веселые лица и хором вспомнили песню: — «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз…»
Прошло семь лет. Нужно написать это крупными буквами, потому что в нашем городе не сразу заметишь перемены. Тот же трамвай совершает медленный круг, и персонал клиники, где работает Галя, занимает места на конечной остановке. И Галя не очень изменилась, скорее похорошела, следит за собой, но многие молодые врачи и сестрички зовут ее по отчеству. — Галина Евгеньевна, вы ее знаете? — Где? Кого? — Вот так, девочки, надо ходить. Учитесь спинку держать. — Да вон, сеньора Касьянова идет. Говорят, она совсем вернулась. — Ничего подобного! Я знаю, у кого она живет… — Да я ее сколько раз в городе видела! Мой Колька с ее дочкой… Завязался бестолковый спор, все уже потеряли Майю из виду, но собрали полное досье, только Галя, вывернув шею, провожала бывшую подругу взглядом, пока та не скрылась за углом. — …Я не спорю, жила она в Италии, а теперь у нас тоже… Мелкий бизнес… — Здесь что ли лучше? — У кого деньги есть — везде лучше! Галина Евгеньевна, а вы уже выходите? Подъезжали к торговому центру. Галя решительно встала, помахала всем: — Пока, девочки, все, я в отпуске! Надо что-нибудь убойное прикупить. — Счастливо отдохнуть! Хорошей погоды!
Но в торговый центр она не пошла, миновала пестрые лавки «Все для пляжа», и задорное выражение лица сменилось беспокойством и сомнением — догонять ли Касьянову? Майя мелькнула за деревьями и пропала в тихом переулке. Там была парикмахерская. Старая парикмахерская превратилась в «Салон красоты», там шел ремонт, но, похоже, Майя зашла туда. Левая половина салона работала, и Галя, задержавшись у зеркала, размышляя, не постричься ли перед отпуском, краем глаза видела, как Касьянова сбрасывает легкий плащ, вот нацепила шляпку на круглую вешалку, и три парикмахерши сразу вспорхнули со своих мест и загалдели вокруг нее. Галя приготовилась к «случайной встрече». — Сеньора, я первая занимала, — пропищала она, подкравшись сзади, и протянула руки, чтоб прикрыть Майе глаза. — Тебя, конечно, могу пропустить… — Но парикмахерши почему-то дружно засмеялись, и шутка не прошла. — Не узнаешь, что ли? Приехала и не звонишь. — Да некогда! Жизнь такая, видишь… Кручусь… Постричь тебя? Смотри, как я девочек постригла. — Майя ничуть не удивилась, будто виделись вчера. — Давай, садись, бесплатно постригу, по старой дружбе. Надо щит заказывать и проспект. Ольга вон нарисовала… Парикмахерши у подоконника разглядывали эскизы. «Очи черные» — разными красивыми шрифтами и глаза, глаза на все вкусы, сто пар глаз и еще много глаз по одному. — А буквы мне вот эти нравятся — А глазки вот эти, точно как у Майечки! Она с вас рисовала? Хор девочек, красивых и рослых, сопровождал просмотр эскизов тонкой лестью и искренним восхищением хозяйкой. — Может, подкраситься? — Галя наконец уселась в вертящееся кресло. — Наверно, уже много седых? — Всей спиной она чувствовала, что хозяйка спешит. Но делает исключение по старой дружбе. — Хочешь, постригу, как тогда? Тебе шло. — А ты помнишь? — Еще б не помнить! Я ее постригла, первый раз в жизни, заметьте, чисто экспериментально, а она с этой стрижкой моего же дружка увела. Хор девочек предупредительно хихикнул, Галя смутилась: — Необязательно всем рассказывать. — Сиди смирно! — Майя энергично намылила ей голову. — Потому и не звонила: мы с Васиным видимся каждый день, а вы с ним несовместимы. — Почему? У нас нормально… Товарищеские отношения. Димка у него сейчас… — Все я про тебя знаю. Галя сидела с откинутой головой, с закрытыми глазами, и не видела, как по коридору деловой походкой приближался плотный юноша с мобильным телефоном. — Майя Сергеевна, вам до вечера машина не нужна? Отец в конторе, могу соединить. — Димка! — развернулась Галя и в зеркале увидела, как они уходят по коридору, ее сын набирает номер, передает Майе трубку. Парикмахерши заметили ее обескураженный взгляд. — Вот так, матери всегда узнают последними. — Личный шофер и секретарь. А чего — мой вон тоже… — Началась добродушная женская болтовня, уборщица вступила, и единственная клиентка из-под сушки: — Мой вон тоже — в бар устроился, а мне все врет. — У Майечки у самой дочка работает, свои деньги хочет иметь… — Извини, Галушка, мне надо отлучиться, — прибежала Майя, — тебя Вика пострижет, Виктория! Наш лучший мастер. — Ничего не надо! Я раздумала. Не выношу запах парикмахерской. — Да хоть посушись. — Майя поспешно собиралась. — Стрижка за мной. — Так обсохну, на солнышке. И тебя Димка возит? И ты ему деньги платишь? Майя, как всегда, ускользала, и Гале пришлось догонять. — Плачу, но не балую. — Ему ж поступать… — Потом обсудим. — К крыльцу подкатила серая «Волга», теперь уже старая, но в приличном состоянии, и Дима вылез из нее открыть багажник — рабочие потащили оттуда какие-то мешки. — Что это тебя потянуло на родину предков? — Потом, потом. Ищу помещения, завязываю контакты. Тебя подвезти? — Нет, я сама. — Привет, мам, — кивнул Дима издали, закрыл багажник и сел в машину. — Я в отпуск, послезавтра! — крикнула Галя вдогонку. — Хочешь… квартира пустая. — Спасибо, я собаку сторожу… — Майя не договорила, они уехали.
Гладильная доска, раскрытый чемодан, тряпки, тряпки, тряпки, еще и обувь — не та, все не то, и лучший купальник тесен до неприличия, и утюг перегревается, а еще пятно на видном месте; как все женщины перед отпуском, Галя сбивалась с ног. Волосы торчали из резиновой шапки с дырками, она их красила «прядками», и вот-вот прядки перекрасятся, а пятновыводитель ничего не выводит. А босоножки малы и вообще не нужны на каблуках. И вдруг — звонок в дверь! Глянула в глазок — Майя. — Я сейчас… — накинула халат, заметалась по квартире. — Извини, мы вдвоем, гуляли-гуляли… У тебя кошки нет? — Майя пришла с большим лохматым псом. — Ларс, сидеть! Пес оказался воспитанным, слушался, а Галя продолжала метаться, расчищая путь в кухню. — Заходи, очень рада… А кошка давно умерла. Кофе хочешь? — Нет, чего-нибудь попить. Голубушка, а ты волосы не передержишь? Галя достала припасенную на дорогу бутылку содовой, вдруг вспомнила, какая она смешная с прядками, побежала в ванную. Вся эта суета удачно скрывала ее несказанную радость. — Да, горячая вода у нас бывает не всегда. Но как раз закипел чайник, и неотложное мытье волос, и обещанная стрижка — все как-то кстати пришлось, чтобы вспомнить прежнюю дружбу. — Да ты пойми, я только из-за Димки. С Васиным у нас никаких вообще… Я даже видела его с этой новой девочкой, ну, с женой. — Пока что не жена, — поправила Майя, — но старается. У тебя ножницы есть поострее? — Жена — не жена, меня это не колышет! Но он же купил себе эту иномарку, я в них не разбираюсь… — Фирма купила, — уточнила Майя. — А Димке дал «Волгу» — ну не кретин? Теперь он с этой «Волги» не слезает, вообще стал неуправляем, ему заниматься надо, он же в армию загремит… — И загремит, — вздохнула Майя. — И ты будешь мать солдата. Не вертись, сядь прямо. — Да, тебе смешно! Скажи своему водителю, что я ему больше справки доставать не буду. — Галюня, сиди спокойно. Я ведь не знала, что так остро стоит вопрос. Я его не нанимала. — Да? — Один раз подвез и стал приезжать каждый день. Понравилось. — Конечно, денежки… — Я ему ничего не обещала, ей-богу. Слухи о моем богатстве сильно преувеличены. Он сам! Выхожу с собакой, он уже стоит: «Куда ехать?» Он и сейчас, наверно, стоит. Вон, Ларс учуял. Ларс подошел к открытой балконной двери и скребся о стекло. Галя дернулась, Майя велела ей сидеть и сама вышла. В углу двора стояла «Волга», Дима подкачивал колеса. — Так точно. — Майя пощелкала ножницами. — Значит, он ехал за нами. Куда я, туда он. Мне, ей-богу, не нужен телохранитель. — Может, влюбился? — В меня? Свят, свят, свят… — Он и в детстве к тебе на колени прыгал, помнишь? — Все я помню. Сиди, сама не прыгай, а то обкорнаю. — Я от радости. Что ты пришла. Значит, я чуть-чуть что-то для тебя значу. Да? — Короче, надо отобрать у него машину. Мы сегодня поедем к Васину, он приглашал, и тебя тоже… — Меня? А удобно? Я там не была. — Собирайся, без разговоров. Бывший муж это лучший друг, поняла? — Но я ж не такая умная, как ты, — пококетничала Галя, осматривая новую прическу. — Зато красавица, — похвалила свою работу Майя. — Узнаешь платье? — Платье висело на плечиках, готовое в дорогу, и Майя давно его узнала. — Ты Темкиной привезла, а она мне продала. — Ябеда! Они стали примерять шляпки и заливались беспричинным девчачьим смехом. Ларс радостно побежал к машине. Галя, залезая на заднее сидение, сказала: — Здравствуй, сынуля. Давно не виделись. — Привет. А куда?..
— Сначала в центр, к художникам. — Майя села рядом с ним, Галя и собака — сзади. — Может, Оля с нами поедет. Надо еще в Абдуловку съездить, сараи посмотреть. Помнишь, там… — Пустой номер, — сказал Дима. — Тебя не спросили. Не перебивай взрослых, — сказала Галя. Сын на нее не реагировал, говорил только с Майей: — Там все схвачено. — Вы насовсем вернулись? — спросила Галя осторожно. — Видно будет, — вздохнула Майя, и видно было, что ей ни к чему эти расспросы. — А Оля как — неужели привыкнет? Она у деда пока? — Ей везде хорошо. Легко адаптируется. — Зря вы ее одну отпускаете, — очень серьезно сказал Дима. — А что, украдут? — Запросто. — Он меня все пугает, пугает!.. Со двора заезжай, там ближе.
Пешеходная улица, местный «Старый Арбат». У художественного салона торгуют картинами и всякой всячиной. Можно послушать музыкантов, погадать или заказать свой портрет. Оля сидела на складном стульчике, возле лотка с керамикой, и рисовала молодого красивого инвалида в камуфляже и в берете. За спиной стояли любопытные, сновали покупатели, гремела блатная песня, было шумно и тесно, но она старалась ничего не замечать. Только пьяный мужик, по виду бомж, в который раз приближался, качаясь: — Меня рисуй! Чего она — всех рисует, а меня не рисует! Очередь занимал! Имею право! — Отойдите, не мешайте! — Плачу деньги! Тебе баксы надо? — он искал по карманам мелкие купюры, мусолил их в руках, ткнулся в лоток с посудой. Его оттолкнули, но прямо в сторону Оли. — Уберите ваши деньги, я не буду… — Отвали, дядя. — Появился здоровенный бородатый художник, загородил Олю. — Отвали, кому сказано! — Я сам инвалид труда! Чтоб ты знал… я ее на руках качал… — дядька грязно выругался и наступил на Олину папку. Она, не сходя с места, пнула его локтем по колену. Он всей пятерней схватил и скомкал лист, на котором она рисовала. Инвалид встал и замахнулся костылем. Оля вскочила: «Сидите!» И ее стульчик тут же оказался в руках у пьяного. Продавщицы сзади завизжали, спасая посуду. — Генка! Муравьев! Это же Муравей! — две дамы в шляпках, Галя и Майя, пробирались сквозь набежавшую толпу. Остановились. Узнали одноклассника. — Муравьев! Генка! — Майя выступила вперед. — Ты меня узнаешь? — А ты меня узнала? — Муравей оскалился — напоказ — жуткими остатками зубов. — Приехала? Россию покупать? — Посыпался злобный мат. — А я не пр-родаюсь! Меня не купишь! Художники… ху… Майя отпрянула. Оля схватилась за стульчик, но Муравьев цепко его держал, рванул к себе, замахнулся. Бородатый художник с приятелем вышли из толпы бросились с двух сторон, отобрали стул, повалили Муравьева, но он вскочил, жилистый и верткий, и с пьяной отвагой попер на бородатого. Тот в два удара отрезал его от лотка, где прыгали и визжали продавщицы, и еще добавил, и Муравьев, потеряв равновесие врезался в фонарный столб и стал оседать, изрытая проклятия. Но удержался на полусогнутых и вынул нож. — Нож! Нож у него! — заорали продавщицы. Он сделал несколько нетвердых шагов, но толпа невольно расступилась, попятилась. — Оля, пошли! — кричала Майя. — Пойдем отсюда! Галя! Поехали! Там машина, вон там Дима ждет! Ольга! Но Дима был уже здесь. Спокойно стоял за спинами и исподлобья наблюдал. А Оля замешкалась. Выронила папку, тянула за свитер своего знакомого бородача. Муравьев рванулся к нему из последних сил, как раненый зверь. Толпа обратилась в сплошной визг. «Милиция, милиция!», «Не связывайся!» Дима вдруг резко вынырнул из-за лотка. Подножка, захват, и вывернутая рука Муравьева сама выронила нож. Дима его поднял, поднял за шкирку тощего Муравьева, тряхнул и ударом ноги отшвырнул за поребрик. И пошел, не оглянувшись, рассматривал трофей. Старый примитивный нож. Поморщился, кинул в урну. Возле этой каменной урны лежал неподвижно Муравьев с разбитой в кровь головой.
Ларс беспокойно ждал в машине. Вся компания, поменявшись местами, торопливо рассаживалась — Майя с Олей и собака сзади, Галя — рядом с водителем. — Ты туда больше не пойдешь, — сказала Майя. — Мам, что случилось-то? Подумаешь, алкаш вонючий. Ты его случайно не укокошил? — А что с ним делать? — отвечал Дима нехотя. — Он каждый день у магазина бузит. Свернули на шоссе и помчались. — А был такой голубоглазенький, тихоня, — вспомнила Галя. — Ладно, больше ни слова про Муравьева. Забыли! — приказала Майя и закрыла глаза. — Его еще этот бородач отмутузил, я первая подошла и глазам не верю… — тараторила Галя. — Тимурчик? — невзначай поинтересовалась Майя. — Ага, — сказала Оля, обняв пса и расслабившись. — Мам, я с вами не поеду. Только до Абдуловки. Все ясно, у девочки уже есть кавалер, и душой она далеко. Майя кивала молча, с закрытыми глазами. За окном тянулись скучные промышленно-гаражные пейзажи. Прилепившийся к городу поселок совсем захирел. Пустыри да остатки бараков у заброшенной железнодорожной ветки. Старые вагоны, склады, два кирпичных, без окон без дверей, дома.
Майя осторожно переступала через доски вывернутого пола. Поглядывала наверх — не рухнет ли потолок. Оступилась, ударилась коленкой. — Черт! А стены крепкие. —Фу! — Галя зажала нос. — А здесь чем-то пахнет. — Дерьмом, — сказала Оля. Остановились в темном помещении со следами человеческого обитания. Чайник, колченогое кресло, дырявое корыто, стены исписаны во много слоев на разных языках. Майя щелкнула зажигалкой. Поверх чужих «факов» и наивных «Вова+Ира» — с размахом, крупно — «Бей жыдов, спасай Россию!» Оля засмеялась, подробным взглядом художника изучая настенную роспись, — Мам, а разве жиды пишется через «ы»? — Перепачкаешься, — Майя потянула Олю назад, в открытый с двух сторон коридор. — Иностранка в России. — Нет, я читала у Достоевского… — Тихо, там кто-то есть… В другом конце длинного строения врубили веселую музыку. — Бомжи, наверное. — Галя ковыляла сзади, зажимая нос. — Везде теперь бомжи расплодились. — Ну почему бомжи? — разговорилась Оля, когда вышли на воздух и нашли облупленную скамейку в бывшем палисаднике. — Просто приезжие. Не все же могут за гостиницу платить. Ты сама вон сторожишь чужую собаку. — Ларс прибежал с какой-то дрянью в зубах, стал прыгать вокруг Оли. Женщины, подстелив газету, сели под чахлым деревом. — В прошлом году тут цыгане жили, а теперь молдаване, — просвещала их Оля. — Вон, вино привезли, продадут и уедут, а бригада останется, можно нанять. — Ты откуда все знаешь? — изумилась Галя. — А наши ребята вон там окопались, — показала Оля на соседний флигель. — Нежилые помещения теперь в городе знаешь почем? — И ты тут была? Бываешь? — А что такого? Вон, ваш Димочка пузырь тащит. — Олю явно забавляло, как взрослые, вылупив глаза, познают действительность. Дима вышел с пожилым дядькой, в двух руках — пластмассовые пятилитровые канистры с темным вином. Открыл багажник. — Что он им… лапшу на уши… Дань собирает? — догадалась Майя. Галя приложила руки к сердцу. — Почему лапшу? Он сдал помещение, — смеялась Оля. — Менты тут не ходят. Такой малый-малый бизнес. Мам, я к ребятам… Вон, там кто-то вылез. Там сегодня шашлыки, день рожденья. — Она живо вытащила свою папку из машины. Дима уже заводил мотор. Покосился: — А кто спасибо скажет? И все вспомнили утренний скандал. — Ой! Спасибо. — Она поцеловалась с собакой, чмокнула Майю. — Все, я помчалась! — Прошу — больше ни слова про Муравьева, — сказала Майя.
Двухэтажный дом стоял в глубине участка и был еще не достроен, но огорожен глухим забором. Железные ворота гаража открывались прямо на улицу. Дима открыл дверь рядом с гаражом, потом ворота, и крупная дворняга сходу облаяла Ларса. Пока Майя знакомила собак, Галя прошлась по каменной дорожке среди ухоженных роз, восхищенно озираясь. Послышался голос хозяина: — Динка, привяжи Руслана! — Я посуду мою! — в нижнем окне, словно на картине, возникла восточная красавица. Она была в фартуке, отдраивала казан из-под плова, но улыбалась, как фотомодель. Андрей сам привязал собаку. — А мы вас к обеду ждали. Гости уехали, не дождались. Димка, ты колючку привез? Туда неси! Два мужика тянули по забору колючую проволоку. — Димочка, ты бешбармак будешь? А то весь плов съели. — Давай башмак! Ам! Гав-гав! — Дима подпрыгнул, изображая голодного пса, и побежал к рабочим. — Вот так ты теперь живешь? — восхищалась Галя. — Тишина, красота — супер! — Так мы и живем. Это мой верный пес Руслан, а это — дикая собака Динка. Женщина, уже без фартука, сошла с крыльца. — А это моя подруга Галя, — пошутила Майя, глядя на Андрея. — Мы где-то уже встречались. — Он поцеловал Гале руку и обнял ее за плечи. — Проходи. — Туда! — Майя сразу отправилась за дом, где, под деревьями стоял длинный стол со следами большого воскресного обеда. — Нам же поговорить надо. Дима побежал в кухню. Рабочие стучали молотками. — Нет, все-таки неприятно жить за колючей проволокой, — сказала Галя, сдвигая неубранные чашки из-под кофе. — За что я люблю Галушку, она всегда найдет изъян и не замедлит высказать. Садись, она уберет. — И не называй меня Галушка! — Галина Евгеньевна. Ну выскажись, выскажись — «три волоса на голове осталось, живот вырос, а ходит, как охламон, в собачьей душегрейке». Сама же мне и связала, из собаки. От радикулита. — Не из собаки, а из верблюда. А внешность твоя меня никогда не интересовала. — Ребята, умоляю, пока никого нет… — Майя села поближе к Андрею. — Надо поговорить. — Что будем пить? Дина принесла поднос с закусками, с тарелками. Пока расставляли, Андрей усадил Галю в плетеное кресло, а Майе сказал: — Уехали нужные люди. Тебя ждали с нетерпеньем. Где вы шлялись? Один уехал в большой досаде. — Я ему что-нибудь должна? — Пока ничего. Ради кого я их приглашал? Мне эти званые обеды… — Виновата. — Димку с утра послал, чтоб к обеду, ровно… — Вот не надо больше Димку за мной посылать. Возместить убытки? Все дружно засмеялись, а Андрей вскочил и крикнул в окно: — Да выключи ты эту дребедень! Там, в гостиной, на полную мощь включили телевизор. Шел боевик, и голос переводчика разносился по всему участку: «Пошевеливайся, парень, трахай ее, трахай, а не то мои парни покажут тебе, как это делать!» — Дима, выключи эту гадость, кому сказал? Там уменьшили звук. — Так, — громко вздохнула Галя. — Вот так он занимается. Ты соображаешь вообще, что ты наделал? — А что? — Ты дал ему машину! Ты все пустил на самотек! Ты обещал, что он будет заниматься, а сам… — Из-под палки? Не будет. Обойдется пока без института. — Да? — ахнула Галя. — Ты хочешь, чтоб его забрали? Так и скажи! Он тебе мешает? — Он мне помогает. — Конечно, тебе нужна обслуга! Тут на участке столько работы… — Не заводись, Галка, — сказала Майя. — «Кто виноват», нам уже ясно. — Андрей устало кивнул. — Теперь — «что делать?» Отобрать у него машину, и все! — Тише, девочки, там слышно. Налить еще вина? Димка, выключи эту галиматью! — Андрей встал и прикрыл окно. — А есть еще вино? В бутылке оставалось на донышке. — Позвони, — сказал Андрей. Майя знала, где кнопка на столбе. В кухне раздался звонок. — Надо еще работяг покормить. — Вот это да… комфорт, — сказала Галя. — Не люблю кричать. — А я терпеть не могу эти кресла, они врезаются, — заерзала Галя. — Хотел как лучше. — Он снял верблюжий жилет, подложил под нее, отошел к кухне, потом к рабочим. — У Димки ж полный багажник, — вспомнила Галя, — молдавского. Пусть он спросит! — Помолчи! — прошипела Майя. — Не нагнетай. Все по порядку. — Ну да, я дура, всегда чего-нибудь ляпну. «Дикая собака Динка» принесла вино, Андрей стал открывать. — Позови Димку. — Кстати, он спиртного в рот не берет благодаря машине. У нас с ним сразу был уговор… Дмитрий! — крикнул он в окно. — Выйди! — Чего, пап? — Дима появился в окне, словно подтверждая его слова — с бутылкой пепси-колы. Румяный здоровяк из рекламного ролика. — Иди, надо поговорить. — Я все понял, пап. — Что ты понял? Давай ключи от машины, я их сам отвезу. И садись занимайся! — Понял. Счас. — И выключи телевизор! Рабочие все еще стучали в углу участка. Дина тихонько подошла, села рядом с Андреем, — Тишины хочу, тишины, — продекламировал он в темнеющее небо. — Девушки, красавицы мои, давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. — А сын — это уже плохое? Ладно, ладно, все, молчу! — Галя потянулась чокнуться с Диной. — За все хорошее! Девушка, забыла, как вас зовут… — Динара. — Чтоб у вас все было хорошо! Не так, как у нас. У вас теперь все условия… — Она не замечала, что Майя прикрыла глаза ладонью, Андрей простонал: «Галу-ушка…» — Да, и не спорь, чего уж теперь, он меня никогда не любил! Она отмахнулась тем нетерпеливым жестом, что когда-то приводил Андрея в ярость. «Нашел себе дуру!» Но сейчас он только усмехнулся, перехватил ее руку, повернул ладонью и поцеловал. Галя вырвала руку, легонько шлепнула его кистью и выставила локоть на стол. Они сцепились руками — кто кого положит? Майя смеялась: — Галушка умеет поставить вопрос ребром! А где Ларс? Где моя чужая собака? — она вышла из-за стола, но не могла отвести взгляд от их дуэли. — Ребята, давайте жить дружно! — подошла их разнять, но не тут-то было: Галя давила со всей злостью. — Андрюха, сдавайся, она ж профессионалка! Лечебная гимнастика, массаж, — попутно объяснила она Дине. — Обучает, кстати. Ну, ну, ну, Галка, держись! Положила. Поверженный Васин поднял Галину руку: — Прошу — аплодисменты! — Победила дружба! — похлопала Майя и прошлась по участку. — Ларс, Ларс! Где ж моя чужая собака? Он не мог за забор уйти?
Андрей открыл гараж. Машины там не было. Он застыл, не веря глазам. Майя бегала вокруг дома, призывая собаку. Дина и Галя стояли у крыльца и звали Диму. Дина побежала наверх его искать. Длинная немощеная улица упиралась в лес. Солнце зашло, стало темно и прохладно. Подошли рабочие, спрятали стремянку: — Завтра с утречка закончим, там чуток осталось. Верный Руслан бился на цепи и лаял. Женщины кутались и ежились, блуждая у ворот. — На него не похоже, он всегда говорит… — И собака с ним, вы точно видели? — кинулась Майя к рабочим. — Посадил собаку и вон туда… в город, значит. — Может, на станцию? — Может, на дискотеку? Была еще слабая надежда, что Димка сейчас вернется, поехал прокатиться. Андрей побежал к соседям — просить машину. — Оставайтесь ночевать, — предложила Дина. — У меня поезд утром! Вещи не сложены! — Галя всхлипнула, отвернулась. — Куда я теперь? Никуда я… не поеду. — Вытерла слезы старым верблюжьим жилетом и опять заплакала. — Если что-нибудь случится с собакой, Темкины меня убьют, — говорила Майя в пространство. — И дождь обещали ночью… Разум подсказывал, что мальчик уже далеко, и ждать бесполезно.
Сосед на «Ниве» отвез их на станцию. Андрей сидел впереди, не оборачиваясь. Галю трясло, у нее началась икота. — Я ж говорила… еще когда… — Кончай «педагогическую поэму»! — Майя толкнула ее в бок. — Замри! Вдохни глубже! — Галя прижалась к ее плечу и не выдыхала. — Хорошо посидели. — Майя вдруг запела поставленным голосом: — «Я ехала домой, двурогая луна светила в окна тусклого вагона… Далекий благовест…» Встали у переезда. Простучала электричка в город, зашипела тормозами у платформы. — Отвезешь до конторы? — попросил соседа Андрей. — Возьму машину, накажу мерзавца. Майя все пела, придерживая Галушку за колено, чтоб не выступала, и на их утомленных лицах читалось: «Еще кто кого накажет!»
В квартире у Гали — как утром: полусобранный чемодан, тряпки, шляпки, утюг… Все у нее валилось из рук. Стала заводить будильник, но вопрос — ехать или не ехать? — останавливал на каждом шагу. Она тупо стояла над чемоданом, прислушивалась — кто-то там приехал во двор, хлопнула дверца машины. Она выскочила на балкон. Нет, не «Волга». Сложила гладильную доску. Включила радио. Оттуда, как в насмешку: «…Издалека долго течет река Волга…» А в зеркале — опухшая рожа с молодежной прической. Зазвонил телефон. Подбежала. — Нет, не появлялся. Опять звонила Майя, успокаивала: — Выпей таблетку, ту, что я тебе дала, и ложись, поставь будильник. — Да как это я лягу? Не поеду я никуда! — причитала Галя. — Я уже обзвонила… Так поздно уже звонить… Девочка у него была, так лето, никого в городе… Ты Андрею скажи, что бесполезно…
— Подойди. — Майя прикрыла трубку рукой. — Она знает, что ты тут. Он поморщился, но подошел, сел на коврик у кровати. Майя, переодевшись в джинсы и толстый свитер, продолжала убеждать: — Ради бога, уезжай спокойно, ты тут совершенно не нужна… Я и говорю, что искать бесполезно, надо ждать. Только без собаки тут как-то пусто, непривычно. Квартира новая, голая, как в гостинице… — Гав! — тявкнул с пола Андрей. — Гав-гав! Майя потянула его за воротник, сунула ему трубку: — Тут животное хочет что-то сказать. — Галушка, тебя проводить? Я взял машину… Заедут?.. Мы тоже — ни в одном глазу, едем кататься, прочесывать город. Ложись… Дадим телеграмму, мобильный у тебя записан?.. Все равно запиши! У тебя голова дырявая… Над ним стояла Майя с кроссовками в руках, и негодовала, и пыталась дирижировать, шепотом, одними губами: — Скажи ей что-нибудь… Поддержи. Скажи: «Люблю, целую…» — Да ни в чем ты не виновата! Я во всем виноват. Ты умница, красавица, стойкий оловянный солдатик, я тебе благодарен за все, все… — Ой, ты бы видел — красавица! — Галя хлюпала носом и не могла больше говорить. Слезы капали на будильник, который она все еще сжимала в руке. Майя сидела за рулем новой иностранной машины, Андрей вглядывался в переулки и дворы, показывал, куда ехать. Город был безлюден и красив, как все города, пока спят. Ехали очень медленно. Заслышав музыку, свернули к ночному клубу. На площадке много машин, но серой «Волги» среди них не было. Стало понемногу светлеть. Спустились на набережную. Поднялись по крутой улице. — И здесь я жила когда-то, — вспомнила Майя. — Коляску сюда поднимать — представляешь? Возила Ольгу на репетиции. Куда ее денешь? А как студия накрылась — все! Все наши спивались постепенно, а я с ребенком… не спилась. — Мне даже странно, что ты водишь машину. Ты для меня еще там, понимаешь? — Ага. Босячка с Абдуловки. — Это ты другим рассказывай. Гордячкой ты была. Много о себе понимала… — Да? Да… Знаешь, за границей излечивают от гордыни. Училась, как первоклашка, на разных курсах… — Она поморщилась, и без слов было ясно, что ей надоело «учиться на разных курсах». — Я многое умею друг мой Васин чему я научилась без тебя. Ой, покажи! — Она притормозила, остановились у перекрестка. Андрей достал полевой бинокль с дарственной надписью на футляре. Сверху просматривался мост, и показалось что-то серое… Впрочем, в этот час все казалось серым. Редкие машины ехали, не погасив фар. Майя взяла бинокль, полюбовалась, покрутила. — Подарок от православной церкви. На купола смотреть. Видишь, сколько там золота? Я тебе еще не хвастался, а это наша работа. И вон наш объект. — Первый луч солнца упал на золотистый купол собора. — Куда ты вниз смотришь? Все собаки еще спят. — А давай на колокольню залезем, сверху-то виднее, ты обещал экскурсию.
Наверху было ветрено. Они кутались в один плащ и передавали друг другу бинокль, и Майя чувствовала его руку на своем плече, ее словно приковали, и оба они старались не двигаться целую долгую неловкую секунду, только смотрели, как оживает город, и в нем — во дворах, на обочинах, на проспекте, на площади — слишком много серых машин. Издали даже в бинокль было не различить их марки и номера. Все чаще появлялись во дворах и скверах собаки. — А зачем ему собака? — размышляла Майя. — За что ему меня наказывать? Ты отнял у него игрушку, малыш обиделся и показал характер, в конце концов можно и в ГАИ заявить, если… — Вот этого не надо. Дураком быть неохота. Здесь газетки сволочные, хуже, чем у вас в Италии. — Ты ж заметная персона! Тебе нельзя стоять на колокольне с чужой женой. Папарацци уже глядят в бинокль: что они там делают, на колокольне? Другого места не нашли? — Она хохотала и дрожала от холода. — Ты что смеешься? Что смешного? — Чтобы согреться. — Пишите, господа, пишите! Плевать я хотел… с высокой колокольни. А вон он едет! Вон, рядом! — Он без бинокля сразу узнал свою «Волгу». — Даже багажник не снял. — Ну и куда? — Они смотрели, как машина, обогнув сквер, вывернула на перекресток, рванула на желтый свет и скрылась за высокими домами.
За Галей заехала подруга и попутчица Люба, с мужем, на «Жигулях». Галя вышла на балкон, бледная, с ввалившимися глазами. — Я не поеду! — Ты что, подруга?! Люба помчалась наверх. Она уже знала, что Галя не спала всю ночь, что-то там с сыном приключилось, и вообще — на грани нервного срыва. Тем более — надо ехать! — Пропади все пропадом! — кричала Люба, всей массой навалившись на чемодан. — Билет, деньги, путевку — взяла? Поехали! Спать будем в поезде! Ну их всех к лешему! Она сама схватила Галину сумку. Под ее напором Галя сдалась. Запихнули ее вещи в багажник. Поехали со двора. — Ляжем на полочки и спать, спать, спать!.. Вдруг взвизгнули тормоза. «Жигули»чуть не врезались в «Волгу», выезжавшую из-под арки. — Это он! — завопила Галя. Выскочила из машины. — У тебя совесть есть?! Ты что вытворяешь?! Мы всю ночь не спим! — Не ори, мам. Дай ключи. — Где собака? — Да вон он, дрыхнет. Ларс так привык к этой машине, что спокойно лежал на заднем сиденье, только чуть приподнял морду. — Давай ключи, я в куртке забыл. Любин муж, отъехав, нервно сигналил. Люба выскочила из машины: — Дурдом! Галина Евгеньевна! Мы едем или не едем? «Волга» стояла с включенным мотором. Галя препиралась с сыном. Люба выставила ее вещи из багажника на асфальт. Они уехали.
Галя вдруг словно очнулась. К ней вернулась ясность мысли. Забросили ее вещи в «Волгу». Дима помог. Главное — по порядку и спокойно… Галя поглядела на часы. — Давай сначала отвезем собаку, по дороге. Они ж с ума сходят! Ну зачем тебе собака? — Пригодится, — усмехнулся сын. — Мам, ключи давай. — Не дам! Пока не объяснишь, — Галя себя одернула. — Сынуль, ты ж мне ничего не говоришь, мы совсем как чужие… — Мам, ключи дай, а то забудешь. — Дима повернул к вокзалу. — Нет, сначала собаку… — Галя поплотней прижала к себе сумку. — Но ты мне обещаешь, что сразу отвезешь Майечке собаку? — Мать, не лезь не в свои дела! Майечке, Майечке… — Дима сделал идиотскую гримасу, проехал под «кирпич», прямо к выходу на перрон, стал вытаскивать ее вещи. — Мать, скорей, тут нельзя стоять. Ключи давай! — Распахнул дверь с ее стороны. Галя не двигалась. Дыхание перехватило от гнева. — Я тебе сказала куда ехать! Я тебе не верю ни в чем! — Ну ехай, ехай. — Он еще улыбался! Галя выпрыгнула из машины и потянула за собой собаку. — Ларсик, миленький, собачечка, пошли со мной, песик мой хороший, пошли со мной. — Схватилась за ошейник, поискала поводок. Сумка у нее была на длинной цепочке, болталась под рукой, мешала. Дрожащими руками она отстегнула цепочку, прицепила к ошейнику. Сын с ухмылкой наблюдал за ее решительными действиями. Как только Ларс выпрыгнул, он рявкнул: — Сидеть! — и потянул к себе за цепочку и Галю, и собаку. Ларс кинулся обратно в машину. Дима наматывал на руку цепочку, дернул сумку. Галя плотнее ее прижала. Цепочка отстегнулась с другой стороны. — Хорошая вещь, пригодится, — он сложил цепочку пополам и потряс, любуясь изобретением. Попал Гале по руке. Она замахнулась сумкой, он успел присесть и захохотал: — Ой, дерется! Убивают! Тогда она всерьез, наотмашь, врезала сумкой, чтоб не издевался, и по-бабьи, вслепую, стала колотить куда попало. Попала в нос. Он взвыл, распрямился и одним приемом вывернул ей руку, и Галя упала лицом на сиденье, а сумка — ему под ноги, как тогда — нож бомжа. Он вытряхнул из сумки все — прямо на асфальт, и взял ключи. Поднял рыдающую Галю за воротник. — Садись, поезд ушел! — Ублюдок! — Она осела, как ватная, среди рассыпанных из сумки мелочей. Кто-то поднес поближе ее чемодан. Она ничего не видела, обливаясь слезами. За перроном плавно набирал скорость ее поезд.
Майя лежала в пижаме на краю большой семейной кровати. Тонкие белые занавески не защищали от солнца. День жаркий, и уже не заснуть. Она говорила по телефону с Галей, едва ворочая языком: — Сейчас главное — немного поспать…Ну закройся на цепочку…Да не думай ты о моей собаке. Бай-бай. — Но нет, Галя не отпускала. — Подумаем на свежую голову…Он же не дебил, видишь, помылся, ключи оставил, значит, в своем уме? Бай-бай. — Хотела повесить трубку, но теперь Галя спрашивала про Андрея. — …Да я ему все уже рассказала. А зачем ты туда звонишь? Он здесь. Спит. Да нет, не рядом. Там он спит, в столовой. Что? Ну что тебе до этой Динки?! Спи давай! На пороге появился Андрей в полосатом халате: — Где тут телефон отключается? — Не надо. Может Оля позвонить. Дай, пожалуйста, мои «жмурки». Вон там. Не могу спать при свете. — А я при шуме, — Он протянул Майе мягкие клетчатые очки. — Там трамваи по голове ходят. — Возьми затычки. Ложись здесь. А я там. — Нет, ты тоже здесь. Он осторожно лег на другом краю огромной кровати. Повернулся спиной к окну, лицом к ее затылку. Майя пыталась заснуть. Или делала вид, что спит. Вдруг повернулась: — Слушай, а может, он хочет выкуп? За собаку? Просто деньги? — Я не знаю, чего он хочет. Не понимаю, что у него в голове. — Он хочет быть сыщиком… Опером. Он думал, что я его возьму в Италию, и там… Она засмеялась. Андрей глянул на ее смешные очки с вымученной улыбкой, его тоже не отпускали мысли о сыне, но он их гнал. Уткнулся в подушку. — Давай лучше сны рассказывать. Нет ничего скучней чужих снов, я всегда засыпаю… — Там висели тяжелые бархатные шторы… — вспоминала Майя. — В нашей маленькой квартирке… — На Фонтанке? — Нет, в тринадцатом, кажется, году. Когда мы расстались. Ты построил избушку на курьих ножках, на острове, и приплывал на лодке. Привез эти шторы, цвета красного вина. — А там Баба Яга. — Нет, нас разлучила злая молва. А там — война, ты стал авиатором и пролетал над нашим островом… — А ты купала красного коня. — Да-а? Тебе я снилась с красным конем? Это что-то… Зазвонил телефон. Майя закричала: — Пронто! Пронто! Си, си… Энцо, ты почему так долго не звонил?…Нет, я пыталась… Ну конечно, я скучаю. Нет, сейчас не могу, я все сделала и даже больше. Но надо все держать под контролем, ты же знаешь. До августа все решим… — Она соскочила с кровати и вдруг перешла на итальянский, что-то спрашивала чужим, высоким, междугородним голосом, смеялась и подмигивала Андрею. — Да, я не одна. У меня как раз деловая встреча с одним сумасшедшим архитектором… — И опять бурные перепады итальянской речи. Андрей ушел в кухню, включил радио, чтобы не слушать эту чужую, словно взошедшую на подмостки сцены, женщину. Налил себе коньяку, выпил залпом полстакана. Вошел в спальню, изображая жутко пьяного, зигзагами: — Скучаешь, да? А я тебе на что? С сумасшедшим архитектором? Она лежала в своих «жмурках», в атласной пижаме, и только изумленно отпрянула, когда он плюхнулся всем телом прямо на нее. — Пусти… глупый медведь… Не души. Расстегни тут, — она сама выскользнула из пижамы, обвила его руками и поцеловала куда-то в шею, пока он стягивал с нее резинку с очками. — Никуда ты не уедешь в августе… Не пущу! — Никуда, никуда. Пусти, не надо. — Она ткнулась лбом в его грудь и медленно перекатилась на пустую прохладную половину кровати. Лежала голая, спрятав голову под подушку и протянутой рукой отыскивая его руку. — Прости, я с родными не сплю. Только с чужими. Он услышал придушенный смех и потянул с нее подушку. — А смотреть можно? — Дай сигарету. Она прикрылась простыней и сама пошла искать сигареты. И опять зазвонил телефон. — Ну где же ты? Не звонишь… Это Оля. — Она села в ногах у Андрея, закурила. — Что? Когда? Расскажи толком. Ты откуда звонишь? Ты можешь зайти? Ну заходи с Тимурчиком. — Что случилось? Майя медленно переместилась на кухню. Что бы ни случилось, а детей нужно кормить. И одеться. Пока она громыхала кастрюлями, Андрей быстро оделся, и стыдный осадок от любовного набега совсем испарился — можно забыть. — Что случилось? — Муравьев умер. Там, на месте, и скончался. — Какой Муравьев? — Ну алкаш, у которого Димка отнял нож. Не хотела тебе говорить… — Какой нож? Грибы, огурцы, пельмени из морозилки, надо еще одеться, и надо вспомнить, теперь они свидетели, а вода уже кипит. Все в этой жизни вперемешку, и плакать по голубоглазому алкашу сейчас некогда. — Он его, кажется, выбросил… — Майя, натягивая сарафан. — У меня есть юрист по уголовщине. Кинь пельмени, я уберу там…
Галя, наконец, заснула так крепко, что телефон долго звонил рядом с кроватью. — Алле… А куда вы звоните? — Она едва разлепила глаза. — Да, Галина Евгеньевна. Из какого отделения? Милиции? А его сейчас нету. Не знаю. А что случилось?…Зайти? Могу… Завтра? А по какому делу? — Она постепенно догадывалась, по какому делу. — Свидетелем? А можно сегодня? — Вскочила, как ошпаренная. — Конечно, я свидетель, я вам все расскажу! Ну мать. Ну и что, что мать? Все видели…
В коридоре отделения милиции давно томились молодые свидетели — ребята из художественного училища, две продавщицы, Оля со своим бородатым Тимуром. Рабочий день кончался. Пробежал какой-то хмурый лейтенант. — А вы чего тут толчетесь? — Посмотрел на часы. — Домой идите, ребята! Вас вообще не вызывали, а вас уже опросили! Кого надо — вызовут! Комсомольцы-добровольцы! — Пошутил и убежал, размахивая бумажками. — Когда надо — не дозовешься… Из кабинета начальника вышла Майя, поманила к себе Олю и Тимура, и вся компания повалила за ними на воздух. — Нечего тут глаза мозолить. Дети, будьте умненькими, не напрягайте родную милицию. Разберутся. Все в их власти. Поищите лучше нашего героя Васина требуется подписка о невыезде. Он же нанес последний удар, — сказала она с нажимом, глядя на Тимура — Это записано в показаниях. Не в его интересах теперь скрываться. Возмущенный «гур-гур»: «У него же нож!», «Все видели!», «Это не превышение!», «Он мог этим ножом что угодно!». Свидетели по третьему кругу обсуждали детали происшествия. Галя, запыхавшись, бежала к ним от трамвая. Майя перехватила ее, обняла за плечи: — Не ходи туда, они закрылись. — Нет, я скажу!.. Все же видели!.. — Солнышко, надо посоветоваться с юристом. Андрей уже поехал, я его жду. Дело такое скользкое… — Да все ж видели! Как он нож отнял! — А можно и не доводить до суда, — шепотом вразумляла Майя. Галя кивнула, но вдруг вспомнила утреннюю сцену во всех подробностях и вытерла глаза кулаком. — Да пусть он сядет, бандит!
И вот они снова в машине, втроем, и если молчат, то думают только об этом — о предстоящих неприятностях. Не отвязаться от этих мыслей. Галя листает «Уголовный кодекс», который никто из них не читал. — У Муравьева есть мать и жена, они и подали, — сообщила Майя. — Можно, наверно, договориться. — Я эту Нинку знаю, — вспомнила Галя. — Тоже пьянь беспробудная. — Знаешь? — Ни за что не пойду, хоть убей! А за что им платить? Он же сам… Заверни вон туда, через двор. Они подъехали к пешеходной улице, хотели показать Андрею место происшествия. Художественный салон уже закрылся, и лотков не было, только уличные музыканты остались. — Оля говорит — он ее на руках качал? — спросил Андрей. Майя пожала плечами: — На руках — не помню, а коляску возил. Хороший был мальчик. Вот отсюда мы подошли и сразу увидели… — Как этот качок его мутузил — мы видели, а Димки близко не было! — Тимурчик? Нежнейшей души созданье, хотя и боксер. При нем я за ребенка спокойна. — А ножа испугался. Нож-то Димка отнял! Вот тут. А нож-то где? Он же его бросил. Это же улика! В урну он бросил, вот так, не глядя. Они подошли к той самой урне, полной мусора. Галя стала вытаскивать обертки от мороженого, банки из-под пива, пакеты. — Не сходи с ума! — крикнул Андрей. — Так он там и лежит! Он отвернулся, невозможно было смотреть, как женщина в аккуратном костюмчике, на каблуках, посреди улицы роется в урне. А Майя подошла, разгребать не стала, но вблизи — ничего страшного: шкурки от бананов, пачки от сигарет. — Надо же проверить, а вдруг? А то скажут, что не было ножа! Вот, нашла! Нож, разумеется, лежал на самом дне. Галя закатала рукав, достала носовой платок и запустила туда руку, извлекла трофей и, морщась, зажав нос от дурного запаха, понесла его в вытянутой руке. Картинка, действительно, достойная стоп-кадра. Или плаката «Родина-мать». Так подумали одновременно Андрей и Майя, переглянувшись: ну как не восхищаться Галушкой? В машине она вытерла руки душистой салфеткой, вытерла и нож — древнюю самодельную финку, завернула в пакет. — Ну и что теперь с этим делать? — сказал Андрей. Было уже темно. «Уголовный кодекс» Галя спрятала в сумку. Огрызнулась: — Оставлю на память! Муравьев пять лет отсидел за грабеж, когда вернулся — квартиру пропили с Нинкой… Вот судьба… — Может, им деньги на похороны предложить? — сказала Майя. За секунду молчания все вспомнили, что где-то в морге покойник — друг детства — отдыхает, отмучился. Галя, подумав, возмутилась: — Еще чего! Получается — мы виноваты? — Вот за что я люблю Галушку — у нее железная логика! — произнесли Андрей и Майя почти хором. — Пригнись! — Галя сползла с сиденья, втянула голову: — Вон они там кучкуются, дружки. Проезжали ночной подвальный магазин. Бум! — что-то грохнулось в заднюю дверь. А целились, наверно, в стекло. «Пьянь беспробудная» Нинка мелькнула под фонарем и скрылась в темноте. Андрей выругался и прибавил газу. Майя постаралась успокоить: — Помянут и забудут. Но оба они знали, что «покой нам только снится». И Галя напомнила: — Твою машину тут каждая собака знает. — Только не надо при мне о собаке, — сказала Майя. Выехали на шоссе. Миновали большую развязку, бензоколонку. Машин становилось все меньше, но цвет их был почти неразличим в сумерках. Андрей стал клевать носом. — Не спи за рулем, — сказала Майя. — Спойте. — «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек»… Спели целый куплет. Андрей вдруг резко затормозил. Навстречу пронеслась серая «Волга» с багажником. — Он, ей-богу он! — Андрей хотел развернуться через сплошную осевую, пуститься в погоню, но машины как на грех все шли и шли с двух сторон, и Майя сказала: — Не делай глупости. Они сами найдут, машина уже в розыске. «Волга» давно скрылась из виду, и дурацкий дух погони выдохся, пока они стояли на старте, и Майя крутила бинокль, в который ничего не было видно, только слепили огни. Андрей послушался, отменил погоню.
Двери дома были распахнуты. Верный Руслан радостным лаем встречал хозяина. Прыгнул разок-другой, но понял, что не хотят с ним играть — все какие-то усталые, мрачные. На пороге кухни стояла Дина, сама на себя не похожая: тяжелый взгляд исподлобья, губы поджаты, в руке рюкзак. Но только Майя это заметила, а Галя помчалась в ванную, Андрей стал подниматься по лестнице: — Посплю полчаса. Принеси что-нибудь. — Слушаюсь, — отвечала Дина. — Конечно, Андрей Васильевич, надо вам полчаса поспать… Уеду я. Больше дня тут не останусь. — Кинула рюкзак возле открытой кладовки, поискала свою куртку, кроссовки, сумку — порывистыми, неверными движениями, как пьяная. — Димка здесь был? — Угу, вещи взял, пожрал и бегом… Что ж мне, под колеса бросаться? — С собакой был? — Ой, не знаю. Я ж его боюсь! «Димочка, Димочка» — а сама трясусь вся… Нет, вот, он миску взял с голубцами, понес для собаки, лодку надувную взял… Нет, вы кушайте, там еще осталось… — Они переместились в просторную гостиную, обшитую светлым деревом. Было тут и пианино, и камин, и кресло-качалка, а в углу накрытый стол, Дина их давно ждала к ужину. Но сейчас она налила себе дрожащей рукой стопку водки — видно, что не первую — и опрокинула. — Ты б его хоть спросила — куда путь держит? — Я его спросила?! Кто я такая — спрашивать? Кто я есть-то? Дом сторожу… «дикая собака Динка»! Это он меня спрашивал — «На хрена тебе со стариком трахаться, шла бы в „Интурист“ бабки зашибать! Хочешь, устрою?» Как будто я блядь! И ржет! Как бы он пошутил. Я сразу уйти хотела, как этот сынуля появился. Что мне тут? Что я тут видела? Орду кормить… Пью с ними, одна радость — с работягами водку пить. — Она снова налила стопку и заплакала. — У меня мама в Калуге устроилась, теперь есть куда податься… — А любовь? — тихонько поинтересовалась Майя. — Да какая там любовь! Как эта тварь тут появилась… Андрей Васильевич такой стеснительный, как это — спать с прислугой? Что мальчик подумает? А мне и самой стыдно… Мальчик прямо сказал — «его мадам приехала», это про вас, «так что ничего тебе тут не обломится», будто я набивалась… А я, у них уборщицей работала, в офисе, а он говорит — «пойдешь ко мне садовницей?» Ну и я, конечно, на седьмом небе, дура… Теперь все в прошлом. — Она проглотила слезы и, заметив, что Галя появилась в комнате, вскочила, ухватилась за стол, стала беспорядочно передвигать тарелки, закуски. — А теперь — как я поеду? Он все деньги унес! — Не пей больше, Динка. Как унес? — Майя стала усаживать ее на место, она не желала садиться, выдергивала руку, уронила нож со стола. — Унес! Я искала… Вон там — для электриков лежали… Нету! А я свои прятала. Я от него прятала и вообще — тут все ходят… — Куда ты их положила? Может, так спрятала… сама теперь не найдешь… — Да? Вы ничего не знаете! Динка шаталась, хваталась за двери, но про деньги-то она хорошо помнила. В ту минуту, когда они вошли в дом, она как раз обнаружила пропажу, и с тех пор одна только мысль стучала в голове — не завалился ли куда заветный конверт, и как теперь ехать, сказать им всем или не говорить? Еще не поверят, она им всем чужая… — Он из ящика прямо при мне взял! Отец, — говорит, — мне еще должен, я не нанимался его телок возить! Я так и села! А он пошел рубашки искать, я говорю — они в грязном… Дура! У меня ж там под клеенкой мои баксы… я скопила… а он всю корзину вывернул… вот. Вы мне не верите? — Да верю, верю, деточка, — Майя стояла над кучей грязной одежды за дверью ванной, а Динка ползала у ее ног, еще раз перебирая рубашки, порошки, щетки, бутылки, салфетки, свой восточный халат. — А у меня мама русская, в Калуге теперь живет, я думала — накоплю и поеду, а теперь — что?.. Нету их… — И много накопила? — Пятьсот долларов. Я в консерваторию поступила уже, когда у нас дом сожгли, а мама в чем была осталась, с тех пор и скитаемся. Вы мне на дорогу не дадите? Я вышлю… — Дам я тебе пятьсот, только не плачь! Ну Динка… Встань, распрямись! Ты молодая, красивая, ты ж золотая рыбка! Таких девушек надо в брильянтах водить, в концерты. — Густые черные волосы переливались у Майи в руках, она повернула Динку к зеркалу. — Ты настоящая красавица, ты чудесно играешь, не уезжай пока я прошу, я тебе обещаю — его тут больше не будет, паршивца! Только не говори Андрею, ни к чему ему это знать, он и так не в себе… — Конечно, все-таки сын, — кивнула Дина. — Конечно, все-таки отец, — вздохнула Майя. — Сыграй нам что-нибудь, прогоним злых духов. Как будто все у нас о'кей, сидим музицируем… — Ну что, нашлись? — спросила Галя, когда Майя уcaживaлa Динку за пианино. Обе промычали «угу». — Я знаю, он чужого никогда не возьмет! Вот мы квартиру… — Отдыхаем на даче, — перебила Майя, зажигая свечи. Погасила свет. Дина заиграла Шопена. — Вот мы квартиру бабкину сдали, так он все деньги до копейки принес, — вспоминала Галя и сама уже верила, что сын у нее хороший и все к нему несправедливы. Майя приложила палец к губам, но она не могла не договорить: — Давно просила — «отвези бабуле», вот он, наверно, туда и собрался — навестить… Послышались шаги на лестнице. Андрей рылся в кладовой, что-то искал. — Он лодку надувную взял? Динка! — Остановился на пороге, только сейчас сообразив, что музыка «живая», Дина играет, не видит его и не слышит. Тихо примостился в углу стола со спиннингом в руке.
И вот они опять в пути. И уже видна — пока только в бинокль, с вершины холма — глухая деревенька, к ней — проселочная дорога. Крутой, незаметный спуск от шоссе в лес. Чуть не проскочили. Лес, мостик над заросшей речкой. Безлюдье, тишина. На последней развилке перед деревней Андрей притормозил, свернул в прибрежный лесок. Расположились завтракать под деревом. Галю снарядили в разведку. — Если его нет — звякни сразу, свиданья с бабой Лидой хотелось бы избежать. — Андрей отдал ей мобильный телефон, показал, какие кнопки нажимать. — Мы на озеро съездим. Майя гуляла босиком по росистой траве. Подняла бинокль. На том берегу, над раскидистым деревом, аистенок учился летать. Вспархивал из гнезда, два взмаха крыльями — и зависал испуганно, возвращался в гнездо. Большой аист показывал высший пилотаж, и маленький все расширял круги. Андрей пил кофе из термоса и смотрел, как Галя решительно топает по дороге. Вот скрылась за какой-то постройкой, вынырнула едва различимой фигуркой и снова пропала. Вдалеке залаяла собака, прокукарекал петух, а совсем близко, внятно, куковала кукушка — «ку-ку, ку-ку, ку-ку…» Он стал считать. После длинной утренней дороги хотелось вытянуться на траве и заснуть. А она все куковала, и вмятина на задней двери вдруг бросилась в глаза. Майя спряталась за деревом и монотонно, одним горлом подражала птичьему — «ку-ку… ку-ку…» Андрей прислушался, распознал хитрость, ответил тонким свистом, но по-птичьи не получилось, она догадалась сразу…
Мать Гали, женщина гордая и строгая, на вид еще не старуха, и не деревенская, полжизни отработавшая в тяжелых цехах, привыкла иметь обо всем свое непреклонное мнение и всех видеть насквозь. …А я думала ты по путевке поехала… с подружкой загорать — В каждом слове Лидии Тимофеевны был — на всякий случай — упрек. Может, она и любила Галю по-своему, но не одобряла — никогда, ни в чем. — А она вишь гляди примчалась… С какого переполоха? — Мам, ты не рада что ли? Лидия, не покладая рук, полола огород, повернувшись к Гале толстым задом, тощими ногами в ботах, никак не лицом. — Тебя ж сюда не допросишься. Чего ты мне голову дуришь? Небось этот привез… папашка Димкин, забыла уж, как звать… Небось в кустах сидит, поздороваться ему гонор не позволяет. — Мать развернулась, просверлила всезнающим взглядом. — Мам, куда он поехал? Он с собакой был? — А чего собака? Где-то бегает, — не спешила Лидия, вытряхивала из фартука сорняки с комками земли. — Мам, собаку нам надо вернуть, и «Волга» в угоне числится, не знаешь ты ничего, где Димка-то? — А «Волга» нам и здесь не лишняя, — отозвалась мать, снова склонясь над грядками. — Как жил у нас на всем готовом… Васькин твой! Так это наплевать и забыть, память короткая… — Мам, Димка куда поехал? Рыбу ловить? — Главное — не нагрубить сейчас матери, а то и вообще слова не вымолвит. — А я не спрашиваю. Пускай погуляет парень до армии, сил наберется, а кто там его ищет — я не вдаюсь… — Мать тоже выпытывала, по-хитрому, не задавая вопросов, чего, может, внук от нее скрыл. — Мы с теть Нюрой его в обиду не дадим. — Чего, Галька приехала? — выбралась на крыльцо древняя старуха с палкой и подслеповато уставилась на Галю. — Как приехала, так и уедет, — отозвалась Лидия. — А то, может, останешься? Место есть. — Теть Нюр, куда Димка поехал? — крикнула Галя в ухо старухе. — Кто? А… — Согнутая пополам и беззубая, она уже плохо соображала, но вспомнила: — Мы его в обиду не дадим, в погреб спрячем. Андрей и Майя подъехали к озеру. Оно белело внизу, за соснами, и уходило в дальнюю даль, почему и называлось Долгое, и там, у горизонта, чернели лодки, если смотреть в бинокль. Дорога обрывалась внезапно. Спустились среди редких сосен исследовать берег и вдруг в просвет между деревьями увидели яркую желто-синюю надувную лодку. Рядом, за прибрежными ветлами, хлюпала вода, звенела цепь. Мужик в болотных сапогах и мальчик тянули лодку к берегу, а Дима что-то им кричал из своей легкой, надувной резиновой лодочки. И сам он был похож на надувную игрушку — в тельняшке, в желтой каскетке, с маленькими веслами в борцовских руках. — Сюда давай! — Тише ори, — попросил мужик. Они выбирали сеть. — Ну погоди, — сказал Андрей. Пошел по склону — искать машину. «Волга» стояла незаметно, почти у воды. Значит, где-то был съезд к озеру. А у него были запасные ключи. Он позвенел ими, показал Майе, и тут же откуда-то примчался Ларс, стал прыгать, визжать и кататься под деревьями. Майя тоже прыгала и визжала, но схватила Ларса за ошейник, когда Андрей завел «Волгу». Выехать отсюда наверх было непросто. Майя показывала, как развернуться в кустах. — Эй! Але! Кто там?.. — Дима, заслышав свой мотор, изо всех сил греб к берегу. Мальчик выглянул из кустов и свистнул. Мужик замер с сетью, прислушиваясь. Желто-синяя лодка запуталась в осоке. Андрей передал Майе ключи от «иномарки». Секунду они наблюдали панику на воде, и стало смешно. — Эх, врезать бы ему сейчас, и гуд бай! Поезжай, я догоню! Майя, прижимая к себе собаку, показывала ему выступающие корни сосны. Он подал назад и ударился бампером об эти корни. — Хотела бы я посмотреть, как Иван Грозный убивает своего сына. — Поезжай! Жди на шоссе! Майя послушалась, они с Ларсом полезли в гору Оглянувшись, она видела, как Дима бежит босой, в мокрых шортах, к машине. Бежал, бежал и вдруг пошел медленно, враскачку, увидев отца. Андрей сидел у колеса, сгребая руками сухую хвою, подбрасывая шишки. Вид человека, сохраняющего самообладание, плохо ему давался, в откинутом лице застыл вопрос, а руки сами делали что хотели, кидались шишками. — Ну ты даешь! Я думал — уже тачку угнали! Ну ты шутник… А ты чего приехал? Делать тебе нечего — триста верст пилить… — П-повестку из милиции доставить. — Андрей почувствовал, что язык его плохо слушается. — А, это… Не бери в голову! — засмеялся Димка. — Они мне еще медаль дадут, за самооборону. Ну ты чудила! Я к бабкам обещался, дров наколоть, а ты мне такую подлянку кинул, я прям психанул! Ща лодку принесу! Мальчик притащил в машину ведерко с рыбой. Плюхнулся в мокрых трусах на сиденье. — Мы испугались, что машину угоняют! Мужик пришел со свернутой сетью, тоже с ведром. Дима отбежал, потом вернулся, вспомнив про собаку. — Ларс! Ларс! Собака-то где? Пап, а где твоя карета? Ты на чем приехал? — На вилсапеде. — Андрей завел машину и с мужиком и с мальчиком выехал на проселок. — Остановись, дядь! Димку-то забыли! А он ехал, как будто не слышит. — Дмитрия бы надо подождать, останови. — Дядь, ты что ль глухонемой? Тормозни! А он будто не слышал. Отмеренное сыну наказание не распространялось на невинных браконьеров, и он спросил: — Вам в Долгое? — Нам в Долгое. Выехали на шоссе, увидели машину с собакой за стеклом. Он остановился сзади на обочине. Рыбаки выскочили со всем уловом. Мальчик покрутил пальцем у виска, что, мол, дядя в уме повредился. Но они узнали Ларса и теперь не понимали, что делать: бежать ли за Димой, который там ищет собаку, так с ведрами не побежишь, или подождать у дороги, или спросить этого дядьку… Топтались у дороги и не могли принять решения. Мальчик побежал в сторону озера, отец пошел по дороге со всем уловом, потом вдруг что-то вспомнили, вернулись, стали обсуждать. Андрей тоже медлил. Майя сказала: — Мало ему еще! Помчались! Ты впереди, я за тобой! Андрей отъехал, обогнул ее машину и снова встал на обочине. Она едва успела тронуться с места. — Ну что? — Она видела, что ему как-то муторно, будто что-то забыл или недоделал. — Галку бы надо забрать, — сказал он неуверенно, со знаком вопроса. — И мобильник у нее остался. Майя успокаивала Ларса, он не любил резких рывков и остановок. Андрей вернулся в «Волгу». Она вся пропахла рыбой. На полу подыхали мелкие рыбешки. Он стал их выбрасывать, а заодно — весь хлам, что накопился за эти дни в машине. Лобовое стекло рябило черными точками от разбившихся насекомых. Он стал его вытирать. Рыбаки все еще торчали у дороги, принимали решение. Мальчик опять побежал в сторону озера, а мужик устроился в тени под кустом. Майя подошла к «Волге» с термосом и стаканчиками. — Пусть Галя у матери побудет. Доберутся как-нибудь. — Села рядом с Андреем в машину, стала разливать остатки кофе. — Ну не молчи так. Ты чего ждешь? Ты еще не все ему сказал? — Я ничего не сказал. — Ну и правильно, он все равно слов не понимает. Можно подумать, что ты их так любишь, так любишь — жить без них не можешь! — Я их ненавижу. — Но почему-то он не мог уехать, вот так схватить машину, и дело с концом. — Значит, надо исключить их из своей жизни, совсем А то ведь так можно и спятить, Андрюшечка. — Майя взяла у него стаканчик, заглянула в глаза. — У тебя взгляд стал отрешенный… — А кого включить? — он отвернулся. — Ну Динка же у тебя была. Такую девушку прозевал, из-за какого-то… не скажу кого! Она ж шамаханская царица! — Ага, персияночка. — Ну и женился б. Народила бы тебе маленьких персиков. — У Майи появились материнские интонации. — В нашем возрасте, знаешь, любовь как-то обновляет. — Да что ты говоришь? — И говорила она все не о том, не о том, что сейчас его мучило. Как все женщины — про любовь, лекарство от всего! — Я уже обновился. Ты ж не знаешь ничего! Динаре я зарплату платил, а потом она отказалась брать, и отношения стали двусмысленными, запутались окончательно… — У тебя всегда так. Вот сейчас — чего ты хочешь? Дождаться его и перед ним еще извиниться? Ну подставь левую щеку… или — как там? Правую? Толстовец в третьем поколении. — Ага, «людоед-толстовец». А собака там не задохнется? — Они оглянулись одновременно. — Чего я хочу? Я хочу ехать с тобой в одной машине и слушать твои умные речи. А то кто ж меня еще жить научит? — Аа-а… Как я сразу не догадалась! Ты хочешь оставить ему машину? Ну оставь. Боюсь, твое великодушие никто не поймет. — Им нужней. — Андрей опять завел «Волгу» широким зигзагом объехал свою машину и встал на пыльном пятачке, откуда начинался проселок к озеру. Хотел окликнуть рыбака, но тот заснул под кустом Он вырвал листок из блокнота и стал писать записку. Написал только «Дима!» и задумался. Закрыл «Волгу», переместился в свою машину и вновь задумался. Майя вывела Ларса погулять. Он написал: «Дима! Ты…» Ларс сделал свое собачье дело и прыгнул в машину. Майе стало смешно смотреть на муки творчества. — Напиши, что ты хочешь ехать с любимой женщиной и ее любимой собакой, а потому… Давай я напишу! Она вырвала у него бумажку и скомкала. Взяла другой листок, пошла к «Волге» и размашисто написала всего три слова, но не те, что вы подумали. На отмытом лобовом стекле, прижатое «дворником», осталось ее послание: «Гуляй пока на воле!»
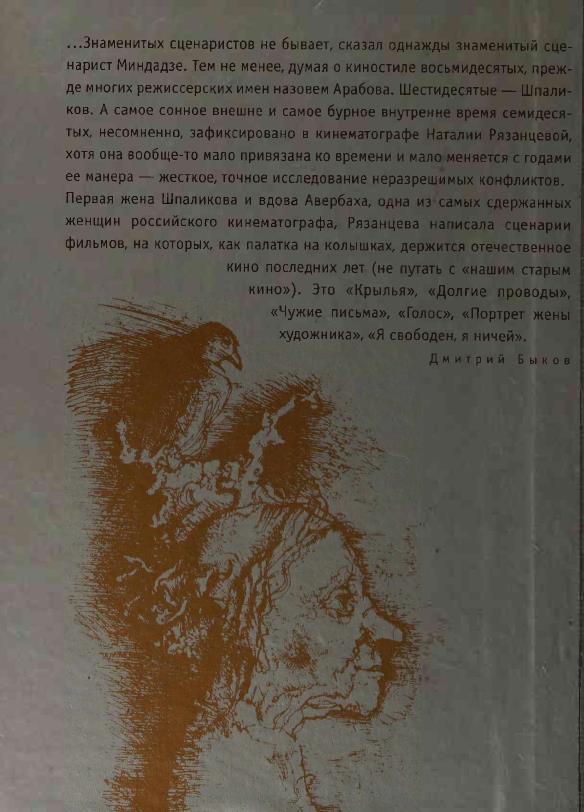


Последние комментарии
23 минут 42 секунд назад
33 минут 11 секунд назад
38 минут 28 секунд назад
58 минут 47 секунд назад
1 час 7 минут назад
1 час 28 минут назад