Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 2 [Борис Яковлевич Алексин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Борис Алексин Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 2
Часть вторая
Глава первая
Вернувшись в Шкотово, Борис поселился вместе с родителями, заняв койку, стоявшую в кухне. В этом же доме имелось ещё две комнаты. Одна совсем маленькая, своей дверью выходившая в те же сени, что и квартира Алёшкиных, занималась учителем Чибизовым, назначенным недавно заведующим ШКМ, другая, самая большая, была занята конторой комитета крестьянской взаимопомощи. В обязанности этого комитета входила выдача взаимообразно семенных ссуд наиболее бедным крестьянам и сдача в аренду сельскохозяйственных машин и орудий. Правда, если семенной фонд в распоряжении этого комитета был, то с сельхозинвентарём дело обстояло плохо: отобранный у местных богачей, он в большинстве своём требовал ремонта, а его делать было некому – специалистов не хватало. Новых сельхозорудий почти не поступало, так что с этой своей обязанностью комитет справлялся неудовлетворительно. Когда Яков Матвеевич переезжал в Шкотово, комитет этот находился ещё в стадии организации, штатов не имел, и поэтому Алёшкин вынужден был поступить на работу в местное отделение потребкооперации. Его приняли на должность заведующего складом. Все считали, что Алёшкин устроился хорошо, ведь склад кооперации – это золотое дно, тут можно основательно нажиться. Но не так относился к своей должности Яков Матвеевич: он настолько скрупулёзно отсчитывал и отвешивал отпускаемый товар, так тщательно проверял поступления, что ни о каких злоупотреблениях не могло быть и речи. Подобное рвение не удовлетворяло и председателя, и членов правления: до сих пор они привыкли пользоваться продуктами и товаром, находящимся на складе кооператива, как своим собственным, хватало и им, и кладовщику. С Алёшкиным этого не получилось. Он с первых же дней отказал в выдаче товара жене председателя, явившейся за ним, как к себе домой. Не брал он ничего и для себя лично. Мы знаем, что в этот период времени в торговле, в том числе и в кооперации, орудовало много прежних частников. Потеряв дополнительный источник дохода, который им давал склад, они, конечно, не чаяли, как бы избавиться от слишком честного и принципиального кладовщика. Яков Матвеевич и сам чувствовал, что пришёлся не ко двору, и с завистью поглядывал на контору КОМВНЕЗАМа, так почему-то называлось это общество крестьянской взаимопомощи, где его знания и опыт были бы нужны, где он и сам чувствовал бы себя на своём месте. Но вот, наконец, в октябре 1925 года комитет официально оформился, и Яков Матвеевич перешёл туда на работу. Он включился в знакомое дело с большим воодушевлением, и скоро шкотовский комитет крестьянской взаимопомощи стал одним из лучших и наиболее рентабельных в Приморской губернии. Следует сказать, что в этом деле сыграл немалую роль и Алёшкин, исполнявший обязанности заместителя председателя комитета. Он сам занимался ремонтом старых машин и сборкой новых, обучением крестьян, взявших их напрокат, работе на этих, хотя и несложных, но всё-таки требующих определённых знаний механизмах, часто ездил по сёлам Шкотовского района. Такая напряжённая работа не смогла не отразиться на его здоровье. Старые раны, тяжёлая жизнь в Харбине давали себя знать… Между прочим, склад, на котором до сих пор работал Алёшкин, размещался в одном из амбаров, принадлежавших бывшему лесопромышленнику, одному из самых богатых жителей Шкотова – Михаилу Яковлевичу Пашкевичу. Именно он соблазнил родителей Кати Пашкевич, её отца, приходившегося ему родным братом, поехать на север, и там безжалостно бросил его вместе с семьёй без всяких средств к существованию. Мы в будущем на Пашкевичах остановимся более подробно, уже по всему видно, что Катя будет играть самую главную роль в жизни нашего героя, естественно, что знакомство с её семьёй будет совершенно необходимым. Двери этого амбара выходили во двор, являвшийся продолжением двора того дома, где по возвращении с севера жила семья родителей Кати Пашкевич. Сложилось так, что основным хозяином в этой крестьянской семье стал старший брат Кати Андрей, женатый и имевший двух сыновей, старший из которых был ровесником Жени Алёшкина. Яков Матвеевич часто брал Женю с собой, и тот, забавляясь разными играми во дворе склада, конечно, очень быстро подружился с Севой и Вадимом, сыновьями Андрея Пашкевича. Ребятишки с тех пор не только играли целыми днями вместе, часто их бабушка зазывала Женю к себе. Когда кормила своих внучат, конечно, угощала и его. Естественно, что таким образом она познакомилась с отцом мальчика, Яковом Матвеевичем Алёшкиным. Возвращаясь из школы, Анна Николаевна заходила к мужу на склад, чтобы позвать его обедать, и тоже познакомилась с Акулиной Григорьевной Пашкевич – так звали мать Кати, бабушку Севы и Вадима. Всем им это знакомство доставило удовольствие. Вскоре Акулина Григорьевна узнала, что её новые знакомые и есть родители того самого Бориса Алёшкина, о котором ей много рассказывали её родственники Михайловы, представляя его, как самого отчаянного парня и комсомольца во всём селе, не признающего ничего святого и порядочного. Она только недоумевала, как это у таких спокойных, воспитанных родителей мог вырасти такой отчаянный сын. Перезнакомились между собой и младшие братья и сёстры Бориса и Кати, ведь они учились в одной школе, в одних классах, и находились в одном и том же пионерском отряде. Но пока никто из них ещё и не подозревал о тех отношениях, которые начали складываться между Катей и Борисом-большим. Всё более присматриваясь к семейству Алёшкиных, Акулина Григорьевна, женщина, несмотря на свою полную неграмотность, умная и очень развитая, стала понимать, что, видимо, в сплетнях, распространяемых о старшем сыне Алёшкиных, много преувеличений. Ей это было тем более легко понять, что о её дочери Людмиле среди многих жителей села ходили самые нелепые и неприличные слухи. Всё это оказалось неправдой, а ведь порочащие Милу разговоры вели даже её ближайшие родственники, такие как её сестра Михайлова. Так мудрено ли, что и про этого паренька болтают невесть что? Ведь её Милочку не раз крестили совершенно потерянной девицей, потерявшей всякий стыд и, уж конечно, свою девичью честь, так что теперь на неё ни один порядочный человек-то и смотреть не захочет, а вот ведь она замуж вышла за хорошего человека, и должность у него высокая, и к ней, неграмотной крестьянке, хорошо относится, да и остальными её детьми не гнушается, и с Андреем подружился… А вот примерная Ирина Михайлова до сих пор в девках сидит, и что-то женихов около неё не видно. И как-то невольно Акулина Григорьевна стала относиться ко всем сплетням, распространяемым по поводу Бориса Алёшкина, недоверчиво. Разумеется, при этом она никак не связывала его с Катей. Поэтому, когда Митя Сердеев, вернувшись из Новонежина, рассказал своей жене о разговоре, случившемся у него с Борисом, та, считая этого парня очень неплохим человеком, поделилась новостью с матерью, которую это сообщение ударило как гром среди ясного неба. Конечно, немедленно призвали Катю, учинили ей самый строгий и пристрастный допрос, но та категорически отрицала что бы то ни было, что могло бы её хоть в малейшей степени компрометировать, а твердила лишь только одно: она знает Бориса Алёшкина как комсомольца, и не больше. Мать немного успокоилась, подумав, что, наверно, это просто неумная шутка со стороны Мити. Тем не менее, узнав из разговора с Анной Николаевной о том, что Борис скоро совсем переезжает в Шкотово, решила принять свои меры. Теперь вопрос о переезде Кати для дальнейшего учения во Владивосток решился быстро, окончательно и бесповоротно. Андрей съездил в город и договорился с одной из своих тёток, они взяли на квартиру Катю; тогда же он сдал и её справку в одну из городских школ-девятилеток. В конце августа Катя переехала во Владивосток. Содержание её в городе потребовало значительных расходов: и одеть-то её нужно было теперь по-городскому, и за квартиру заплатить, и продуктов для питания послать. Всё это значительно обременяло и без того небогатую семью Пашкевичей, ведь подрастали и следующие дочери. Сердеевы, уезжая на север, обещались для содержания Кати высылать немного денег, но сделали это всего только один или два раза, а потом перестали. Следует сказать об одной особенности большинства шкотовских старожилов, то есть тех, кто, собственно, являлся основателями села, а Пашкевичи принадлежали именно к таким. Все эти люди никогда не торговали продуктами своего труда и хозяйства, поэтому денег в доме всегда не хватало. Между прочим, с этим обычаем столкнулась однажды и Анна Николаевна Алёшкина. Как-то в разговоре с Акулиной Григорьевной она сослалась на то, что молоко, покупаемое на базаре, неважного качества (его привозили из соседних сёл, из шкотовцев, кажется, торговали им только Пырковы), а молоко Пашкевичей, которое Анне Николаевне как-то удалось попробовать (её угостила хозяйка), ей очень понравилось, и она была бы не прочь покупать его. Выслушав это предложение, Акулина Григорьевна возмутилась: – Да что вы, Анна Николаевна, зачем вы обижаете меня, что я – торговка какая-нибудь, что ли? У нас чего-чего, а молока много, пейте на здоровье, коли понравилось! Продавать не буду, а так, с девчонками – пожалуйста, хоть каждый день пришлю. Несколько раз она действительно присылала с Катиными сёстрами по кринке молока, но так как ни они, ни сама Акулина Григорьевна денег брать за него не захотели, то Анна Николаевна попросила больше им молока не приносить. Между семьями пробежал холодок… Пребывание Кати в городе при самых скромных раскладах требовало не менее 10–12 рублей ежемесячно, а взять их негде. Кроме неё, нужно одеть, обуть и остальных, налог заплатить, да ещё набегают расходы по хозяйству. Получать деньги можно было только от продажи части продуктов заготовителям, от работы на лесозаготовках и на рыбалках, да ещё от охоты. Основные источники получения средств исходили только от Андрея: он работал в лесу, он участвовал в рыбной ловле, он и охотился. Его заработком распоряжалась жена Наташа, и, хотя они в семье жили довольно мирно, всё же отдавать заработанное мужем на содержание его сестры в городе она не очень-то хотела. Поэтому, как только в Шкотове вновь решили открыть девятилетку, а это явилось результатом требования многих жителей и учителей, дети которых после окончания семилетки должны были переезжать в город, Катя Пашкевич вернулась домой и дальнейшую учебу продолжала в Шкотове. Акулина Григорьевна в душе оставалась не очень спокойной за свою дочь, но другого выхода у неё не было. Но мы забежали немного вперёд. Вернёмся к тому времени, когда Борис переехал из Новонежина в Шкотово. Ожидаемого отпуска он не получил. В конторе Дальлеса работала ревизионная комиссия, распутывавшая шепелевские махинации. В этой работе, требовавшей кропотливого труда – подсчётов и пересчётов, каждый грамотный человек был задействован, тем более нужен тот, кому можно было безусловно доверять, а Алёшкин – комсомолец, и доверия заслуживает. Поэтому ему и пришлось перепроверять, пересчитывать чуть ли не тысячу накладных на заготовленный лес, правильность подсчёта выплаченных сумм. Эта работа отняла у него целый месяц. С 9 часов утра и до 3 часов дня он складывал, множил, делил, опять складывал и т. д. Именно в это время он и начал овладевать техникой работы на счётах и первыми навыками пользования арифмометром. Когда комиссия доложила о результатах своей работы на общем собрании работников конторы Дальлеса, все поразились размаху шепелевской аферы: используя своих помощников, как он их шутя называл, из старой гвардии, он сумел похитить около 100 000 рублей золотом. Заблаговременно распродав большую часть имущества и отправив семью за границу, он отправился якобы в служебную командировку куда-то в Забайкалье, поехал по КВЖД и на одной из станций исчез. Кстати сказать, командировку эту ему устроил один из таких же, как он, бывших лесопромышленников, работавший в это время во владивостокской конторе. Между прочим, в то время уйти в Китай из Приморской области не составляло никакого труда. Некоторые поезда, и прежде всего, курьерский № 1, направлявшиеся в Москву, ходили не через Хабаровск, а по Китайско-Восточной железной дороге, чем экономились почти сутки. Принадлежащими Советскому Союзу считались только сама линия и полоса отчуждения около неё, шириною 50 метров в каждую сторону. Следовательно, стоило только кому-нибудь пересечь границу этой полосы, кстати сказать, никем не охраняемую на большей части своей протяжённости, как он оказывался уже в пределах Китая, и советские законы на него не распространялись. Этим широко пользовались контрабандисты, которых во Владивостоке того времени было полным-полно. Разумеется, что все непосредственные помощники Шепелева сразу же после работы комиссии были арестованы; некоторых, как например, Дмитриева, арестовали ещё раньше. Затем они предстали перед судом, и почти каждый получил солидный срок заключения. Как выяснилось на суде, многие из них почти бескорыстно, по старой дружбе помогали обкрадывать советское государство, а бывший хозяин сбежал, оставив их на произвол судьбы. После окончания работы комиссии Алёшкин наконец-таки получил долгожданный отпуск. Кстати, это был первый отпуск в его трудовой жизни. Во всё время пребывания в Шкотове Борис почти каждый вечер проводил с Катей: то они встречались в клубе на киносеансе, то на каком-нибудь собрании, а иногда, хотя и редко, просто на улице. Катя Пашкевич по натуре была довольно упрямой и своенравной девушкой, и после строгого разговора с матерью интерес её к Борьке Алёшкину не только не пропал, а даже наоборот – возрос. Помогла этому и уезжавшая на север сестра Мила, которая, прощаясь, сказала: – Катенька, Борис – парень хороший, толковый, может со временем значительным человеком стать. Митя мне говорил, что к тебе у него чувства серьёзные, не упусти своего счастья! Катя покраснела и даже зло топнула ногой: – Да что вы все ко мне с этим Борькой пристали?!! Что он вам? Я сама не маленькая, нечего меня учить и наставлять без конца! – крикнула она запальчиво и убежала в небольшой палисадник, находившийся перед домом, где её стараниями было сделано несколько клумб, покрытых разнообразными цветами. Она с детства любила выращивать цветы и всё время, которое удавалось выкроить после большой работы по дому, лежавшей на её плечах, и выполнения общественных обязанностей, Катя отдавала этому делу. Заметим, что увлечение цветоводством сохранилось у неё на всю жизнь, и, как правило, это дело ей удавалось как нельзя лучше. Пропалывая одну из клумб, она ещё долго ворчала что-то себе под нос, но как только начало темнеть и наступила пора идти в клуб, быстро собралась и помчалась. Не успела она выйти из калитки, как встретила Бориса. – Ты куда? – спросил он. Девушка недовольно надула губки и сердито посмотрела на неожиданно появившегося парня – виновника бесконечных упрёков и непрошеных советов, получаемых ею. Но, увидев его восторженно-радостное лицо и блестящий взгляд, сама не сумела сдержать улыбки: – Как куда? На собрание! Ты что, забыл? Они пошли вместе. На второй же день своего появления в Шкотове Алёшкин стал секретарём шкотовской ячейки РЛКСМ, заменив на этом посту Гришу Герасимова, у которого и так было много работы в райкоме. Узнав, что Борис переехал из Новонежина и обоснуется в Шкотове, Герасимов предложил его кандидатуру секретарю райкома Смаге, тот согласился. Таким образом, на первом же собрании Алёшкина избрали секретарём ячейки. Голосовали за него дружно: большинство комсомольцев его отлично знало, с некоторыми он учился, некоторых в своё время принимал в комсомол, так что избран он был единогласно. Кроме этой солидной нагрузки, он, конечно, не мог отказаться и от участия в работе драмкружка. В начале августа, возвращаясь из клуба (они теперь нередко шли вдвоём, хотя и на расстоянии друг от друга), Катя сказала, что вопрос о её переезде в город решён окончательно. – В этом ты тоже виноват: сестрёнки нас не раз вместе видели и в клубе, и на улице, и, конечно, всё рассказывали дома, а меня – так прямо задразнили тобой, – заметила она недовольно. Борис от этих слов сразу очутился на седьмом небе. Хотя они и были произнесены как будто недовольным тоном, но ведь ими Катя невольно признавалась, что их что-то связывает, что не только он, но и она не очень хочет этой разлуки. – Вот мама – хоть и молчит, и мне о тебе больше ничего не говорит, но только деятельно готовится к моей отправке, чтобы поскорее меня подальше от тебя услать, – закончила Катя, искоса поглядывая на парня. – Не удастся! – решительно заявил тот. – Я уже решил, если ты в город поедешь, так и я тоже поеду. Немного деньжат у меня есть. Поеду, сдам экзамены в ГДУ на лесной факультет и буду учиться там. – Какой ты скорый, – улыбнулась Катя, – а хвастун какой! Зачем только я разговариваю с тобой? – А вот увидишь, никакой я не хвастун! У Бориса, когда он что-либо решал или задумывал, исполнение горело, как на пожаре. Мы уже достаточно долго его знаем, чтобы этому поверить. Вечером этого же дня он переговорил с родителями, одобрившими его намерение. Они тоже опасались за его судьбу. До них доходили слухи о его ухаживании за Катей Пашкевич, и мать с отцом, за два года успев уже изучить его характер, боялись, как бы парень не натворил каких-нибудь глупостей. Они обрадовались Бориному решению, решив, что учёба и отъезд во Владивосток отдалят его от Кати. На следующий же день после разговора с Катей Борис выехал во Владивосток, он ведь находился уже в отпуске. Несмотря на то, что экзамены уже начались, его, как явившегося с производства, имевшего хорошие рекомендации от Озьмидова и Дронова (начальника кадров Дальлеса), а также и учитывая то, что он комсомолец, к сдаче допустили. Поселился он у жившего в Голубиной пади (был такой район во Владивостоке), студента I курса лесного факультета, своего школьного товарища Коли Воскресенского. Борису предстояло сдать всего три предмета: русский язык – письменный и устный, то же по математике и устный по обществоведению. С русским он расправился в один день, сдав сразу и устный, и написав с одной из групп сочинение. Ему удалось получить пятёрку (опять ввели цифровые отметки), благодаря его начитанности и отличной памяти. Письменную работу по математике он выполнил тоже на пять, а вот с устным ответом пришлось попотеть. Дело в том, что в своё время их класс не успел пройти положенную по математике программу. В тригонометрии он знал, по существу, только название, а экзаменатор, просмотрев его письменную работу и убедившись, что алгебру и геометрию абитуриент знает хорошо, решил сосредоточить своё внимание именно на тригонометрии, и тут Борис засыпался. Он не придумал ничего лучше, чем чистосердечно признаться в том, что в школе они тригонометрию не проходили и что ответить на поставленные вопросы он не сумеет. Преподаватель недовольно хмыкнул, а затем принялся гонять Бориса чуть ли не по всему курсу алгебры и геометрии. Убедившись, что по этим предметам у поступающего знания достаточно прочные, он вывел ему четвёрку. К стыду Алёшкина, самая низкая оценка оказалась у него по последнему из сдаваемых предметов, а именно – по обществоведению. К подготовке он отнёсся легкомысленно и, несмотря на предупреждение более опытного Коли Воскресенского, посчитал, что с этим-то делом он, как комсомолец, справится без труда. На деле оказалось не так. В то время, когда Борис учился в школе, предмета обществоведение не было совсем, если не считать те скудные знания, которые были им получены при изучении политэкономии Богданова в Кинешме, да таких же разбросанных понятий, полученных на занятиях политкружка при комсомольской ячейке, то есть ничего системного по этому предмету он в голове не имел. Между тем, уже с 1924 года в школах преподавалось обществоведение по учебнику Е. Ярославского, в котором излагалась история РКП(б), ход важнейших революционных событий в России и в международном рабочем движении. Конечно, Алёшкин за свою самонадеянность поплатился, не сумев достаточно внятно ответить на самые простые вопросы, имевшиеся в вытянутом им билете. Это был, пожалуй, единственный раз за всё время учёбы Бориса, когда он очутился в таком дурацком положении и, вероятно, именно поэтому вопросы билета запомнились ему на всю жизнь. Вот они: Какова роль в деревне комбедов? Три лозунга Ленина по отношению к крестьянству. Что было решено на III съезде партии? Впоследствии, уже будучи достаточно политически подготовленным, Борис не мог не краснеть, вспоминая эти вопросы и свои бестолковые ответы на них. Но преподаватель оказался добрым человеком. Невразумительные ответы абитуриента он приписал его волнению и всё-таки вывел ему тройку. Таким образом, Алёшкину удалось набрать 12 баллов. Оказалось, однако, что этого недостаточно: многие сдали лучше, и проходной балл, как теперь принято говорить, был 14. Борис не проходил. Он, конечно, был очень обижен, разозлён, хотя и понимал, что, кроме как на себя, злиться ему было не на кого. Но счастье вновь улыбнулось ему. Когда его судьба уже, кажется, определилась, и он грустно шёл по коридору университета, чтобы забрать из канцелярии свои документы, его остановил знакомый старческий голос. – Если не ошибаюсь, краса и гордость курсов десятников по лесозаготовкам шествует? Ведь Алёшкин, правда? Всё-таки решил поступать в университет? Молодец! Борис поднял глаза. Перед ним стоял улыбающийся Василевский. Его аккуратно подстриженная бородка, как всегда, была немного вздёрнута вверх, а на лице сияла приветливая улыбка. Глаза излучали столько доброжелательности и приветливости, что парень не выдержал и рассказал ему всё: как ему удалось вполне благополучно сдать основные предметы и как он погорел на обществоведении. – Вот ещё мне эти новые науки! – возмутился Василевский. – Ну на что леснику обществоведение? Что он, политграмоту кедрам да пихтам будет что ли преподавать? Ты вообще-то этот предмет сдал или совсем на нём засыпался? – Да нет, тройку-то я получил, но мне баллов не хватает. – Ну, тогда дело поправимое! Постой здесь, – с этими словами Василевский скрылся в дверях канцелярии, и через полуоткрытую дверь Борис слышал его возбуждённый голос, чьи-то несмелые возражения и потом опять настойчивые требования Василевского. Прошло минут 20, затем из канцелярии поспешно вышел всё ещё разгорячённый Василевский и весело сказал: – Ну, убедил я этих чиновников! Но пообещал им, что в первом же семестре добьёшься и по обществоведению пятёрки, не подведи! В списки принятых тебя занесли, так что первого сентября прошу на мою первую лекцию, – и замечательный старик пожал Борину руку. Через день в коридоре висели списки зачисленных на первый курс лесного факультета, среди них красовалась и фамилия Алёшкина. Радостный возвращался он в Шкотово: фактически уже студент и, самое главное, он опять будет часто встречаться с Катей! Совсем не предполагал Борис, какое несчастье, в корне перевернувшее его судьбу, всю его жизнь, сломавшее все его намерения, вдруг свалится на него. В самом деле, не случись того, что произошло с ним через каких-нибудь два-три дня после возвращения из Владивостока, окончил бы он лесной факультет и до конца жизни работал бы в каком-нибудь леспромхозе или лесничестве. Но всё произошло по-другому. Невольно вспоминаются слова: «Судьба играет человеком!» Приехав домой, Боря поделился радостным известием о зачислении его в число студентов ГДУ и в тот же вечер обсудил с родителями план его будущей жизни. Решили, что Борис будет жить у той же хозяйки, у которой квартирует и Коля Воскресенский, тем более, что она не возражала сдать угол ещё одному студенту всего за 5 рублей в месяц – плата вполне приемлемая. Питаться он будет в столовой ГДУ, что стоило около 10 рублей в месяц, на прочие расходы предполагалось выделить около 5 рублей, таким образом, ему потребуется в месяц рублей около 20. Было известно, что всем студентам-первокурсникам будет выплачиваться стипендия 15 рублей; таким образом Борису недоставало рублей 5–6. Отец сказал, что эти деньги он будет доплачивать из своей зарплаты. После этого семейного совета все в самом хорошем настроении улеглись спать. Особенно был доволен Яков Матвеевич, ведь его старший сын стоял уже на пороге университета, о чём он и мечтать не смел. Естественно, что и сам Борис долго ворочался в постели, размышляя о своей будущей жизни, об учёбе, и о том, что теперь Катя Пашкевич опять будет с ним жить в одном месте. Трудно объяснить, что для него в это время было важнее. Борис решил, что из Шкотова он уедет 27–28 августа, а до тех пор будет ходить на службу в контору Дальлеса и пока там ничего не скажет, уволится перед самым отъездом. Отпуск его кончался дня через два, следовательно, он сможет проработать ещё около двух недель, и зарплата, полученная за это время, ему очень пригодится. Утром следующего дня Борис проснулся в каком-то непонятном состоянии: сильно болела голова, немного подташнивало и тяжело было вставать с постели. Однако, он пересилил себя и всё-таки поднялся. Завтракать ему не хотелось. Боря вышел на улицу и уселся под раскидистым боярышником. Он не придавал особенного значения своему состоянию: последние дни перед отъездом из Владивостока его уже беспокоило нечто похожее, хотя и в более слабой степени. Парень приписывал это переутомлению в связи с экзаменами. Усевшись под деревом, он почувствовал некоторое облегчение и, как ему показалось, совсем незаметно для себя заснул. На самом же деле он потерял сознание, свалился со скамейки, и, выбежавший на улицу Женя, увидев его лежащим под деревом, удивился и, прибежав домой, громко закричал: – Мама, мама, поди посмотри, Бобли-то под деревом опять спать улёгся… – Ах, Женька, опять ты какую-нибудь шутку придумал! Подожди ты у меня! – но, выйдя на улицу, она оборвала фразу и бросилась к Борису. Попробовав его разбудить, она поняла, что мальчишка находится без сознания. Прикоснувшись к его лбу, почувствовала, какой он горячий, лицо сына было неестественно красным. Мать сразу поняла, что мальчишка заболел, и очевидно, серьёзно. Оставив безуспешные попытки привести сына в чувство, Анна Николаевна выбежала на улицу и, увидев проезжавшего мимо кого-то из местных крестьян, кажется, Ивана Колягина, попросила его подвезти внезапно заболевшего сына в больницу. Тот согласился, так как знал и её, и самого Бориса. Подъехав к дому Алёшкиных и уложив вместе с матерью больного на телегу, он с возможной быстротой поехал в больницу, которая к этому времени уже переселилась в одну из отремонтированных казарм совсем рядом с той, где ранее находился ОЛУВК. В больнице теперь было 40 коек, а врач оставался один – всё та же Валентина Михайловна Степанова, уже дважды лечившая Бориса раньше. Осмотрев так и не пришедшего в себя поступившего пациента, она заподозрила тиф и положила его в палату, где лежало ещё четверо таких же тифозных больных. Всё инфекционное отделение имело 10 коек и состояло из двух смежных палат, от остальной части больницы оно отделялось внутренним коридором. Около двух недель Борис не приходил в себя. Температура не падала ниже 40, он бредил, что-то неразборчиво бормотал, и Валентина Михайловна, у которой уже не оставалось сомнения в поставленном ею диагнозе, серьёзно опасалась за его жизнь. Однако что-либо предпринять она была не в силах, ведь никаких специфических лекарств в то время при брюшном тифе не применялось: их просто не было. Вся надежда была на организм больного. К счастью, молодость и сравнительная крепость Бориса в конце концов сделали своё дело, он начал поправляться. Через несколько дней после того, как больной пришёл в себя, он уже смог приподыматься и выглядывать в окно, около которого стояла его кровать. Вместе с тем у него появился аппетит, есть хотелось постоянно. Почти с первого дня болезни к нему стали приходить его многочисленные приятели и приятельницы, разумеется, никого из них в больницу не пускали, но, подойдя к окну, они могли видеть лежавшего друга. Теперь же они получили возможность и переговариваться с ним: было тепло, и окно оставалось открытым. Конечно, регулярными его посетителями были мать, отец, Люся с Борисом-маленьким, а иногда и с Женей. Довольно часто приходили и комсомольцы: Гриша Герасимов, Жорка Олейников, Нюся Цион и другие. Но той, кого Борис желал видеть больше всех, не было, да, как он полагал, и не могло быть, ведь она уже, наверно, во Владивостоке, а он – когда ещё выздоровеет и сможет уехать в город. Наконец, он не выдержал и во время одного из разговоров с Цион спросил её про Катю, та ответила, что она пока ещё не уехала, но готовится к переезду в город, что ей шьют платья, пальто. Нюська обещала в следующий раз привести с собой и Катю. И действительно, на следующий день Катя появилась у окна вместе с Нюсей, которая из деликатности отошла в сторону. Увидев Бориса, Катя поразилась его виду, ей стало его жалко, и она уже сердилась на себя, что не приходила навестить его раньше. А вид его действительно был далеко не привлекательным: кое-как наголо остриженный, бледный, худой от голодовки, длившейся почти две недели, с ввалившимися глазами и ещё более длинным носом, он производил тяжёлое впечатление. Она грустно, с сожалением посмотрела на него и сказала: – А ведь я пришла проститься с тобой, завтра я уезжаю во Владивосток, теперь до каникул не увидимся. – Нет, увидимся, – возразил парень, – ведь я поступил в ГДУ на лесной факультет и с осени буду тоже жить во Владивостоке! Катя не смогла скрыть радостную искорку, сверкнувшую в её глазах, но всё-таки благоразумно возразила: – Ты сперва поправляйся, а потом и об учёбе думай, а то вон какой худющий да слабый стал. Ну, до свидания, а то вон, все уже смотрят! Девушка спрыгнула с выступа фундамента, на котором стояла, чтобы было удобнее разговаривать с Борисом, и, махнув ему на прощание рукой, вместе с Нюсей быстро побежала под гору, по направлению к центру села. За время пребывания в больнице Борис успел уже подружиться с больными, поступившими до него. Все они уже поправлялись и теперь даже выходили гулять. В их палате пока только он был полностью лежачим больным. Как только Борис пришёл в себя и стал разговаривать с соседями, он стал рассказывать самые разнообразные истории, вычитанные им в своё время в книгах. Ведь тогда в больницах, по крайней мере таких, как шкотовская, никаких развлечений для больных не было, даже газеты не всегда приносили, да большинство пациентов их и читать-то не могли. Поэтому рассказы Бориса, занимавшие вечера, очень полюбились, и почти все, кто лежал вместе с ним, да и из другой палаты, просили его каждый вечер рассказать что-нибудь новенькое. Он охотно исполнял такие просьбы, и его за это полюбили. Очень хорошо относилась к нему и врач Степанова, и остальной медицинский персонал. Появление у него на свидании новой незнакомой красивой девушки заинтересовало и больных, и персонал. Все они начали подшучивать над парнем, одобрять его выбор, хвалить красоту, изящность и стройность его посетительницы. Как всегда в таких случаях, эти слова сопровождались различными, не вполне даже пристойными, шуточками. Борис в ответ только краснел, пыхтел и даже сердился. Он удивлялся самому себе: о любой другой знакомой ему девушке он мог бы болтать с кем угодно и о чём угодно, сам бы смеялся всяким шуткам, но здесь… Он был готов говорить о Кате целыми днями, но не так – не с шутками, не с насмешками. Она и его отношение к ней были каким-то таким важным, сокровенным в его жизни, что если бы он и решился с кем-нибудь о ней говорить, то только с настоящим испытанным другом, и совсем, совсем по-другому. А вернее всего, что даже и вообще бы не решился. Время шло, и Борис поправился настолько, что его решили выписать домой. Правда, он был ещё так слаб, что добраться домой сумел только при поддержке матери, которая, по существу, взяв его под руку, приняла на себя всю тяжесть его тела, никак не хотевшего держаться на каких-то слабых, ватных ногах. Дорогой им пришлось несколько раз останавливаться и отдыхать, и, хотя Анна Николаевна уже несколько раз пожалела, что согласилась на уговоры Бориса и отправилась с ним пешком немедленно по выписке, а не стала дожидаться Якова Матвеевича, обещавшего приехать за сыном на лошади, но, так или иначе, они всё-таки добрались. Конечно, дома больному предстояло провести ещё не менее двух недель в постели, но это всё-таки был дом, а не больница. Начался сентябрь, стояла чудная дальневосточная осень. Каждый день сияло ласковое солнце, было очень тепло. Об осени напоминали только начавшие краснеть листья старого боярышника, стоявшего перед самым окном у постели, на которой лежал Борис. Вскоре он начал гулять около дома, с каждым днём силы его росли. Он уже стал мечтать о том, как поедет во Владивосток и приступит к занятиям в институте. Сразу по выписке из больницы он послал заявление в ГДУ, в котором сообщал о своей болезни и просил разрешения опоздать к началу занятий на месяц. Заявление его попало к благоволившему к нему Василевскому, и разрешение было получено. Как-то, гуляя под деревьями и наблюдая за тем, как Борис-маленький с аппетитом жуёт ягоды боярышника, больной не выдержал и съел несколько ягодок сам. То ли от этого, то ли от какой-нибудь другой причины, но в тот же вечер у Бориса поднялась температура, он вновь потерял сознание. Всё началось почти так же внезапно, как и в первый раз. Утром к нему вызвали Степанову. Та, осмотрев больного, определила, что это рецидив того же заболевания, которым он болел до этого. Кстати сказать, его болезнь оказалась не настоящим брюшным тифом, а паратифом, и для окружающих, при соответствующем соблюдении гигиенических правил, как тогда считали, была неопасной. В этот раз его решили оставить дома. Борису пришлось провести в постели около двадцати дней, да на восстановление сил ушло около месяца. Понятно, что об учёбе в этом году нечего было и думать. Это очень огорчило его, и, пожалуй, не столько из-за того, что студенческая жизнь откладывалась, сколько из-за того, что нарушилась возможность его частых свиданий с Катей Пашкевич, уже жившей и учившейся в городе. Наконец, Алёшкин оправился настолько, что смог явиться в контору Дальлеса, чтобы получить новое назначение. На работе его появлению обрадовались. Все полюбили этого расторопного и исполнительного паренька, и уже заранее Борис Владимирович Озьмидов подготовил ему интересное место. Сразу же по его появлении Ковалевский сказал, что, согласно недавно вышедшему постановлению правительства, он может получить за всё время болезни 75 % своего оклада из соцстраха. Для этого необходимо было взять у врача, его лечившего, соответствующую справку с каким-то странным названием – бюллетень. Это сообщение было для Бориса неожиданной и очень приятной новостью. Семья его отца жила совсем небогато и еле-еле сводила концы с концами. Необходимый бюллетень Степанова, для которой этот документ тоже был ещё новым (ведь в основном её больными были крестьяне, которым такие справки не требовались), конечно, без всяких разговоров выдала. А на следующий день в контору соцстраха, размещавшуюся где-то на окраине гарнизона, Борис и Анна Николаевна отправились за получением денег. Одновременно с бюллетенем в соцстрах требовалось представить и сведения о размере его оклада. Об этом ещё раньше позаботился Ковалевский, и такая справка уже была у Бориса на руках. Какая-то молоденькая девушка довольно долго считала что-то на счётах, а затем сказала, что Борису причитается за время его болезни 87 рублей. Затем она выписала ордер, и через несколько минут Борис получил эти деньги. Он тут же всё отдал матери, но она вернула ему 10 рублей, уточнив, что на остальные деньги ему купят что-нибудь из одежды, а эту сумму он может тратить по своему усмотрению. Как-то незаметно Борис втянулся в свою служебную и комсомольскую деятельность. Участок, на который он должен был выехать, начинал функционировать с конца ноября. Алёшкин продолжал работать в конторе по подсчёту заготовленного в прошедшее лето леса, оформлению новых договоров и вообще, помогая в канцелярских делах Ковалевскому. Одновременно он продолжал активно участвовать в работе шкотовской комсомольской ячейки. Кстати сказать, в этом году в конторе Дальлеса организовалась ячейка РКП(б), предполагалось создать и комсомольскую, уже заранее на место её секретаря прочили Бориса Алёшкина. Пока же он получил назначение и должен был выехать вместе со своим начальником к новому месту работы. Его направили вторым десятником на лесозаготовительный участок в район деревни Стеклянухи, где было необходимо заготовить несколько сотен тысяч кубофутов строевого леса, предназначавшегося на экспорт в Японию. Условия, на которых японцы приобретали этот лес, для Дальлеса оказались довольно суровыми. Брёвна длиною в 21 фут (6 метров) должны иметь не менее 8 дюймов в диаметре по верхнему отрубу, быть абсолютно прямыми, без заболеваний, и иметь не более двух сучков на протяжении трёх футов. Для поиска соответствующего леса требовались опытные люди, таким и был старший десятник этого участка Демирский Василий Иванович. Узнав Бориса по работе в Новонежине, заведующий конторой Дальлеса полагал, что парень окажется дельным помощником этому десятнику. Отведённый участок для выборочной лесосеки находился в верховьях небольшой речки Стеклянухи, впадавшей в реку Цемухэ. В нижней части русла стояла деревня, называвшаяся также – Стеклянуха. Лес в этих местах рос по склонам довольно крутых сопок, и для валки, спуска в падь, а затем и доставки к месту сплава требовалось немало людей. Нужно было создать три артели вальщиков, тех, кто спускал бы его с крутых откосов и, наконец, тех, кто бы его довозил до приречного склада. Эту работу прежде всего и предстояло провести вновь назначенным десятникам. Отличными вальщиками леса были китайцы. Их артели обычно нанимали во Владивостоке, вели переговоры, конечно, с артельщиками-джангуйдами, ведь только они понимали русский язык. Артель набиралась таким старшиной самостоятельно. Когда она сформировывалась, то приехав к месту заготовки леса, первым делом строила для себя полуземлянку-зимовье. Для выполнения плана вырубки на данном участке нужно было иметь не менее 100 человек вальщиков, столько и было нанято. Работа по их найму осуществилась Демирским ещё раньше. К моменту назначения Бориса вальщики уже выехали на место рубки и строили для себя зимовье, они же должны были неподалёку построить небольшой домик и для десятников. Со спусчиками, а ими были обычно корейцы, имевшие волов (только эти сильные животные могли сдержать напор двигавшихся с большой силой брёвен вниз по склону сопки), Демирский отправился в Андреевку, откуда обычно набирались корейские артели, а Борис поехал в деревню Стеклянуху, чтобы заключить договоры с возчиками. Это дело для него было уже знакомым, так как такие же договоры он заключал ещё в Новонежине. Справился он быстро и вернулся в Шкотово с подписанными договорами. Борис до этого немного знал Демирского. Тот был в прошлом партизаном, затем вступил в партию, и Алёшкин, как комсомолец, присутствовавший почти на всех заседаниях дальлесовской партячейки, его не раз видел и слышал его выступления. Он немного побаивался своего нового начальника. По конторе ходили слухи, что Демирский – очень суровый и нелюдимый человек, а ведь Борису предстояло прожить с ним в одной избушке более полугода. Кое-кто из молодёжи даже советовал Борису не принимать этого назначения и просить, ссылаясь на здоровье, чего-нибудь полегче. Но он не привык отказываться от полученных распоряжений, да и, в конце концов, из-за провала его мечты об учёбе в этом году, ему было всё равно, где и с кем работать. Между прочим, после выздоровления за время пребывания Бориса в Шкотове его опять избрали секретарём комсомольской ячейки. Узнав о своём назначении в Стеклянуху, Борис обратился к секретарю райкома Захару Смаге с просьбой о переизбрании, так как он уедет из Шкотова, и будет постоянно находиться на лесозаготовках в районе деревни Стеклянухи. – Подумаешь, Стеклянуха! Тоже мне расстояние – каких-нибудь 18 километров, – воскликнул Смага, – у тебя бюро для повседневного руководства есть, а два раза в месяц на собрание сможешь и приехать, ведь вы и из Шкотова возчиков берёте, я знаю. Так и остался Борис Алёшкин секретарём шкотовской ячейки РЛКСМ, работая в Стеклянухе. После некоторого раздумья он и сам понял выгоды этого положения: у него были уважительные причины чаще выезжать с участка в Шкотово. Демирский отправился на участок в конце октября, чтобы присмотреть за строительством домика для десятников, хлева для волов, и, главное, дороги для вывоза леса. Дорога эта прокладывалась по берегу речки Стеклянухи и, конечно, название дороги могла получить только условно. Собственно, никакого строительства её не велось, лишь убрали толстые деревья, мешавшие проезду подводы, да сделали около десятка мостиков через небольшие горные ручьи, впадавшие в Стеклянуху. Пользоваться дорогой предполагали с декабря, к тому времени она будет покрыта снегом, и сани по ней смогут пройти легко. Тем более что с грузом – брёвнами они поедут вниз под уклон. В первых числах ноября 1925 года в Шкотове проходила конференция РЛКСМ, Борис Алёшкин был избран её делегатом, следовательно, он должен был в это время быть в селе. После конференции начиналось празднование Октябрьской революции. Алёшкин, как секретарь шкотовской ячейки РЛКСМ, тоже должен был принять в нём участие. Всё это заставило отложить его выезд на участок почти до середины ноября. Заведующий шкотовской конторой Дальлеса Озьмидов был этим очень недоволен, но, хотя и возмущался, сделать ничего не смог, тем более что Демирский в этом вопросе встал на сторону своего молодого помощника. Кроме того, что описано выше, за этот период времени произошло ещё несколько событий, о которых мы считаем нужным рассказать – прежде всего, о самой конференции. Это была вторая конференция по Шкотовскому району. Началась она с доклада секретаря райкома РЛКСМ Смаги, в котором, как тогда было принято, он прежде всего остановился на международном положении Советского Союза – так уже около трёх лет называлась наша страна. Затем подробно доложил о работе райкома комсомола. Доклад вызвал оживлённые прения: выступали не только делегаты, но и гости – члены райкома РКП(б), представители от райисполкома и горкома РЛКСМ г. Владивостока. Всегона конференции присутствовало около ста человек, Алёшкин, конечно, тоже выступал, а затем, сидя в зале, оглядывая разгорячённые лица и слушая пылкие речи выступавших, невольно подумал: «Ведь всего каких-нибудь два года тому назад в Шкотове была организована первая ячейка РKCM, да и та в основном состояла из приезжих учителей – из шкотовцев в ней был я один, а теперь!.. Ведь это только делегаты, а сколько за ними стоит комсомольцев!» По сведениям, приведённым Смагой, в районе имелось уже 30 ячеек РЛКСМ, в которых состояло около 800 комсомольцев. Кроме того, как подчеркивал секретарь райкома, за этот год выросла и смена комсомола – пионеры, которых уже тоже насчитывалось около 600 человек. В своём докладе, между прочим, Смага сказал, что, если до сих пор райком работе с пионерами не мог уделять достаточно внимания, так как не было специального работника в аппарате, то теперь такая должность появилась, и на неё губкомом комсомола рекомендован товарищ Манштейн, ранее работавший секретарём комсомольской ячейки на Первой Речке. Смага рекомендовал включить его в число кандидатов будущего райкома РЛКСМ. На конференции выступил с докладом об итогах ХIV партийной конференции заведующий агитпропом райкома РКП(б) Николай Васильевич Костромин. Он замещал недавно освобождённого от своей должности секретаря райкома Куклина, который оказался троцкистом и пытался провести в Шкотовском районе эту оппозиционную линию. Костромин подчеркнул необходимость борьбы с троцкистскими настроениями и высказываниями, он сказал, что в этой борьбе комсомольцы должны занимать первое место. Сказал он также, что вскоре состоится ХIV съезд РКП(б), который, несомненно, покончит с этим оппортунистическим течением. Всё это, как, впрочем, и многое другое, услышанное Борисом Алёшкиным в докладах и выступлениях, для него оказалось новостью. К своему глубокому стыду, за время работы в Новонежине он мало занимался повышением своих политических знаний, а до этого их у него и вообще-то, можно сказать, не было. Теперь он чувствовал, что многие делегаты, не говоря уже о работниках райкома, в этом вопросе стоят гораздо выше него. Он очень плохо представлял себе, в чём заключается ошибочность линии Троцкого, почему этот человек, в начале революции очень часто упоминавшийся наравне с Лениным, вдруг оказался злейшим врагом дела последнего. Ещё меньше он представлял себе, в чём заключаются ошибки Зиновьева, Каменева и других, о которых говорил в своём докладе Костромин. Конечно, о своих раздумьях Борис никому не сказал, но в душе решил, что он, как активный комсомолец, всё это должен не только повторять за докладчиками, но обязательно самому изучить корни этих ошибок, понять их сущность, а как это сделать, пока себе не представлял. Вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что в то время в таком положении очутился не только он, но и многие комсомольцы, и даже члены партии. На этой конференции Борис Алёшкин был избран в бюро райкома РЛКСМ. Это ещё больше укрепило его в стремлении лучше понять ошибки врагов генеральной линии партии. В один из перерывов он подошёл к Костромину, с которым был немного знаком, и попросил у него совета. Того обрадовала такая откровенность парня и он, порекомендовав Борису для почтения ряд статей товарища Сталина в «Правде», а также и его брошюр, посоветовал в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснениями, не стесняясь, прямо к нему. Через день после окончания конференции созданная при райкоме РКП(б) комиссия распределяла работу по проведению празднования 7 Ноября, она поручила Борису Алёшкину выступить с приветственной речью на торжественном заседании и, кроме того, обеспечить активное участие комсомольцев и молодёжи села в демонстрации. Концерт и спектакль к этому торжественному дню товарищи Ковалевский и Мищенко готовили уже давно, Борису предстояло сыграть одну из ролей, да согласовать программу концерта с РК РКП(б). Добиваться активности комсомольцев и принуждать их к участию в готовящихся мероприятиях в то время необходимости не было, они тогда шли на демонстрацию, как на праздник. Труднее было организовать участие беспартийной молодежи, а она пока ещё составляла большинство. Пришлось разбить всё село на участки, закрепить жителей участка за каждым комсомольцем, обязав их провести соответствующую агитацию среди своих соседей и товарищей. Работа эта прошла успешно, и в демонстрации приняли участие почти 100 % шкотовской молодёжи. О своей речи на торжественном собрании Борис и не думал, он, конечно, не готовил и не писал её заранее, ведь это был не какой-то особый политический доклад. Выступил он экспромтом, вложив в речь те чувства, которые владели сердцами и душами почти всей молодёжи, и уж во всяком случае, всех комсомольцев. Впрочем, тогда большинство ораторов на подобных собраниях так и выступали – без заранее написанного текста, от души. Их речи, может быть, не всегда бывали достаточно гладкими и политически выдержанными, но тогда этому особого значения не придавали: главное, что все они были направлены на заботу об укреплении советской власти и выполнении тех задач, которые ставила перед народом партия. За период своего почти трёхлетнего пребывания в комсомоле Борис успел уже достаточно развить в себе тот ораторский талант, который у него, по-видимому, имелся, поэтому выступил хорошо. Во всяком случае, Анна Николаевна, рассказывая мужу, не присутствовавшему на торжественном собрании, о том, как оно прошло, заявила: – По-моему, всё-таки лучше всех сказал наш Борька: коротко, вдохновенно и очень убедительно! Всем учителям понравилось, и все они меня поздравляли с таким сыном! Разговор происходил во время завтрака (отец уходил на работу очень рано и поэтому завтракал отдельно – раньше, чем вставала вся семья), в кухне, где, как мы знаем, спал Борис. Последний уже проснулся, но не подавал вида, и, слушая слова мачехи, которая в глаза, наверно, не стала бы так его расхваливать, был очень горд собой.Глава вторая
В конторе Дальлеса было решено, что Алёшкин отправится в Стеклянуху 10 ноября, когда туда пойдёт подвода с инструментом и гвоздями. Борис задумал воспользоваться имевшимся в его распоряжении днём и съездить во Владивосток, чтобы окончательно утрясти свои отношения с лесным факультетом ГДУ. Побывав у декана факультета А. В. Василевского, он получил формальное разрешение на годовой отпуск. Это значило, что через год он может снова поступить в ГДУ на этот факультет, на первый курс, без сдачи экзаменов. В то время из Шкотова во Владивосток и обратно ходило два поезда: один отправлялся утром, а другой – вечером. Борис после завершения дел в ГДУ решил поехать вечерним, уходящим из Владивостока в 6 часов. До отхода поезда времени у него оставалось ещё довольно много. Ему хотелось разыскать Катю, чтобы повидаться с ней, но, во-первых, он не знал её точного адреса, а во-вторых, не был уверен в радушном приёме. Как ни изменилось за последнее время её отношение к нему, всё же пока она его сторонилась, а здесь, у чужих людей, она, конечно, будет совсем недовольна его появлением. Он отправился в кино, посмотрел только что вышедшую новую картину «Красные дьяволята», фильм ему очень понравился. Погуляв ещё немного по Светланской – как её, по привычке, называли горожане, или Ленинской улице – как она теперь называлась официально, он пришёл на вокзал, купил билет и спустился на перрон, около которого уже стоял поезд, называвшийся сучанским, хотя мы знаем, что он ходил только до станции Кангауз. Зайдя в вагон, где уже было довольно много народа, в поисках более или менее удобного места Борис прошёл через весь поезд. В вагонах уже становилось совсем темно, освещался этот поезд фонарями со свечами. Кондукторы, стараясь сэкономить свечи, зажигали их как можно позднее, во всяком случае, не раньше, чем поезд тронется с места. Кстати сказать, к этому времени уже отменили порядок, по которому для китайцев и корейцев выделялись отдельные вагоны: они могли ехать вместе со всеми остальными пассажирами. Однако, привычка оказывалась сильнее приказов, и, как правило, они сами старались в поезде держаться все вместе, занимая какой-нибудь из вагонов. Набивалось их в этот вагон довольно много, все они отчаянно курили свой вонючий табак, от всех пахло черемшой, которую они употребляли в пищу, от большинства пахло потом и грязным немытым телом. Корейцы, как правило, в бане не мылись и одежду меняли только тогда, когда она приходила в негодность; рабочие-китайцы, а их было большинство, тоже особой чистотой не отличались. Ехать два-два с половиной часа в таком вагоне было тяжело. Пройдя через «китайский» вагон и вздохнув с облегчением чистый воздух на его площадке, Борис осмотрелся кругом, и вдруг, не веря своим глазам, чуть не подскочил на месте от изумления: на площадке следующего вагона стояла Катя Пашкевич! Поезд уже тронулся, и она, прислонившись к наружной двери вагона, смотрела на проносившиеся мимо дома. Перейти из одного вагона в другой по соединительной переходной площадке было делом нескольких мгновений, но Борис, как, может быть, и всякий другой влюблённый юноша, желал продемонстрировать перед девушкой своё бесстрашие, силу и ловкость. Он не воспользовался внутренними дверями, а, распахнув наружную дверь, спустился на нижнюю ступеньку вагонной лестницы и оттуда перепрыгнул на ступеньку Катиного вагона, затем открыл входную дверь. Девушка, обернувшись на шум открывшейся напротив неё двери тамбура и увидев влезавшего на полном ходу поезда, неизвестно как там очутившегося парня, невольно испугалась и воскликнула: – Борька, ты откуда? – Оттуда! – ответил тот, спокойно показывая пальцем на закрывшуюся за ним дверь. – Да ты что, на ходу в поезд вскочил, что ли?!! Сумасшедший! – говорила встревоженно Катя, невольно протянув к нему руки, как бы боясь, что он может внезапно упасть обратно. Тот не замедлил схватить протянутые руки и крепко сжать их. Одновременно он рассказал девушке о своей проделке. Катя возмутилась: – Вечно ты, Борька, с фокусами, только пугаешь! – А ты испугалась? Значит, если бы я разбился, так тебе меня было бы жалко, а? – приставал Борис, всё ещё держа в своей широкой ладони тоненькие Катины пальцы. Но девушка отвернулась к окну и попыталась выдернуть свою руку, это ей удалось не сразу. Она некоторое время сопротивлялась молча, затем не выдержала, улыбнулась и сказала: – Пусти руку-то, медведь! Ведь больно! Борис с сожалением выпустил эту тёплую ручку, а сам встал у двери вагона рядом с Катей. Та, к его радости, не отодвинулась. Так они и стояли, касаясь телами друг друга, и как будто безразлично смотрели в темноту, которая теперь уже была и снаружи. Словно не замечая этой невольной близости, Катя засыпала Бориса вопросами, и тот постарался отвечать возможно подробнее. Он рассказал и о конференции, и о праздновании Октябрьской революции, и о своём новом назначении, и о том, что завтра уезжает в Стеклянуху, и что его мечты об учёбе в ГДУ опять не осуществились, и что во Владивосток он, конечно, сможет приехать может быть однажды за всю зиму. – А зачем тебя так потянуло во Владивосток? – А ты не понимаешь? Мне хочется повидаться с тобой! – Это можно сделать и в Шкотово, – и Катя рассказала, что по настоянию многих жителей села при их школе открылся восьмой, а в будущем году будет открыт и девятый классы, и что ей теперь для окончания девятилетки не придётся жить во Владивостоке. С началом занятий (в то время ведь в школах были каникулы) она будет продолжать учение, живя в Шкотове, дома. Борис не мог скрыть своей самой искренней радости. – А ты-то чего так обрадовался? – Как же, ведь я люблю тебя! Понимаешь, люблю! – прошептал Боря, стараясь заглянуть в лицо девушки, чтобы увидеть, как она прореагировала на его слова. Но ему мешала темнота и то, что она почему-то старалась отвернуться от него. – Ведь я теперь буду приезжать в Шкотово каждую неделю, чтобы тебя увидеть! И писать тебе буду! – Ишь, чего выдумал, писать! – с тревогой сказала Катя. – Только попробуй! А ну как письмо в мамины руки попадёт или Андрей его прочитает? Так тогда и мне достанется, да и тебе тоже несладко придётся. А вдруг девчонки его увидят, так они на всю школу раззвонят. Нет-нет, ты, пожалуйста, не выдумывай мне писать! – горячо говорила Катя. Так они спорили, что-то доказывали один другому, стукаясь друг об друга телами при толчках вагона, старались рассмотреть лица при свете мелькавших за окном фонарей. И кажется, были счастливы оба. Незаметно Борис вновь овладел Катиной рукой, та не стремилась её выдернуть, а, как казалось Борису, иногда даже отвечала на его пожатие. Но всему приходит конец, а счастливому времени он всегда приходит неожиданно быстро. Как-то внезапно вдруг за окном замелькали огоньки шкотовских казарм на горе, и, заметив их, Катя воскликнула: – Ой, да мы уже приехали! Ты, Борька, пожалуйста, уходи, меня мама и сестрёнки встречать будут. Я боюсь, что они тебя увидят, не хочу, чтобы увидели! Уйдёшь? Кажется, первый раз за всё время их знакомства, она сказала это таким просительно-ласковым тоном и при этом так посмотрела на Бориса, что он был готов не только уйти, но провалиться сквозь землю, броситься под поезд, если бы она только так его попросила. Он ещё раз сжал её тоненькие пальцы, ощутив на этот раз отчётливое ответное пожатие, быстро вышел из тамбура, перешёл в другой вагон и ещё до остановки поезда соскочил на перрон. Он остановился в тени станционного здания и стал наблюдать за вагоном, в котором ехала Катя. Вот, наконец, показалась и она, нагруженная узлами разной величины. Заметили её и встречавшие, которых Борис до этого почему-то не видел. Среди них была сама Акулина Григорьевна, Катина мать, и две младшие сестрёнки Кати – Женя и Тамара. Разобрав Катины вещи, они все вместе пошли по линии железной дороги к своему дому, в этом же направлении нужно было идти и Борису. И хотя он и обещал Кате не показываться на глаза встречавшим её родственникам (находясь на станции, это обещание твёрдо сдержал), теперь он решил, что может смело идти за ними. Он находился на довольно значительном расстоянии от этой группы, но глазастая Женя его всё-таки заметила и, к великому ужасу Кати, тут же, при маме, задала Кате каверзный вопрос: – А ты, Катя, что, не вместе ли с Борисом Алёшкиным ехала? Как потом рассказывала ему Катя, ей стоило немалого труда убедить мать и сестрёнок в том, что она Бориса не видела, что его в поезде и не могло быть, и что Жене это просто померещилось. Мать сделала вид, что поверила этому, хотя было заметно, что объяснение дочери её не очень убедило. Ранним утром следующего дня Алёшкин явился в контору, нагруженный кучей самых разнообразных вещей, которые, по настоянию отца и матери, ему пришлось взять с собой. Тут были валенки и полушубок, запасная смена белья и постельное бельё, котелок и ещё много, с его точки зрения, лишних вещей. Напрасно он доказывал, что раз в неделю будет приезжать домой, родители настояли, чтобы он всё это забрал с собой. Во дворе конторы уже стояла подвода с погруженными инструментами и материалами, необходимыми участку, на неё же Борис бросил и свои пожитки. Зайдя в контору, он увидел сторожа и подводчика, которым оказался один из соседей Бориса, брат Михаила Колягина. Он ехал в Стеклянуху, чтобы договориться с тамошним артельщиком о приёме в артель нескольких шкотовских крестьян, решивших заработать на вывозке леса. Их было немного, и потому организовывать отдельную артель оказывалось невыгодно. Подводчик ждал Алёшкина и пока пил со сторожем чай. Борис от предложенного чая отказался, он хорошо позавтракал дома: Анна Николаевна встала чуть свет, приготовила завтрак, напекла пирожков, которыми снабдила его и в лес. Он вышел на двор и, забравшись на кучу брёвен, сваленных около забора, стал смотреть в сторону Катиного дома. С этого места хорошо просматривался двор и огород Пашкевичей. Каким же счастьем наполнилось его сердце, когда он увидел, как стройная, тоненькая фигурка пробежала между грядками с пожухлой осенней зеленью, остановилась – и он был готов поклясться, что она тоже посмотрела в его сторону и даже, кажется, махнула рукой. Это, конечно, была Катя! Поездка по осенней дороге, изрытой глубокими колеями и покрытой комьями замёрзшей земли, особого удовольствия не доставляла: телегу трясло и подбрасывало так, что усидеть на ней стоило немалого труда. Большую часть дороги Борис проделал пешком, сокращая, где было возможно, расстояния, пересекая отроги сопок, которые вознице приходилось объезжать. Борис совершал эти переходы с удовольствием. Отдыхая от тряски, он брёл по кустам орешника и сквозь поросли молоденьких, уже начавших желтеть дубков, наслаждался чистым осенним воздухом, вдыхая в себя тот неповторимый аромат, который издавала осенняя растительность в этот период времени. В Приморье осенью травы и лес пахли как-то по-особенному хорошо. На место они прибыли к обеду. Приехали бы и раньше, да очень замедляли движение броды через многочисленные мелкие горные речки, которых им пришлось пересечь не менее десятка. Наконец, показался и маленький, почти игрушечный домик, в котором новому десятнику предстояло провести эту зиму в товариществе с Демирским. Их жильё стояло на довольно крутом берегу речки Стеклянухи, на расстоянии примерно трёх вёрст от самой деревни. Задняя стена дома подходила почти вплотную к высоким кедрам, с которых далее начиналась тайга. Неподалеку находился небольшой сарай, очевидно, предназначенный для хранения материалов и инструмента участка. В отличие от незапертого дома, на этом сарайчике висел большой амбарный замок. Ещё дальше виднелся длинный барак-полуземлянка – жильё рубщиков-китайцев, как определил Борис. От домика в лес вела уже довольно заметная тропинка вдоль берега речки вглубь пади. Людей ни в доме, ни вокруг дома не было видно. Перетаскав с помощью возчика привезённые вещи и отпустив его в Стеклянуху, Борис осмотрел жилище. Это был дом в 4 квадратных сажени, высотою от пола до потолка в сажень. В двух смежных стенках, обращённых к дороге и лесу, имелись небольшие оконца, с противоположной от леса стороны – дверь. По бокам от входа стояли два топчана, с положенными на них сенниками. Один из топчанов был застлан серым суконным одеялам, а в головах его лежала большая подушка. Борис понял, что этот топчан принадлежал Демирскому. В одном из углов дома находилась небольшая кирпичная печка с маленькой плитой наверху. Кроме того, имелись приделанные к стенке два столика: один – в глубине, служебный, так как на нём лежали разные бланки и тетрадки, другой – хозяйственный, на нём стоял котелок, сковородка, тарелки, две эмалированные кружки, пара деревянных ложек, два ножа и две вилки. Над этим столиком на стене была прибита полочка, закрытая холщовой занавеской, на полке лежал хлеб и кусок сала. Боря туда же положил и все пирожки, которые ему дала мать, а на стол поставил свой котелок и выложил свою ложку, вилку и нож. Осматривая новое жилище, пахнувшее смолистым приятным запахом кедра (дом был срублен из кедровых брёвен), Борис обрадовался тому, что судьба послала ему такого опытного и хорошего руководителя, для которого, видимо, проживание в лесу было самым привычным делом. Выйдя из домика, Борис обнаружил за задней его стеной большую поленницу мелко нарубленных дров, а на ветке небольшого кедра – умывальник с вырытой под ним ямкой для стока грязной воды. Рассказывая о переезде Бориса на новое местожительство, мы совсем упустили из виду ещё одного его спутника, с которым он после своего выздоровления, можно сказать, почти не расставался. Появление этого спутника обычно всегда предшествовало появлению Бориса и давало повод всем знакомым ожидать вслед за ним и самого Алёшкина. Это был его четвероногий друг, уже известный нам – большой, хотя, вероятно, и беспородный, пёс Мурзик. Отец и мать, отпуская Бориса в лес, с охотой разрешили ему взять с собой и друга. Мурзик всю дорогу бежал впереди лошади, как будто заранее зная предстоящий путь. Сейчас же, пока хозяин обследовал своё жилище, пёс с такой же старательностью обежал ближайшие окрестности и, видимо, остался доволен окружающей местностью. К моменту выхода хозяина из дома он уже лежал около порога, высунув красный язык, положил умную голову на лапы и преданными глазами следил за движениями Бориса. – Что же, брат, – сказал Борис, – надо поесть приготовить, а то вернётся из леса хозяин, нам стыдно будет, что мы тут без дела просидели. Мурзик, как бы соглашаясь, в ответ на эти слова застучал по земле своим длинным мохнатым хвостом. Недалеко от домика протекал маленький светлый ручеёк, впадавший в Стеклянуху. Вода его была прозрачна, как стекло, и холодна, как лёд. Взяв чайник, стоявший на плите, Борис набрал в него воды из этого ручейка, растопил плиту и поставил на неё чайник. Достал из своего мешка картошку, лук и рис, данный ему матерью, налил воды в один из котелков и решил сварить похлёбку, заправив её салом, лежавшим на полке. Так как, кроме того, там был хлеб и его пирожки, то, по его мнению, с чаем, который он уже заварил во вскипевшем чайнике, обед получится вполне удовлетворительным. Похлёбка была готова через час, а к этому времени уже и стемнело. Борис зажёг небольшую керосиновую лампу, висевшую на одной из стен домика, и начал ожидать прихода своего начальника. Не прошло и получаса, как на улице послышались грузные шаги, а затем ворчание и басовитый лай Мурзика. – Э, да тут, кажется, новые хозяева завелись! – услышал Борис голос Демирского. Он поспешил выскочить на улицу и успокоить собаку. Он не предупреждал Демирского, что привезёт с собой Мурзика, и сейчас был встревожен: «А вдруг он рассердится, что тогда делать?» Но тот, увидев Бориса, приветливо улыбнулся и, проходя мимо замолчавшего, но внимательно наблюдавшего за ним Мурзика, сказал: – А это хорошо, что ты, Борис, своего пса привёз, он нам хорошим сторожем будет. Давно приехал? Борис поразился: это был совсем не тот Демирский, которого он привык видеть в конторе на людях. Куда девались его суровость и неприступность? Лес совсем изменил облик этого человека, видимо, он очень его любил. Войдя в домик, повесив на стенку свой винчестер, сняв шапку и кожаную тужурку, он сказал: – Хотел я тебя, Борис, по случаю приезда дичинкой угостить, да так ничего подстрелить и не удалось. Ну да ладно, сейчас чего-нибудь сообразим! Алёшкин, зажегший тем временем лампу, ответил: – Да я тут сварил суп и чайник вскипятил… – Что же, это хорошо: значит, ты малый что надо, не какой-нибудь белоручка. А ведь я, признаться, думал, что барчонок мне попался в напарники, мол, сын учительницы, отец, говорят, офицером был, а ты, оказывается, парень свой. Ну так, значит, друзьями будем, – Демирский, нагнувшись, вытащил из-под своего топчана небольшой окованный железом сундучок, а из него – завёрнутый в тряпочку кусочек копчёного мяса с косточкой. Аккуратно срезав большую часть мяса и нарезав его ломтиками, он пододвинул это к Борису и попросил, держа косточку в руке: – А ну-ка, позови своего телохранителя, знакомиться будем. Борис открыл дверь и крикнул Мурзика. Тот несмело переступил порог избушки и уселся у двери, на всякий случай вежливо постукивая своим мохнатым хвостом. Борис между тем взял со стола миски и начал наливать в них сваренный суп. Поставив миски на стол, он сел и стал наблюдать за происходящим. А Демирский, держа небрежно косточку в руке, как бы нечаянно вертел её в руках. Пёс, у которого от соблазнительного запаха уже, кажется, текли слюнки, внимательно смотрел на кость, следя взглядом за всеми движениями руки, держащей её. Наконец, Демирский сжалился и протянул кость Мурзику, но тот взглянул на Бориса и, не увидев разрешающего жеста, не услышав позволения, хотя и проглотил набежавшую слюну, однако довольно презрительно отвернулся от предлагаемого угощения. – Смотри-ка, да он у тебя образованный! На, возьми! – и Демирский ещё больше приблизил кость к морде собаки, но та облизнулась и снова повернула голову к Борису. Тот сказал: – Можно, Мурзик! Возьми, только осторожно! Пёс приподнялся, протянул морду к руке Демирского и очень осторожно взял кость зубами. Затем он попятился к двери, и когда Василий Иванович открыл её, выскочил на улицу. Скоро оттуда раздался хруст разгрызаемой кости. – Умный пёс, нам втроём будет веселее! Ну, давай и мы ужинать, что ты тут такое наварил? Демирский съел полную миску супу, похвалил его и повара. Борис тоже опорожнил свою миску. Затем они угощались копчёной козлятиной, которая Алёшкину, пробовавшему это блюдо в первый раз, показалась особенно вкусной. Напились чаю с сахаром и пирожками, привезёнными Борей. Увидев в котелке оставшийся суп, Демирский сказал: – Ну что же, надо и твоего Мурзика покормить, ведь одной косточки-то ему, наверно, мало. Давай-ка я это сделаю, пусть он ко мне привыкает. Вылив немного супа из котелка в пустую консервную банку, Василий Иванович вышел на улицу, поставил банку недалеко от двери и подозвал Мурзика. Вслед за ним вышел и Борис. Пёс, несмело поглядывая на хозяина, стал медленно приближаться к соблазнительной еде. Видя, что хозяин не протестует, он, наконец, подошёл к банке и с завидным аппетитом принялся за суп. Демирский стоял рядом. После того как Мурзик поел, Борис погладил его и, подведя за ошейник вплотную к ногам Демирского, строго сказал: – Это свой, понял? Свой! – затем он повернулся к Демирскому. – Погладьте, пока я его держу. Тот смело протянул руку и положил её на голову собаки. По телу Мурзика пробежала дрожь, и он слегка заворчал. Борис щёлкнул его по носу и снова ещё строже повторил: – Я тебе сказал, что это свой! Молчи! Пёс пересилил себя, перестал ворчать и больше при появлении в домике Демирского не лаял на него. Принимал пищу из его рук, однако, гладить себя и так баловаться с собой, как это он позволял Борису, тому не давал. В походах по лесу он всё-таки всегда сопровождал только своего хозяина. Так началась жизнь Алёшкина в Стеклянухе. На следующий день вместе с рассветом оба десятника уже двигались к месту вырубки. Для этого им пришлось, выйдя из избушки, пройти вверх вдоль небольшого ручья, впадавшего в Стеклянуху, версты три, причём пришлось несколько раз пересекать этот ручеёк вброд. И тут Борис оценил качество и необходимость справленных им в прошлом году ещё в Новонежине ичиг: более удобной обуви для такого похода не придумаешь. Наконец, они, продвигаясь по всё более и более сужавшемуся ущелью, подошли к небольшому водопаду, с которого начинался их путеводный ручеёк. Пересекли его в последний раз и остановились передохнуть на небольшом скалистом выступе. Тут Демирский рассказал, что этот безобидный ручеёк после летних дождей или весной, после таяния снега, на вершине сопки превращается в бурный поток. Таких потоков в окружающих ущельях было много, все они впадали в Стеклянуху, и эта небольшая и невзрачная, на первый взгляд, речушка тогда превращалась в мощную полноводную реку, способную пронести на себе большое количество леса. Но зато, если этим моментом не воспользоваться, она через несколько дней снова мелела, и лес, который не успели сплавить, так и оставался лежать на берегах и перекатах. Он бы не только пропал, но и мешал сплаву будущего года. Такой сезон длился всего 5–7 дней, и к этому времени требовалось весь заготовленный лес вывезти на приречный склад и затем скатить в реку. Далее Демирский добавил: – Вот теперь ты понимаешь, Борис, какая сложная и ответственная задача стоит перед нами. Мы должны учесть все возможные потери: от недосплава, от бракеража, который японцы – наши заказчики, производят очень придирчиво, от возможных потерь при буксировке к пароходам, да и от воровства, которым иногда занимаются кое-какие предприимчивые жители приречных деревень. Следовательно, нам нужно заготовить и вывести леса, по крайней мере, процентов на 15–20 больше, чем намечено по плану. – Скажите, пожалуйста, а вы знаете, почему эта река называется Стеклянухой? – поинтересовался Боря. – Точно этого, наверно, никто не знает… Говорят, что недалеко от того места, где сейчас расположена деревня с таким же названием, как и у речки, стояла китайская фанза, замечательная тем, что вместо бумаги, которой, как ты знаешь, заклеены все окна в этих жилищах, в переплётах её окон были вставлены настоящие стёкла. Такая фанза не могла не вызывать удивления у первых поселенцев этих мест, а так как название речки, в своё время придуманное коренными жителями этих мест, удэгейцами, для произношения было очень трудным, то они и назвали её по имени удивительной фанзы – Стеклянухой. Ну а от названия речки родилось и название деревни, образованной поселенцами на её берегу. Ну, впрочем, хватит болтать, пойдём-ка к строящемуся зимовью, а потом пройдём и в тайгу. Вскоре они услышали звуки ударов топора, раздававшихся на одном из склонов сопки. Когда они с трудом забрались по довольно крутому скалистому склону, покрытому мелким кустарником багульника и чёртового дерева метров на 150 вверх, то увидели, что противоположный склон этой сопки, также, как и находящийся рядом более пологий, почти до самого низу покрыт огромными, стройными, как свечи, кедрами, пихтами, лиственницей, ещё не сбросившей хвою, и какими-то неизвестными Борису красивыми, тоже довольно крупными, деревьями. Подлеска почти не было. – Ну вот, это и есть наша делянка, – заметил Демирский. В самом низу пади, на ровной поляне виднелось человек 40 китайцев, занятых копкой котлована для второй землянки. Первая была уже полностью закончена. Рядом с землянками-зимовьями несколько человек оплетали толстыми ветвями остов длинного сарая. Демирский объяснил, что в одном зимовье будут жить рубщики-китайцы, а в другом корейцы: вместе они жить не могут. А сарай, строящийся неподалеку, предназначен для волов. Лес выборочным порядком будет заготавливаться на склонах этих сопок, спускаться вниз на дорогу и там, уже на лошадях, доставляться на склад к реке. – Склад этот предполагается разместить шагах в пятистах ниже нашего домика, – сказал Демирский. Оглядывая сверху предстоящее место вырубки, Борис немного недоумевал, почему Василий Иванович, да и все в конторе, говорили о каких-то трудностях заготовки леса в этом месте, но когда они спустились к строящимся землянкам, и Борис оглянулся, то он понял, что работа предстоит непростая. Глядя снизу вверх по склону, казавшемуся после путешествия по скалам таким безобидным, он увидел, что этот «пологий» спуск вовсе уж не так гладок и полог, как это казалось сверху. И конечно, ни одна лошадь свезти сани с бревном по этому склону не сумела бы: бревно, наваливавшееся на неё сзади, неминуемо заставило бы животное бежать, лошадь бы разбилась. Борис даже засомневался, смогут ли справиться с этим делом и волы. Он высказал свои сомнения по этому вопросу Демирскому, но тот его успокоил, заявив, что ему приходилось при помощи волов спускать лес и не с таких круч. Пройдя мимо строящихся землянок и ответив на приветствия работающих там людей, десятники назад к своему домику пошли уже по той дороге, которая должна была служить для перевозки леса к реке. Дорога эта показалась Борису тоже весьма несовершенной, о чём он и не преминул заметить. Она, и правда, представляла собой скорее, широкую тропу, несколько раз пересекавшую многочисленные ручьи-овражки. Но на замечания Бориса старший десятник только усмехнулся: – Ну что же, это хорошо, что ты так по-хозяйски всё оцениваешь, значит, понимаешь, что нам с тобой тут работать придётся и что мы за всё тут в ответе будем. Но не волнуйся, эта дорога нас вполне устроит. Придётся кое-где мостки сделать, кое-где подровнять её – ну, да это много времени не займёт. Вот зимовье построим и дня два на дорогу отведём, ведь ты не забудь, пользоваться ею мы начнём только после того, как снег выпадет, ну а вместе со снегом и мороз нам поможет. До весны выдержим, а дальше она нам не нужна будет. Что не успеем до весны вывезти, то так тут и останется. Так они разговаривали, идя по дороге теперь вниз по течению реки, постепенно приближаясь к своему домику. Борис заметил, что если по скалам они добрались до вершины сопки за каких-нибудь полчаса, то теперь шли, наверно, уже более часа, а домика всё ещё не было видно. Он сказал об этом Демирскому, тот рассмеялся: – Чудак-человек, так по дороге до нашего домика от вырубки-то будет вёрст пять! Наконец, они увидели и домик. В это первое путешествие они не брали с собой Мурзика, сейчас, возвращаясь, ещё за несколько сот шагов услышали его яростный и злобный лай. Десятники ускорили шаги. Их глазам предстала следующая картина. Шагах в пятидесяти от домика на самом берегу реки работало человек 50 китайцев, выравнивавших довольно большую площадь. Один из них, очевидно, старший, стоял недалеко от входа. Малейшая его попытка подойти к домику вызывала яростный лай Мурзика, который замолкал, как только китаец отходил назад. Тот, видимо, не знал, что ему делать, но в этот момент он заметил подходящих Демирского и Бориса, увидели их и все остальные китайцы. Они о чём-то залопотали по-своему, поснимали шапки, и старший подошёл к Демирскому. Увидев своих, Мурзик замолчал и улёгся около порога домика. Подошедший китаец снял шапку и наклонил голову, Борис тоже потянул руку к шапке, но его остановил Демирский6 – Не надо! Они ведь пока думают по-старому: считают нас за хозяев, а где же это видано, чтобы хозяин снимал шапку перед работником? Если мы с этими их представлениями считаться не будем, то можем очень подорвать свой авторитет, а без него нам трудно придётся: нас ведь только двое, а их будет человек 150, не считая возчиков, всех их надо будет держать в руках! Подошедший китаец, не надевая шапки, почтительно пожал руку, протянутую ему Демирским, произнёс своё неизменное: «3дластвуй, капитана», – и жестом пригласил обоих начальников сесть на толстое бревно, лежавшее тут же. Когда они уселись и закурили, китаец начал что-то быстро и горячо доказывать, мешая ломаные русские слова с китайскими. Борис почти ничего не понимал из этой скороговорки, но Демирский, видимо, хорошо знал этот жаргон и, выслушав китайца, отвечал ему коротко и односложно, тоже иногда употребляя китайские слова. Китаец стал в чём-то убеждать Демирского, что-то просить у него, но тот оставался непреклонным. В конце концов, китаец, сокрушённо покачав головой, махнул рукой и с печальной миной отошёл к рабочим, с нескрываемым интересом следившим за проходившими переговорами. Те по выражению его лица и нескольким словам, брошенным им, поняли о бесплодности переговоров и довольно сердито о чём-то между собой заговорили. Тогда этот китаец грубо прикрикнул на них. Они замолчали и вновь принялись за прерванную было работу. Между прочим, китаец, подходивший к десятникам, был старшинкой, джангуйдой, как его называли китайцы. Он, по существу, являлся хозяином артели, вёл все расчёты с десятниками, а рабочим выдавал то, что считал нужным. Борис уже сталкивался с таким положением ещё в Новонежине. Джангуйда и одет-то был не так, как все рабочие: на нём был такой же длинный халат, как и на китайских торговцах, на голове под меховым малахаем – маленькая чёрная шапочка, а на ногах – такие же добротные ичиги, как и у Бориса с Демирским. Все же остальные рабочие-китайцы были одеты кто во что горазд: в ватные или простые бумажные куртки, очень часто порванные и почти у всех невероятно грязные, в штаны из толстой хлопчатобумажной материи, уже потерявшей свой первоначальный синий цвет, и улы (род обуви из сыромятной кожи в виде лаптей). На головах у них были рваные меховые малахаи из собачьей шерсти, а у некоторых головы просто были повязаны какой-то тряпкой. Зато у всех имелись новенькие брезентовые рукавицы – спецодежда, выдаваемая Дальлесом. – Кончай менга солнца, тунда? – строго сказал Демирский и поднялся с бревна. Вновь подошедший джангуйда согласно кивнул головой. Борис не понял, что это были за слова, и поэтому спросил Василия Ивановича, когда они отошли от работавших, что означала его фраза. Тот засмеялся: – Эх, Борис, тебе надо научиться понимать этот язык, а то ты с нашими рабочими ни о чём договориться не сумеешь. Я сказал: «Заканчивайте через два дня, понятно?» Вообще-то мне с этим хозяйчиком-эксплуататором разговаривать противно, да ничего не поделаешь, такой уж порядок пока в Дальлесе, да и не только в Дальлесе, а и в других дальневосточных предприятиях, заведён. Своих русских рабочих у нас здесь пока не хватает, приходится нанимать китайцев, а они, в большинстве своём, или сбежали из своей страны, где и вовсе работы нет, или застряли здесь, придя с отрядами хунхузов. По-русски они, как правило, ничего не понимают, а жить – значит, работать надо. Вот такие джангуйды этим и пользуются, эксплуатируя несчастных почём зря. Надо бы всё это поломать, да, видно, у нашего краевого начальства до этого ещё руки не дошли, да и завезти сюда людей из России не так-то просто. А эти бедолаги к тому же и ещё одним горем страдают: почти все они курят опий. У них на родине эта пагубная привычка не преследуется, а у нас, хотя по законам и запрещено опиекурение, но джангуйды всё равно им злоупотребляют. Нанимая рабочих, они обещают им, кроме денег и питания, выдавать некоторое количество опия. Называется крохотный кусочек этого зелья «фыр», хватает его на несколько затяжек, после чего у курильщика наступает опьянение, иногда и сон. Пользуясь этой страстью большинства своих рабочих, джангуйды имеют возможность нанимать их за такую мизерную плату, что просто непонятно, как те на неё существуют, ну а старшинки наживаются при этом неимоверно. Борис уже раньше знал кое-что об опиекурении, ведь в период своей недолгой службы в ЧК-ОГПУ при разгроме хунхузских отрядов им удавалось захватывать иногда довольно значительные количества опия, в фанзах, в которых бывали хунхузы, находить все принадлежности для опиекурения. Приходилось ему видеть и накурившихся китайцев, иногда и хунхузов, которых в этом состоянии можно было брать голыми руками. Видел он и поля мака, с которого собирают опий, в глубине тайги, на полянках, специально расчищенных живущими в одиноких фанзах китайцами. Ведь, в основном, к ним-то и направлялись отряды хунхузов. Но он не думал, что это зло так широко распространено среди простого рабочего китайского люда. Он полагал, что с этим надо бороться. На его замечание на этот счёт Демирский возразил: – Э, брат, что нам с тобой до этого? Мы их не переделаем! Нам нужно план выполнить, а то с государства наши японские заказчики неустойку взыщут. Нужно, чтобы наши рабочие работали в полную силу. Сами мы с ними не договоримся, вот и приходится этими джангуйдами и их методами пользоваться, на нарушение ими законов глаза закрывать, да ведь об этом у самих китайцев и не выспросишь. Это ведь я тебе по опыту всё рассказываю, а так, даже зайдя в их зимовье, можно ничего и не увидеть: курят они обычно по ночам, а ночью к ним лучше не заходить, всякое может случиться. Да и то плохо, что мы их языка совсем не знаем, а то ведь больше всего так: «твоя», «моя», да и всё. – Ну что вы, товарищ Демирский! – сказал Борис. – Вы так сейчас с ним разговаривали, что я вообще ничего не понял. Демирский усмехнулся: – Это разве разговор? Вот поживёшь зиму рядом с ними, волей-неволей сам обучишься. Целыми днями, кроме них, никого рядом не будет. Ну да ладно, хватит балясы точить, давай-ка поработаем немного, как раз до границы дошли. Борис удивлённо взглянул на своего спутника: во-первых, он никакой границы не видел, а во-вторых, наивно полагал, что они, собственно, всё время работают. Демирский заметил его взгляд и улыбнулся: – Нет, Борис, нам, кроме наблюдения за рабочими, дел немало делать придётся. Ведь рубка-то выборочная, а кто выборку будет делать? Лесорубы? Эти китайцы? Да они в лесе-то ни уха ни рыла не понимают, они такого наваляют, что нам с тобой потом за их работу голову снимут! Выборку придётся делать нам. Ну а когда валка начнётся, тут уж на нас и другие дела навалятся, нам поэтому нужно заранее подготовиться. Рубку начнём с этого края пади. От верховьев до этого места я уже выборку сделал, теперь пойдём дальше. Нам с тобой надо брать только кедр и пихту – лиственницу наша Стеклянуха не подымет, она слишком тяжела, ну а вот этих красавцев, – тут Демирский хлопнул по толстому стволу высокого, похожего на сосну дерева, – мы ни за какое золото не продадим! Это тис – дальневосточное красное дерево, оно очень дорого ценится, его трогать нельзя, мало его осталось. Конечно, выбирать нам нужно только такие деревья, которые достаточно выросли, не искривлены ветром, не поражены гнилью, табачным суком и другими болезнями. Ты знаешь, что брёвна нам нужны девятиаршинные или, как теперь считают, 21-футовые, причём в верхнем отрубе они должны иметь не менее восьми дюймов в диаметре. Надо стараться подбирать такие деревья, из которых выходило бы два-три бревна: если рубить меньшие, то будет много отходов, ведь всё, что мы не вывезем, так и останется здесь лежать и гнить. Вот, сообразно этому и смотри. Ну, а как выбрать хорошее здоровое дерево, ты, наверно, знаешь, ведь на курсах учился. Давай пока, на первое время, сделаем так: вот тебе мелок, иди вперёд и все деревья, которые сочтёшь пригодными, помечай мелком, а я следом пойду и, если с тобой соглашусь, буду эти деревья клеймить, а если увижу, что ты чего-нибудь пропустил или не так сделал, тебе потом расскажу. Рубщики при валке будут моим клеймом руководствоваться. Идёт? Борис, конечно, согласился, а сам подумал: «Вот это экзамен! Построже, чем у Василевского!» Ему даже понравилась такая проверка. Понравилось и отношение Демирского к работе. Это было совсем не так, как работал Дмитриев: тот думал лишь о том, чтобы как-нибудь выполнить задание, да при этом не забыть и своих интересов. Этот же старался не только работать, как положено, но и делать всё как можно лучше и качественнее. Возможно, что пример этого человека впоследствии сказался на отношении к работе и самого Бориса. Борис начал свой обход и вскоре убедился, что это далеко не такая простая штука, как он предполагал вначале. Нужно было по склону сопки, тянущейся длинным неровным хребтом, пробраться к верху, осматривая каждое дерево и делая выборочно соответствующие пометки. Затем следовало спускаться вниз, повторяя ту же работу на соседнем участке. И так всё время: вверх-вниз, вверх-вниз, а длина склона, по которому нужно было подниматься и спускаться, составляла примерно полтора-два километра, и при этом разница в высоте была не менее пятисот метров. Сделав, вероятно, 10–12 таких путешествий, Борис заметил, что начало темнеть, короткий ноябрьский день кончился. Он присел на высокую мшистую кочку, снял кепкуи вытер рукой мокрый лоб. Он чувствовал, что и по спине у него струится пот. В первый раз за всё это время парень закурил. Через 10–15 минут к нему подошёл Демирский, по нему не было видно, что он устал. Он окликнул своего помощника, и они спустились на дорогу. Демирский тоже закурил и несколько минут шёл молча. «Наверно, напортачил я, – подумал Борис, – рассердил Демирского. Ещё отправит обратно в контору, вот стыда-то будет!» Но старший десятник замедлил шаг, и когда Борис, шедший до этого немного сзади, поравнялся с ним, тот положил на его плечо свою тяжёлую руку, улыбнулся и сказал: – А ты, парень, молодец! Я за тобою смотрел, работать можешь. Я нарочно роздыху не давал, думал, сам запросишь – ничего, сдюжил! И в деревьях неплохо разбираешься, а всё-таки пару «табачков» пропустил, я завтра тебе их покажу. Я нарочно их пометил, чтобы ты на них посмотрел, и тогда, когда их срубят. Убытку от этого много не будет, а ты, рассмотрев их как следует, на всю жизнь этот дефект дерева запомнишь. А так, всё правильно, могу смело тебе это дело доверять. Борис был очень горд полученной похвалой, но в то же время и досадовал на себя за то, что пропустил такой существенный дефект дерева, как табачный сук. Порок этот заключался в том, что сердцевина внешне совершенно здорового дерева загнивала и превращалась в тёмно-коричневую труху, внешне напоминавшую нюхательный табак – отсюда и название. Такое дерево и бревно, из него выпиленное, считалось серьёзным браком и, конечно, на экспорт не допускалось. При наружном осмотре эту болезнь определить было нелегко. Сломанный сук, через который проникала инфекция, вызывающая порчу середины дерева, мог находиться высоко, и разглядеть его бывало очень трудно. Определялся этот дефект простукиванием ствола: вследствие того, что середина древесины была мягкая, стук имел другой оттенок, чем у здорового дерева. Определить разницу звука удавалось не всегда, и многие опытные лесорубы и лесники допускали ошибки. Ну а такой, в сущности, ещё неопытный, каким был Алёшкин, мог допустить их и гораздо больше, хотя, надо сказать, во время занятий на курсах он не раз при таком простукивании выходил с честью. Когда Демирский и Борис вернулись к своему домику, они ещё издали услышали радостный лай Мурзика, приветствовавшего их приближение. Наскоро перекусив остававшейся похлёбкой и выпив по кружке чая, оба десятника завалились на свои топчаны и почти мгновенно заснули. Дни полетели один за другим, загруженные до предела физической работой, связанной с беспрерывным пребыванием на воздухе в кедровом лесу. Это благотворно сказалось на здоровье Бориса, он окреп физически. Мускулы ног укрепились, и те расстояния, которые он едва одолел в первый день своей работы, теперь проходил без труда. Демирский, проверив ещё несколько раз знания Бориса и убедившись в том, что парень по-настоящему разбирается в лесе, дал ему второе клеймо. С этих дней они, разделив работу, стали проверять и выбирать нужные деревья для валки по смежным склонам. Иногда на склоне, где работал Демирский, раздавался выстрел, и вечером он приносил одну или две ноги козы, говоря, что остальную часть туши отдал китайцам. В этот день устраивался пир, в домике вкусно пахло жареной козлятиной. Примерно через неделю после прибытия Бориса в лес, утром, когда он выскочил на улицу, чтобы умыться и сбегать в кустики, где у них был устроен импровизированный туалет, он увидел, что вся земля покрыта белым чистым снегом, продолжавшим тихо падать крупными мягкими хлопьями. Выскочивший из своей конуры Мурзик (по предложению Демирского, Борис соорудил её из двух ящиков в первый же день приезда) приветствовал своего хозяина и начавшуюся зиму весёлым лаем и бешеными прыжками. Услышав этот шум, вышел и старший десятник: – Ну вот, наконец-то, и снег! Теперь у нас дела пойдут так, что только успевай поворачиваться. Вчера прибыла последняя артель рубщиков и корейцев с быками, сегодня-завтра появятся и возчики. Теперь только давай, да давай! – сказал он. Позавтракав и заперев Мурзика в домике, что являлось самой надёжной охраной, они отправились в лес. Выборку уже почти закончили, началась рубка, им теперь следовало производить подсчёт сваленных деревьев и выпиленных из хлыстов бревен (Хлысты – стволы деревьев, очищенные от сучьев. Прим. ред.). Для расчётов с рубщиками этого было вполне достаточно, они получали плату за каждое бревно, но с возчиками, так же, как и с лесничеством, расчёт вёлся по кубатуре вывезенного леса. Обычно на большинстве участков работу по обмеру леса производили после вывозки его на склад, но Демирский решил делать по-другому. Он приказал Борису делать как он: замерить и прямо в лесу, на месте валки, записать полученную цифру на отрубе. Борису вначале казалось, что это только усложняло работу, но зато потом, к весне, он понял, что этими замерами они ускорили процесс, и если в тот период труда было больше, то потом все расчёты значительно упростились. Только Демирский и Борис вышли из домика, как к ним подъехала подвода с сидящим на ней крестьянином Мамонтовым, доставившим Бориса в своё время на участок. – А я в Шкотово еду, телегу на сани менять, да и брата с лошадью прихвачу. Наверно, денька через два дорога станет и вывозку можно будет начинать. Со стеклянухинской артелью я договорился. Вот, заехал – может, чего передать, или привезти из дому надо? Я думаю, завтра к вечеру обернуться. Решение у Бориса Алёшкина созрело мгновенно, как будто он готовился к нему давно: – Товарищ Демирский, ведь у нас хлеб, да и другие продукты на исходе, что если мне в Шкотово смотаться? Заодно и топоров из конторы захвачу, ведь сами давеча говорили, что у рубщиков их недостаёт, а? Демирский внимательно посмотрел на своего помощника и по невольному смущению, появившемуся на его лице, понял, что у того на уме не только топоры и продукты, и он решил отпустить парня: – Ну что же, поезжай, пожалуй, только Мурзика мне оставь дом сторожить. Да смотри, не опаздывай! Чтобы завтра к вечеру душа винтом, а был здесь! Сам знаешь, какая горячая пора наступает… – Что вы, что вы, разве я не понимаю? Обязательно завтра к вечеру буду здесь. – Тогда давай, собирайся быстро, чтобы Мамонтова не задерживать. – А чего мне собираться-то? Я весь тут! – весело крикнул Борис, готовясь вскочить на телегу. – Да ты что, так домой без ничего и поедешь? Из тайги-то? Надо отвезти. Возьми с чердака одну козью ногу, мне тут и остатков второй хватит. Да не забудь привезти из дому соли и мыла. Китайцы около своего зимовья уже баньку соорудили, и мы там помоемся. Борис мигом слазил на чердак, достал оттуда замерзшее, завёрнутое в мешковину козье мясо, бросил его в телегу и вскочил сам. Видя эти приготовления, Мурзик радостно прыгал кругом и всем своим видом показывал готовность броситься в путь. Но, к его большому огорчению, хозяин, сев в телегу, строго приказал ему идти в дом, а Демирский взял его за ошейник. Пёс грустно поглядел вслед покатившейся по заснеженной дороге телеге и, заметив помахавшего рукой Бориса, жалобно заскулил, однако, никакой попытки вырваться из рук державшего его человека не сделал. А снег продолжал валить густыми тяжёлыми хлопьями. Было тихо-тихо. И в этой ранней утренней тишине звонко разносился стук копыт гнедой лошадёнки, бодро бежавшей по твёрдой дороге, да скрип колёс телеги. Откровенно говоря, отпрашиваясь у своего начальника в эту поездку, в глубине души Борис не очень-то надеялся получить его разрешение и согласие, а получив его, вместе с радостью испытывал и некоторое разочарование: «Значит, не очень-то я ему нужен, раз так легко согласился меня отпустить», – думал он. И вместо того, чтобы чувствовать благодарность к Демирскому, он даже вроде бы и обиделся на него. Вот ведь какие противоречивые размышления иногда приходят на ум людям! А Демирский так быстро согласился на поездку Бориса в Шкотово вот почему. Каждый вечер, пожалуй, кроме первого, после ужина десятники укладывались на свои постели, и так как делать было нечего, то принимались разговаривать. Первое время Борис читал вслух рассказы Чехова –единственную книжку, которую он захватил из дома, но она скоро кончилась. А осенние вечера были длинными, спать не хотелось и невольно тянуло к разговору. После настойчивых просьб Василий Иванович рассказал Борису о своей нелёгкой партизанской судьбе, о гибели от рук белогвардейцев его молодой жены, о том, как он сам чудом избежал смерти в Каппелевском застенке, и о многом-многом другом. Демирский был родом из-под Хабаровска, с детства рос в лесу, отлично знал Уссурийскую тайгу. Он был хорошим охотником, и когда его, в числе нескольких других коммунистов, губком партии направил в Дальлес для укрепления аппарата этого учреждения, как тогда практиковалось, он категорически отказался от какой-либо работы в конторе, ссылаясь на свою малограмотность, настоял на том, чтобы его направили на какой-либо участок простым десятником. Борис тоже вкратце рассказал свою историю. Но как-то так получилось, что основная часть его рассказа была сосредоточена не на его прошлой жизни, богатой всевозможными событиями, о которых мы теперь достаточно подробно знаем, а на его переживаниях в настоящее время. Естественно, что главное место в этом рассказе было отведено Кате Пашкевич. Со свойственным ему легкомыслием Борис обрисовал дело так, что будто бы не только он сам без ума от Кати, но и она испытывает к нему такое же чувство. Конечно, он, как всегда, прихвастнул: о Катиных чувствах ему ничего не было известно. Она, хотя в последнее время и вела себя с ним более свободно, держалась на довольно дружеской ноте, но, очевидно, это было не следствием какого-то чувства к нему, а, скорее, лишь тем, что женским чутьём она поняла силу его любви и своей власти над ним и, как любая девушка или женщина, была не прочь эту власть испытать. Борис отлично понимал, что до момента, когда его по-настоящему полюбят – расстояние ещё очень велико. Однако, он сам ею был переполнен, она постоянно стояла в его глазах. Образ Кати, её силуэт, её блестящие холодноватые глаза и насмешливая улыбка тонких губ как будто постоянно присутствовали здесь, при нём. Невольно поэтому, рассказывая о себе, Борис не мог не показать всю глубину и огромность своего чувства. Демирский же, будучи, видимо, натурой, суровой только внешне, в глубине души сочувствовал парню и понимал его желание как можно чаще видеть ту, которой были полны его думы. С самыми радужными надеждами ехал Борис в Шкотово. Дорога, вся в рытвинах и колдобинах, покрытая ещё неглубоким снегом, для поездки на телеге была неудобна, и как ни спешил Мамонтов, в Шкотово они приехали, когда уже совсем стемнело. Между прочим, дорогой Мамонтов рассказал своему спутнику, что добраться в Шкотово можно и пешком или на лыжах – это будет быстрее, чем на лошади: нужно двигаться прямо по хребту, и дорога сократится почти вдвое. – Для этого, – говорил он, – надо забраться на хребет, откуда начинается вырубка и, не спускаясь с него, ехать на восток. Вёрст через 10 очутишься как раз на вершине той сопки, которая находится за школой. По ней спустись, и пожалуйста – ты в Шкотове. Борис, конечно, учёл это совет и в дальнейшем не раз им пользовался. Домой он заявился, когда семья уже была в сборе. Все ему очень обрадовались, а когда он выложил на стол козлиную ногу и сказал, что это их охотничий подарок, ребята подняли крик от радости. Конечно, Борис умолчал, что к этому трофею он, собственно, никакого отношения не имел, и все похвалы принял как должное. После хорошего домашнего обеда, который Борис проглотил с завидным аппетитом, обсудили вопрос об организации дальнейшего питания «лесников». Борис рассказал, что у Демирского погибла жена, и что тот сейчас совсем одинок, и Анна Николаевна поняла, что им надо помочь. – Хватит вам питаться непрожаренной козлятиной да рисовой похлёбкой (Борис не утерпел, рассказал маме о своём ежедневном меню). Нужно организовать что-нибудь посущественнее. Решили наготовить для них пельменей. Яков Матвеевич немедленно побежал к знакомому мяснику-китайцу, принёс огромные куски отличной говядины и свинины, а мама тем временем замесила тесто, и вскоре вся семья сидела и лепила пельмени. Складывали их на противни и выносили на улицу. Мороз к вечеру усилился, и пельмени замерзали быстро. Дружной работой часам к 8 вечера изготовили около тысячи штук, заморозили их и ссыпали в большой мешок, который отец вынес на улицу и привязал к росшему под окном боярышнику.Глава третья
Всё это время Бориса преследовала мысль: как бы увидеть Катю? Но сколько он ни думал, ничего придумать не сумел. Люся рассказала, что в этот день в клубе ничего нет, и поэтому ходить туда бесполезно. И всё-таки, как только удалось освободиться от пельменей, Боря шмыгнул на улицу. За полчаса он побывал в избе-читальне, сельсовете и железнодорожной станции – Кати Пашкевич и даже тех её подруг, которых он мог бы попросить вызвать её на улицу, он не встретил. Ещё некоторое время он побродил около Катиного дома, посидел на скамеечке около аптеки, которая размещалась в одном из домов Пашкевичей, но Катю так и не увидел. Грустный, поплёлся Боря домой. В кухне на его кровати уже была постлана постель, а на столе стояло молоко, хлеб и кусок жареной козлятины. Есть ему не хотелось, он сел на постель и, уставившись на тусклую электрическую лампочку, висевшую где-то под потолком, задумался. В таком виде его и застала мать. Несколько минут она молча наблюдала за сыном, затем подошла к нему, села с ним рядом на кровать, обняла его за плечи: – Ты, сын, о чём задумался? Что-нибудь случилось? Борис очнулся от своей задумчивости: – Да нет, мама, ничего, это я так… – Как это – так? Влюбился, что ли, опять в кого-нибудь? – улыбнулась Анна Николаевна. Борис встал и заходил по кухне: – Ну вот, мама, и ты, как другие! Разве я когда-нибудь влюблялся? Это всё было простым баловством… – сердито сказал он, невольно покраснев, так как вспомнил, что это «баловство» с некоторыми из встреченных им женщин было не совсем невинным. – Ну ладно, успокойся, перестань ходить-то. Иди-ка, сядь рядом со мной, да расскажи всё по порядку. За два с половиной года, что Борис жил в семье, она привыкла относиться к Борису, как к своему родному сыну, проявляя о нём заботу и беспокойство, свойственные любой матери, да и он чуть ли не с первых дней своего пребывания в семье отца к мачехе относился с уважением и любовью, как к родной матери. Во всяком случае, она ему стала гораздо ближе, чем отец. Её ласковые, спокойные и простые слова заставили его подчиниться. Он, правда, сел не на кровать, а на табуретку около стола, закурил, и глядя в тёмное окно, мимо которого мелькали медленно падавшие хлопья снега, рассказал матери о своём ещё никогда ранее не испытанном чувстве, возникшем так неожиданно и так прочно овладевшем им. Он назвал имя девушки, которая вызвала это чувство, и добавил, что уверен, это настоящая и единственная его любовь. Анна Николаевна выслушала этот длинный, немного сбивчивый рассказ, ни разу не прервав его. После окончания исповеди сына она довольно долго молчала, затем спросила: – Ну а она? Она-то тебя любит? Борис не решился солгать: – Не знаю, мама, но я добьюсь, чтобы полюбила. Я без неё жить не могу! – Да это-то так, ну а что же дальше? Тебе всего 18 лет, ей, кажется, и того нет. Она же ещё учится, ведь надо же ей ученье кончить. Ты что же, жениться думаешь? – Ах, мама, да разве я знаю? Пусть учится, я ждать согласен, сколько она захочет… Я знаю только то, что люблю её больше жизни, а видеться и говорить с ней мне не удаётся. Она как будто боится со мной наедине остаться, а при народе разве об этом можно сказать? – Так напиши ей! – Напиши! А как я пошлю письмо? Ведь если дома у неё это письмо прочтут, то чёрт знает что может получиться! Ей попадёт, она после этого меня и вовсе знать не захочет. – Ну ладно, ты напиши – а я уж придумаю, как передать это письмо ей прямо в руки. – Мама, какая же ты у нас хорошая! – воскликнул Борис и, обняв мать, крепко её поцеловал. – Ну хорошо, хорошо, хватит лизаться. Небось сейчас хорошая – а чуть чего не так скажу, сразу же губы надуваешь! Ладно, пиши, да ложись спать. Рано завтра поедешь-то? – Часов в двенадцать дня, мне ещё надо в контору – топоры получить, да и рукавицы тоже. Мама, мне ещё нужно взять с собой мыла и соли. – Хорошо, я всё приготовлю. Спокойной ночи, сын! – и поцеловав Бориса в лоб, Анна Николаевна, глубоко задумавшись, вышла из кухни. Из сбивчивого, но очевидно, совершенно искреннего признания сына, она поняла, что им овладело действительно сильное и, вероятно, настоящее чувство. «К чему-то это приведёт?..» – думала она с беспокойством. Борис уселся за письмо. Вырвал лист из какой-то тетради, лежавшей на столе, взял в руку перо. Первая же фраза, которую он должен был написать, заставила его надолго задуматься. Как начать? «Милая Катя» – она наверняка рассердится, может быть, дальше и читать не станет. «Дорогая Катя» – так только родственникам пишут. Наконец, он нашёл обращение, которое, по его мнению, было и достаточно ласковым, и в то же время не могло вызвать недовольства. «Здравствуй, Катеринка!» – так начал он письмо. На двух тетрадных листах, исписанных мелким почерком, Борис изливал всё, что накопилось в его душе и сердце. Он клялся в любви, просил не забывать его, хоть немного полюбить его, обещал отправлять письма каждую неделю и умолял Катю написать ему хоть несколько слов в ответ. А главное, просил успокоить его и в своём ответе сказать, что она хоть немного его любит. Конечно, в письме Борис не мог обойтись и без преувеличений: описывая свою жизнь в Стеклянухе, он хвастался охотничьими трофеями и, между прочим, закончил письмо такими фразами: «Если ты, Катя, мне не ответишь, то я не знаю, что я с собой сделаю. Может быть, ты меня тогда больше и не увидишь, ведь ружьё со мной, а оно всегда заряжено. Помни это!» Утром, запечатав письмо в конверт и надписав на нём «Кате Пашкевич», он передал его матери. Затем получил в конторе необходимые предметы, в том числе и две пары лыж, погрузил всё это на сани Мамонтова, заехавшего за ним в контору. После этого они подъехали к дому, взяли приготовленные Анной Николаевной хлеб, масло, пельмени, мыло и соль, и так как Мамонтов торопился засветло доехать до Стеклянухи, отправились в путь. Борис не дождался возвращения из школы матери. Взял он с собой, с разрешения отца, охотничье ружьё с парой десятков патронов к нему, заряженных крупной дробью. Около их домика на полях деревни Стеклянухи по утрам бродило много фазанов. Борис надеялся их пострелять. Дорога от Шкотова до леса была неизмеримо приятней: сани легко скользили по мягкому, но ещё не глубокому снегу, за ночь количество его прибавилось. Было пасмурно, но снегопад прекратился, мороз усилился. Зарывшись ногами в сено и укрывшись с головой полушубком, Борис вскоре задремал и проснулся лишь тогда, когда сани остановились около домика, из-за двери которого раздался радостно-возбуждённый лай Мурзика, почуявшего появление хозяина. Расплатившись с возчиком, Борис перетаскал привезённое в домик, поставил кипятить воду для пельменей, отсыпал в миску около сотни их, чтобы затем сварить, а остальные забросил на чердак. Через час ужин-обед был готов, а тут появился и Демирский. Из привезённого он больше всего обрадовался лыжам. Бродя в этот день по довольно глубокому снегу, он основательно устал, а на лыжах эти путешествия можно делать почти без труда. Был он доволен и пельменями: – Это, – сказал он, – самое подходящее кушанье для таких отшельников, как мы! Передай благодарность тем, кто делал эти вкусные пельмени. Борис рассмеялся: – Ну, тогда придётся благодарить всю нашу семью: мы пельмени всегда всем семейством лепим, ну а главная в этом деле, конечно, мама. Похвалил Демирский и за привезённое ружьё, сказав, что теперь им о продовольствии можно всю зиму не беспокоиться, охотиться будут по очереди. Мясо будет, ну а вместо хлеба и китайские пампушки сойдут. Со следующего дня вновь началась напряжённая работа: дни летели быстро. Оба десятника были так загружены, что, отправляясь в лес с первыми лучами солнца, возвращались в свой домик уже в полной темноте. Утром, когда они появлялись на лесосеке, работа там уже шла полным ходом. Рубщики, разбившись на группы по 3–4 человека, валили отмеченные деревья, очищали их от сучьев и разделывали на брёвна нужной длины. Покончив с одним деревом, переходили к следующему, и так весь день. Они не делали перерывов на обед: зимние дни коротки, поэтому китайцы работали без обеда, делая лишь очень короткие перерывы на куренье. Десятникам предстояло замерить каждое бревно, записать его размеры в тетрадку, перенумеровать и к вечеру подсчитать количество срубленных брёвен. Поначалу дело с замером отнимало у Бориса много времени. Замер следовало произвести по наименьшему диаметру – таковы условия, а найти этот наименьший диаметр было не так-то просто. Ошибка при замере приводила к ошибке в вычислении кубатуры и могла послужить основанием для браковки брёвен заказчиком – японцами, которые использовали малейшую неточность, чтобы сорвать с Дальлеса штраф. После нахождения нужного диаметра, он чёрным мелком писался на верхнем отрубе бревна, там же ставилось клеймо специальным топориком с буквой на обушке. Начальником этого участка считался Демирский, поэтому на клеймах стояла буква «Д». Дня два он контролировал работу Бориса и, проверив сделанные им замеры, сам ставил своё клеймо, но затем, убедившись в добросовестности своего помощника, дал ему второй экземпляр клейма, доверив, таким образом, самостоятельное клеймение. После этого работа их пошла быстрее, теперь они работали параллельно: на одном склоне замерял лес сам Демирский, на другом – Алёшкин. После замера леса наступала очередь спусчиков: они должны были закрепить наиболее толстую часть бревна специальной цепью, прикрепить эту цепь к постромкам, идущим от некоторого подобия хомута, надетого на шею быка, и тот волок это бревно вниз к дороге. Расстояние, которое предстояло пройти быку, составляло несколько сотен метров, но спуски были иногда очень крутыми, а брёвна часто поражали своей громадностью: нередко верхний отруб нижнего бревна по наименьшему диаметру составлял 35–38 дюймов, ну а нижний конец был дюймов на 5 толще; такое бревно весило гораздо больше тонны. И если рубщикам требовалась большая физическая сила и умение, чтобы так повалить высокое дерево (из него выходило 3, а то и 4 девятиаршинных бревна), чтобы оно не повисло на соседних сучьях, чтобы оно не поломало ближайшие деревья и чтобы его было более или менее удобно на крутом склоне обработать, то спусчикам требовалось, кроме того, ещё и умение управлять быками. Очень часто под давлением огромной массы тяжёлого бревна, скользившего по крутому спуску, быстро покрывавшемуся обледенелой коркой, бык, не сумевший удержаться, вынужден был бежать, и управлявшему им корейцу (почему-то на этой работе бывали всегда заняты корейцы) нужна была незаурядная ловкость, чтобы направить его движение в нужном направлении. Бывали случаи, когда справиться с этим делом возчику не удавалось, и бык срывался с обрыва, летел вниз и погибал, придавленный огромной тяжестью падавшего за ним бревна. Зимой подобный случай произошёл однажды и на этом участке. После того как бревно было благополучно спущено к дороге и отцепивший его кореец возвращался за следующим, к бревну подъезжал возчик из стеклянухинской артели. Возчики обычно группировались, как и рубщики, по нескольку человек. При помощи ломов и толстых слег-жердей они накатывали бревно на короткие санки, сделанные из толстых брусьев, закрепляли его верёвками, и после того, как у всей группы сани были загружены, маленький обозик отправлялся в путь и через час доставлял брёвна на склад, расположенный на берегу реки Стеклянухи, примерно в полутора километрах ниже домика десятников, подготовленный на ровной полянке – площади. На месте, отведённом под склад, заранее были проложены лаги – нетолстые брёвна, на которые и следовало накатить доставленное возчиками. После того как заканчивался один ряд брёвен, состоявший примерно из 50–60 штук, на него сверху, также через проложенные лаги, накатывался второй ряд. Таких штабелей, по примерному расчёту Демирского, необходимо было сделать штук шесть. Штабеля эти укладывались с таким расчётом, чтобы весной при паводке вода подошла к ним как можно ближе, и чтобы спуск леса в период сплава отнимал как можно меньше времени и рабочих рук. А пока Борис и его начальник продолжали обмер брёвен и наблюдение за правильностью валки леса. Важно было, чтобы рубщики не пропустили ни одного намеченного к вырубке дерева и в то же время чтобы не свалили того, которое трогать не нужно. К концу рабочего дня оба десятника съезжали на дорогу и спешили на склад, чтобы успеть записать количество и номера брёвен, доставленных возчиками. Проверять размеры не было надобности, так как у них в тетрадках каждому номеру уже соответствовал определённый размер. Вернувшись в домик и пообедав, десятники принимались за канцелярскую работу: Демирский вёл проверку записанных ими данных с данными, отмеченными джангуйдой рубщиков, артельщиком корейцев и артельщиком возчиков. Количество брёвен было важно для рубщиков и спусчиков, хотя для расчётов с последними учитывалось то, которое определяли при подсчёте вывезенного на склад. Возчики получали не со штуки, а с кубатуры доставленного леса, поэтому Борис, как более грамотный и умеющий разбираться в таблицах, определявших объём бревна, занимался этими подсчётами. Раз в неделю Демирский производил расчёты наличными деньгами с артельщиками и джангуйдой. Деньги на участок иногда привозил бухгалтер конторы, иногда же за ними отправлялся кто-нибудь из десятников. Конечно, чаще ездил за деньгами Борис: Василий Иванович понимал его желание, да и необходимость, побывать в Шкотове, ведь Алёшкин всё ещё продолжал оставаться секретарём комсомольской ячейки и должен был присутствовать, хоть и нерегулярно, и на собраниях, и на бюро. Работы для десятников между тем не становилось меньше, а всё прибавлялось, приходилось тратить много времени на посещение лесосеки, которая отодвигалась всё дальше и дальше от домика, да и подсчёты усложнялись и увеличивались – число возчиков непрерывно росло, и это требовало дополнительного времени. Кроме того, нужно было давать еженедельные сводки и в контору, и в лесничество. Десятники выбивались из сил. Вставая в 6 часов утра, они ложились не ранее 12 ночи, работали без каких-нибудь выходных, и Демирский понял, что они так долго не протянут, ведь сразу же по окончании вывозки предстоял сплав, к нему уже надо было начинать готовиться: сколачивать артели сплавщиков, заранее пройти русло реки, расчистив его от топляков и коряг, чтобы предотвратить во время сплава завалы, с которыми потом, в плавную пору, бороться трудно. В этих трудах и заботах пролетел ноябрь, прошла большая часть декабря 1925 года, и вот однажды бухгалтер, доставивший деньги, привёз Борису письмо из дома. Прочитав его, Борис загрустил. До этого он два раза был в Шкотове –приезжал в контору за деньгами, но эти поездки были такими кратковременными, что времени зайти домой не оставалось, и он вынужден был, получив деньги, немедленно возвращаться в лес. В полученном же им письме Анна Николаевна сообщала ему о здоровье всех членов семьи, об успехах младших ребят, о том, что они скучают без своего Бобли, давала множество самых полезных советов по хозяйственным делам, даже передавала привет Демирскому, но ни слова не сказала о том, передала ли она письмо Кате, и как та на него отреагировала. Это-то и вызывало досаду Бориса. Демирский уже несколько дней назад понял, что им с Борисом вдвоём на участке не справиться, нужен был ещё один человек. Он написал докладную об этом заведующему шкотовской конторой Дальлеса Борису Владимировичу Озьмидову, хотел было отправить это письмо с бухгалтером, но затем, заметив состояние Бориса и приписав его переутомлению, решил послать с письмом его. Поручил ему на словах достаточно убедительно обрисовать положение и просить помощи. Эта командировка позволяла Борису пробыть в Шкотове хотя бы сутки, а может быть и двое. – Но не дольше, – предупредил Демирский, – а то я тут совсем зашьюсь. Получив это распоряжение Демирского, Борис за 15 минут собрался в путь, но так как бухгалтера, не особенно торопившегося в Шкотово, нужно было ждать ещё часа два, Борис решил отправиться в путь пешком, на лыжах. Он рассчитывал, что даже в случае непредвиденных трудностей, если верить Мамонтову, эти 10–12 вёрст он сумеет преодолеть за каких-нибудь два часа, и будет в Шкотове раньше, чем бухгалтер отправится в путь. Демирский согласился с его доводами. Вскоре Борис в своей кожаной куртке, под которой, по настоянию начальника, были надеты все имевшиеся рубахи, подпоясанный патронташем, с двустволкой за плечами, в сопровождении Мурзика, уже забирался на хребет, тянущийся к Шкотову, таща лыжи на плечах. А ещё через полчаса он уже скользил на них по чистому снегу, покрывавшему гребень хребта. Леса на нём почти не было, идти было легко, и через полтора часа Борис уже стоял на сопке, возвышавшейся над его бывшей школой, а спустя ещё полчаса он уже входил в свой дом. День был ясный, морозный, и его братишки катались на санках с горки, спускавшейся к линии железной дороги, проходившей около их дома. Завидев старшего брата, они с ликующими криками бросились к нему. Конечно, в этом радостном шуме принял участие и Мурзик, это не осталось незамеченным дома – на крики и лай собаки вышла мама. День этот приходился на воскресенье, и они с Демирским рассчитали так, что в контору Борис явится на следующий день, в понедельник, разрешит волнующий их вопрос и сразу же вернётся в лес. Поздоровавшись с Борисом, Анна Николаевна как-то странно взглянула на него и, ничего не сказав, ушла обратно в дом. От ребят Борис узнал, что папы дома нет: он пошёл к Мищенко играть в преферанс. Яков Матвеевич, выучившись этой игре во время сидения в окопах в Германскую, полюбил её, и хотя его жена и была ярой противницей любых карточных игр, сладить в этом вопросе с ним не смогла и вынуждена была не только иногда отпускать его развлечься у кого-нибудь из знакомых, но и время от времени принимать играющих даже у себя. Как-то незаметно, наблюдая за игроками, что ему иногда удавалось, выучился этой игре и Борис-большой. Повозившись с ребятами около часа, Боря, сославшись на усталость, отправился домой. Ему не терпелось узнать, передала ли мама письмо и каков был ответ. Входя, он сразу спросил: – Мама, ты отдала? Анна Николаевна, сидевшая около окна и штопавшая какую-то вещь из ребячьей одежды, подняла голову и, грустно посмотрев на сына, сказала: – Раздевайся, Боря, садись, поговорим! Борис торопливо сбросил тужурку и, схватив табуретку, уселся на неё напротив матери. Та, продолжая свою работу, не поднимая от неё головы, стала говорить тихим голосом: – Мне кажется, Борис, что ты всё это затеял зря! По-моему, она тебя не только не любит, но и вообще к тебе никакой симпатии не испытывает, я бы советовала тебе всё это бросить! – Мама, да ты мне расскажи всё по порядку. Ты моё письмо-то Кате отдала? – Ну, конечно, отдала! Вложила в какую-то книжку и на одной из перемен, подкараулив её на лестнице, отдала ей книгу. Поблизости никого не было, и я успела ей сказать: «Там письмо, ответ положи в эту же книгу, завтра мне книжку вернёшь». Катя смутилась, покраснела и даже, кажется, не хотела вообще брать от меня книгу, так что мне почти насильно пришлось всунуть её ей в руки. А на следующий день эту книгу в учительскую принесла Таня Неунылова и, отдавая мне её, при всех учителях довольно ехидно произнесла: «Вот, Анна Николаевна, Катя Пашкевич возвращает вам книжку, которую вы ей вчера давали, и просит передать, чтобы вы ей больше книг не приносили». Эту фразу слышали все учителя. Я, конечно, смутилась, вероятно, покраснела, сунула злосчастную книгу в портфель, что-то пробормотав в ответ, и поспешила выйти из учительской. Хотела было я сперва пробрать эту спесивую девчонку, да потом раздумала. Говори уж ты с ней сам, если ещё не совсем потерял голову, я в это дело больше вмешиваться не стану. Выслушав рассказ матери, Борис удивился, обиделся и даже рассердился, он опустил голову и несколько минут молча рассматривал свои сапоги, затем повернулся к матери и почти машинально спросил: – Ну а ответ-то какой-нибудь в книжке был? – Какой ответ?!! В книжке не было ничего. Правда, твоего письма там тоже не было, но я теперь уж и не знаю, кто его взял, может быть, Катя вернула его обратно, а Неунылова (ты же знаешь её) вытащила его, и теперь над ним потешаются всем классом?.. Последнее предположение совсем доконало Бориса. Весь день он был как в воду опущенный. Однако, уже вечером, скрепя сердце и мысленно обещая себе даже не замечать Катю, если её увидит, он отправился в клуб, там было кино. Придя туда и встретив в зале своих комсомольских друзей, Борис старался всеми силами не показать ни своего расстроенного состояния, ни своей тревоги, которую ему внушила мать по поводу пропажи его письма. Среди встреченных им ребят и девчат были и одноклассники Кати, но никто из них никаких шуток или едких замечаний о нём или о ней не отпускал. Борис мало-помалу успокоился, да и не в его характере была длительная ипохондрия. В перерыве после окончания первой части картины, ведь тогда в таких клубах, как шкотовский, перерыв наступал после показа каждой части кинофильма, и иногда длился минут 15, Борис, обернувшись, заметил в одном из задних рядов Катю Пашкевич и Нюську Цион. Они сидели, смеялись и о чём-то весело болтали с сидевшим рядом с ними Катиным одноклассником Витькой Гущиным. Борис поднялся и крикнул им слова приветствия. Они, увидев его, улыбнулись, и Нюська подняла один палец вверх, показав этим, что возле них есть одно место. Уже в темноте он пробрался в их ряд, девушки раздвинулись, и Борис, под шиканье и недовольные возгласы окружающих, втиснулся между ними. Сев, он сейчас же схватил Катю за руку и крепко сжал её. Она не вырвала руки, а, приблизив свои губы к его уху, шепнула: – Что же ты не застрелился-то? А я нарочно ничего тебе не отвечала! Весь гнев, вся обида, державшиеся до этого в груди Бориса, приготовившегося высказать всё своё возмущение этой несносной девчонке тут же, при свидетелях, у него при этом лукавом шёпоте, сопровождаемом пожатием тоненьких пальчиков, зажатых в его руке, моментально куда-то улетучились. И он, ощущая правой половиной своего тела Катино тепло, держа её руку в своей, готов был сидеть так вечно. Левая половина его тела, с такой же теснотой прижатая к Нюське, как будто и не существовала: кроме Кати, он уже не чувствовал и не видел ничего. Вряд ли бы он смог пересказать содержание той кинокартины, которую смотрел в этот вечер. После кино они не остались, как это бывало обычно, на танцы, а пошли домой. Дорогой первая на Бориса напала Катя: – Ты с ума сошёл? Через свою мать вздумал мне письма посылать! Ты что, значит, ей всё рассказал? – Катеринка, да за что же ты сердишься? Что – всё, что я мог рассказать? Только то, что я люблю тебя? Так я об этом готов целому свету рассказывать, кричать даже! Катя, видимо, поняла, что этим «всё» она сказала лишнее, она как бы выдала себя, как будто в их взаимоотношениях и она принимает одинаковое с ним участие. Девушка сообразила, что Борис может о чём-нибудь догадаться, а догадываться, видимо, уже было о чём, и торопливо напала на парня снова: – Я же тебе запретила писать! Почему ты всё-таки написал? Да ещё сообразил переслать письмо через свою маму! Она знает, что ты там насочинял? Пушкин какой! – Да нет же, Катя, честное слово, никто не знает, – растерявшись, оправдывался смущённо Борис. Он, конечно, не осмелился сказать Кате, что это именно мама посоветовала ему послать письмо. Заметив растерянность и смущение Бори, решив, что она достаточно его пробрала, Катя сменила гнев на милость: – Ну ладно, на этот раз я не буду сердиться и позволю тебе иногда провожать меня из клуба, но чтобы ты мне больше не писал и никому обо мне не рассказывал! Борис дал обещание, что это письмо было первым и последним, и как бы в порыве раскаяния, стараясь получше объяснить Кате свою ошибку, вдруг взял её под руку. Это было в первый раз с момента их знакомства. На улице стояла полная темнота, освещения улиц в Шкотове, конечно, не было, луна ещё не взошла. Катя быстро оглянулась, затем посмотрела вперёд и, убедившись, что их никто не видит, отнимать своей руки не стала, а наоборот, теснее прижалась к парню. Узкий деревянный обледеневший тротуар был скользок, и идти по нему рядом можно было только прижавшись друг к другу. Уже перед самым своим домом Катя потребовала, чтобы Борис отпустил её руку. Они попрощались. – Ты надолго приехал? – Нет, послезавтра утром уеду обратно. Да я не приехал, а пришёл на лыжах. Теперь я дорогу знаю, могу быстро добраться! – Пешком!? Из Стеклянухи? Врёшь! – Да честное же слово! На лыжах, прямо по хребту. – Зачем же ты пришёл? Борис, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не соврать: – Тебя повидать! Ответ, хотя и понравился Кате, но она сразу же поняла, что это очередное Борькино хвастовство: – Не ври, так я тебе и поверила! – Что же, не верь, а я теперь часто так приходить буду! – Ну-ну, посмотрим! Ой! – полушёпотом сказала Катя, – у нас кто-то во двор вышел, ещё увидят тебя, уходи скорее! – она вырвала руку, которую Борис при прощании задержал в своей, юркнула в калитку и быстро захлопнула её. Борис, оставшись стоять возле ворот, услышал её быстрые шаги, удаляющиеся от ворот, и затем громкий разговор с кем-то, находившимся во дворе. Он поспешил отойти от Катиного двора. «Нет, мама неправа. Наверно, Катя всё-таки меня любит, только не хочет этого показать, проверяет меня. А чего меня проверять? Теперь мне, кроме неё, никого на свете не надо». – Никого! – громко повторил Борис и, полный счастливых мыслей, побежал домой. На следующий день он сравнительно быстро закончил все свои служебные дела: сдал отчёт о количестве заготовленного леса и, получив одобрение Озьмидова, передал ему письмо Демирского с просьбой о направлении на участок третьего десятника. Когда заведующий ознакомился с содержанием письма, то Борис, со своей стороны, поддержал просьбу своего начальника, подтвердив сложность работы, разбросанность участков и невозможность двоим всюду своевременно попасть. Он ожидал, что Озьмидова придётся долго убеждать в этом вопросе, но оказалось не так. Как раз в это время в конторе находился свободный десятник, закончивший работу на одном из предприятий Дальлеса и присланный в шкотовскую контору для дальнейшей службы. Пока для него ничего подходящего не нашли, и просьба Демирского пришлась кстати. Звали этого десятника Сигизмунд Янович Томашевский. Узнав от Ковалевского, который знакомил Бориса с новым товарищем по работе, что Томашевский поляк, Борис, желая проверить, не забыл ли он язык, на котором свободно говорил пять лет тому назад, заговорил с ним по-польски. Конечно, как всегда, в этом его поступке была и известная доля хвастовства. Ковалевский, услышав, как Борис начал свою речь, выразил удивление, а это для Бориса стало большой наградой. Сигизмунд так обрадовался, услышав родную речь, что схватил Борю в объятия и громко восклицал: – Пан ест поляк? О як бардзо пшиемно! Бардзо пшиемно! Этот разговор ускорил назначение Томашевского. Он согласился немедленно же ехать в Стеклянуху. Везти нового товарища на лыжах Борис не решился, тем более что внешне Сигизмунд выглядел очень неважно – он был худ и бледен. Оказалось, что совсем недавно он перенёс воспаление легких, вследствие чего, собственно, и вынужден был оставить прежнее место работы, находившееся в районе Совгавани, и попроситься о переводе в более тёплый район. Условились, что завтра они поедут на специально нанятой подводе. Закончив дела в конторе, Борис побывал в райкоме РЛКСМ, поговорил со всеми его работниками: с Гришей Герасимовым, с Володей Кочергиным, с председателем бюро юных пионеров Манштейном и с секретарём райкома Смагой. Последний пробрал Бориса за то, что тот в последний месяц почти совсем забросил комсомольскую работу в шкотовской ячейке, свалив её на своих помощников, членов бюро. Он немного поостыл только после того, как выслушав Бориса, узнал, какая тяжёлая работа сейчас у них в лесу, и что это положение продлится ещё не больше месяца. Тем не менее Смага тут же написал записку секретарю ячейки РКП(б) конторы Дальлеса товарищу Кочану с просьбой отпускать Алёшкина в Шкотово не реже чем раз в неделю регулярно. Борис, хотя и понимал, что это требование не очень-то обрадует Демирского и заведующего конторой, но в душе ликовал: ведь таким образом он получал возможность еженедельно видеться с Катей, а это ему казалось в данный момент самым главным в его жизни. В конторе Борис получил жалование за прошедший месяц для себя и Демирского, поэтому, выйдя из райкома, направился к знакомым китайским лавочникам и закупил целую кучу различных продуктов питания и папирос. Закончив с покупками, нагрузившись ими, он отправился домой. Конечно, он не забыл своих братишек и сестрёнку: купил и им имевшихся в китайских лавках немудрёных сладостей. За всеми этими заботами и хлопотами день пролетел быстро. Стемнело. Перед Борисом возник вопрос: «Как увидеть Катю?» Часов в 8 вечера, взяв с собой Мурзика, Борис вышел и начал прогуливаться по главной улице села мимо дома Пашкевичей. Он успел пройти всего два раза, как вдруг калитка в воротах их дома открылась и из неё выскользнула худенькая девичья фигурка в валенках, в тоненьком ситцевом платьице, укутанная в большую, очевидно, материнскую, шаль. Борис с первого же мгновения узнал Катю, и ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы подбежать к ней. Она, пугливо оглянувшись, прижала пальчик к губам, предупреждая его, чтобы он не говорил, и чуть слышно произнесла: – Уходи, пожалуйста, от нашего дома, иди к гарнизону. Я скоро выйду и тоже пойду туда. Я сказала, что мне в школу надо пойти… Борис послушно кивнул головой и, радостно махнув девушке рукой, быстро зашагал от Катиного дома. Но в это время к Кате подбежал Мурзик и, узнав её, радостно залаял и запрыгал около неё. Она, испугавшись поднятого собакой шума, торопливо вернулась во двор и захлопнула калитку. Выйдя на улицу, ведущую в сторону гарнизона, Борис начал замедлять шаги. Его тревожила мысль: «А вдруг Катя не выйдет, и сказала это только для того, чтобы отвязаться от меня?» Но, обернувшись назад, он увидел, что девушкаего не обманула и уже быстро идёт по этой же улице, правда, по противоположной её стороне. Вскоре она поравнялась с ним. Он, конечно, хотел перебежать улицу и подойти к ней, но она помахала ему рукой, показывая, чтобы он не приближался. Борис возмутился, но скоро опомнился: они в это время проходили как раз мимо дома Михайловых, Катиных ближайших родственников, которые особенно часто доносили её матери о встречах с Борисом Алёшкиным, если им удавалось где-нибудь их увидеть вместе. Он согласно кивнул головой и с самым независимым и как будто безразличным видом продолжал идти по своей стороне, даже не глядя в сторону Кати. Её опасения оказались ненапрасными: стоило ей только поравняться с домом Михайловых, как из калитки выскочила её ровесница, тоже Катя и, оглядываясь по сторонам, спросила: – Куда это ты направилась? И почему одна? Я думала, что ты с Борькой Алёшкиным гуляешь, ведь сегодня ни в школе, ни в клубе ничего нет! К счастью Кати, Борис успел отойти уже довольно далеко, и в темноте Михайлова не могла его разглядеть, да и Мурзик успел уже убежать вперёд. Она придумала какую-то более или менее правдоподобную историю своей ночной прогулки и, отмахнувшись от назойливой родственницы, торопливо зашагала в сторону гарнизона. Вскоре она парня догнала, и они несколько часов гуляли по заснеженной дороге, идущей через гарнизон. Ещё с обеда пошёл снег, поднялась небольшая метель, к вечеру усилившаяся, снег слепил глаза, и Кате невольно пришлось позволить Борису взять себя под руку. Он был на вершине счастья от того, что мог её крепко держать возле себя, и совсем не замечал испортившейся погоды. Она, доверчиво прижавшись к Боре, болтая с ним о самых разных пустяках, которые таким влюблённым парочкам кажутся важными и серьёзными темами, как будто тоже не обращала внимания на сыпавшийся снег. Единственный, кто в этой компании чувствовал себя неважно, был Мурзик: облепленный снегом, то и дело отряхиваясь и фыркая, он уныло брёл за своим хозяином, опустив голову и поджав пушистый хвост. Так бродили они, вероятно, часа три, и Борису стало понятно, что какие бы слова Катя ни говорила, как бы ни отрицала она свои чувства к нему, но она его полюбила так же, как и он, а может быть, ещё сильнее и беззаветнее. Сердце Бориса бешено колотилось в груди, и он не знал от чего: то ли от переполнявших его чувств, то ли от того, что оно после недавно перенесённой тяжёлой болезни было не таким выносливым, как раньше. Мурзику прогулка до того надоела, что он уже совсем нетерпеливо начал тыкаться мокрым холодным носом то в Борины, то в Катины ноги. Этим он заставил девушку спохватиться, и она испуганно сказала: – Ой, Борька, что же мы наделали? Ведь я дома сказала, что через час вернусь, а наверно, часа два прошло! Пойдём скорее домой, да я и замёрзла совсем. А она, действительно, была одета очень легко. Борису даже стало стыдно, что он об этом не подумал, ведь он-то был одет в тёплый полушубок, красноармейский шлем и ичиги, набитые соломой. Правда, под полушубком на нём был старый поношенный юнгштурмовский костюм, порядком-таки уже маловатый, но, конечно, его одежда была гораздо теплее Катиной. Подойдя к воротам и приотворив калитку, Катя убедилась, что во дворе их дома никого нет, и, протянув Борису руку, которую он крепко ухватил, торопливо выдернула её, видимо, опасаясь, что под влиянием сегодняшнего разговора, во время которого Борис не уставал клясться в своей любви, а Катя отделывалась неопределёнными междометиями, но в тоже время и не выражала открытого протеста, Борис может решиться на что-нибудь большее, чем простое рукопожатие. Она скользнула в приотворённую калитку, и когда он рванулся за ней, захлопнула её перед самым его носом. Борис услышал лукавый смешок, и уже такие знакомые и почему-то очень дорогие шаги удалявшейся от ворот девушки. Он не вытерпел, приоткрыл калитку и заглянул внутрь двора. Катя услыхала скрип отворяемой калитки, увидела голову парня, просунувшуюся в образовавшееся отверстие, сердито погрозила ему и быстро взбежала на крыльцо.Глава четвёртая
Почти всю обратную дорогу в Стеклянуху Борис бежал рядом с санями. Мороз после стихшей метели усилился, а одет он оказался очень легко. Дело в том, что у Томашевского совсем не имелось тёплой одежды (спецодежду ему обещали выслать в лес), а его демисезонное пальто, в особенности, после перенесённой им болезни, для такой поездки, конечно, не годилось. По возрасту он был не намного моложе Демирского, и поэтому Борис, сжалившись над ним, отдал ему свой полушубок, а сам надел кожаную куртку, и, конечно, сидеть в ней на санях мог только по несколько минут. Так они наперегонки с Мурзиком и бежали возле саней, заваленных продуктами и инструментом, полученным в конторе. Томашевский, закутавшись в полушубок, дремал, обложенный мешками и свёртками. Он не любил мороз, суровость русских зим его пугала, он не мог к ним привыкнуть. Борис уже успел узнать: пан Томашевский в 1915 году вместе с родителями при наступлении немцев бежал из Польши и в поисках более тёплого климата очутился на Дальнем Востоке. Родители его умерли. Он успел окончить гимназию, но после их смерти остался без всяких средств к существованию. Как иностранца-поляка, белогвардейцы его не трогали, и он работал конторщиком на каком-то частном предприятии. С приходом советской власти хозяин сбежал, а все его бывшие служащие, в том числе и Томашевский, оказались без работы. С открытием биржи труда он зарегистрировался там и при наборе Дальлесом десятников, как грамотный человек, был принят на эту должность. О дальнейшей его службе в Дальлесе мы уже рассказывали. Теперь его мечтой было сколотить немного денег и уехать на родину. Проезд туда его не затруднял: у пана Сигизмунда был польский паспорт отца, в котором был записан и он. – Там и климат лучше, и люди добрее, и хлеб вкуснее! – говорил он. Возница-старичок, недавно принятый на работу в контору Дальлеса, молчал, лишь покрикивал на лошадь. Борису, то бегущему за санями, то вскакивающему на них, никто не мешал предаться полностью своим мыслям. А мысли его были связаны, конечно, с Катей, с тем разговором, который состоялся у них в первую же встречу. Ведь мы помним, что только они вышли из клуба и сумели отделиться от остальных парочек, как Катя набросилась на Бориса с упрёками, сводившимися, в основном, к тому, что он втянул свою мачеху в их взаимоотношения. Между прочим, эта же тема была главной в их разговоре и на следующий вечер. – Что она теперь обо мне подумает? – восклицала девушка. – Ты знаешь, как мне было стыдно, когда она всунула в руки книгу с письмом? Я готова была провалиться сквозь землю! И как это она решилась взять такое поручение от тебя? Нет, ты не оправдывайся, а лучше признайся, что хотел посмеяться надо мной, к этому и свою мать привлёк, да? Эх, ты! – возмущённо отчитывала она Бориса. Немало пришлось ему потратить слов, чтобы убедить рассерженную и, видимо, действительно обиженную Катю: он и не предполагал, что его письмо может так оскорбить её. – Да пойми ты, – возмущалась та, – дело вовсе не в письме, а в том, каким способом ты его решился мне отправить! К удивлению девушки, эта её последняя фраза, сказанная, очевидно, в момент сильной запальчивости, не только не обидела Бориса, а наоборот обрадовала, ведь в ней она признавалась, что получать от него письма со словами любви для неё совсем не неприятно! И это его обрадовало, это было равносильно признанию того, что между ними завязались какие-то близкие отношения. Он так ей и сказал. Заметив, что она невольно выдала себя, Катя не нашла ничего лучшего, как рассмеяться и сквозь смех произнести: – Ну и аферист ты, Борька! Недаром про тебя слухи ходят, что ты любой шкотовской девчонке можешь голову скрутить! Наверно, и мне от тебя не отделаться, но если об этом узнают мои родные… В конце концов, их примирение состоялось, и, расставаясь в последний вечер, они уже, кажется, оба сожалели о разлуке. Затем мысли Бориса перекинулись на другое. Он удивлялся сам на себя: в пылу спора Катя наговорила ему столько нелестных и обидных, а главное, совершенно несправедливых слов, что если бы он услышал их, или даже только половину того, что было сказано, от какой-нибудь другой девчонки, то прекратил бы с ней всякое знакомство. А тут он не только не подумал о разрыве и прекращении дружбы, но всё время боялся, как бы Катя не разорвала её сама. Когда она, наконец, выговорилась и, основательно отругав его, пошла на мировую и дала ему понять, что согласна его простить, он был так счастлив, как будто она его одарила невесть чем! Борис ещё в лесу, и тем более в Шкотове, всё серьёзнее и серьёзнее задавал себе вопрос: «А что же дальше? К чему приведёт продолжение нашей дружбы с Катей? Так и останемся друзьями или у нас появится такая же связь, какая у меня уже была в Новонежине?» – и он тут же отметал от себя эти грязные мысли: «Катя не такая, так с ней я поступить не могу! А между тем без неё я уже тоже не могу, значит, я обязательно женюсь на ней. Да-да, что бы там ни говорила мама, я согласен ждать год, два – сколько нужно, но я должен на ней жениться!» Конечно, даже заикнуться об этом Кате он бы ещё не посмел, но в душе уже твёрдо решил, что эти отношения могут закончиться только женитьбой. Так, в этих думах и прыжках на сани и обратно пролетела незаметно дорога. Вскоре показался их маленький домик. Из трубы его вился белый дымок, отчётливо видимый на фоне яркого голубого неба. Солнце ещё не успело скрыться за грядой сопок, а Демирский уже был дома. «Быстро же он сегодня управился», – подумал Боря. Мурзик умчался вперёд и своим звонким лаем возвестил о приближении приехавших. Услыхав этот лай, Демирский открыл дверь и вышел навстречу. Занеся в домик привезённые припасы и распростившись с возчиком, который отправился ночевать в Стеклянуху, чтобы на следующий день вернуться в Шкотово, Демирский, наконец, тоже зашёл в помещение. Тем временем Борис и Томашевский уже успели раздеться и грелись около топившейся печки. У двери лежал Мурзик и, яростно ворча, выкусывал сосульки, образовавшиеся между пальцами его лап. Оказывается, начальник участка не зря вернулся раньше обычного времени: предвидя появление нового товарища, он установил в домике ещё один топчан. Этот топчан явился как бы продолжением того, на котором спал Алёшкин, и таким образом, Борис и Томашевский должны были спать ногами друг к другу. Они оба не отличались высоким ростом, и на этом двойном ложе вполне умещались. Сам же Демирский, высокий и длинноногий, своим топчаном занимал гораздо более половины противоположной стены.* * *
С прибытием Томашевского работать стало значительно легче. Теперь постоянно один из десятников, по очереди, оставался дома и с утра занимался приготовлением еды – обеда, который обычно служил и ужином. Дежурный обязан был заботиться и о добыче мяса для приготовления пищи, это достигалось охотой. К вечеру он отправлялся на склад и подсчитывал вывезенный туда лес. А в это время двое других работали в лесу, наблюдая за рубщиками, производя замер разделанных брёвен и подсчёт их, следя за тем, чтобы спускались все брёвна, а возчики своевременно их вывозили и, наконец, руководя ремонтом дороги. Последняя, несмотря на хорошую укатанность и достаточное количество снега, всё же требовала постоянного ухода и починки, особенно её многочисленные мостики. Дежурный превращался в охотника потому, что звери, напуганные шумом, поднятым в местах вырубки, метались по нижней части пади, где было относительно тихо, и, кроме проезжавших возчиков, народ не появлялся. Очень часто испуганную козу, а то даже и оленя, можно было увидеть возле самого домика десятников. Самым лучшим охотником был, конечно, Демирский, во время его дежурства в домике всегда вкусно пахло свежей жареной козлятиной или даже олениной. Козы обычно хватало дней на 4–5, и поэтому следующим дежурным приходилось легче. Впрочем, обычно большую часть добычи десятники отдавали или рубщикам китайцам, или корейцам, занимавшимся спуском брёвен. Сами они ели мясо, как говорил Томашевский, от пуза – то есть, сколько влезет. Кстати сказать, так отъедались не только люди этого домика, но и четвёртый их товарищ, Мурзик: его полюбили все трое, и каждый старался бросить ему и лишнюю косточку, и лишний кусочек. В результате пёс потолстел и значительно вырос. Он теперь напоминал хорошего телёнка, и на него с завистью посматривали приходившие к десятникам корейцы. Они, как известно, собачье мясо считали большим лакомством. Но надо отдать справедливость Мурзику, он свои обязанности выполнял тоже с большой добросовестностью, и стоило только кому-нибудь чужому появиться около домика, как он заливался таким звонким лаем, что подымал на ноги всех. Однажды один из стеклянухинских мужиков-возчиков решил поживиться козлиной ногой, висевшей на суку небольшого кедра, росшего около домика (такое содержание мяса в замороженном виде было наилучшим способом его сохранения), и похититель чуть не поплатился за это своим полушубком. Услышав неистовый лай собаки, с яростью рвущейся в дверь (уже давно Мурзик ночевал не в конуре, а в домике), Демирский, схватив ружьё, выскочил на улицу. Он подумал, не медведь ли пожаловал в гости. Конечно, как только открылась дверь, Мурзик выскочил первым и стремглав бросился по дороге, ведущей к деревне. Через несколько секунд там раздался отчаянный крик человека и яростный лай Мурзика. Демирский бросился туда. Он увидел (а ночь была лунная, ясная) следующую картину: на дороге лежал человек, закрывавший голову воротником полушубка, около него валялась козья нога, а на нём сидел Мурзик и, грозно и злобно рыча, рвал зубами воротник и спину полушубка. Демирский подошёл, отозвал собаку и пинком ноги поднял обезумевшего от страха мужика. Тот, как потом выяснилось, не разглядев со страху и неожиданности Мурзика, принял его за какого-то дикого зверя и решил за лучшее бросить ему украденную ногу, а самому свалиться и закутаться в полушубок. Демирский отчитал незадачливого вора и сказал: – Эх ты, чудак, да ты лучше бы пришёл, да попросил, мы бы тебе и так дали, а теперь вот будешь неделю полушубок чинить. Забирай эту ногу, ступай домой, да запомни, что у нас брать без спросу ничего нельзя, да и соседям своим скажи. Этот случай вскоре стал, конечно, не без помощи наших друзей, достоянием всех работавших на участке. Артельщик даже приходил извиняться за поступок, совершённый одним из членов его артели, при этом он сказал: – Это не наш, не дальневосточный… У нас ведь такого и в помине не бывало! Никто хат не запирает, а этот недавно к родственникам откуда-то из Рассеи приехал, ну и непривычен ещё к нашим порядкам. Видит, что мясо висит – его и потянуло. Мы его хотели было всей артелью проучить, да председатель совета запретил. «Если, – говорит, – десятники что против иметь будут, так пущай, дескать, в суд подают». Вот я и пришёл, уж больно позору много на деревню будет, если в суд-то… Демирский, выслушав эту речь, при которой присутствовали и его товарищи, только рассмеялся: – Какой суд? Вот чудаки-то, я ведь ему отдал эту ногу-то, ну и пусть ест на здоровье! Да запомнит, что кража здесь может кончиться плохо, и до суда не дойдёт. Томашевский тоже оказался неплохим охотником. Он специализировался на фазанах. Мы уже говорили, что недалеко от домика находилась пашня стеклянухинских крестьян, а чуть дальше располагалось и гумно. В отличие от пашни, разделённой на полосы, принадлежавшие своему хозяину, гумно было общественное, владела им вся деревня, и в период обмолота на нём молотили всем «обчеством», беря на это время молотилку комитета в Шкотове. Зимой на этом току под снегом лежало немало рассыпанного зерна и невымолоченных колосьев. Фазаны уже много лет пользовались этим гумном, подкармливаясь на нём зимой. Деревенские охотники, хотя их в Стеклянухе и было-то мало, фазанов стоящей дичью не считали, поэтому стаи их безбоязненно кормились на гумне. Томашевский, узнав от Бориса об этом «пастбище» фазанов, в своё дежурство часто отправлялся на гумно и почти всегда приносил несколько птиц. Фазаны добавляли приятное разнообразие в меню наших лесных жителей. К нашему огорчению, мы вынуждены признать, что самым неудачливым охотником оказывался Борис Алёшкин. Ещё в ранней юности, у Стасевичей, он принимал участие в охоте на зайцев и волков и особого удовольствия от этой забавы не испытывал. Ему было жалко убиваемых животных, хотя, конечно, он в этом никогда бы не признался. Так и тут – увидев мирно пасущихся фазанов, Борис редко поднимал ружьё для того, чтобы убить беззащитную птицу, и делал это только тогда, когда в домике не было совсем мяса, и он знал, что если не приготовить еды, его товарищи останутся голодными. Поэтому он никогда не убивал больше одной птицы. И хотя Томашевский часто подтрунивал над его немногочисленными трофеями, Борис сносил эти насмешки довольно спокойно. Но однажды и с ним произошла довольно опасная история, чисто случайно, к его счастью, окончившаяся для него благополучно. Сварив суп из остававшейся козлятины, Борис решил пойти подстрелить фазана, чтобы зажарить его на второе. К гумну можно было подойти двумя путями: по наезженной дороге через склад – более длинной, и более короткой – напрямую через заросли ивняка и орешника. Времени у Бориса было мало, и он решил пройти коротким путём. Так как, кроме тех кустов, о которых мы упомянули, в этом месте росло и чёртово дерево, то путь этот оказался довольно трудным, поэтому, когда под ногами оказалась дорожка, вернее, тропка, ведущая к излучине протекавшего у домика ручья, то Борис, уже уставший продираться через колючие заросли, решил её использовать. Он справедливо рассудил, что эта тропа, наверно, протоптана какими-нибудь животными, идущими ночью по ней на водопой. Решив, что это, скорей всего, должны быть олени, он даже мечтал, что, может быть, один из них станет его добычей, и пожалел, что все патроны у него заряжены только дробью, а пули остались дома. Он сравнительно быстро продвигался к ручью, как вдруг за одним из поворотов тропинки услышал какое-то сопение и звуки, чем-то напоминавшие хрюканье свиньи. Борис остановился, не успев дойти до поворота шагов 5– 6. Вдруг оттуда выскочил огромный кабан. Зверь, увидев человека, остановился и не то захрюкал, не то заревел. Парень, испугавшись, на некоторое время остолбенел, потом, даже не соображая хорошенько, что делает, поднял ружьё и выстрелил в морду кабана сразу из обоих стволов. Зверь присел, отскочил, мотая головой, в сторону от тропинки и провалился в глубокий снег. Продолжая реветь и мотать головой, с которой капала кровь, кабан пытался выбраться на твёрдую тропинку, но вместо этого почему-то повернулся к ней задом и всё глубже увязал в снегу и прикрытой им болотистой почве, окружавшей ручей. Борис, опомнившись от первого страха, повернулся и, забыв уже про всякую охоту, что было духу помчался домой, вновь продираясь через густые заросли. Он понимал, что дробь, попавшая в морду кабана, причинила ему вреда не больше, чем укусы комара, и что, как только тот выберется на тропинку, помчится вдогонку за своим обидчиком. Прибежав, запыхавшись и основательно ободравшись о кусты, он своих товарищей застал уже дома. Увидев его растерзанный и испуганный вид, оба мужчины всполошились. Особенно испугался Демирский: он привык к парню и относился к нему как к сыну или младшему брату. На беспорядочные вопросы, посыпавшиеся на него, Борис, еле переводя дух, ответил: – Там кабан, я его подстрелил! Он, наверно, в кустах! Томашевский рассмеялся: – Это дробью-то кабана подстрелил? Не чуди, Боря, этого кабана уже давно и след простыл! Напугали вы друг друга: ты его своими выстрелами, а он тебя свирепостью и видом. Успокойся, садись, да поешь супа, он у тебя вкусный получился. Однако, Демирский, азартный охотник, к словам Бориса отнёсся не так: – А может, он его всё-таки подранил, хоть и дробью? А может, кабан, сойдя с тропы, в снегу увяз? Ешь скорее, Борис, и пойдём, пока ещё не совсем стемнело, твою добычу поищем. Зарядишь двустволку патронами с пулями, я возьму свой винчестер. Вдвоём-то мы с тобой и с медведем справимся! А вы, тем временем, пан Томашевский, сходите на склад, произведите подсчёт вывезенного леса, а то наш охотник этого сделать, конечно, не успел. Через полчаса Демирский и Борис были на месте происшествия. Парень показал поворот, из-за которого вышел кабан, куда он прыгнул после его выстрелов. Действительно, шагах в четырёх от тропинки снег был истоптан, местами на нём виднелись капли крови, от этого места вглубь чащобы тянулась полоса сломанных кустов и виднелись следы кабаньих ног, глубоко проваливавшихся в рыхлый снег. Они пошли по этому следу. Не успели они сделать и сотни шагов, как услышали сопение и какое-то повизгивание животного, а ещё через несколько мгновений увидели и самого кабана. Он сидел на снегу и, мотая головой, сопел и как-то жалобно хрюкал. До него было не более двадцати шагов. Он, очевидно, учуял людей, но или дорога по глубокому снегу его так измучила, или ранение было более серьёзным, чем можно было предположить, но зверь сделал только слабую попытку приподняться и опять плюхнулся на снег. Недолго думая, Демирский сбросил с плеча винчестер, прицелился, выстрелил, затем второй раз. Кабан захрипел и повалился на бок. Когда они осторожно приблизились к огромному зверю, он был уже мёртв. Демирский размотал предусмотрительно захваченную им с собой толстую верёвку, они обвязали кабана вокруг туловища у передних ног, впряглись в образовавшиеся лямки и медленно потащили зверя к дороге. По расчётам Демирского, до неё было совсем недалеко, так и оказалось. Протащив тяжёлую тушу с невероятным трудом через заросли шагов двести, они вышли на проезжую дорогу и тут, уже с меньшими усилиями, поволокли её к своему домику. Приближаясь, услышали приветственный лай Мурзика. Отправляясь на охоту, его всегда оставляли дома: охотничьей собаки из него, при всём старании Демирского, так и не получилось. Дверь отворилась, и навстречу им вышел Томашевский. Мокрые от пота, почти совершенно обессилевшие охотники, бросив огромного зверя около двери домика, в изнеможении сели прямо на снег. Томашевский с удивлением рассматривал кабана и время от времени громко высказывал своё восхищение. Выскочивший вслед за ним Мурзик осторожно приблизился к зверю, причём шерсть его поднялась дыбом, он злобно заворчал и поджал хвост. Решили разделать кабана в этот же вечер. Оставлять его на улице было нельзя – он бы замёрз, а после этого снять с него шкуру стало бы просто невозможно. Выпив горячего чаю и покурив, принялись за работу. Её пришлось делать при свете фонарей «летучая мышь», и заняла она более двух часов. Наконец, дело было сделано: шкура снята, голова отделена от туловища, которое выпотрошили и разрубили на несколько частей. Рассматривая голову, Демирский воскликнул: – Так вот почему он не ушёл! Ты, брат, своею дробью ему глаза выбил, он ослеп, и поэтому вертелся на одном и том же месте. Между прочим, это-то тебя и спасло, вряд ли бы ты от него сумел убежать. Коммуна охотилась только тогда, когда нуждалась в мясе, а теперь, получив чуть ли не 12 пудов свинины, стала придумывать, что же с ней делать. Голову и внутренности, а также и обе передние ноги с грудинкой Демирский предложил отдать рубщикам-китайцам: джангуйды кормили рабочих очень плохо, несколько пудов мяса им были бы очень кстати. Одну заднюю ногу и седёлку решили заморозить и оставить для себя, а вторую Василий Иванович предложил Борису отвезти домой – все единогласно признали, что кабан всё-таки его охотничий трофей. Шкуру кабана выпросил Томашевский, сказав, что он увезет её к себе в Польшу, и она будет ему постоянно напоминать о его друзьях. Всё так и сделали. Нечего и говорить, как обрадовались такому неожиданному подарку китайские рабочие. Он пришёлся тем более кстати, что вскоре наступал у них большой праздник – китайский Новый год. А в этот праздник свинина, и в особенности голова, считалась у них таким же традиционным кушаньем, как у европейцев рождественский или новогодний гусь. Правда, их фактические хозяева, джангуйды, обещались им купить двух поросят, но что значили эти подсвинки для артели в сто с лишним человек! А полученные в подарок части кабана явились хорошей добавкой.Глава пятая
Заведующий шкотовской конторой Дальлеса не мог, да и не хотел ссориться с районными организациями, поэтому он, хоть и без большого удовольствия, но просьбу Смаги – секретаря райкома РЛКСМ выполнил и дал указание Демирскому каждую пятницу отпускать Алёшкина в Шкотово, конечно, предоставив тому добираться до райкомовского села, как ему удастся. Освоив дорогу на лыжах через хребет, Борис проблемы в дороге не видел. Правда, зная о большой загрузке всех на лесоразработках, понимая, что его отсутствие может отразиться на выполнении самых нужных работ, или, во всяком случае, значительно осложнит положение его товарищей, Борис и сам не всегда пользовался своим правом. И как ему ни хотелось лишний раз увидеться с Катей, а, честно говоря, всего больше его влекло в Шкотово именно это, он уходил из леса не чаще, чем раз в две недели. Само собой разумеется, что после каждого комсомольского собрания, проведённого Борисом, он до поздней ночи бродил по селу с Катей. Как-то так получилось, что они всё более и более сближались. То ли на это повлияла сравнительная редкость этих встреч, то ли упорство и настойчивость Бориса, а, может быть, и всё это вместе сделало своё дело. Теперь Катя не избегала встреч с ним, не стеснялась сидеть с ним рядом в кино и ходить под руку по улице, не обращая внимания на укоризненные взгляды двоюродных сестёр. Борис был счастлив!* * *
К концу марта работа по рубке и валке леса закончилась, но вывозка его к речному складу находилась в самом разгаре. Демирский увидел, что до вскрытия рек Стеклянухи и Цемухэ имевшаяся артель возчиков явно не справится, и часть срубленного леса может остаться у дороги, которая, кстати сказать, уже начала портиться. Он поехал в Шкотово, чтобы там попытаться набрать ещё хотя бы с десяток подвод. К этому времени закончился ход сельди, и шкотовские крестьяне, издавна промышлявшие рыболовством, вернулись домой. Демирский надеялся их уговорить подработать в лесу. Вывозка леса была выгодным делом: позволяла заработать довольно солидные деньги. Его поездка в Шкотово оказалась успешной, и когда он через несколько дней возвратился, то следом за ним ехало 12 подвод шкотовских крестьян. Желая побольше заработать и не тратить время на дополнительную дорогу до Стеклянухи, эти крестьяне поселились в землянке, оставшейся после ухода с участка китайцев-лесорубов. В числе вновь прибывших возчиков, которые потребовали расчётов индивидуальных, а потому и были переписаны по фамилиям, Борис увидел знакомые имена Мамонтовых, Калягиных и Пашкевич. Естественно, что его заинтересовала именно последняя фамилия. В первое же своё посещение Шкотова он узнал, что этот Пашкевич – брат Кати, Андрей. Вскоре, в процессе работы Борис познакомился с этим высоким, черноволосым, общительным человеком лет 28. Узнав, что десятник, часто принимавший от него брёвна, не кто иной, как Борис Алёшкин, слух об ухаживании которого за его сестрой вызывал неодобрительные разговоры с Катей со стороны матери и насмешки со стороны сестёр, Андрей решил приглядеться к этому парню, про которого в Шкотове ходило немало всяких сплетен и толков. Он увидел, что этот парнишка дело своё знает и обмануть себя не даст. Некоторые из вновь прибывших пытались привезти на склад ранее забракованные брёвна, по ошибке спущенные корейцами к дороге, но их обман всеми десятниками, в том числе и самым молодым, раскрывался, и такие «трудяги» за привезённый брак не получали ни копейки. Заметил Андрей и то, что Борис очень ловко и точно производит замер привезённых брёвен, подсчёт кубатуры, и никогда не старается хоть как-нибудь обсчитать возчиков, в чём, между прочим, не раз был уличаем Томашевский. Приглядываясь к Борису со своей хитроватой улыбкой, Андрей всё более и более убеждался, что парень этот работящий, грамотный, и что разговоры, идущие у них в доме, если и имеют под собой почву, подтверждая встречи Алёшкина с его сестрой, во всём же остальном сильно преувеличены. Эти взгляды, а иногда и довольно каверзные вопросы, задаваемые Андреем, Бориса смущали, и он чувствовал себя очень неловко. Он уже, конечно, догадывался о том, что в семье Кати разговоры о нём и о ней идут, поводов для этого было предостаточно: её сестрёнки не раз видели их вместе, и не только в клубе, но и на улице. Всегда подливали масла в огонь Михайловы, да и старшая сестра Людмила Сердеева перед отъездом на север тоже успела кое-что рассказать Андрею, пользуясь сведениями, полученными от своего мужа, с которым ещё в Новонежине Борис был вполне откровенным. Андрей, который, как мы узнаем впоследствии, являлся, по существу, главой этой семьи, считал своим долгом внимательно приглядеться к человеку, который считался чуть ли не официальным ухажёром за его сестрой. Но ни его личные наблюдения за Борисом, ни расспросы про него Томашевского и Демирского, которые он делал очень искусно, ничего порочащего этого парня не выявили. К концу работы Андрей стал относиться к Алёшкину вполне дружески. Борис запомнил такой случай. Он дежурил по домику. Как на грех, все продукты, в том числе и кабаний окорок, закончились, охота уже прекратилась, а нужно было приготовить обед. Пройдя на склад, чтобы замерить и сосчитать привезённые с первыми двумя возками брёвна, Борис встретился с Андреем. Произведя необходимую работу, он задумчиво направлялся к своему домику. Кроме рисовой каши, которую он уже сварил, кормить своих товарищей было нечем. Его догнал Андрей. Увидев загрустившего парня, он спросил: – Чего ты нос повесил? – Да чего! – немного сердито ответил Борис. – Не знаю, чем кормить своё начальство: мясо кончилось, картошка тоже. В Шкотово бы надо съездить, так некогда. Демирский сказал, что раньше, чем через неделю, и думать нечего. Обижаться будут… – Постой, друг, не грусти, сейчас что-нибудь сообразим, – сказал Андрей, и через несколько минут вышел из своего зимовья с несколькими морожеными селёдками и котелком картошки. – Вот, на, чисти картошку, ставь варить, а я селёдку приготовлю по-нашему, по-рыбацки! Никогда не ел? – Да нет, не приходилось… – Ну, сегодня попробуешь. Уксус у вас, я видел, есть, соль также, так что приготовим всё в лучшем виде. Пока Андрей чистил селёдку, Борис успел почистить и поставить вариться картофель. Он увидел, что после того, как рыба была очищена и выпотрошена, Андрей снял с неё кожу, убрал хребет и, нарезав на мелкие кусочки, сложил в глубокую миску. Накрошил туда же лука, посолил и залил всё это уксусом, затем накрыл миску тарелкой и, заявив, что кушанье должно настояться около часа, пообещал, что оно всем придётся по вкусу. Откровенно говоря, Борис не очень-то доверял тому, что эта еда может понравиться. Сырая селёдка – что тут может быть вкусного? В глубине души он даже пожалел, что не попросил эту рыбу у Андрея, чтобы изжарить её, но тот, видимо, почувствовав недоверие, похлопал парня по плечу и сказал: – Не думай, ругаться не будут! Пока варилась картошка и мариновалась селёдка, они сидели на бревне, сваленном кем-то около домика. На улице стояла настоящая весна, большая часть сопок уже полностью очистилась от снега и стала покрываться зелёной бархатистой травкой и первыми цветами. Солнце припекало так, что в полушубках, в которых сидели Борис и Андрей, становилось уже жарко. Они расстегнулись и, закурив имевшиеся у Бориса папиросы, стали разговаривать. Прошло около часа, и за это время как-то незаметно Борис успел рассказать почти всю свою жизнь, не скрыл он и того, что Анна Николаевна – его мачеха, что он остался без матери в 8 лет, что ему пришлось в детстве порядочно поработать и в сельском хозяйстве. Невольно он высказал свои мечты о получении высшего образования и о своём желании стать лесничим. Андрей внимательно выслушал рассуждения Бориса и всё, что ему рассказал парень, хорошо запомнил. Этот рассказ произвёл на него хорошее впечатление, он понял, что Алёшкин не какой-нибудь городской хлыщ, каким его изображали некоторые знакомые (особенно Михайловы). Он увидел, что, несмотря на свою молодость, Борис трудолюбивый и, кажется, способный человек. Ну, а если у него сложилось такое мнение, то он, естественно, не мог, да и не стал иметь что-то против того, чтобы его сестра дружила с этим парнем. Забежав вперёд, скажем, что он свои мысли о Борисе Алёшкине так и высказал матери. Рассказал он в кратких словах и историю жизни Бориса, услышанную от него, последняя произвела на Акулину Григорьевну большое впечатление, и она невольно стала жалеть парнишку, так много повидавшего и испытавшего в своей короткой жизни. Вспомнились ей и благоприятные отзывы об Алёшкине её старшей дочери Людмилы, которая, делясь с матерью тем, что услыхала от Дмитрия, между прочим, отозвалась о Борисе хорошо. Через час, попробовав приготовленную Андреем селёдку, Борис поразился её необыкновенно приятному вкусу, ну а с картошкой, сдобренной постным маслом, она вообще представляла объедение. Оценили это кушанье и его товарищи. Пан Томашевский жалел только, что к такой замечательной закуске нет подходящей выпивки, но поскольку ни Демирский, ни Борис спиртного не употребляли, то у них в домике подобных вещей и не водилось. Недовольным остался один Мурзик, которому, на этот раз, кроме рисовой каши, не досталось ничего. К середине апреля вывозка леса была закончена, Стеклянуха должна была со дня на день вскрыться. Лёд на ней вспух, потемнел, отошёл от берегов и местами весь покрылся водой. На ручейке, протекавшем около домика, льда уже не было, он оставался только в толстых наледях, образовавшихся в местах перекатов и водопадов. Возчики разъехались по домам, перед ними вставала новая забота – весенние полевые работы. План заготовки леса был выполнен и даже с некоторым превышением, предстоял следующий этап – сплав. Сплав по таким небольшим речкам, как Стеклянуха и Цемухэ, являлся делом непростым, требующим и знания, и умения и, что, пожалуй, самое главное, быстроты. Ведь вода, способная нести брёвна, держалась в этих горных речках всего несколько дней, надо было успеть сбросить весь лес в воду и суметь его провести по реке до устья так, чтобы он пришёл вместе с паводком. Для проведения этой работы нанимали артели рабочих-сплавщиков, некоторые из них работали в этих местах уже по несколько сезонов, такими опытные десятники очень дорожили. Имелись они и в тех артелях, которые успел набрать Демирский. Вся трудность сплава заключалась в том, что речки эти, помимо своего мелководья и краткости половодья, имели очень извилистое русло, которое создавало условия для образования заломов или заторов, когда одно из брёвен, зацепившись за выступающий мысок берега или за вымытую водой корягу, поворачивалось поперёк течения. В него упирались следующие брёвна, на них налезали приносимые водой из следующей партии, и если такой залом вовремя не был разобран, то через несколько часов в этом месте могла образоваться сплошная гора из нескольких десятков, а иногда и сотен брёвен, которая, запрудив реку, полностью срывала сплав. Было очень важно следить за тем, чтобы на всём протяжении реки такие заломы разбирались немедленно, поэтому сплавщики, скатив первые десятки брёвен, сопровождали их до самого устья Цемухэ, где уже заранее был приготовлен бон – крепко связанные между собой стальными тросами несколько рядов брёвен, удерживающих на реке, в её глубоких низовьях, всю массу леса, сплавленного по реке. Группа рабочих, сопровождавших сплав, рассредоточивалась по обеим речкам, собираясь по два-три человека там, где опасность образования заломов была наиболее вероятна. За их работой наблюдал один из десятников, самый опытный. Конечно, эту работу Демирский взял на себя. Другой десятник в это время следил за тем, как сбрасывались брёвна в реку со склада. Тут работа была значительно проще, хотя и тяжелее физически. Десятник также должен был следить за тем, чтобы сброс происходил всё время равномерно, чтобы брёвна падали в воду одно за другим и не образовывали с самого начала групп, движение которых способствовало бы образованию заломов. Между прочим, такой вид сплава назывался молевым, в отличие от плотового, который проводился на крупных реках с более спокойным и надёжным течением. Для работы на складе требовался всего один человек, им стал Томашевский. Демирский ушёл по реке с первой партией сплавщиков, Алёшкину было поручено произвести расчёты с оставшимися возчиками и затем следовать вниз по реке в помощь Демирскому. Одним из последних, получивших от Бориса квитанцию на вывезенный лес, по которой следовало получить деньги в шкотовской конторе, был Андрей Пашкевич. Взяв у Бориса квитанцию, он, прощаясь с ним за руку, сказал: – А ты ведь, Борис, с моей сестрой Катериной, кажется, хорошо знаком, да и Милка тебя хорошо знает, чего же ты к нам никогда не зайдёшь? Ведь вы с Катькой-то, кажется, даже в одной ячейке состоите? Заходи! Нечего и говорить, сколько радости доставило это приглашение Борису, но столько же и смущения оно вызвало. Он покраснел и сумел лишь невнятно пробормотать несколько слов благодарности за приглашение. Андрей усмехнулся: – Да ты не красней, как красная девица, я ведь тебя не на свадьбу приглашаю. Приходи запросто, с семьёй нашей познакомишься, с мамой нашей, она ведь с твоей мачехой-то знакома. Мама наша – замечательная женщина, она хоть и не грамотная вовсе, а ум у ней такой, что у иной грамотейки не найдёшь! Такое дружеское тёплое приглашение ещё больше смутило Бориса, и в то же время как-то сразу вызвало глубокое уважение к этому простому, но, очевидно, очень доброму и разумному человеку. Предполагалось, что утром следующего дня Борис отправится вниз по реке, проверит, как работают сплавщики на её участках, и присоединится к Демирскому. Но вечером перед его отъездом в их домике неожиданно появился гость. Это был китаец Ли Фан Чин, которого около года назад приняли в комсомол в шкотовской ячейке и которого ребята в своей среде называли просто Ли. Раньше он работал инструктором в райисполкоме по работе среди восточных трудящихся, а с этого года был назначен председателем только что организованного профессионального Союза работников земли и леса. Союз этот объединял батраков, имевшихся у отдельных крестьян, сельхозрабочих на госпредприятиях, рабочих и служащих лесной промышленности. Большинством были китайцы, поэтому и руководить райкомом этого профсоюза поручили китайцу. Ли окончил совпартшколу, и в этом году его приняли в кандидаты РКП(б). Он хорошо говорил по-русски, знал несколько наречий китайского языка (ведь известно, что китайцы из Шаньдуна почти не понимают своих соотечественников из Пекина) и вообще, считался толковым и серьёзным работником. Внешне он почти не отличался от тех китайских рабочих, с которыми Борису пришлось провести всю эту зиму. Конечно, одет он был по-европейски, также и подстрижен, а лицо его показывало значительный ум и развитие. Он имел выпуклый большой лоб и густые чёрные брови. За эту зиму, постоянно общаясь с китайцами, многие из которых совершенно не знали русского языка, Борис волей-неволей освоил наиболее обиходные фразы по-китайски, собственно, шаньдунского наречия, на котором разговаривали почти все рабочие. К весне он уже мог объясниться с любым китайцем: спросить его имя, произвести вместе с ним подсчёт брёвен (считать он научился по-китайски и по-корейски до 100), спросить дорогу, указать, куда нужно идти, узнать и ответить на вопрос, сколько сейчас времени, попросить или предложить закурить, спички и так далее. Ли, знавший Бориса раньше, встреченный приветствием на родном языке, был приятно удивлён, и побеседовав с ним некоторое время, предложил ему серьёзнее заняться изучением китайского языка. Борис пообещал это сделать, но конечно, не выполнил. Ли, приехавший на участок, чтобы принять в члены профсоюза, а попросту, записать в него, прежде всего, десятников, а затем и всех рабочих, и выбрать из них местком, привёз с собой и распоряжение Озьмидова об откомандировании Б. Алёшкина в распоряжение шкотовской конторы Дальлеса. Борис, хотя и удивился такому распоряжению, но, чего греха таить, в то же время и обрадовался. При всём хорошем отношении к нему со стороны Демирского и их нового товарища Томашевского, при том, что он получил за эту зиму много полезных практических навыков, жизнь в лесу с возможностью отлучаться и быть среди своих комсомолят лишь раз в две недели ему наскучила. Да и с Катей перевод в Шкотово позволял видеться ежедневно! Утром следующего дня Борис, написав записку Демирскому и распрощавшись с Томашевским, уже ехал на попутной подводе в Шкотово. Там он выяснил, что его откомандирование вызвано следующими обстоятельствами. Во-первых, предстояла районная конференция РЛКСМ, и секретарь райкома Смага требовал, чтобы Алёшкин, как член бюро райкома, находился во время подготовки к этой конференции, то есть в течение двух недель, обязательно в Шкотове. Во-вторых, заготовки леса окончились на всех участках, а их было около полутора десятков. Но по каждому участку нужен был подробный отчёт, а большинство десятников были недостаточно грамотны: отчёт для них приходилось составлять в конторе. Это требовало увеличения штата конторы опытными людьми. Конечно, Алёшкина, имевшего среднее образование, да ещё окончившего курсы, относили к числу таких специалистов, и он должен был помочь многим из десятников грамотно и, главное, верно (математически) составить отчёты. Этим он и занялся с первого же дня приезда в Шкотово. Райком ему поручил провести обследование нескольких комсомольских ячеек близлежащих сёл – Майхэ, Андреевки, Многоудобного и Романовки. При проведении подсчётов по участкам ему было необходимо побывать во многих сёлах Шкотовского района, в том числе и в тех, где он должен был проверить деятельность комсомольских ячеек. Так как объезды участков требовалось произвести возможно быстрее, то Озьмидов выделил в распоряжение Алёшкина специальную верховую лошадь. Это была небольшая гнедая кобылка, очень хорошо ходившая под седлом. Поездки, которые пришлось совершить Борису, доставили ему даже удовольствие. Алёшкину выпала и ещё одна довольно хлопотная задача: нужно было разделить шкотовскую ячейку РЛКСМ, достигшую к этому времени численности уже более полутораста человек, на более мелкие, соответственно производственному признаку состоявших вних комсомольцев. На бюро райкома приняли решение разбить ячейку на следующие: 1) шкотовскую сельскую ячейку 2) ячейку РЛКСМ при конзаводе 3) ячейку при железнодорожной станции 4) ячейку совторгслужащих при райисполкоме и 5) ячейку при ШКМ. Разделение это требовало большой организационной работы: помимо составления списков комсомольцев для каждой ячейки, нужно было в каждой из них провести организационные собрания, избрать бюро или секретаря, всё это возложили на Бориса Алёшкина. Осложнилось это разделение и тем, что волей-неволей иногда приходилось разделять некоторых друзей, разбивать сложившиеся группы и товарищества, а это вызывало и протесты, и споры. В этой работе большую помощь Борису оказали Нюська Цион, Гриша Герасимов и Катя Пашкевич. Естественно, что в это время Борис и Катя виделись и проводили время вместе всё чаще. Они вполне официально могли быть друг с другом неопределённо долгое время – у них была общая работа. Кроме комсомольцев, также разбили на части и пионерский отряд, создали три отряда: 1) при ШКМ 2) шкотовский сельский и 3) при конезаводе. После районной конференции, прошедшей, судя по отзывам райкома РКП(б), очень плодотворно, Бориса Алёшкина снова избрали членом бюро райкома РЛКСМ. Надо сказать, что при разделении шкотовской ячейки РЛКСМ Бориса оставили секретарём сельской ячейки, а Катю назначили вожатой сельского пионеротряда. Это положение позволило им встречаться ещё чаще: теперь они бывали вместе не только по вечерам в клубе, на собраниях или в кино, но и днём, выполняя ту или иную работу по подготовке собрания или сбора отряда. Оба они состояли и в редколлегии комсомольской стенной газеты, оформлялась газета, в основном, ими. Для этой работы они обычно собирались вдвоём и лишь иногда втроём в одном из свободных помещений ШКМ и проводили вместе несколько часов. Конечно, откровенно говоря, часто это совместное пребывание в течение нескольких часов в одной комнате, за одним столом, не всегда бывало необходимо, а лишь служило предлогом для очередного свидания. Почти сразу же по приезде Бориса из леса, Катя рассказала ему об отзывах, полученных о нём от её брата Андрея: – Уж больно он тебя расхваливал! И такой-то ты, и сякой-то! И всё-то ты знаешь, и всё-то умеешь. Только ты не задавайся, я ему сразу сказала, что ты хвастун ужасный, но мама о тебе мнение после его рассказов изменила, зато девчата – и Женя, и Тамара, и даже Верка – меня тобой прямо задразнили, прохода не дают! Как только увидят тебя с Мурзиком на железнодорожной линии, так бегут домой и орут во всё горло: «Катька, вон твой-то идёт, опять тебя высвистывает». Не ходи ты, ради Бога, у наших на виду, не мозоль им глаза, ведь ты уже знаешь, что я всё равно сама выйду! Да, ты знаешь, как они тебя дразнят? – «Индюк!» Так у нас одну лошадь зовут, а Андрей, он ведь большой насмешник, сказал, что ты на эту лошадь похож. Ну а девчонкам только скажи, они сразу подхватят, так и кричат: «Вон твой индюк пошёл!» Этот разговор между Катей и Борисом происходил при очередном их прощании у ворот её дома. Она уже переступила одной ногой через порог калитки и, придерживая её рукой, повернулась к нему и вглядывалась в его лицо, видимо, стараясь увидеть, какое впечатление произвёл на него её рассказ о смешном прозвище, данном ему сёстрами. А Борису было всё равно, как бы его ни называли и как бы ни дразнили, только бы иметь возможность вот так стоять напротив неё, вблизи её лица, и глядеть в эти милые лукавые глаза. Они уже договорились о завтрашней встрече, и Катя вот-вот скроется в своём дворе, и вдруг Борису неудержимо захотелось поцеловать Катю в её полураскрытые губы, то складывавшиеся в насмешливую улыбку, то шевелившиеся при произнесении ею прощальных слов, в содержание которых он даже не вдумывался. Это его желание было настолько велико, что прежде, чем он успел подумать, уже схватил её за голову и, с силой притянув к себе, крепко поцеловал в эти твёрдые, чуть влажные и такие горячие губы. Катя, не ожидавшая подобного нападения, привыкшая управлять поведением своего спутника, была напугана, ошеломлена и растеряна настолько, что в первые несколько мгновений не только не оказала ему никакого сопротивления, но даже машинально ответила на поцелуй. Но уже через несколько секунд она пришла в себя, и на Борину голову и спину посыпался град ударов её маленьких, но твёрдых и сильных кулачков. Однако это на него не произвело никакого впечатления: он продолжал держать её голову руками и прижимать её губы к своим всё крепче и крепче. Наконец, Катя опомнилась окончательно: она с силой упёрлась руками в грудь парня, оттолкнула его и вырвалась из его рук. Толчок оказался таким сильным, что Борис не удержался на ногах и с размаху шлёпнулся, сел на слегка подмёрзшую грязь. – Дурак!!! – сердито крикнула девушка. Но увидев, в каком положении оказался её незадачливый поклонник, не выдержала – рассмеялась и, закрывая калитку, ещё раз крикнула в сторону поднимавшегося парня, только уже не сердито, а, скорее, насмешливо и даже, пожалуй, ласково: – Ну и дурак же ты, Борька! С этими словами она захлопнула калитку, и Борис слышал, как Катя быстро побежала к дому, всё ещё смеясь. Поднявшись, он отряхнул прилипшие к штанам комочки грязи и некоторое время постоял у ворот. Однако открыть калитку он не решился. Он чувствовал себя безмерно виноватым и, хотя этот неожиданный и для него самого поцелуй доставил ему неизъяснимое удовольствие, он очень боялся, что обидел Катю, и та может прекратить с ним всякое знакомство. Между тем, девушка, сделав несколько шумных и быстрых шагов к дому, тихонько на цыпочках вернулась к воротам и, затаившись у калитки, стала ждать. Чего она ждала – она и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. После поцелуя, который ещё продолжал гореть на её губах, ей было и стыдно, и как-то по-особому сладостно. Никто ещё её так не целовал! Она и сердилась на Борьку, и в то же время была счастлива, хотя в последнем, конечно, не призналась бы никому. Она, как и он, не открывала калитку, так они и простояли по разные стороны минут десять, а потом медленно разошлись. Идя домой, Катя думала: «Всё-таки зря я его так сильно толкнула, может ушибся? А он-то тоже хорош – с поцелуями лезет, а на ногах устоять не может! Ну а как же завтра, если он опять целоваться полезет? Ну да ладно, завтра я его проучу!» И верно, проучила! Следующим вечером, когда окончилась репетиция (готовилась постановка к 1 Мая, Борис, постоянный участник драмкружка, в ней исполнял одну из главных комических ролей, а Катя Пашкевич, как это происходило почти всегда в последний год, выполняла обязанности суфлёра и даже помощника режиссёра), Катерина подошла к Ефиму Силкову (мы как-то о нём раньше рассказывали), работавшему инструктором райисполкома по политпросветработе, тоже принимавшему участие в спектакле, и попросила проводить её домой. Силков был старше Бориса лет на пять, но это не мешало ему вздыхать о Кате Пашкевич, как и многим другим знавшим её комсомольцам и партийцам шкотовской ячейки. Однако в нём было достаточно порядочности, чтобы, зная о взаиморасположении, существовавшем между ней и Борисом Алёшкиным (а об этом знало, наверно, уже почти всё Шкотово), к Пашкевич не подходить и свои любезности ей не навязывать. Но когда она сама подошла, тут уж, как говорится, теряться было нельзя. Увидев, что своенравная девушка у всех на виду подошла к Силкову и громко – так, чтобы слышали все, в присутствии Алёшкина, попросила её проводить, Борис взбесился до глубины души и даже напугался: «Неужели она так рассердилась, что теперь меня и вовсе прогонит? – думал он. – Но ведь она же всё равно будет моей женой, неужели она этого не понимает? Ведь иначе невозможно! – проносилось в его мозгу через минуту. – А этого чёртова Ефимку Силкова я подкараулю где-нибудь и башку ему проломлю, будет знать, как чужих девчат провожать!» – все эти мысли беспорядочно мелькали в его голове в то время, как он, держась шагах в десяти сзади парочки, шёл следом за ними. Катя время от времени оглядывалась назад и, видимо, с удовлетворением наблюдала за Борисом, который, опустив голову, полную самых мрачных и злых мыслей, плёлся сзади. Чтобы ещё больше подразнить Борьку, она теснее, чем это было нужно, прижималась к Силкову, и заставила этим и последнего вообразить Бог знает что. Когда они подошли к калитке, Силков решил попрощаться с Катей так, как в то время довольно часто прощались парни с провожаемыми ими девушками – поцеловать её. Он нагнулся, чтобы осуществить своё намерение – Борис всё это видел. Он готов был броситься на Силкова и затеять с ним драку. Он понимал, что Ефим был гораздо сильнее его, но тем не менее это бы его не остановило. В этот момент около калитки, где темнели силуэты Силкова и Кати, раздался громкий звук пощёчины, затем громко хлопнула калитка, около которой остался Силков, потиравший щёку и бормотавший: – Вот дура-то ненормальная! Я и тронуть-то её не успел, а она, на тебе, какую оплеуху влепила! Борис торжествовал! Он гордо прошёл мимо посрамлённого соперника, сделав вид, что не замечает его, и направился к дому. Кстати сказать, жил теперь Борис в отдельном помещении. Рядом с квартирой Алёшкиных в маленькой комнате раньше жил учитель Чибизов, теперь его назначили заведующим ШКМ, и он получил большую хорошую квартиру, так как к тому времени он уже женился. Комнатка освободилась, и Яков Матвеевич Алёшкин выпросил её у сельсовета для своего сына. Сделал он это по настоянию Анны Николаевны, которая внимательно, хотя и незаметно для сына, наблюдала за ходом его романа с Катей Пашкевич. И так как пользовалась не только собственными наблюдениями, но и многочисленными пересудами своих приятельниц и, прежде всего, Ирины Михайловой, а также и уклончивыми намёками самого Бориса, то считала, что сыну вскоре потребуется своя квартира. Когда Борис вернулся из Стеклянухи, комната с отдельным входом и даже собственной плитой уже ждала его.* * *
Дня через два Борис и Катя находились по какому-то делу в клубе, и она молча позволила ему себя проводить. При прощании, держа её руку в своей, Борис не набросился на неё, как в прошлый раз, а робко спросил: – Катя, можно я тебя поцелую? Та, польщённая такой покорностью и тем, что Борис ни словом не попрекнул её за выходку с Силковым, быстро подставила губы, и они поцеловались. Может быть, поцелуй этот длился немного дольше, чем рассчитывала девушка, потому что, оторвавшись от парня, она с упрёком сказала: – Ну разве можно так? Ты же задушишь меня! – и юркнула в калитку. С этого дня повторялись их поцелуи при расставании, а иногда и при встрече. Следует отметить, что инициатором их всегда был Борис, Катя лишь милостиво разрешала себя поцеловать, и только очень редко её губы вздрагивали в ответном поцелуе, но даже и этим Борис был счастлив!Глава шестая
Служба в конторе Дальлеса, связанная, помимо работы над отчётами десятников, проверки правильности подсчётов кубатуры и произведённых расчётов с рабочими, а также проверки различных фактур и квитанций, с разъездами по району для проверки кое-каких данных на месте, не только не обременяла Бориса, а даже нравилась ему. Являясь на своей лошадке на какой-нибудь участок, он чувствовал себя как бы представителем начальства, что, впрочем, до известной степени так и было, ну а какому же восемнадцатилетнему парню не по душе исполнять роль начальника? Причём, к чести его сказать, выполнял эти инспекторские функции он достаточно умело (помогли знания, полученные на курсах, и опыт работы в Новонежине и на Стеклянухе) и тактично, так что результатами его поездок оставалось довольно и руководство конторы, и проверяемые. Ковалевский, по своей военной манере, присвоил ему звание ответственного порученца, и парнишка этим званием очень гордился. Заведующий конторой Озьмидов о работе Алёшкина тоже отзывался с похвалой. Может быть, это и послужило причиной того, что, когда в Шкотово приехал главный стивидор Дальлеса (так называли человека, руководившего погрузкой судов, имевшего специальное образование и опыт, и умевшего загрузить лесом пароход так, чтобы он мог вместить как можно больше груза и в то же время был достаточно устойчив при любой качке), то в помощь ему, по его требованию, Борис Владимирович выделил Алёшкина и недавно принятого молодого десятника Жорку Писнова. Эти помощники обязаны были исполнять роль тальманов, то есть счётчиков, и одновременно с членами команды судна производить подсчёт погруженных брёвен, а затем, естественно, подсчитывать его кубатуру в футах – тогдашней международной мере леса. Они же наблюдали и за выполнением указаний стивидора о расположении груза в трюмах и на палубе. Так как им приходилось общаться с иностранной командой – японцами, главными покупателями дальневосточного леса, то требовалось знание иностранного языка – конечно, английского, являвшегося международным языком моряков. Стивидор, высокий представительный мужчина, светловолосый и голубоглазый, производил впечатление очень добросердечного и приветливого человека. Он в совершенстве владел английским языком и, так как работал уже более двадцати лет, знал своё дело. Получив в распоряжение двух юношей, Павел Петрович Сабельников, так звали стивидора, сразу же проэкзаменовал их в знании английского. Нельзя сказать, чтобы он особенно обрадовался результатам: оба они окончили шкотовскую школу (Жорка на год позже Бориса), и их английский был таким, каким он, к сожалению, бывает ещё и сейчас у людей, окончивших среднюю школу: не говоря о произношении, они даже множество простейших фраз не могли построить правильно. Впоследствии их выручало только то, что помощники капитана японского судна, японцы, тоже говорили по-английски с трудом. В результате у тех и других выработался какой-то жаргон из смеси ломаных английских, русских и японских слов, на котором они и объяснялись довольно удовлетворительно, во всяком случае, так, что могли понять друг друга. Пошло на пользу и наставление Сабельникова, рекомендовавшего своим помощникам в те несколько дней, которые оставались до погрузки, ещё проштудировать учебники английского языка, обратив особое внимание на счёт. Рассказал Сабельников ребятам и об основных правилах загрузки пароходов лесом. Затем он заявил, что пароход подойдёт через несколько дней, тогда же приедет и он вместе с японцами, приёмщиками леса. До этого времени он поручил Алёшкину и Писнову основательно проверить, как идёт сплотка в устьях Цемухэ и Майхэ. Поясним немного, как в то время происходила погрузка леса на пароходы. Ранее сплочённый лес вывозился катерами в бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на склады на мысе Чуркин, оттуда грузили на пароход. Это требовало лишней рабочей силы по выгрузке из плотов леса на склад, затрат на буксировку плотов до Владивостока, опасность разрыва плотов во время буксировки и разноса волнами оторвавшихся брёвен по всему побережью. Такое случалось довольно часто. В этом году Дальлес сумел договориться с покупателями о том, чтобы их суда становились на рейдах в тех бухтах, где лес заготовлялся, и там погрузка производилась прямо с воды, что было значительно дешевле, быстрее и проще. Таких бухт на побережье было много, начиная с самой северной – Датта и кончая самой южной – Посьетом. К их числу относилась и бухта Шкотта. Здесь в море впадали две реки – Цемухэ и Майхэ. Собрав у бонов, перегораживавших устья этих рек, весь лес, сплавленный по таким маленьким речкам, как Стеклянуха, Сица и другие, специальные рабочие сплачивали его по 150–200 брёвен и больше, затем небольшими моторными катерками плоты доставлялись к борту парохода. Борис и Жора разделили между собой работу так: Борис поехал, вернее, пошёл пешком к устью речки Цемухэ, чтобы осмотреть сплотку и подсчитать примерное количество брёвен, там находящихся, а его напарник отправился для этой же цели на реку Майхэ. Надо сказать, что до сих пор Борис никогда не видел, как производится сплотка, и потому очень внимательно к ней приглядывался. В устье Цемухэ он увидел, как ему показалось, огромное количество брёвен, образовывавших почти сплошную массу, полностью перекрывавшую реку от одного берега до другого на протяжении не менее полуверсты вверх от бона. По этим брёвнам, перепрыгивая с одного на другое, двигались рабочие с короткими небольшими багорчиками, стягивая брёвна в более или менее ровные ряды. Другие, сидящие уже на полуготовых плотах, вколачивали в бревно особый костыль с кольцом, в который продевали довольно толстый стальной трос. У самого бона уже находилось два готовых плота. Встретив на берегу Демирского, закончившего сплав и теперь руководившего постройкой плотов, от него Борис узнал, что сплав прошёл удачно: почти весь заготовленный лес доставлен к устью Цемухэ, недосчитались лишь какого-нибудь десятка брёвен. Он заверил Бориса, что подготовка плотов будет идти нормально, и что погрузку можно начинать уже хоть сегодня. Поздравил он бывшего помощника с новым назначением, предупредив его, однако, чтобы он «с этими япошками» держал ухо востро, «а то они враз облапошат», – заметил он. Борис невольно поинтересовался, как же приёмщики будут учитывать лес, если он на плаву, Демирский объяснил ему и это: – Видишь ли, у нас для этого имеются специальные рейки с делениями и крючком на конце. Подойдя к краю плота, приёмщик опускает рейку в воду, зацепляет за бревно крючком и видит на рейке отметку, указывающую на толщину бревна в дюймах. Это в теории. На практике же японцы промер производят едва ли одного бревна из десяти, а у остальных читают цифру, написанную на отрубе нами, и ей верят. Дело в том, что при таком способе измерения, о котором я говорил, найти наименьший диаметр очень трудно, а наши цифры в большинстве правильные, вот они им и верят. Конечно, честно говоря, и бракованное бревно в плоту найти трудно, поэтому они заранее договариваются с нами о том, на какой процент брака мы согласны, такой и записывают в акт. На сколько-то приходится соглашаться, а то попадаются такие крючки, которые, придравшись к какому-нибудь действительно не очень доброкачественному бревну, требуют роспуска всего плота, что и хлопотно, и дорого. Между прочим, во времена Шепелева его дружки, конечно, с его благословения, соглашались на очень высокий процент брака и грели на этом руки, получая взятку от японцев. Ведь приёмка на плаву производилась и ранее в бухте Золотой Рог, а на мысе Чуркин японцы уже имели свою охрану у складов, и за всю остальную погрузку отвечали сами. Теперь же до поступления леса на борт судна отвечать придётся нам. Вам же следует при подсчёте драться за каждое бревно. Японцы будут стараться обязательно преуменьшить количество, а вам нужно будет отстоять свою цифру. Через несколько дней в Шкотовскую бухту зашёл и остановился на якоре милях в двух от берега японский пароход. Ещё через день в Шкотово приехал Сабельников и два японца-приёмщика. Тогда же приёмщики разъехались по рекам для приёмки леса: одного сопровождал Демирский (на Цемухэ), а другого на реку Майхэ провожал десятник Кочан, он же секретарь партячейки. Оба этих десятника являлись представителями Дальлеса по сдаче леса, которая производилась таким способом, как рассказывал Борису недавно Демирский. Стивидор, забрав своих помощников, отправился к прибывшему судну. Они плыли до бухты Амбабоза на лодке, а затем оттуда на катере. По дороге Павел Петрович успел повторить инструкцию своей молодёжи и, кроме того, добавил, что точность подсчёта поступающих на судно брёвен должна быть безукоризненной, ведь за каждое не доставленное к борту бревно японцы вычитают из того количества, которое ими записывалось в предварительные акты, составленные на боне, а так как они и без того имеют скидку на брак, то государство от каждого недосчитанного бревна терпит убыток. Японцы выбрасывают при подсчёте самые толстые брёвна, убытки эти могут быть значительными. Своими словами Сабельников подчёркивал важность и ответственность работы тальманов и, может быть, несколько преувеличивая её значение, хотел заставить своих ребят работать как можно добросовестнее. На пароход добрались только к вечеру. Он назывался «Судзи-Мару» и имел полторы тысячи тонн водоизмещения. По теперешним масштабам это был небольшой пароход, но Борису, видевшему вблизи такое судно впервые, он казался огромным. Когда они вместе с Павлом Петровичем лазили по трюмам, то парня удивили их величина и глубина. Стивидору была отведена каюта там, где жили офицеры судна, а его помощникам досталась маленькая низкая каютка рядом с кубриком команды. Грузили лес с плотов на палубу и в трюмы рабочие, нанимаемые Дальлесом, – это были, конечно, китайцы. На просьбу Сабельникова о том, чтобы разместить грузчиков тоже на корабле, хотя бы просто на палубе, японский капитан согласия не дал. Пришлось нанимать несколько фанз на берегу бухты Амбабоза, откуда рабочих каждое утро привозили к судну и куда их отвозили после окончания рабочего дня. Кстати сказать, рабочий день начинался часов с шести утра и заканчивался с заходом солнца. Ночью, кое-как разместившись на узких, коротеньких коечках своей каюты, ребята, утомлённые множеством новых впечатлений и немного напуганные сложностью и ответственностью работы, как её обрисовал им Сабельников, всё-таки заснули крепким сном. Между прочим, потом они не раз смеялись с Жоркой, вспоминая их первую ночь и то, с каким трудом Жорка, имевший около двух метров роста, сумел втиснуться в свою койку. Все последующие ночи он спал на полу. Ранним утром их разбудил шум и топот, поднявшийся на палубе. Оказывается, что, чуть только начало светать, грузчики уже прибыли на судно. Наскоро перекусив запасами, взятыми из дома, ребята выскочили на палубу. Их взорам представилась следующая картина. Там, где тихое море граничило с небом, уже висело только что поднявшееся солнце. Его красный огромный диск был ещё не ярким, и на него можно было смотреть. Мелкие волны искрились в его первых лучах, а почти над головой небольшие розовые облака медленно расходились куда-то на север. Вся палуба была заполнена грузчиками, казалось, бестолково суетившимися, а на самом деле, очень точно и проворно исполнявшими свои обязанности. Они, видимо, заранее были между ними распределены: одни бежали к лебёдкам и начинали проверять их работу; другие проверяли то, как вращаются стрелы и как заправлены в блоки тросы, служившие стропами, поднимающими груз; третьи полезли в трюмы и осматривали их, чтобы решить, как они будут там укладывать подаваемые брёвна. Большая часть прибывших стояла на борту и, громко переговариваясь, смотрела в сторону устьев рек Цемухэ и Майхэ. Ребята тоже посмотрели в том направлении и заметили два маленьких, как какие-нибудь букашечки, катерка, тянувших за собой по длинному плоту. Они находились ещё далеко и двигались настолько медленно, что, вероятно, к пароходу сумели бы подойти не ранее, чем через час. Это рассердило грузчиков, они что-то кричали своему старшинке, тот, в свою очередь, двинулся навстречу вышедшему на палубу Сабельникову и тоже стал что-то ему доказывать на ломаном русском языке. Стивидор, видимо, был согласен с возмущением рабочих, потому что согласно кивнул головой, и когда катера подошли к судну, он сурово выговорил капитанам за опоздание и потребовал, чтобы в следующий день плоты выводились с бона раньше. Между прочим, что поразило обоих ребят больше всего, по палубе лениво прохаживались японские матросы, и если на них они посматривали с нескрываемым интересом и иногда даже делали попытки заговорить, то на суетившихся вокруг китайских рабочих совершенно не обращали внимания, как будто тех здесь и не было. Японцы ни одним жестом, ни одним словом не помогли им, когда те разбирались в довольно сложном погрузочном хозяйстве судна. Но вот плоты подогнаны, пришвартованы к борту судна, катерки, как бы удовлетворённо гуднув своими сиренами, быстро направились к берегу, рабочие спустились по трапу на плоты и уже были готовы начать погрузку. Над плотами повисли стальные тросы с повёрнутых за борт стрел. Лебёдчики заняли свои места. У самого края борта встали два рабочих из числа старшинок, чтобы показывать знаками лебёдчикам, когда нужно подымать груз и когда начать его опускать в трюм. К стоявшим около мостика ребятам подошёл Павел Петрович и сказал: – Ребятки, с Богом! Вот ваши противники, держитесь молодцами. Что будет не так, немедленно посылайте за мной. К Борису и Жорке подошли два молоденьких японца, одетых в офицерскую форму. Путая русские и английские слова, они предложили им спуститься на плоты, чтобы предварительно пересчитать поданные брёвна. Через несколько мгновений ребята спускались вслед за японцами по штормтрапам, выброшенным за борт: Жорка на баковой, или носовой, части судна, а Борис на кормовой. Спустившись вниз, они также, как и японские офицеры, быстро побежали по брёвнам плотов, обязательно наступая на каждое бревно и произнося при этом громко цифру в порядке счёта, который производился по-английски (впрочем, через несколько дней оба парня научились считать и по-японски). С первого же раза цифры у Бориса и офицера, сопровождавшего его, не сошлись. Конечно, у последнего количество брёвен оказалось меньше на два бревна. Так как Борис был уверен в правильности своего счёта, то он довольно сердито заявил японцу, что тот ошибся, и предложил ему пересчитать ещё раз. Японец молча вновь побежал по плоту, а к Борису тем временем подошёл один из рабочих, по-видимому, один из старших, и по-китайски спросил, сколько Борис насчитал. Борис уже настолько понимал китайский язык, что на этот вопрос смог ответить без труда, назвав число по-китайски. Выслушав ответ и спросив о чём-то стоявшего рядом с ним молодого рабочего, китаец удовлетворённо кивнул головой – очевидно, их счёт сошёлся. Ведь тут все эти три группы людей были заинтересованы по-разному: представители Дальлеса стремились получить совершенно точную фактическую цифру, японцы приуменьшить её, а китайцы, получавшие с штуки погруженных брёвен, наоборот, преувеличить. Тем временем японец закончил вторичный подсчёт и, понимая, что так просто этого паренька не проведёшь, расплывшись в угодливой улыбке, обнажив свои длинные жёлтые зубы, согласился с числом, названным Борисом. После этого началась погрузка. Грузчики, находившиеся на плотах, выдёргивали из брёвен штыри, освобождая их таким образом от скреплявшего плот троса, подводили под них спущенный со стрелы трос, и, обхватив им три-четыре бревна (а если бревно было особенно толстое, то даже и одно) и закрепив крюком образовавшуюся петлю, давали сигнал к подъёму, стремительно отбегая на противоположный конец плота. Стоявший у борта джангуйда делал знак рукой, лебёдчик включал лебёдку, и захваченные брёвна, угрожающе раскачиваясь, медленно ползли вверх. Поднявшись над палубой, они на несколько мгновений замирали, а затем стрела повёртывалась к трюму, и брёвна опускались вниз. Когда они достигали дна судна, находившиеся в трюме рабочие отцепляли трос, тот взвивался кверху, вновь опускался за борт, и вся операция повторялась сначала. И так целый день с коротким перерывом на обед. За то время, пока брёвна висели над палубой, и Борис, и японский офицер, и китаец-джангуйда должны были сосчитать поступивший на судно лес. То же самое делал и Жорка на носу судна. Подсчёт каждый вёл своим способом. Китаец имел два ящика с тоненькими дощечками, при каждом подъёме он перекладывал из одного ящика в другой соответствующее количество дощечек. Борис вёл счёт «конвертиками» (так считать его научил ещё Дмитриев в Новонежине): каждый конверт составлялся из палочек, число их при окончании рисунка равнялось десяти. Японец считал какими-то жучками, число палочек в его способе, как впоследствии узнал Борис, равнялось 12. Понятно, что погрузка велась только с одной стороны судна, с борта, обращённого к берегу. Как ни спокойно было море, но волны, идущие с его просторов, могли легко разметать отцепленные от плота брёвна, собрать же их было делом сложным. Чтобы не рисковать, стивидор решил грузить только с берегового борта. При этом несколько замедлялась погрузка, так как не использовалась противоположная лебёдка и стрела, но зато не было опасности потери брёвен, да и трюмные рабочие имели больше времени, чтобы уложить погружаемый лес аккуратнее, вместить его больше, и чтобы при качке он не мешал ходу судна. Сабельников именно поэтому чуть ли не через каждые четверть часа спускался в трюм и давал распоряжения там, как нужно перекатывать то или иное бревно. Но, видно, и рабочие достаточно хорошо знали своё дело, потому что его замечаний было немного. Между прочим, Борис, вставая со своего низенького стульчика, который ему принёс работавший вместе с ним офицер, и заглядывая за борт, всё время удивлялся ловкости работавших на плоту людей. Хотя плот и защищал от волны корпус судна, тем не менее он колебался, раскачивался и временами отходил от борта на целую сажень. Это пока он был целый, а когда из него вынули часть брёвен и сдерживающие тросы ослабли, то нужна была поистине акробатическая ловкость, чтобы суметь удержаться на оставшихся брёвнах и тем более продолжать работать. На корме имелось два люка, одновременно работали две лебёдки. Работа шла быстро, и следовало быть очень внимательным, чтобы не пропустить ни одного подъёма. Время летело незаметно, и Борис не успел опомниться, как прозвучал гонг, призывавший всех на обед. По этому звуку работа остановилась, как по мановению волшебного жезла. Катер, доставивший очередной плот, привёз котлы с пищей для китайцев. Котлы подняли на палубу, каждый из рабочих, получив миску какого-то варева и пампушку, расположившись между люками на палубе, принялся за еду. Почти все те, кто находился на плотах, были мокры чуть ли не до пояса, но ни один из них не подумал о том, чтобы раздеться и посушить свою одежду: на это не было времени. Обеденный перерыв длился меньше часа, а затем, после нового удара гонга, все бросились к своим рабочим местам. Матросы-японцы, всё время сидевшие безо всякого дела на палубе и равнодушно наблюдавшие за трудящимися китайцами, по первому удару гонга направились к своему кубрику, о чём-то переговариваясь и пересмеиваясь, презрительно поглядывая на скудную еду грузчиков. Ушли и японские офицеры, сидевшие вместе с нашими друзьями, с ними же отправился и стивидор, а Борис и Жора, предоставленные самим себе, поплелись в свою каютку. Они решили доесть скудные запасы, оставшиеся у них из того, что было захвачено с собой из дома. Но не успели ребята как следует расположиться со своей едой, как в дверь их каюты постучали, и показался бой – молоденький японец, который прислуживал офицерам в кают-компании. Мальчишка улыбнулся нашим друзьям и, смешно коверкая русский язык, произнёс: – Позалуста кусать! Ребята приглашать себя дважды не заставили. Захватив на всякий случай свою полуочищенную селёдку и краюшку хлеба, они отправились за боем в офицерскую кают-компанию. К этому времени обед офицеров уже закончился, стол, стоявший посередине каюты, был чисто вымыт, а на нём стояла небольшая деревянная кадушка, прикрытая деревянной же крышкой. Недалеко от неё стояли две пиалы, около которых лежали плоские ложечки, палочки-хвайзы, заменявшие китайцам и японцам наши вилки. Тут же находилась и маленькая чашечка, наполненная тёмно-коричневым острым соусом – соей. На краю стояли две небольшие чашки с горячим ароматным чаем. Бой приподнял крышку бочонка, и ребята увидели, что он почти доверху заполнен белым рассыпчатым рисом, от которого шёл пар. Японец повторил своё «кусать» и исчез за дверью. Борис быстро наложил ложкой-лопаточкой себе полную пиалу риса, то же сделал и Жорка. Он же первым попробовал и предложенную им сою. – Э, да это простая соя, такая же, как у китайцев! Ну, нас не надуешь! – сказал он возмущённо. Встав, он подбежал к стоявшему у одной из стен каюты буфету, открыл дверцу и достал небольшую бутылочку, заполненную тёмно-коричневой густой жидкостью. Капнув её на ложку и лизнув каплю языком, восхищённо воскликнул: – Ну вот, это другое дело! Жорка основательно полил взятым им соусом свой рис и протянул бутылочку Борису, тот проделал то же самое. Действительно, эта так называемая английская соя оказалась очень вкусной: она имела не только ту остроту, какая была у обыкновенной, но и приятный запах, и особый вкус. Борис удивился, откуда Жорка знал о существовании такой сои в буфете кают-компании, тот с набитым ртом ответил: – Несколько лет тому назад, ещё мальчишкой, мне довелось плыть на японском пароходе, и я видел, как некоторым пассажирам во время обеда рис поливали этой соей, её брали из буфета. Я подумал, что она должна быть и здесь: не будут капитан и офицеры есть простую сою. Как видишь, я оказался прав. Рис, сдобренный английской соей, показался очень вкусным, и ребята, съев по три пиалы, опорожнили кадушку почти наполовину. Закусили рис своей вяленой селёдкой, выпили чай с небольшими комочками коричневого японского сахара, лежавшими около каждой чашки, и управились со всем этим делом как раз тогда, когда раздался второй удар гонга, призывавший всех на работу. Если китайцы и японские офицеры, занятые на погрузке, за время обеденного перерыва успели не только поесть, но ещё некоторое время поваляться – кто просто на палубе под тёплыми лучами солнца, кто в своих каютах, наши друзья успели только пообедать. После перерыва работа продолжалась так же интенсивно и закончилась при фонарях только тогда, когда последнее из доставленных катерами брёвен оказалось на борту судна. Капитан боялся оставлять на ночь брёвна около парохода. При изменчивой дальневосточной погоде ручаться за спокойную ночь было нельзя: мог внезапно подняться шторм, и судну пришлось бы немедленно сняться с якорей и отойти от берега на более безопасное расстояние. Брёвна, находившиеся рядом, манёвру бы помешали. Вечером, после окончания работ и после ужина, все счётчики – русские, японцы и китайцы собрались в кают-компании и стали сверять полученные результаты. Конечно, цифры у всех оказались разными. Если китайцы считали, что было погружено около шестисот брёвен, то японцы называли число на два десятка меньше, у Бориса и Жоры количество погруженных брёвен находилось где-то посередине. Поднялся ужасный шум, спор и крик: каждый доказывал свою правоту. Правда, в основном спорили китайцы и японцы. На шум в каюте появились капитан и Сабельников. Увидев разгорячённые спором лица японцев и китайцев, Павел Петрович сразу понял, в чём дело. Он подошёл к своим помощникам и попросил показать ему их данные. Затем он спросил их, сходятся ли эти числа с теми, которые они получили при подсчёте брёвен в плотах, доставленных к борту судна. Получив положительные ответы и от Бориса, и от Жоры, громко заявил: – Вот что, уважаемые, я верю только своим счётчикам. Они оба люди грамотные, закончившие гимназии (он ведь говорил по-английски, а в Англии нет школ второй ступени, нет и девятилеток, поэтому образование своих помощников он и обозначил, как гимназическое), ошибиться не могут, я за них ручаюсь. Ну, а если вы им не верите, – при этом стивидор обратился к капитану и джангуйдам-китайцам, – то давайте сделаем так. Завтра мы разгрузим всё, что погрузили, и если будет ваша правда, то Дальлес все расходы по этой дополнительной работе возьмёт на себя, но если правда окажется на моей стороне, то вы (он повернулся к китайцам) не получите ни копейки не только за эту дополнительную работу, но и за первоначальную погрузку, а вы, господин капитан, оплатите всё время, которое будет затрачено на дополнительный простой судна, согласны? Те, к кому он обратился, засмеялись. Конечно, оба они отвергли это предложение, и скрепя сердце, вынуждены были согласиться с тем количеством брёвен, которое насчитали Борис и Жора. Зато на следующий день помощники капитана, работавшие вместе с тальманами, отказались считать брёвна в плотах при доставке их к борту, и ребятам этот подсчёт пришлось производить без них. Во время погрузки около каждого из них беспрерывно вертелись члены команды судна, всячески отвлекая ребят от работы: то показывая им какие-нибудь картинки или открытки, как правило, скабрезного содержания, то предлагая купить или поменять на что-либо зажигалки, ножи и т. п. Их назойливость дошла до такой степени, что Борис и Жорка вынуждены были обратиться к Павлу Петровичу за помощью. Тот вновь поговорил с капитаном, и вскоре старший помощник капитана, накричав на вертевшихся около ребят матросов, заставил, к большому их неудовольствию, оставить русских счётчиков в покое. Одновременно Сабельников посоветовал своим помощникам: – А вы, ребята, пропустите два-три бревна в день, чёрт с ними. Убыток не так будет велик, зато и волки будут сыты, и овцы целы, ведь не будем же мы на самом деле для проверки счёта разгружать пароход. Нам нужно скорее его погрузить и отправить, чтобы получить деньги, золото, валюту. Понимаете, тут уж с потерей нескольких рублей считаться не приходится. Ну а с китайцами я сам поговорю, я им пообещаю некоторую надбавку к общей сумме, если они погрузят судно досрочно. Погрузка была закончена в три дня. Павел Петрович и его помощники, попрощавшись с командой, уехали на катере в Амбабозу, чтобы дожидаться следующего судна, а пароход «Судзи-Мару» снялся с якоря и отправился в Японию. По предварительным подсчётам, произведённым конторой Дальлеса, на реках Цемухэ и Майхэ находилось леса достаточно для загрузки четырёх таких проходов как «Судзи-Мару», значит, нужно было дожидаться прихода следующих трёх. Прибытие судна могло произойти со дня на день, и поэтому стивидор, его помощники и грузчики остались жить в Амбабозе. Но ждать можно было и два, и три, и даже пять дней, а это наших ребят и, в особенности, Бориса совсем не устраивало: он и так не виделся с Катей уже четыре дня, а разлука с ней ещё неизвестно на сколько времени для него была просто невыносима. Он уговорил Жорку. Под видом необходимости заменить бельё и запастись кое-какими продуктами (откровенно говоря, рис уже начинал им надоедать), они упросили своего начальника отпустить их в Шкотово хотя бы на один день, пообещав явиться на судно, если за это время оно появится, с первым же катером и плотом. Тот согласился. Выпросив у рыбаков посёлка Амбабоза кунгас, ребята отправились в путь. Им предстояло пересечь почти весь залив Шкотта, а его ширина достигала трёх морских миль или почти двадцати вёрст. Море было спокойным, и плыть на вёслах даже в такой большой и нескладной лодке, как рыбацкий кунгас, было не очень трудно, но зато медленно. Выехав часов в 8 утра, к устью Цемухэ ребята успели добраться лишь к часу дня. После непривычного труда, тяжёлых и неудобных вёсел, у них ломило плечи и спину, а на ладонях горели мозоли, но друзья на такие мелочи не обращали внимания: ведь скоро, в крайнем случае, вечером, они увидят девушек, встреча с которыми для них была верхом радости. Про то, что Борька Алёшкин дружит с Катей Пашкевич, знало почти всё село, а уж комсомольцы-то, безусловно, все, слишком открыто он не отходил от девушки ни на шаг. Но, как узнал Борис, и у Жоры была зазноба: он ухаживал за Нюрой Гамаюновой и, кажется, небезуспешно. Так что их обоих объединяло стремление встретиться со своими, как они про себя их называли, девушками. Поэтому на их лицах, когда ребята шагали от устья речки к центру села, не было и следа той усталости, которую они испытывали на самом деле. Добравшись до магазинов, находившихся в самом центре села, они накупили копчёной колбасы, крабовых консервов, солёной кеты, конфет, различных пряников и печенья, и всё это занесли на квартиру Бориса. Конечно, часть сладостей Борис отнёс к родителям, чтобы угостить младших братьев и сестру. Дома его появлению были очень рады, ребята, как всегда, подняли крик, мать его расцеловала, обрадовался и отец, хотя и не подал виду. За эти несколько дней, что Борис провёл на пароходе, он загорел, лицо его обветрилось и как-то повзрослело. Он, конечно, не преминул самым подробным образом рассказать о своей работе и о стычках с японскими офицерами по поводу подсчета брёвен, не обошлось и без обычного хвастовства. После его рассказов и Люся, и Борис-маленький, уже кое в чём разбиравшиеся – как-никак они уже были пионерами, представили себе старшего брата настоящим морским волком, ну а Женя был просто рад появлению старшего брата, которого он любил, и который в последнее время дома находился нечасто. За обедом, к которому Борис как раз успел, он рассказал, что ему, кроме зарплаты, за каждый день пребывания на пароходе будут платить по 3 рубля суточных, и стивидор уже выдал авансом 10 рублей. Отец, выслушав это сообщение, даже возмутился: – Ведь это просто безобразие! Прямо разврат для молодых: кормят, поят, платят жалование, да ещё и по 3 рубля в день! Чёрт знает до чего мы так дойдём! – кипятился он, однако в душе гордился тем, что его сын в состоянии много зарабатывать в такие молодые годы. И на самом деле, жалование Бориса равнялось жалованию отца и почти на 10 рублей превышало то, что получала мать, а тут ещё и эти 3 рубля в день! Борис больше половины дохода отдавал в семью, как бы в плату за своё питание, из другой половины платил за квартиру, остававшиеся деньги расходовал по своему усмотрению. Вечером в самом радужном настроении Борис отправился в клуб. Перед отъездом он предупредил Катю, что им, вероятно, не придётся видеться около десяти дней, а может быть, и больше, и сейчас его неожиданное появление в клубе должно было явиться для неё приятным, как он думал, сюрпризом. Правда, при последнем прощании Катя, хотя и позволила поцеловать себя несколько дольше, чем обычно, особой грусти не проявила, но в глубине души Борис был уверен, что ей тоже жалко с ним расставаться даже и на 10 дней, как и ему. Но в клубе его ждало горькое разочарование: сколько ни вертел он головой, сидя на скамейке во время начавшегося сеанса кино, сколько ни старался, Катю он так и не увидел, зато заметил Нюську Цион и, конечно, немедленно к ней подошёл. От неё он узнал, что с Катей в этот день встретиться так и не придётся: вся семья Пашкевичей выехала в поле на уборочные работы куда-то в сторону Стеклянухи, где и пробудет не менее недели безвыездно. Вероятно, поэтому Борис, не досидев даже до конца фильма, вернулся домой и рано лёг спать. На следующий день, разбуженный Жоркой в 6 часов утра, Борис, не захотев будить своих, тихонько собрал все закупленные продукты, надел чистое бельё и выскочил на улицу. Обратный путь оказался более лёгким: был отлив и, кроме того, движению помогало течение реки Цемухэ, нёсшей свои светлые воды довольно далеко вбухту. Поэтому в Амбабозе они очутились чуть позднее девяти часов. Ожидаемый пароход пришёл на следующий день. Наши молодые тальманы уже имели опыт и быстро нашли общий язык с представителями команды. Погрузка этого судна закончилась в три дня без всяких осложнений и происшествий. Но во время погрузки третьего парохода в самый разгар работы совершенно неожиданно откуда-то из-за сопок появились тёмные тучи, пошёл дождь, а ветер стал быстро усиливаться. Капитан гудками вызвал находившиеся у устья рек катера и потребовал, чтобы они немедленно увели от парохода остатки недогруженных плотов. Лишь только буксиры смогли зацепить своими тросами остававшиеся брёвна, как пароход поднял якоря и повернул в открытое море. В течение двух дней корабль кидало на разбушевавшихся волнах залива Петра Великого. Буря была несильной, но сравнительно небольшому судну, и главное, ещё не полностью загруженному, досталось порядочно. Как ни пытались оставшиеся на борту трюмные рабочие закрепить находившиеся там брёвна, это удавалось плохо, и то одно, то другое, сорвавшись со штабелей, размещавшихся в трюме, с грохотом катилось от одного борта к другому, грозя пробить его. Китайцам, беспрерывно работавшим в трюме, с трудом удавалось укротить разбушевавшееся бревно. В этой работе принимал активное участие и стивидор. В первые же часы бури Жорку укачало. Он завалился на пол каюты, отказался от всякой пищи и с позеленевшим лицом клял всё на свете: и бурю, и пароход, и самого себя за то, что согласился на эту чёртову работу. Борис переносил качку вполне удовлетворительно. Ему тоже было не совсем по себе: немного мутило, болела голова, но он был вполне в работоспособном состоянии, как сказал про него Павел Петрович, сам совершенно не реагировавший на качку. Через два дня буря так же внезапно, как и началась, прекратилась, пароход вернулся в бухту, встал на рейд, и погрузка его благополучно закончилась. Четвёртый пароход появился на горизонте ещё до того, как закончили с третьим, поэтому его погрузка происходила без всякого перерыва. Но оказалось, что количество заготовленного леса в Шкотовской бухте было недостаточным для того, чтобы его загрузить полностью. Один из кораблей имел не полторы, а две тысячи тонн водоизмещения, и взял леса больше других. Отправлять недогруженное судно было нельзя, и Сабельников решил отправиться на нём в бухту Находка, чтобы там догрузиться. В той бухте и в том районе работала уже другая контора Дальлеса, поэтому Алёшкин и Писнов могли вернуться на берег. Но Сабельников предвидел, что на подборку новых тальманов необходимо время, да, кроме того, расторопные и исполнительные ребята ему нравились, и он предложил им поехать с ним, чтобы принять участие в догрузке судна. Рабочих-китайцев свезли на берег – в Находке имелись грузчики из местных. Во время перехода судна из одной бухты в другую Павел Петрович приглашал своих помощников провести всё лето с ним, производя погрузку по всему побережью до самой Совгавани. Борису это предложение показалось заманчивым, ведь таким образом он смог бы посмотреть почти все бухты залива Петра, но Жорка категорически запротестовал: он и при этом-то переходе, в сравнительно спокойном море, чувствовал себя неважно и очень боялся повторения шторма. Единственной причиной отказа Бориса от предложения Сабельникова было то, что пришлось бы почти всё лето не видеться с Катей, а это уже было ему просто не по силам. Ребята согласились участвовать в догрузке этого судна, после чего попросили их рассчитать. По окончании погрузки друзья устроились на рыболовецкий катер, шедший в Амбабозу. Такие катера назывались «кавасаки», по названию мотора, стоявшего на них; сами же они представляли из себя обыкновенный кунгас, лишь частично покрытый палубой и имевший нечто вроде каюты, в которой помещался мотор. К этому времени добыча рыбы уже официально была национализирована, и у всех частников – и мелких, и крупных – рыболовецкие суда были отобраны. Некоторые из них передавались крестьянским рыболовецким артелям, остальные поступили в распоряжение государства. Катер, на котором плыли наши друзья, принадлежал рыболовецкой артели, правление которой находилось в Амбабозе. Мотор его, старый и давно уже требовавший хорошего ремонта, постоянно барахлил. Когда они находились где-то посередине залива Петра Великого, он окончательно заглох, и пока проклинавший всё на свете моторист возился с его починкой, судёнышко часов шесть болтало, как щепку. Несмотря на то, что катерок качало, пожалуй, сильнее, чём пароход во время бури, Жорка перенёс эту качку лучше. Возможно, сказалась привычка, а может быть, и сознание серьёзной опасности, грозившей им всем. Было их четверо: старшина катера, он же моторист, матрос – молодой парень и двое пассажиров – наших друзей. Чтобы катер не захлестнуло волной и не опрокинуло, необходимо было держать его всё время против волны. Сделать это можно было только при помощи двух больших и тяжёлых вёсел, которыми Борису и Жорке и пришлось основательно поработать. Матрос беспрерывно ручной помпой откачивал набиравшуюся воду, да временами рулём поправлял направление катера. В конце концов, мотор удалось починить, и катер прибыл в Амбабозу. Между прочим, мы уже несколько раз упоминали это название, а ещё до сих пор не объяснили, что оно означает. Дело в том, что бухта эта располагалась с внешней стороны довольно длинного мыса, занятого крутой скалистой сопкой, с противоположной стороны омывавшегося устьем реки Майхэ. По форме этот мыс напоминал голову черепахи с длинной шеей. Жившие в бухте китайцы, а может быть, и приезжавшие сюда хунхузы, окрестили этот мыс «черепашья шея», по-китайски – амбабоза, а от мыса получила название и бухта. Ребята так измучились за дорогу от Находки, что, приехав в Амбабозу, почти целые сутки проспали в домике того самого рыбака, у которого они останавливались вместе со стивидором. Когда они представили себе, что придётся снова плыть на тяжёлой лодке и грести увесистыми вёслами в течение нескольких часов, то основательно загрустили. Их выручил случай. В этот день в Шкотово оправлялся находившийся на побережье с обследованием рыболовецких артелей инспектор рыбнадзора (в Шкотове появилось и такое учреждение). Он ехал один и согласился взять ребят, разделив, таким образом, расходы по найму лодки на троих. Гребцы из местных рыбаков решили на этом подзаработать и содрали с путешественников непомерную по тем временам плату – по рублю с человека. Но Борис и Жора были готовы и на этот расход, лишь бы им не пришлось грести самим. Волей-неволей согласился с такой платой и инспектор, тем более что для него-то это обходилось дешевле: он до этого договорился, что его отвезут за полтора рубля. Так или иначе, но утром следующего дня лодка отправилась в путь. Кунгас этот видел на своём веку немало, а в его бортах и даже днище имелось достаточно щелей, пропускавших воду. Борису и Жорке приходилось всё время большой консервной банкой отчерпывать воду. Плавание проходило относительно благополучно, но около двух вёрст от устья Цемухэ из одной щели выскочила неплотно державшаяся там пакля, вода через образовавшееся отверстие хлынула в лодку, и тут уж никакое откачивание помочь не могло. Лодка начала наполняться водой и медленно погружаться. Это вызвало испуганный крик всех её пассажиров. Оказалось, что здесь уже достаточно мелко, и когда лодка коснулась дна, то все стоявшие в ней были лишь по шею в воде, впрочем, нашлись и исключения: Жорке вода доходила до подмышек, а маленький инспектор вынужден был держаться на плаву. Очутившись в воде, оба лодочника принялись отчаянно ругаться, кляня всё на свете и, конечно, прежде всего, ни в чём не повинных пассажиров. Ребята дружно рассмеялись, а инспектор, уже немолодой человек, к тому же одетый в кожаную куртку, суконные брюки и большие рыбацкие сапоги, да ещё вынужденный держаться на плаву, начал звать на помощь. К нему бросились оба парня. Жорка подхватил его за подмышки и потащил к берегу, где скоро стало так мелко, что тот мог стоять сам, а Борис подхватил его портфель, набитый бумагами, всякими актами и докладными, которыми он, видно, очень дорожил. Рыбаки занялись спасением своей лодки. Так, бредя по воде, все они и передвигались к низкому болотистому берегу. Путь этот для Бориса и Жорки был пустяковым, ведь одеты они были в тельняшки и бумажные брюки, а на ногах имели лёгкие сандалии. Вещей же у них с собой не было никаких. Совсем другое положение было у инспектора рыбнадзора: одетый в тяжёлую намокшую одежду, он еле переставлял ноги, и на преодоление оставшихся двух вёрст им пришлось потратить почти час. Ни у одного из парней даже и в мыслях не было бросить своего случайного попутчика. Так, все втроём они наконец и добрались до берега. Время стояло тёплое. Тёплой была и вода, ведь шёл июль месяц. Выйдя на берег, они разделись догола, разложили на небольшом бугорке свою одежду, сами улеглись на песчаной отмели и стали уже с шутками обсуждать происшествие. Всех их, в том числе и инспектора, повеселило то, что пытавшиеся ободрать их лодочники сами теперь очутились в весьма плачевном положении. Перевернув лодку днищем кверху, они тащили её к устью реки Цемухэ с тем, чтобы там получить помощь от рыбаков-корейцев, законопатить лодку и вернуться домой. Они понимали, что теперь ни о какой плате за перевоз они не имели права и заикаться. Горячее июльское солнце быстро высушило намокшую одежду наших путешественников, и часа в 4 дня они уже шагали по улице Шкотова, вызывая любопытные взгляды и пересуды редких прохожих. Их одежда после купания и сушки выглядела так, как будто её только что выстирали, выжали, кое-как просушили, а погладить забыли. Кроме того, один из них, обливаясь потом, тащил в руках кожаную тужурку и толстый портфель, набитый бумагами. Так возвратились Борис Алёшкин и Жорка Писнов из своей пароходной эпопеи, как они эту работу впоследствии называли. Через несколько дней Алёшкин получил очередной отпуск на две недели. Между прочим, в те времена отпуск такой длительности раз в году получали почти все служащие. Исключение составляли учителя, у которых отпуск длился месяц. Озьмидов посоветовал Борису вновь поступать в Лесной институт, так теперь стал называться лесной факультет ГДУ, его директором по-прежнему был Василевский. Алёшкин числился в отпуске по болезни и мог начать ученье на первом курсе без сдачи экзаменов. – Если же у тебя желание к серьёзной учёбе пропало, то я тебя откомандирую в главную контору Дальлеса для направления на работу на один из лесопильных или лесотарных заводов. Здесь ты успел практически выучиться уже всему, чему можно выучиться на участке заготовки леса, там поучишься делу лесообработки. Хотя и не будет у тебя высшего инженерного образования, так практическое будет! – так говорил заведующий шкотовской конторой Дальлеса Борис Владимирович Озьмидов, почему-то полюбивший этого юного, проворного и довольно способного паренька. Борис, уважавший своего начальника, дал обещание, что по окончании отпуска обязательно поедет в город и выяснит у Василевского возможность возобновления учёбы. Однако судьба опять перевернула его жизнь, опять направила её совсем по иному руслу…Глава седьмая
С первых же дней отпуска Борис попал в руки своих младших братишек. Ведь до сих пор Бобли, которого в шутку в доме ещё так продолжали называть, им почти совсем не уделял внимания около полутора лет, а тут он не работал, никуда не уходил по вечерам, как же им было не обрадоваться? Старший брат вместе с ними теперь целые дни проводил, или купаясь в речке Цемухэ, или бродя по окружающим село сопкам. Он и сам этому свободному времяпровождению очень радовался и, совсем забыв про свои взрослые заботы, которыми до этого были полны его дни, предавался отпуску с весельем и радостью. Единственное, что омрачало это счастливое время – отсутствие Кати: она всё ещё находилась в поле, расположенном где-то в районе села Новая Москва, верстах в 15 от Шкотова. Несколько раз он порывался пойти к Пашкевичам туда в поле, но не был уверен, что его примут хорошо. Хотя, находясь в лесу, Андрей и приглашал его заходить, но Катя, когда он ей об этом рассказал, запретила ему появляться в их доме категорически, грозя, что, если он только нарушит этот запрет, она с ним никогда больше вместе ходить не будет. Вот он и терпел. Прошло несколько дней, предстояло проводить очередное комсомольское собрание, и Алёшкин решил зайти в райком, чтобы посоветоваться о повестке дня. Там его встретил Гришка Герасимов: – Вот здорово, что ты пришёл, а то я уже собирался к вам домой, чтобы тебя разыскать! Смага вчера велел тебя непременно найти и привести к нему, пойдём! – Да что случилось-то? В нашей ячейке что-нибудь? Или куда-нибудь в район идти с обследованием? Так я не пойду, я в отпуске! Следует заметить, что, несмотря на то, что Шкотовский район занимал значительную площадь, достигавшую в ширину километров 60 и в длину более 100, большинству работников обоих райкомов и райисполкома с заданиями по проверке или обследованию ячеек ВЛКСМ и ВКП(б) приходилось отправляться пешком, если не случалось попутной подводы, а последнее бывало редко. – Идём, идём, там узнаешь! – загадочно усмехаясь, торопил его Гриша, не отвечая на его вопросы. Через несколько минут Борис сидел в кабинете секретаря райкома ВЛКСМ Захара Смаги. Помещения райкома партии и комсомола занимали несколько смежных комнат в одной из казарм гарнизона. Комнат не хватало, поэтому в кабинете секретаря ВЛКСМ сидела ещё заведующая женотделом райкома партии – Матрёна Ивановна Костромина. Муж её работал завагитпропом этого же райкома, оба они в прошлом служили учителями и через Анну Николаевну были знакомы с Борисом. Во время разговора Смаги с Алёшкиным Костромина сидела за своим столом и время от времени бросала реплики. Кроме них, примостившись на подоконнике большого окна, сидел председатель районного бюро юных пионеров Манштейн. – Вот что, товарищ Алёшкин, – начал Смага, – посоветовавшись между собой и в райкоме партии, мы решили назначить тебя председателем бюро юных пионеров нашего района. Ты знаешь, что товарищ Манштейн, присланный губкомом, долго не соглашался идти на эту работу. Он работал в депо Первой Речки секретарём ячейки, и его решили выдвинуть, ну а работа с детьми его не интересовала, не привлекала, и чуть ли не с первых дней её он начал просить об освобождении. Короче, хотя мы и надеялись, он эту работу не полюбил! – Поэтому она у него и не получается! – вставила своё замечание Костромина. – Ну а ты, как мы знаем, – продолжал Смага, – этой работой увлечён. Новонежинский отряд, организованный тобой, считается одним из лучших, да и здесь ты почти ни одного пионерского сбора не пропускаешь, твоя помощь вожатым очень заметна! Борис собирался было возразить, но вовремя одумался. Ведь на сборы шкотовского пионеротряда он ходил, если честно сказать, только потому, что вожатой этого отряда была Катя Пашкевич. Общаясь с её пионерами, он получал возможность чаще с нею видеться, a помогая ей, больше и дольше общаться. Но, конечно, это возражение привести было нельзя, он промолчал. – Да, кроме того, и образования-то у Манштейна маловато, всего только 4 класса, а эта работа требует, по крайней мере, среднего образования. Ведь вожатый – это своего рода учитель! Мы думаем, что ты с этой работой сумеешь справиться. Биографию твою мы знаем, обсуждали. Знаем, что твой отец в царской армии офицером служил, но знаем также и то, что потом он служил командиром Красной армии, теперь у неё в запасе числится, так что это не препятствие. Правда, плохо, что ты ещё беспартийный, ну да это дело наживное. Проявишь себя на работе, останешься таким же активным комсомольцем, каким тебя знаем, я первый тебе рекомендацию дам! – Да и я не откажу! – добавила Костромина. Борис, наконец, нашёл возможность вставить слово: – Товарищ Смага, я же собираюсь в институт поступать. В прошлом году экзамены сдал, не учился только потому, что болел. Теперь-то я здоров… – несмело сказал он. – Ну, брат, сейчас нам пока не до учёбы, не до институтов! Вот поработаешь годика три-четыре в райкоме, тогда и об учёбе поговорим, – несколько раздражённо заметил Смага. – Подумай над моим предложением до завтра и утром дай нам ответ. Когда Борис и Манштейн вышли из кабинета Смаги, Манштейн умоляюще сказал: – Послушай, Борис, прошу тебя, как друга, соглашайся! Я, наверно, совсем пропаду на этой работе: не умею я с этими ребятами, не понимаю я их, да и они меня тоже. Трудно мне ими руководить, ведь почти все вожатые отрядов – учителя, да и сами пионеры грамотнее меня. Ну, поработай немного, а там, может быть, и ещё кого-нибудь найдут… – Хорошо, я подумаю, – произнёс Борис и направился домой. Вечером этого дня, когда младшие ребятишки улеглись спать, в семействе Алёшкиных между Яковом Матвеевичем, Анной Николаевной и их старшим сыном состоялся семейный совет. Борис рассказал о предложении Смаги и добавил, что ему это предложение по душе. Вообще-то говоря, Бориному тщеславию льстило то, что он будет оплачиваемым сотрудником райкома и своего рода районным начальством, но в то же время его действительно интересовала работа с детьми. Яков Матвеевич после рассказа сына спросил: – Ну, а как же с учением? И потом, что это за специальность такая – председатель бюро юных пионеров? Ну а подрастёшь немного, куда же потом-то пойдёшь? Нет, Борис, по-моему, соглашаться не стоит. Да и про меня не забудь: сейчас ты нужен, так на моё прошлое внимания не обращают, ну а потом, может быть, через несколько лет, припомнят тебе его. Да при первой твоей ошибке тебе его обязательно напомнят, – он задумался и несколько минут помолчал. – А, впрочем, думай сам, я тебе мешать не стану. Может быть, эта новая работа тебе более широкую дорогу в жизни откроет, как знать? А сколько там хоть платить-то будут? Борис смутился. О жаловании он как-то и не подумал. Он знал, что работники райкомов, по рассказам Гришки Герасимова, имеют небольшие оклады, а ведь он в Дальлесе получал уже порядочно. Он видел, что отцу и матери приходится много работать, чтобы свести концы с концами, обеспечивая свою большую семью. За себя он уже второй год платил сам, а иногда давал матери и сверх этого, вот хотя бы и сейчас: получив от стивидора при расставании почти двадцать рублей сверх жалования, выданного в конторе, он дал немного денег маме, и они пришлись очень кстати. Но тут вмешалась Анна Николаевна: – По-моему, Борису нужно обязательно соглашаться. Ведь работа с юными пионерами – это та же педагогическая работа, она будет для Бориса как бы практикой, подготовкой к будущей педагогической деятельности. Станет постарше, перейдёт в школу учителем! Она горячо любила свою профессию и её очень огорчало то, что старший сын не пошёл по её стопам, а занялся каким-то непонятным и неинтересным, с её точки зрения, делом, связанным с разъездами по лесу. А тут – прямая дорога в учителя. Смущало её только одно: – Ну, а если ты женишься? Как же тогда? Председатель бюро юных пионеров и женатый? Ведь у тебя дело-то, кажется, к этому идёт? Последние слова матери заставили Бориса покраснеть и он, запинаясь, ответил: – Ну что ты, мам! Ещё когда я женюсь! Ведь тут дело не во мне только, Кате ещё учиться нужно… А потом, Смага – секретарь райкома, ведь женат, Володька Кочергин тоже, почему же я не смогу? Таким образом, было решено, что Борис принимает предложение Смаги. Ему хотелось бы, конечно, обязательно посоветоваться ещё с одним человеком, с Катей Пашкевич. Он знал, что её мнение в этом вопросе может стать решающим, но её в селе не было, и неизвестно, когда она вернётся. Идти и разыскивать её где-то в поле он не решался, а ответ нужно было дать не позднее чем завтра. «А, будь что будет!» – решил он. Утром следующего дня, в 9 часов утра Борис Алёшкин в сопровождении сияющего Манштейна стоял перед Смагой и докладывал о своём согласии принять должность председателя райбюро юных пионеров по Шкотовскому району. Захар Смага, выслушав Бориса, попросил его подождать, а сам направился к секретарю райкома ВКП(б) товарищу Бовкуну. Вернулся он от него минут через десять и заявил, что Бовкун согласен и что теперь дело только за окончательным оформлением Алёшкина, после чего он сможет приступить к работе. Повернувшись к Манштейну, Смага сказал: – Ну что же, поезд ещё не ушёл, вы сможете прямо сейчас и ехать. Борис удивился: – Куда ехать? Зачем? Ведь я буду работать в райкоме, значит, оформляться здесь нужно? Но он ничего не успел спросить, потому что Манштейн схватил его за руку и торопливо потащил к выходу. Заметив удивлённый взгляд Бориса, он сказал: – Пойдём скорее, а то на поезд опоздаем, он вот-вот подойдёт! – Да куда же, зачем мы должны ехать? – спрашивал Борис, следуя за своим спутником. – В поезде я тебе всё объясню, скорее, скорее! Видишь, поезд уже стоит. Когда поезд отошёл от станции, ребята уселись около открытого окошка вагона, Манштейн наконец-таки рассказал, куда и зачем они едут. Оказалось, что должность председателя бюро юных пионеров в шкотовском райкоме ВЛКСМ, как, впрочем, во многих других, не была предусмотрена штатным расписанием: слишком незначительные средства отпускались на содержание аппарата райкома, а тогда должного значения работе с детьми как-то не придавали. Однако быстрый рост детского коммунистического движения настоятельно требовал такого человека. Раньше всех это поняли в Наркомате путей сообщения, имевшем в то время для детей железнодорожников свои специальные школы. Говорили, что предложение об организации коммунистического воспитания детей в этих школах внёс сам Дзержинский. Так вот, при каждой железнодорожной школе, а такие имелись на всех крупных узловых станциях, была введена должность инспектора деткомдвижения, обязанного обслуживать эту школу, а также и близлежащие, находившиеся на более мелких станциях. Руководство деятельностью этих инспекторов осуществлял комсомол. ЦК ВЛКСМ договорился с наркоматом о том, чтобы в тех районах, где не было штатных работников, руководящих работой среди пионеров, эту работу выполнял тот же человек, который находился на должности инспектора при школе. Таким образом и получилось, что председатель шкотовского бюро юных пионеров, подчиняясь в своей работе шкотовскому райкому ВЛКСМ, обслуживая все отряды этого района, в то же время был служащим железнодорожной школы, расположенной на станции Угольная. Вот в эту школу и ехали они, чтобы там произвести оформление нового работника. Оба они полагали, что это дело нескольких минут, максимум – пары часов. На самом деле произошло не так. Директор школы, с которым Манштейн познакомил Бориса, пожилой высокий человек в больших круглых серебряных очках, предложил тому написать автобиографию, и дал анкету для заполнения. После того, как все эти документы были готовы, приложил к ним отношение из ВКП(б) с просьбой об утверждении Алёшкина вместо Манштейна, предусмотрительно захваченное последним, вызвал секретаря и поручил ей отослать все эти документы в отдел кадров управления железной дороги. При этом он сказал, обращаясь к ребятам: – Хорошо, я возражений против кандидатуры товарища Алёшкина не имею. У него законченное среднее образование, и это для школы даже лучше, но вопрос о допуске к работе решаю не я, а управление дороги, находящееся в Хабаровске. Я надеюсь, что там вопрос рассмотрят быстро, и через неделю или дней через 10 поступит ответ. Тогда я вас, товарищ Алёшкин, вызову. Вы познакомитесь с нашими вожатыми, их у нас в школе два, так как мы же имеем два отряда, они из местных комсомольцев, но тоже получают небольшую зарплату и от нас. Познакомитесь и с вожатыми других школ, которые вам предстоит обслуживать. Возвратившись в Шкотово и доложив обо всём Смаге, Манштейн получил распоряжение готовить дела к сдаче, а Алёшкину разрешили продолжать отгуливать свой отпуск. В этот же вечер, проходя с Мурзиком по линии железной дороги, с которой хорошо виднелся огород и часть двора Катиного дома, Борис, с тоской поглядывая в этом направлении, увидел Катю, шедшую между грядок. Её красненький платочек и тоненькую фигурку он теперь мог бы узнать и не на таком расстоянии. Он сразу же засвистел уже полюбившуюся всем комсомольцам и пионерам недавно появившуюся песенку: «Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка…» Катя услышала свист, обернулась, заметила парня и приветливо помахала ему рукой. Через несколько минут, как только Борис поравнялся с аптекой, находившейся в одном из домов, принадлежавших Пашкевичам, и расположенной рядом с воротами Катиного двора, калитка в воротах открылась, и из неё выскользнула хрупкая девичья фигурка. Поравнявшись с парнем, она быстро направилась в сторону железнодорожного переезда, поспешил за ней и Борис: – Катя, ты надолго? Здравствуй! – Здравствуй! На сегодня и на завтра, послезавтра опять в поле уеду. Мы приехали с Андреевой женой Наташей за продуктами и по другим делам, все остальные в поле остались. Я потому и выскочила. Наташа себя что-то плохо чувствует, мы помылись в бане, и она спать легла, вот я и смогла выйти, а то, думаю, он будет полночи свистать мне и всем соседям спать не даст. Ну, чего ты рассвистелся? Услышат соседи, посмотрят, опять болтать будут. Я бы и так вышла на улицу. – Вот хорошо, что ты приехала! – Приехала? Пешком пришла, это Наташа приехала! Сначала хотели её одну отправить, а уж потом, когда она уехала, я стала проситься. Андрей, видно, догадался, что я кого-то увидеть хочу, он маму и уговорил: «Пускай уж и Катерина в село сходит, может чем-нибудь там Наташе поможет, а послезавтра вместе приедут». Я сразу же и пошла, почти три часа шла! – Так ты устала? А мне тебе столько рассказать надо! – Ну ничего, я двужильная, как Андрей говорит, выдержу. Сходим в клуб и отосплюсь! – А сегодня в клубе ничего нет, да я и не хочу в клуб, там народу много, ребята начнут с разными расспросами приставать. А я хочу с тобой, только с тобой быть! Мне тебе так много рассказать надо, – повторил Борис. – Ну ладно, но куда же мы пойдём? Здесь по улице ходить у всех на глазах я не согласна. – Слушай, Катеринка, поедем на лодке кататься? – На лодке? На ночь глядя? Да ты с ума сошёл! Да и где мы сейчас лодку возьмём? – Это ничего, что вечер, на море-то сейчас самая красота и есть. И насчёт лодки не беспокойся, я теперь могу, когда хочешь, лодку достать. Ну поедем, а? Девушка посмотрела на своего спутника внимательно и вдруг неожиданно тряхнула головкой так, что её мягкие, чуть волнистые, подстриженные под скобку волосы рассыпались, закрыв часть лица, и решительно сказала: – Ладно, поедем! Борис был вне себя от радости. Сопровождаемые весело бежавшим Мурзиком, они быстро пересекли центральную часть села, корейский посёлок и через каких-нибудь двадцать минут, держась за руки, уже более медленно шли по узкой тропинке, извивавшейся между кустами ивняка по берегу Цемухэ. Совсем стемнело, сзади кое-где вспыхнули огоньки в окнах домов, впереди виднелся яркий огонь костра, очевидно, разложенного на ночь сторожем, находившемся у бона. Там собралось около сотни брёвен, которые не попали в общий поток сплава и сейчас медленно приплывали поодиночке, разыскиваемые в разных закоулках реки специальными рабочими. В дальнейшем их предстояло выкатить на берег, сложить в штабель и продать. Сейчас их нужно было охранять – на них легко могли покуситься и крестьяне из Шкотова, и корейцы, приходилось держать специального сторожа. Катя уже, кажется, осудившая себя за несколько необдуманное решение, замедляла шаг и готова была вернуться назад. Она испугано оглядывалась по сторонам, но Борис, крепко взяв девушку под руку, продолжал тащить её к устью реки. Возможно, Борису бы не удалось увести Катю к реке, если бы рассказ его не был так интересен. Он рассказывал о предложении Смаги, о том, как происходил приём его директором школы, и о том, какая интересная работа у него теперь будет. В этом рассказе он, невольно увлекаясь своими планами будущей работы, рисовал такие заманчивые картины, в которых и ей, Кате, отводилось не последнее место, что девушка, в конце концов, загоревшись его планами, приняла в обсуждении горячее участие и шла за ним уже без сопротивления. Наконец, они пришли к бону. Оставив Катю и Мурзика в некотором отдалении от костра в относительной темноте, Борис подошёл к самому костру, около которого сидел старый кореец со своей неизменной трубкой, испускавшей вонючий дымок, держа на палочке крупную корюшку, которую не то жарил, не то вялил над костром. Множество этой рыбы лежало вокруг на земле, устилая её на несколько квадратных метров довольно толстым слоем. Этот кореец и был сторожем у бона. Узнав подошедшего Бориса, которого уже много раз видел на боне и знал, что он служит десятником в Дальлесе, кореец приветливо предложил ему подвяленную корюшку и спросил: – Тебе гуляй капитана? Кушай лыба, свежий, только поймал! – Я хочу на лодке покататься, где маленькая лодка? – так Борис назвал небольшой ялик, которым пользовались сплотчики, подтаскивая одиночные брёвна. – Катайся мала, мала! Лодка там, плотока, бели. Весло там! Борис прошёл к указанной протоке, позвав с собой Катю и Мурзика. Эта протока была одним из разветвлений устья Цемухэ, представляла из себя неширокую канаву, заполненную водой. Лодка стояла у противоположного берега, нужно было по бону перейти на ту сторону. Борис рассказал Кате, что о лодке он договорился, но что к ней можно добраться, только перейдя протоку. Катя и слышать не хотела о том, чтобы идти по бону: – Ты совсем с ума сошёл? Ведь там сторож сидит, он меня увидит, там же костёр горит! Нет, Борька, ну его, это катание, совсем! Да уже поздно, пойдём лучше домой, а то вдруг меня Наташа хватится? – Катерника, милая моя, любимая, ну ты же обещалась! Поедем немножко, совсем недолго, а? Ладно? – Борис умолял таким тоном, так ласково гладил её по руке, которую крепко держал в своей, что девушка не выдержала и согласилась. – Ну ладно, если ненадолго, так и быть, поеду. Только переходить будем через протоку, на свет я не пойду. Через несколько минут они стояли на берегу протоки шириной шагов в десять, с берегами, поросшими осокой. У противоположного берега темнел силуэт лодки. Летом эта протока обычно почти пересыхала, глубина её не достигала и полуметра, но в Приморье после дождей, а в устьях рек и после приливов, такие протоки заполнялись водой и достигали довольно значительной глубины. Борис уже часто бывал в районе устья Цемухэ и сразу же, как только они подошли на берег протоки, определил, что воды в ней порядочно и что для того, чтобы её перейти вброд, надо снять штаны. Недолго думая, он скинул брюки, связал их в узелок и перебросил на противоположный берег. Катя видела это и предположила, что её спутник переправится на ту сторону, чтобы перегнать лодку сюда, но Борис решил по-другому: он подошёл к девушке, совершенно неожиданно обнял её и, взяв на руки, как маленького ребёнка, вошёл в воду. Всё это случилось так быстро, что, когда она опомнилась, они находились уже почти на середине протоки, где вода достигала парню почти по пояс, и девушке в его руках ничего не оставалось, как только покрепче обхватить его за шею и прижаться к нему всем телом. Чувствуя прикосновение Катиных рук и её тела, ведь она была одета в тоненькое ситцевое платьице, Борис был на вершине блаженства. Переправа заняла не более трёх минут, и вот уже Катя сидела на корме лодки. На носу примостился Мурзик, прыгнувший в воду вслед за хозяином, а Борис, оттолкнув лодку на середину протоки, ухватился за вёсла и направил лодку к выходу, на шумевшие впереди небольшие буруны от медленно набегавших из океана волн. Хотя нести свою любимую Катеринку ему было и очень приятно, но всё же он вздохнул с облегчением, когда очутился на суше, а она поспешила выскользнуть из его рук. Весила она, наверно, пуда три с половиной, а он не привык к переноске таких тяжестей. Но, пожалуй, главное было и не в этом: во всё время пути со своей драгоценной ношей на руках он боялся действий девушки после того, как её перенесёт, он боялся, что она рассердится и откажется от катания. К его огромной радости, Катя, соскочив с его рук и оправив завернувшееся платьице, сама помогла ему спихнуть лодку, врезавшуюся довольно глубоко в мягкий песчаный берег протоки, и, проходя затем на корму, шлёпнула парня по спине и шепнула: – Чего это ты меня, как маленькую, подхватил? Что я, сама не смогла бы перейти? Тоже мне, рыцарь выискался! Ну, поплыли, что ли, поскорее, да и домой пойдём. Когда они выехали из устья реки на взморье, пересекли ряд невысоких бурунов, перекатывающихся через песчаную косу, выдававшуюся довольно глубоко в бухту, и очутились на спокойной глади залива, Катя, отдавшись прелести этой ночной прогулки, кажется, забыла все свои страхи и опасения и так же, как Борис, с восторгом глядела на тёмное, почти чёрное море, на искрящиеся фосфорическими блёстками капли воды, стекающие с вёсел, на такие же искрящиеся брызги, возникающие около носа лодки. Опустив обе руки в воду и откинувшись на спину, она глядела на восходящий из-за сопок огромный диск почти красной луны, очевидно, испытывая настоящее наслаждение. Однако она не забывала сердито покрикивать на своего спутника, как только он оставлял вёсла и пытался пересесть к ней на корму. Тому волей-неволей приходилось оставаться на месте. Но и то, что его Катя находилась тут, вблизи от него, и его ноги иногда прикасались к её голеньким пальчикам (оба они, конечно, были разуты), уже доставляло ему большое счастье. Мурзик, свернувшись в клубок на носу лодки, мирно посапывал, он уже спал. Они заплыли почти на середину бухты и, продолжая сидеть на своих местах, изредка перебрасывались отдельными фразами. Говорить не хотелось, тем более что Борис ещё дорогой рассказал Кате о своей предстоящей работе и очень обрадовался, когда она одобрила его решение об уходе из Дальлеса и переходе на работу в райком ВЛКСМ. Между тем летняя короткая ночь подходила к концу. Вдруг как-то неожиданно для обоих, слева над сопками появилась сперва розовая, затем оранжевая и, наконец, покрасневшая полоска неба, быстро расширявшаяся вверх. Первой опомнилась Катя: – Ой, Борька, что же мы наделали! Уже рассвет начинается! Теперь до восхода солнца и домой не попадём, греби скорей назад! Она встала, подошла к Борису: – Подвинься! Давай грести вместе, скорей доплывём. Конечно, когда они стали грести вдвоём, дело пошло лучше. Лодка помчалась к берегу с большой скоростью. Надо сказать, что это был не обыкновенный рыбацкий кунгас, а настоящая морская шлюпка, приобретённая у кого-то из жителей прибрежных заимок. Она обладала хорошим ходом и была легка в управлении. Как ни спешили наши гуляки, но к берегу они смогли пристать, когда первые лучи солнца уже золотили сопки, на которых располагался гарнизон. По настойчивой просьбе Кати, они чуть не бегом понеслись по направлению к селу. На его улицах стоял ещё предрассветный туман, солнышко их пока не освещало. Катя не переставала повторять: – Эх, Борька, что же мы наделали! Наташа уже встала, что я ей скажу? Как я теперь домой покажусь? Ведь она всё Андрею и маме расскажет, и зачем я только согласилась на эту прогулку? – А разве плохо было? Ведь хорошо, и я себя хорошо вёл! – Да хорошо, хорошо, и прогулка чудесная, но вот что я дома скажу, как объясню своё ночное отсутствие? – А ты не ходи домой, пойдём ко мне! От возмущения Катя даже остановилась. А они как раз находились напротив дома, где была квартира Алёшкиных и Бориса. – Борька, ты просто ненормальный! И как ты только мог такое выдумать? До свидания, не смей за мной ходить! – и она бросилась к своему дому. Борис понуро пошёл к себе, он почувствовал, что сказал что-то обидное для девушки, и ему стало неловко. Он боялся, что она так обидится, что больше с ним и видеться не захочет. Но, как потом выяснилось, эта прогулка у Кати осталась без особых последствий. Может быть, Наташа и подозревала что-то, но, когда девушка пришла к себе, она не подала никакого знака, что услышала возвращение гулявшей. А сама прогулка Кате, очень любившей море, так понравилась, что она ещё не раз соглашалась повторить её. Правда, теперь они отправлялись кататься не ночью, а днём или ранним вечером, и не одни с Мурзиком, а в сопровождении одного из учеников ШКМ, преданного, но чрезвычайно робкого Катиного поклонника Серёги Рыбкина, умного, способного ученика, очень близорукого, носившего большие круглые очки. По мнению Кати, такие прогулки втроём были более приличными, а главное, присутствие третьего лишнего сдерживало страстные порывы Бориса, который становился всё более горячим, а сама она, очевидно, на свою сдержанность и самообладание уже не надеялась. И хотя Борис продолжал называть Катю «моя холодная льдинка», по всему стало заметно, что эта «льдинка» не только начала таять, но и сама может превратиться в обжигающий кипяток. Между тем отпуск Бориса подходил к концу. Через два дня ему предстояло или уволиться из Дальлеса, или вернуться на свою работу. Мысли об учёбе у него как-то сами собой отпали, он понимал, что если начнёт учиться, то о женитьбе на Кате можно будет только мечтать, она будет возможна не раньше, чем через пять-шесть лет. А Боря был уже в таком состоянии, что не мог не думать о том, чтобы жениться на ней хоть завтра, и уж, во всяком случае, немедленно после того, как она окончит школу. Как-то раз, поджидая Катю, обещавшую в этот вечер прийти с поля домой, Борис бродил по главной улице села. Он услышал, как его окликнули. Обернувшись, увидел Гришку Герасимова, торопливо догонявшего его: – Борис, где же ты запропал? Почему в райком не заходишь? Я тебя уже второй день ищу! Пойдём сейчас же к Смаге, он уже сердиться начал. Понимаешь, приказ по Управлению железной дороги об освобождении Манштейна и назначении вместо него тебя уже три дня тому назад пришёл. Манштейн, как только получил его, а он его и привёз из Угольной, сразу же пришёл к Смаге, положил перед ним папку с директивами, поступившими за время его работы из губкома, и заявил, что больше у него никаких дел нет, что сдавать ему нечего и что он в этот же день уезжает во Владивосток. И сколько Смага и даже Матрёна Ивановна Костромина на него ни кричали, он твердил только одно, что больше ни на один день в райкоме не останется. Смага велел тебя разыскать, а тебя всё дома нет, где-то на море пропадаешь. Что ты там делаешь? Рыбу, что ли, ловишь? Борис усмехнулся: – Рыбу, да ещё какую крупную, никак вытащить не могу! – Да ну тебя, всё шуточки! Вот погоди, Смага тебе задаст! Замечание Гриши оказало своё воздействие: Борис прибавил шагу, и через полчаса они уже были в райкоме. Смага предложил Борису на следующий день поехать на станцию Угольная, закончить там своё оформление и немедленно приступать к работе. Возвращаясь из райкома, Алёшкин, зайдя по дороге в контору Дальлеса, подал заявление об увольнении. Озьмидов, полагая, что Борис увольняется для того, чтобы поступить в институт, препятствий чинить не стал, немедленно подписал заявление, Ковалевский сразу же написал приказ. К вечеру этого же дня Борис Алёшкин уже не состоял в списках сотрудников шкотовской конторы Дальлеса. Ранним утром следующего дня Борис выехал на станцию Угольная. В школе уже знали о его назначении, и секретарь директора, передав ему выписку из приказа по Управлению дороги, направила его во Владивосток, где помещалась контора железнодорожного отделения, за получением соответствующих документов. Во Владивостоке, в отделении дороги, находившееся на бывшей Алеутской улице, в нескольких шагах от вокзала, ему и выдали всё полагающееся. Между прочим, уже более года эта улица была переименована в улицу 25 Октября, но большинство жителей Владивостока продолжали по старой памяти называть её Алеутской. Борис получил удостоверение личности – небольшую коричневую книжечку в картонном переплёте, с наклеенной на одной стороне его фотографической карточкой и красиво написанными фамилией, именем и отчеством. На другой стороне было напечатано: «Инспектор детского коммунистического движения при школе № 24 ст. Угольная». Номер школы и название станции были вписаны чернилами. Мы забыли сказать, что при отправлении заявления и анкеты в Хабаровск, директор школы потребовал приложить к ним и 4 фотокарточки, размером три на четыре сантиметра. Карточки сделал через час бродячий фотограф-китаец, как всегда, сидевший на перроне станции Угольная. Платил за карточки Манштейн, которому не терпелось поскорее развязаться с надоевшим ему нелюбимым делом. В те годы таких китайцев-фотографов в Приморье было почему-то очень много. Они заполняли базары городов и посёлков, почти всегда околачивались на всех станциях железной дороги, часто появлялись и в сёлах. Лишь через несколько лет Борис узнал, что многие из этих фотографов занимались не только таким невинным делом, как изготовление дешёвых моментальных, как их тогда называли, фотографий, а снимали кое-что и для себя. Это «кое-что» почему-то всегда оказывалось или воинскими казармами, или железнодорожным мостом и вокзалом, или помещением какого-нибудь предприятия. Но вернёмся к тому, что же ещё получил Борис, кроме удостоверения личности, которым он, кстати сказать, очень гордился: такого в райкоме комсомола не было ни у кого, у всех были просто бумажки со штампом и печатью. Такую же потом получил и Борис, в ней было напечатано на машинке, что он, Алёшкин Б. Я., является председателем районного бюро юных пионеров при шкотовском райкоме ВЛКСМ. Здесь же он получил расчётную книжку, на передней странице которой вновь была написана его фамилия, инициалы и занимаемая должность, а также и проставлен оклад жалования. Оказалось, что его месячная зарплата равнялась 57 руб. 50 коп., то есть была почти на 15 рублей больше той, которую он получал в Дальлесе. Затем он получил служебный билет, на котором, кроме фамилии и записей о его должности, было напечатано, что он имеет право бесплатного проезда в любом вагоне, любом поезде, и даже на паровозе от станции Владивосток до станции Кангауз и Раздольное. Также ему выдали книжечку с отрывными билетиками от ст. Шкотово до Владивостока. Такие книжечки назывались провизионками, по их билетику мог ехать он сам и любой из его родственников на указанное в билете расстояние. Введены они были ещё в начале двадцатых годов, когда железнодорожные служащие ездили за многими промтоварами, да и за продуктами, в большие города. Теперь надобность в таких провизионках отпала, но, поскольку приказ ещё продолжал действовать, их регулярно раз в год выдавали. Инаконец, последнее, что получил к большому своему удовольствию Алёшкин, было жалование за полмесяца – более 25 рублей. Приказ о его зачислении гласил, что он считается работающим со дня подачи заявления. На радостях он, конечно, накупил разной ерунды, главным образом, сладостей и деликатесов для угощения своих, а при случае и Кати. Теперь она от него иногда кое-какое угощение принимала и даже позволяла брать для неё билеты в клуб на кино. Со следующего дня началась его работа в райкоме ВЛКСМ. Он и раньше любил чувствовать себя вожаком, да надо признать, что и умел им быть, но теперь, когда ему представилась возможность руководить пионерами целого района, он загорелся, отдаваясь работе со всей страстностью, со всей энергией своей увлекающейся натуры. Это не замедлило принести плоды. Через полгода пионерская организация Шкотовского района стала одной из лучших в Приморской губернии. Численность пионеров по району достигла 1500 человек, превысив количество комсомольцев почти в два раза. При каждой комсомольской ячейке имелся пионерский отряд, в то время как до вступления Алёшкина в должность отряды были едва ли у половины ячеек. Эти отряды регулярно проводили еженедельные сборы, вели большую работу: антирелигиозную пропаганду, мероприятия по ликвидации неграмотности, занятия физкультурой, организацию критики недостатков в работе отдельных руководителей и сельских служащих своего села (главным образом, через выпускаемую стенгазету), борьбу за лучшую успеваемость в учёбе и многое другое. В 60–70-е годы XX века в ряды пионеров вступал чуть ли не автоматически каждый школьник по достижении 9 лет, и ему в этом никто не чинил никаких препятствий, ведь он являлся сыном советского гражданина. Но в 1920-е годы не всех принимали в пионеры, ведь в городе ещё существовали остатки капиталистических классов – кулаки и нэпманы. Кроме того, далеко не все родители, особенно в деревнях, разрешали своим детям вступать в эти безбожные организации. Не раз случалось, что пионер, идя домой, должен был снимать и прятать свой галстук. Много таких препятствий было в Приморье, где к тому времени советская власть существовала открыто менее четырёх лет. Рост пионерских организаций района за полгода более чем вдвое считали большим достижением. После принятия должности от Манштейна Борис решил прежде всего обновить состав районного бюро юных пионеров. Раньше это бюро состояло из случайно назначенных самим Манштейном комсомольцев шкотовской и ближайших сельских ячеек. Часто эти комсомольцы, у себя в ячейке никакого отношения к пионерам не имея, относились к назначению как к неприятной и нудной нагрузке. Заседания бюро происходили редко и скучно, на них присутствовали далеко не все его члены, ограничивалось оно зачитыванием указаний, присланных из губкома комсомола. Борис, ещё в бытность свою пионервожатым в селе Новонежино, выписывал журнал «Вожатый» и газету «Пионерская правда». Переехав в Шкотово он продолжал получать и журнал, и газету, и не только сам их читал, но и давал вожатым пионеротрядов села, в том числе, в первую очередь, Кате Пашкевич. Иногда они вместе обсуждали какую-нибудь статью «Вожатого» и пробовали провести в шкотовском отряде те или иные мероприятия, рекомендованные журналом. Мы помним одно из таких мероприятий: посещение шкотовским отрядом Новонежина. Теперь Борис всё чаще прибегал к рекомендациям этого журнала. Он добился того, чтобы большинство вожатых района выписали его. Конечно, старый состав районного бюро Алёшкина не удовлетворял. Он считал, что бюро должно состоять из вожатых пионеротрядов, но самых грамотных и желающих работать с пионерами. Решил он также и то, что назначение в бюро по решению председателя неправильно: вожатые должны сами выбрать свой руководящий орган, и только в случае необходимости в него следовало бы кооптировать необходимых людей. Своё мнение Алёшкин изложил на заседании бюро райкома ВЛКСМ, подкрепив его соответствующими статьями из журнала «Вожатый». Его предложение встретили одобрительно. Затем Борис заявил, что для проведения этой работы необходимо провести слёт пионервожатых района, избрать новое бюро, познакомиться со всеми вожатыми отрядов и в случае необходимости кого-то заменить. Он мотивировал тем, что за короткий срок ему не удастся обойти все отряды района, а, собрав вожатых вместе, этот вопрос можно легко решить. Кроме того, такой сбор поможет более опытным и грамотным вожатым поделится своими знаниями с остальными. Услышав это предложение, Смага забеспокоился: – Постой-ка, постой, Алёшкин, ведь это надо собрать около 40 человек, на это какие деньги-то надо! Я не знаю, на что мы будем проводить в сентябре очередную районную конференцию ВЛКСМ, а ты тут со слётом вожатых! Нет, брат, ничего не получится. Идея хороша, но средств для её осуществления райком не имеет, пока подождать придётся. Хочешь бюро переизбирать – пожалуйста, подбери подходящих ребят, мы их на бюро райкома утвердим, и дело с концом. Борис попытался с этим вопросом обратиться в райком ВКП(б) к своему знакомому зав. агитпропом Костромину. Тот тоже идею сбора пионервожатых одобрил, но прямо заявил: – Тут на жалование освобождённым работникам еле наскребаем, о расходах на слёт перед Бовкуном нечего и заикаться! Подожди. Однако, если Алёшкин вбивал себе в голову какую-нибудь мысль, то он от неё так быстро не отказывался. Собрав всех шкотовских вожатых, а их теперь было пять, он рассказал о предлагаемом им слёте вожатых района и подчеркнул затруднение со средствами, необходимыми для его проведения. После долгого и горячего обсуждения все пришли к выводу, что проведение такого слёта является прямо-таки необходимым делом. На это потребуется немного средств, которые комсомольцы достанут сами. Особенно горячо за проведение слёта выступала Катя Пашкевич, которая, кстати сказать, как-то незаметно стала первой помощницей вновь назначенного председателя райбюро юных пионеров. Если раньше Борис Алёшкин, будучи секретарём комсомольской ячейки, не пропускал почти ни одного сбора в отряде, которым руководила Катя, то теперь она при малейшей возможности бежала в райком ВЛКСМ и чем-нибудь помогала Борису в его кипучей деятельности. А деятельность у него была действительно кипучей. Надо было поддерживать самые тесные связи почти с каждым отрядом юных пионеров, рассылать им полученные из областного бюро директивы, литературу, самому сочинять, используя материалы журнала «Вожатый», указания, самому печатать на пишущей машинке все письма и копии директив для каждого отряда. Однако печатать он почти не умел: на изготовление какой-нибудь копии в 20–25 строчек уходило иногда два часа, а принимая во внимание, что копий-то надо было сделать не менее сорока, на одно это уходил целый день. Если бы не Катина помощь, то вряд ли бы он с этими делами справлялся. Она, конечно, тоже сначала печатать не умела, но как-то быстро овладела этим делом настолько хорошо, что иногда печатала кое-что и для секретаря райкома и для зав. агитпропом, на что Борис постоянно сердился и ворчал. Но кроме этой канцелярской, сочинительской работы, Борис должен был обязательно побывать в некоторых отрядах, где, по имевшимся сведениям, работа шла особенно плохо. В большинстве комсомольских ячеек уже поняли важность работы с детьми – вожатыми назначали наиболее грамотных комсомольцев, очень часто из числа учителей, но были и такие места, где эту работу считали второстепенным делом. От Шкотова до некоторых сёл и деревень было до 20–25 километров, и если в некоторые населённые пункты можно было легко добраться, используя возможности железной дороги, то до очень многих приходилось использовать тот вид транспорта, которым нас наградила природа – попросту говоря, отправляться туда пешком. Впрочем, таково было положение и других работников райкома ВЛКСМ и даже райкома ВКП(б). Алёшкин, имевший возможность использовать свой железнодорожный билет, находился ещё в относительно лучшем положении. Правда, на нём зато лежали и дополнительные обязанности. Раз в месяц он обязан был посетить все железнодорожные школы, входившие в его участок, проверить и помочь в работе вожатым отрядов этих школ. Это тоже требовало времени. И наконец, бюро райкома решило возложить на него ещё одну обязанность – работу председателя РКК – районной контрольной комиссии ВЛКСМ. Эту комиссию приходилось собирать не реже раза в неделю, на её заседаниях разбирали материалы, поступившие из ячеек о проступках тех или иных комсомольцев, принимали определённые решения, подготавливали материалы по ним на заседания бюро райкома или для направления в областную контрольную комиссию при обкоме ВЛКСМ. Кроме того, хотя Борис был и беспартийным, райком ВКП(б) уже считал его своим внештатным инструктором. При каждом посещении того или иного села или деревни он должен был не только провести свою работу с пионерами, но и выполнить какое-либо поручение райкома ВКП(б). Между прочим, одно такое поручение на него было возложено чуть ли не через неделю после зачисления в штат райкома. Правда, работа эта поручалась одновременно и Грише Герасимову. Возможно, что это была своеобразная проверка способностей Алёшкина. Поручение заключалось в организации сельских кооперативов в двух сёлах – Петровка и Речица, расположенных по побережью бухты Шкотта, куда Борис отправлялся по своим пионерским делам. Задача состояла в том, чтобы собрать граждан и на сходе принять решение об открытии в селе кооперативной лавки, выбрать правление и записать возможно большее число крестьян в члены кооператива. С современной точки зрения, может быть, задание это и не считалось бы трудным, но в то время… Когда Борис и Гриша явились в село Петровку – первое на их пути (разумеется, проделав пятнадцативёрстный путь пешком), предъявили свои удостоверения председателю сельсовета и потребовали собрания сельского схода, то пожилой, степенный крестьянин из бывших партизан почесал в затылке, с сомнением оглядел невзрачных агитаторов и сказал: – Собрать-то можно, а вот будут ли слушать мужики таких мальцов, как вы, не знаю. Для такого дела неужели никого повзрослее не нашлось?.. Парни переглянулись, но, набравшись духу, довольно смело, чуть ли не хором сказали: – Собирайте людей, а уж мы как-нибудь управимся! Председатель усмехнулся, однако послал секретаря собрать десятских и через них оповестить крестьян о сельском сходе на сегодняшний вечер – агитаторы торопились. Если мы взглянем глазами 40-летнего председателя на агитаторов, присланных из района, мы поймём его сомнения. В самом деле, Борису ещё не исполнилось и 18 лет, а Грише только что минуло 19. Оба они, невысокого роста, хотя и коренастые, и достаточно сильные, после пятнадцативёрстного пути выглядели не очень-то солидно. До схода оставалось ещё более пяти часов, крестьяне могли собраться только после захода солнца. Борис и Гриша решили заняться своими делами. Ячейки ВКП(б) в Петровке не было, там имелось всего два коммуниста – председатель сельсовета и председатель комитета взаимопомощи. В комсомольской ячейке состояло 11 человек. В пионерском отряде числилось около 25 ребят, хотя на самом деле оказалось меньше. В этом селе вожатым был молодой, неопытный и малограмотный парень, которого чуть ли не силком заставили работать с детьми. Конечно в таком отряде работа обстояла из рук вон скверно: сборы происходили раз в месяц, а то и реже. Они не вызывали интереса у ребят, и их посещали неохотно. Особенно ослабла работа в отряде с наступлением лета. При помощи секретаря комсомольской ячейки собрали комсомольцев, рассказали им о предстоящем сходе, потребовали, чтобы все они на нём присутствовали и по мере сил помогли принятию необходимого решения. Одновременно Борис поставил вопрос перед секретарём ячейки о необходимости налаживания работы пионерского отряда и, прежде всего, о замене вожатого. Он предложил назначить вожатой отряда комсомолку-учительницу, прибывшую в село в прошлом году. Сам предварительно побеседовал с этой девушкой и уговорил её принять это назначение, объяснив, что работа с пионерами поможет ей и по её служебным педагогическим делам, и поднимет её авторитет в селе. Ещё в дороге Борис и Гриша договорились, что Герасимов, как уже опытный работник, выступит в Петровке – более крупном селе, а Борис, использовав опыт своего товарища, будет говорить речь в следующем селе – Речице. Сход открылся в 9 часов вечера в здании школы. После вступительного слова главы сельсовета, представившего Гришу Герасимова как уполномоченного райкома партии, последний вышел к столу. Его появление вызвало лёгкие смешки собравшихся бородачей. Алёшкин, сидевший в уголке среди комсомольцев, услышав эти смешки и насмешливые реплики, с ужасом подумал, что они с Гришкой, наверно, ответственное дело провалят. Но по мере того, как Герасимов рассказывал о целях и задачах потребительской кооперации, как показывал большие преимущества этой торговли над частной, приводя примеры из жизни села Шкотова и других, где такие кооперативы уже работали, показывал на примерах положение с ценами, которые в кооперативной лавке являлись стабильными и которые у частника прыгали вверх при малейшей задержке с получением товара, настроение у слушателей менялось. Указал он и на более высокое качество товаров, продаваемых в потребиловке, чем в китайских лавчонках. Одним словом, не говоря ничего особенного, он лишний раз продемонстрировал крестьянам то, что они очень много теряют от отсутствия в их селе кооперативного магазина. Большинство крестьян на собственном опыте знали, что всё рассказанное этим пареньком не вымысел, не голая агитация, что так на самом деле и есть. Прекрасно они понимали и то, что гораздо выгоднее было бы покупать товар в своей лавке, чем ездить за каждой мелочью в Шкотово или переплачивать за неё чуть ли не вдвое местному лавочнику-китайцу. Всё это создало такую обстановку, что выступление Гриши было встречено одобрительно, а речь его, насыщенная яркими примерами, дышала такой страстной верой в то, о чём он говорил, что невольно заразила этих пожилых, а некоторых уже и постаревших людей. И не просто заразила – заставила их забыть о юности оратора и почти единогласно проголосовать за организацию кооператива в Петровке. Правление избрали быстро, приняв предложенных кандидатов, список которых ребята составили совместно с председателем сельсовета и секретарём комсомольской ячейки. Но когда речь зашла о сборе паевых взносов, тут дело пошло хуже: всякие денежные траты крестьянами всегда воспринимаются отрицательно, а в этой ситуации было необходимо сразу внести довольно ощутимую для каждого среднего крестьянина сумму. Только после того как Гриша, исчерпав всё своё красноречие, сумел убедить новых членов кооператива, что взносы паевые можно выплачивать в рассрочку, что при желании выхода из кооператива почти вся сумма, внесённая тем или иным человеком, будет ему возвращена немедленно, удалось урегулировать и этот вопрос. Почти с таким же успехом прошло на следующий день собрание и в селе Речица, где выступал Борис. Правда, он, не имея опыта, который Гриша уже приобрёл за время работы в райкоме, говорил менее уверенно, но всё же его доклад нашёл сочувствие у слушателей. Всё бы обошлось совсем гладко, не появись на собрании оппонент, порядочно испортивший всё дело и чуть его не проваливший. Дело в том, что в Речице, находившейся в 20 верстах от Шкотова, китайской лавки не было. Местные крестьяне ездили или в Шкотово, или в Романовку, или в Петровку, чтобы купить самые простые необходимые им вещи или продукты. Это было невыгодно и отнимало много времени. Таким положением воспользовался один из состоятельных жителей этого села. Он не стал открывать официальную лавку, это заставило бы его платить соответствующие налоги, но каждый раз при поездке в районный центр или другое крупное село покупал там самые разнообразные товары, нужные в хозяйстве крестьянина, а затем перепродавал их своим односельчанам, конечно, за значительно более высокую цену, чем платил сам. Покупатели это понимали, но то, что за этим товаром надо было ехать и терять целый рабочий день, и то, что очень часто у покупателей просто не было денег, а местный «добряк» отпускал необходимое в кредит, привело к тому, что его должниками стала чуть ли не треть села. Узнав о сходе, он не только сам подготовился, но заставил подготовиться и часть своих должников. Все они после доклада Бориса подняли шум протеста, а некоторые и выступили против организации кооператива, ссылаясь на отсутствие помещения, затруднения с доставкой товаров и, конечно, отсутствие денег для внесения паевых взносов, необходимых для организации кооператива. Но большинство крестьян всё-таки агитатора поддержали. Помогло этому выступление председателя сельсовета и, в особенности, заместителя председателя шкотовского РИК, случайно оказавшегося в день схода в Речице. Кооператив был организован и в этом селе. Хуже обстояло дело с комсомолом и с пионерами. Комсомольцев оказалось всего четыре человека, причём они не сумели организовать вокруг себя молодёжь и сами авторитетом не пользовались. Отряд юных пионеров числился только на бумаге, в нём не было проведено даже ни одного сбора. Пришлось нашим ребятам задержаться в Речице ещё на два дня: провести собрание молодёжи села, переизбрать секретаря комсомольской ячейки, провести агитацию за вступление молодых ребят и девчат в комсомол. Между прочим, даже на этом собрании несколько человек подали заявления о приёме в комсомол. Объяснялось это тем, что много молодёжи присутствовало на сельском сходе и, слушая выступления приехавших из Шкотова таких же молодых ребят, как и они сами, невольно заразились желанием самим так же выступать перед взрослыми и добиваться изменений в жизни их села к лучшему. Вожатым отряда назначили только что приехавшего в село учителя-комсомольца. До этого года в Речице школы не было, и те дети, которым хотелось учиться, ходили в Петровку за пять вёрст. В этом году школа открывалась недалеко от села, собственно, даже на окраине его – там, где находилась ранее заимка одного сбежавшего с белыми рыбопромышленника. Его дом к осени сельсовет должен был отремонтировать, там и предполагали открыть школу-пятилетку. Из учителей для неё пока приехал только один, вскоре, как он сказал, приедет заведующий и ещё два учителя или учительницы, он точно не знал. Вернувшись в Шкотово, Гриша и Борис доложили о проделанной работе, заслужили одобрение и от секретаря райкома комсомола Смаги, и даже от секретаря райкома ВКП(б) Бовкуна, которому зампредседателя райисполкома уже успел рассказать, как ребята справились с заданием по организации кооперативов в Петровке и Речице.Глава восьмая
Выше мы говорили, что Борис Алёшкин отличался большой общительностью, и поэтому уже через несколько недель работы успел познакомиться (а кое с кем и подружиться) не только из числа работников райкома комсомола, но и райкома партии. Нам следует немного охарактеризовать тех, с кем Борису предстояло провести определённый отрезок своей жизни, и у кого ему пришлось многому научиться, прежде всего, безусловной вере в партию коммунистов, в правильность её действий, направленных на благо рабочих и крестьян, на благо народа. Сумел он за это время усвоить и то, что единственной властью, которая в состоянии выполнить всё, что намечается партией, является советская власть. Узнав ближе работников райкома комсомола и райкома партии, Борис увидел, что это люди, безусловно преданные партии и стремящиеся по мере своих сил как можно лучше выполнять её решения. Познакомимся немного с этими людьми и мы. Начнём с работников райкома ВЛКСМ. Секретарём райкома был уже известный нам Захарий Андреевич (или, как его обыкновенно называли, Захар) Смага, сын крестьянина деревни Новороссия Шкотовского района. С большим трудом, после окончания сельской школы, где Захар проявил отличные успехи, его отцу удалось поместить сына для продолжения образования во владивостокскую гимназию, которую тот и закончил в 1922 году. Ещё при интервентах и белых Смага вступил в подпольную комсомольскую организацию во Владивостоке, а с приходом советской власти его назначили инструктором владивостокского укома РКСМ. В 1924 году он вступил в ВКП(б), а при районировании был избран секретарём шкотовского райкома ВЛКСМ. Этот высокий, широкоплечий рыжеватый блондин, с чуть рябоватым, волевым и серьёзным лицом, к своей работе относился очень серьёзно, того же требовал и от других. В 1925 году он женился на учительнице Дарье Васильевой, его односельчанке, с которой дружил ещё в детстве. Заместитель секретаря по агитпропу Володя Кочергин был моложе Смаги года на два. Он происходил из крестьян села Многоудобное. В конце 1921 года он окончил шкотовское высшее начальное училище и успел один год проучиться в учительской семинарии. Высокий, очень светлый блондин, он отличался от Смаги изящностью фигуры, какой-то особой ловкостью, чрезвычайным добродушием и весёлостью. Володя обладал отличными ораторскими способностями: своими словами он, кажется, мог зажечь любую аудиторию. Комсомольцы района любили и уважали его. Было совсем неудивительно, что когда в октябре 1926 года Смагу взяли во Владивосток на партийную работу, то его преемником единогласно был избран Володя Кочергин. С ним Борис очень скоро по-настоящему подружился, особенно после того, как Володя женился на однокласснице Бори – Дусе Карвась (беленькой). С инструктором райкома Гришей Герасимовым мы уже знакомы. Он и раньше, и теперь был искренним другом Бориса, постоянно помогал ему в оформлении различных документов и в проведении практической работы. Гриша был старше Бориса на полтора года и уже подал заявление о приёме в партию. Секретарём райкома партии был Бовкун. Высокий грузный мужчина, с круглым грубоватым лицом и густым басом, он производил впечатление угрюмого и сердитого начальника. На самом же деле, это был добродушнейший и очень внимательный к людям человек. Ещё в подполье он возглавлял одну из партийных ячеек в городе Владивостоке, став секретарём шкотовского РК ВКП(б), сохранил ту же принципиальность и непоколебимость в решении партийных вопросов, которая отличала его и во время работы в подполье. Он лично знал и Сергея Лазо, и Костю Пшеничного, и многих других коммунистов, прославивших приморское партийное подполье. Ему уже было далеко за 30, но он ещё не был женат – не успел, как он говорил. В самом деле, Германский фронт, где он вступил в ряды большевиков, Февральская и Октябрьская революции, затем Гражданская война и, наконец, Дальневосточное подполье, – всё это для личной жизни активного коммуниста оставляло мало времени. В данный момент в райкоме ходили упорные слухи, что этого богатыря, кажется, покорила тоненькая блондинка, учительница из деревни Кролевец, с которой Бовкун познакомился во время проведения учительских курсов в 1925 году в Шкотове. Его заместитель по агитпропу – Владимир Иванович Костромин, бывший учитель, вступивший в партию ещё в 1920 году, партизанил в одном из отрядов Приморья и, хотя был моложе Бовкуна года на три, уже успел жениться. Костромин, такой же высокий, как и Бовкун, в то же время обладал стройной, почти юношеской фигурой. Его обращение с людьми и манеры имели какое-то особое изящество и утончённость. Речь его отличалась очень правильным построением и грамотностью. Его мелодичный голос вызывал невольную симпатию, и он пользовался большой популярностью, как оратор и докладчик. Борис сблизился с этим человеком, пожалуй, больше, чем с кем-либо другим из работников райкома партии. Одним из поводов к сближению, как это ни покажется странным, послужили их одинаковые чувства к членам одной и той же семьи. В своё время Костромин учительствовал в селе Угловое, расположенном около станции Угольная, там же он выполнял и определённые партийные поручения от подпольного укома города Владивостока. Почти перед самым приходом советской власти в Угловое прибыла молоденькая учительница, в которую Костромин влюбился с первого взгляда, это была Людмила Пашкевич. Под его влиянием она вступила в комсомол. Очень скоро девушка проявила себя как активная комсомолка, но на его чувства не ответила: как мы уже знаем, предпочла ему другого – Дмитрия Сердеева, за которого и вышла замуж. Костромин с обиды и горя женился на учительнице этой же школы, довольно хорошей подруге Людмилы, которая, в свою очередь, уже давно питала к Костромину самые серьёзные чувства. Звали эту женщину Матрёна Ивановна, она тоже состояла в партии большевиков, и при переводе Костромина для работы в шкотовский райком, перевели и её, назначив на должность заведующей женотделом райкома. Этот семейный союз, образовавшись почти случайно, всё же оказался довольно удачным, и, хотя в глубине души Владимир продолжал сохранять свои чувства к Людмиле, а его жена серьёзно ревновала, в общем-то они жили довольно дружно. Увидев как-то в райкоме ВЛКСМ Катю Пашкевич, похожую на свою старшую сестру, Костромин невольно обратил на неё внимание. Вскоре он понял, что эта девушка посещает чуть ли не ежедневно райком вовсе не из-за большой любви к комсомольской работе, чего у неё отнять, конечно, было нельзя, но что её влечёт туда и особый интерес к одному из работников райкома, а именно к Борису Алёшкину. Не представило для Костромина труда разглядеть и то, что этот последний буквально тает при встрече с Катей. Как-то раз Костромин рассказал Борису о своей неудачной любви к Катиной сестре и с какой-то скрытой горечью советовал Борису быть в своих чувствах сдержаннее и осторожнее, говоря, что он отпугнул от себя Людмилу, может быть, именно тем, что с первых же шагов знакомства с ней, проникнувшись глубоким чувством, был слишком прямолинеен и настойчив. Сейчас трудно судить, был ли он прав, но нам кажется, что, когда приходит взаимная любовь, то никакие проявления её, никакие страстные порывы не могут отпугнуть любящего человека, и, пожалуй, именно поэтому предостережения Костромина можно было сравнить лишь с маслом, подлитым в огонь. С тех пор как Борис стал работать в райкоме ВЛКСМ, Катя почти перестала скрывать свой интерес и к его работе, и к нему самому. Почти всегда, когда они находились в селе, их можно было видеть вместе – в райкоме, в клубе и на собраниях, на всевозможных прогулках, совершаемых ими по окрестностям села, да даже и по самому Шкотову. Когда уже ни для кого не было тайной их взаимное влечение друг к другу, это не только не охладило пыл Бориной любви, а как будто разожгло его ещё сильнее. Надо честно сказать, что несмотря на многократные его предложения о женитьбе и столь же постоянные отказы ему в этом со стороны Кати, их всё более близкие отношения заставили его предполагать, что холодная крепость постепенно сдаётся. К его платоническим, чуть ли не обожествлявшим его Катю чувствам, всё чаще и чаще стало примешиваться страстное, почти непреодолимое желание обладать предметом своей любви. И среди многочисленных поцелуев, когда Катя упрямо продолжала твердить: «нет», «нет», «нет», – он постепенно стал замечать, что произносить это ей становится труднее и труднее. Так, вместе с огромной общественной работой, лёгшей на плечи этих молодых людей, на их долю досталось и огромное счастье большого и глубокого чувства. И им надлежало со всем этим справиться так, чтобы не уронить себя в глазах своих сверстников, в глазах близких. Как ни сложно это было, у них получилось: ни одного нескромного, сального или оскорбительного намёка в свой адрес Борис и Катя никогда не услышали. Поводом к их большему сближению послужило также и вмешательство старшей Катиной сестры Людмилы. Вскоре после начала службы Бориса в райкоме ВЛКСМ, она с мужем приехала в Шкотово в отпуск. Мы знаем, что ещё в Новонежине Борис сообщил её мужу Дмитрию Яковлевичу Сердееву о своём намерении жениться на Кате, а тот, конечно, рассказал об этом Миле, или, как её все почему-то до глубокой старости звали, Милочке. Людмила Петровна относилась к Борису Алёшкину с первых дней знакомства с какой-то необъяснимой симпатией и, выслушав сообщение мужа, сразу же решила, что это будет самый подходящий муж для её сестры – конечно, не сейчас, а в будущем. Об этом она рассказала и родителям. Пётр Яковлевич отнёсся к этому делу довольно равнодушно, как, впрочем, и ко всему, что происходило в их семье. Мать же Кати, Акулина Григорьевна, была возмущена: наслушавшись всяких сплетен про Алёшкина, поставляемых в особенности семьёй Михайловых, она и думать не хотела о таком женихе. Но после того как Андрей вернулся из лесу, где ему удалось получше узнать Бориса, и рассказал матери о том, что предубеждение их против этого парня, по-видимому, не имеет достаточных оснований, она стала немного покладистей. Мнение Андрея Петровича, на котором держалась вся эта семья, имело большое значение. Вероятно, именно поэтому Акулина Григорьевна Пашкевич всё реже прислушивалась к сплетням, приносимым в дом Михайловыми, и почти совсем примирилась с тем, что Катю и Бориса видели вместе всё чаще и чаще. Может быть, именно поэтому она не возражала против того, чтобы Борис Алёшкин был приглашён в их дом. Получив согласие матери, Милочка Пашкевич (вернее, Сердеева), встретив однажды Борю, затащила его во двор, познакомила официально со всеми членами семьи и, невзирая на смущение и молчаливый протест сестры, пригласила парня приходить к ним как можно чаще. С тех пор Борис чуть ли не ежедневно появлялся во дворе Пашкевичей. Иногда его сопровождали и младшие братишки, которые, как мы знаем, ещё раньше были знакомы с детьми Андрея. Тогда двор наполнялся шумом и гамом, смехом и визгом во время весёлых игр, затеваемых ребятами, Катиными младшими сёстрами, ею самой и Борисом. Иногда, в какой-нибудь игре вроде лапты принимал участие и сам Андрей, не говоря уже о Милочке и Мите, когда они приезжали в Шкотово. Взрослые присматривались к Борису и, узнав его поближе, стали относиться к нему доброжелательнее; собственно, это касается, как мы уже подчёркивали, в основном матери Кати. Сестрёнки, хотя и подшучивали над их отношениями, относились к Борису, как и большинство шкотовских пионеров, прямо-таки с обожанием, особенно после того, как он стал руководителем пионеров всего района. Однако мы отвлеклись. Закончим знакомство с Бориными сослуживцами, друзьями и учителями. Следующая, о ком нам хочется рассказать, была заведующая женотделом Матрёна Ивановна Костромина. Ранее мы уже упоминали о ней, расскажем теперь подробнее. Матрёна Ивановна была доброй и отзывчивой женщиной. Очень часто к ней в кабинет шли женщины и девушки, чтобы, не стесняясь, выложить свои самые сокровенные тайны, попросить помощи и совета. Она никогда никому не отказывала, и её вмешательство даже в чисто семейные дела почти всегда приносило пользу. Правда, во время таких разговоров секретарю райкома ВЛКСМ Смаге приходилось покидать рабочее место, выходить из кабинета, что он и делал, хотя и не без ворчания. С первых же дней работы Бориса эта высокая полная женщина взяла его под своё покровительство и очень часто давала ему ценные советы для решения тех или иных задач. Между прочим, она была одним из самых горячих сторонников предлагаемого Борисом слёта пионервожатых. Она же, кажется, была и первой в райкоме партии, кто выдвинул вопрос о том, чтобы вожатыми назначались или учителя, или, во всяком случае, комсомольцы, имевшие среднее образование. Матрёна Ивановна, пожалуй, одной из первых заметила и те чувства, которые всё сильнее разгорались между Борисом и Катей, но никогда не позволила себе никаких намёков или замечаний. В райкоме партии также работали два инструктора, один из них – Силков нам уже известен, второй – Петров почти всё своё время проводил в разъездах. Это был уже пожилой мужчина и на комсомольцев смотрел как-то свысока, они так и не сошлись с Алёшкиным. Ещё один человек оказал Борису немало услуг и помощи, это заведующий общим отделом райкома партии Кужель Николай. Он был достаточно молод, едва ли на два-три года старше Бориса, имел среднее образование, окончив школу II ступени во Владивостоке и какие-то курсы при губкоме партии. Он уже два года состоял в партии и, видимо, благодаря курсам, знал в совершенстве дело учёта, канцелярскую и бухгалтерскую работу райкомов. Всё это он и выполнял в обоих райкомах сразу. И переписку – деловую и хозяйственную – вёл со всеми организациями, и ведомости на жалование работникам райкомов составлял (и выплачивал его), и сметы на всякие расходы планировал, и добивался их утверждения в губкоме, вёл и учётные карточки на коммунистов района (на комсомольцев вёл их Гриша Герасимов). Одним словом, ему доставалось столько технической работы, что, приходя в райком раньше всех, он уходил всегда последним. Его помощницей была машинистка райкома партии Даша, очень скоро ставшая его женой. Оба этих человека вскоре стали настоящими друзьями Бориса и сохранили эту дружбу на долгие годы. Вот, собственно, и все лица, с которыми Борису пришлось работать за время пребывания его на посту председателя районного бюро юных пионеров Шкотовского района. С некоторыми он встречался и в последующей своей жизни, а с большинством же, уйдя из райкома, расстался навсегда. Кстати, почти все перечисленные нами лица в период так называемого культа личности, то есть в период 1935–1937 годов, были так или иначе репрессированы. Некоторые провели долгие годы в лагерях и получили реабилитацию лишь в пятидесятых годах XX столетия. Некоторые же, как, например, Гриша Герасимов, исчезли навсегда. В дальнейшем, описывая этот период времени и то, как он отразился на жизни нашего героя, мы ещё остановимся на всём поподробнее. Сейчас же хотелось бы сказать, что все действия тех, кто проводил тогда эту гнусную работу, явились не проявлением злой воли кого-то одного, пусть даже самого высокопоставленного лица, каким, скажем, был Сталин (как это пытался изобразить в своё время Хрущёв), а вероятнее всего, результатом проникновения в среду людей, занимавших высокие посты в партии и правительстве – предателей, действовавших по указке империалистов зарубежных стран и стремившихся разложить наш строй, нашу партию изнутри. Они, конечно, сделали много зла и отдельным людям, и всему нашему обществу в целом, но своего не добились. Разложить советское общество, вызвать в нём массовые возмущения, следовательно, ослабить его оборонную мощь, они не сумели, в чём и пришлось уже очень скоро убедиться немецким фашистам. Но всё то, о чём мы сейчас вскользь упомянули, было ещё впереди, тогда же все эти люди пользовались большим авторитетом и работали для укрепления советской власти, для упрочения партии и усиления её влияния на массы в Приморье, где советская власть была пока молодой. Деятельно помогали в этой работе коммунистам района комсомольцы и пионеры. Возвратимся к слёту вожатых, о котором мы начали речь. После многочисленных споров решили сделать так: вожатых собрать не позднее 15 августа, пока ещё не кончились школьные каникулы. Борису удалось договориться с заведующим ШКМ Чибизовым о том, чтобы на время слёта, то есть на 2–3 дня, он предоставил для жилья общежитие ШКМ с условием, однако, чтобы шкотовские комсомольцы после слёта перестирали бельё и вымыли помещение, занимаемое приезжими. Такая договорённость была выгодна обеим сторонам: перед началом занятий общежитие всё равно нужно было приводить в порядок, на это требовались определённые средства, а тут выходило бесплатно. Таким образом, райком ВЛКСМ получал помещения для размещения приехавших. Для проведения работы слёта Алёшкин договорился с заведующим клубом, тот тоже бесплатно предоставил на эти дни здание клуба, и даже больше – дал согласие на бесплатный показ нескольких кинокартин. Часть приезжавших вожатых можно было разместить и у знакомых, которые их охотно принимали. После долгих уговоров Борису удалось выпросить у Кужеля (собственно, с этого времени и началась их дружба) небольшую сумму для приобретения простейших письменных принадлежностей: тетрадей и карандашей. Питание приехавших взяли на себя вожатые шкотовских отрядов, обещая прокормить прибывших в течение этих трёх дней у себя и у своих пионеров. Все организационные вопросы решились. Выработали повестку дня: 1) Доклад о международном и внутреннем положении (упросили Костромина) 2) Доклад о задачах пионерской организации района на этот год (докладчик – Борис Алёшкин) 3) Утверждение плана работы райбюро юных пионеров на 1926 год 4) Выборы бюро юных пионеров. Конечно, по каждому докладу предполагались широкие прения и принятие резолюции. Кроме того, по рекомендации Костроминой, решили провести показательный сбор одного из шкотовских отрядов. Остановились на отряде, где вожатой была Катя Пашкевич. Получив, наконец, согласие Смаги, Борис начал готовить письменные вызовы всем вожатым отрядов района. Эта работа заняла немало времени, учитывая его способности печатания на машинке. Пришлось прибегнуть и к помощи Кати, которая, правда, пока печатала не лучше Бориса. Когда все эти подготовительные работы были закончены, Алёшкин получил разрешение Смаги съездить во Владивосток, чтобы представиться своему губернскому – правильнее сказать, областному начальству. Уже год как Приморская губерния была переименована в Приморскую область Дальневосточного края, но многие пока продолжали учреждения называть губернскими, невольно поддались этому и мы. Кроме того, Борис потребовал два дня на то, чтобы посетить прикреплённые к нему отряды железнодорожных школ, ведь и этой работы он не имел права упускать. Прибыв во Владивосток, зайдя в помещение, занимаемое обкомом ВЛКСМ, Борис нашёл дверь с вывеской, написанной на картонке: «Облбюро юных пионеров». В большой комнате он застал трёх человек: молодую девушку, видимо, исполнявшую роль секретаря, а может быть, и инструктора, бойко печатавшую на пишущей машинке; напротив неё сидел что-то усердно писавший парень лет 18, даже не поднявший головы при появлении вошедшего; третий человек сидел за большим письменным столом у окна, он читал газету «Комсомольская правда» и был из-за неё почти совершенно не виден. Алёшкин знал, что председателем областного бюро юных пионеров был Дорохов, поэтому, войдя в комнату и видя, что никто на него не обращает внимания, немного сердито спросил: – А где товарищ Дорохов находится? При этом вопросе, заданным звонким голосом, все присутствовавшие в комнате оторвались от своих занятий и взглянули на Бориса. Несколько мгновений они молчали, затем читавший газету отложил её в сторону и спросил: – Тебе, товарищ, что, собственно, нужно? Со свойственной ему грубоватостью и напускным остроумием, которыми он всегда прикрывал своё смущение, Борис ответил: – Не что, а кто, мне человек – Дорохов нужен, понятно? Услыхав эту фразу, девушка откровенно фыркнула, парень, писавший бумагу, изумлённо поднял брови и даже приоткрыл рот, а сидевший у окна усмехнулся: – Ну, я Дорохов, – сказал он, – так всё-таки, что же тебе нужно? Борис подошёл к столу Дорохова и сказал: – Я новый председатель бюро юных пионеров Шкотовского района Алёшкин. – Ах, это вместо Манштейна, – обрадовался он, – который от этой обузы, как он называл работу с пионерами, отделался? Ну, а ты тоже по принуждению на эту работу пошёл? – Нет, эта работа мне нравится! – Вот это другое дело. К сожалению, таких комсомольцев, которым бы нравилась работа с детьми, пока ещё мало. – Почему мало? – не согласился Борис, – у нас в районе порядочно, только не умеют они, вот и отказываются. – Тогда почему же у вас работа с пионерами так плохо поставлена? – Ну, об этом, товарищ Дорохов, наверно, мне бы надо было у вас спросить. Ведь я только что принял свою должность, а вы уже, как мне Манштейн говорил, больше года работаете! При этом заявлении громко расхохотались и сам Дорохов, и до сих пор молчавшие парень и девушка. – Э, да ты парень зубастый! Ну что же, нам такие подходят! Давай знакомиться. Значит, я Дорохов Филипп, но меня все называют почему-то больше Филкой. Это вот инструктор наш, Гриша Басанец, кстати сказать, пионерработу тоже любит, это секретарь, а иногда и библиотекарь Наташа, есть ещё инструктор Серов, он сейчас в командировке. Вот и весь штат, а область Приморская большая. Денег нам на командировки почти не дают, а наши письма, видно, на местах не очень-то читают… Ну а как тебя полностью-то зовут? – Алёшкин Борис Яковлевич, только меня всё больше Борисом, а то даже и просто Борькой зовут. Дорохов рассмеялся и крепко пожал руку Борису: – Ну, я думаю, что ты не только знакомиться приехал, но и о своей работе поведать. Может быть, сегодня на заседании бюро как раз нам и расскажешь о положении дел с пионерской работой в Шкотовском районе? – Нет, сейчас ещё не расскажу: знаю мало и времени в обрез. Через два часа ехать надо! – Вон как, – насмешливо протянул подошедший к столу Басанец, – у нас, значит, мировые проблемы, нам с товарищами и поговорить некогда! – Да подожди ты, – остановил Басанца Дорохов, – расскажи-ка, Борис, что у тебя за дела такие. Борис, сбиваясь и торопясь, рассказал, что должность он принял всего три дня тому назад в течение нескольких минут, что Манштейн уехал, даже и не поговорив с ним как следует, что имевшиеся немногочисленные бумаги, главным образом, письма из облбюро, ему передал сам секретарь райкома ВЛКСМ, что, кроме шкотовских отрядов, он других и в глаза не видел, если не считать новонежинского, который сам когда-то организовал, но в котором тоже не был уже более года. Сообщил он также и о своём намерении провести в ближайшие дни слёт вожатых района, чтобы таким образом быстрее войти в курс дела и, познакомившись с ребятами, решить, кому из них надо помочь в первую очередь. Показал он и повестку дня предполагаемого слёта. – Кто же вам средства для этого дела выделил? Неужели райком партии? – изумился Филка Дорохов. – Да нет, мы решили своими обойтись. Кое-кто нам по дружбе помогает, ну а большую часть забот берут на себя вожатые шкотовских отрядов, я и райком комсомола. – Вот это здорово! – восхитился Дорохов. – Это я понимаю! Молодец! Вот, Гришка, как работать-то надо, а мы год обсуждаем, как председателей райбюро юных пионеров собрать, да всё так и не соберёмся. Ну, вот что, пошлю я к тебе Гришу Басанца, пусть посмотрит, послушает, поучится, да, может быть, и поможет чем-нибудь – тоже ведь на пионерской работе не первый день. Может быть, мы потом используем опыт вашего слёта, да и в других районах порекомендуем подобные провести. Борис, обрадовавшись, что егонамерения понравились начальству, решил воспользоваться этим: – Что товарищ Басанец приедет, это хорошо – он своим выступлением, конечно, поможет, но этого мало, я хочу ещё кое в чём просить помочь! – Так я и знал! – засмеялся Басанец. – Да нам немного надо: во-первых, любой литературы по деткомдвижению – брошюр, журналов, газет и т. п.; во-вторых, мне материал для доклада; в-третьих, хотя бы несколько больших листов бумаги для выпуска стенгазет. У нас в Шкотове её не продают, да и денег на её приобретение нет. Конечно, хорошо бы, хоть и самых простеньких, красок. А ещё ведь у нас почти четвёртая часть отрядов – корейская, а на их языке литературы для пионеров совсем нет, значит, нужно что-нибудь на корейском языке. Ещё… – Постой, постой, – смеясь, остановил его Дорохов, – ты так свои маленькие просьбы до утра не кончишь. Ведь у нас ни денег, ни своей типографии нет. Кое-каких книжек и журналов мы тебе сейчас наскребём, конечно, привезёт ещё и Басанец. Тебе материал для доклада? Пожалуй, вот что, – Дорохов открыл ящик своего стола и достал оттуда тетрадку напечатанных на пишущей машинке листов, – вот это мой доклад на бюро обкома комсомола, что я делал неделю назад, возьми его, используй общую часть. Частности, конкретные примеры – это уж тебе надо из своего района брать. Насчёт бумаги, красок – схожу в общий отдел обкома партии, если что-нибудь выцарапаю, то купим, Гриша это привезёт. Ты, Ната, отбери и отдай всё, что у нас есть на корейском языке, приготовленное для Посьета, туда мы попозже пошлём. Между прочим, как же так, почему эти корейские отряды у нас не учтены? Это плохо… Да, а сколько, ты думаешь, соберётся вожатых? – Приглашения послал по всем числящимся в районе отрядам, да не знаю, существуют ли они на самом деле. Мне уже пришлось столкнуться с таким случаем, когда отряд числится, а на самом деле его нет, – и Борис рассказал о случае, происшедшем в Речице. – Вообще-то, я думаю, человек 25–30 будет. – Как бы хорошо было, если бы ты об этом слёте хотя бы доложил сегодня на заседании бюро! Почему ты не можешь задержаться? – Нет уж, – вновь отказался Борис, – может быть, ещё ничего путного и не получится. Вот проведём слёт, тогда приеду и расскажу, а может быть, Гриша Басанец лучше моего расскажет. Да мне сегодня и некогда, я должен выехать в Надеждино и Раздольное. Ведь ты же знаешь, что я ещё, кроме того, и на железной дороге служу, а в этих школах Манштейн ни разу не был, да и я пока не успел. Мне о них мой заведующий угольнинской школы напомнил, когда я оформлялся. – Это другое дело, с железнодорожным начальством нам ссориться никак нельзя: только благодаря железной дороге мы можем содержать добрую половину наших работников. Вон, и Басанец у нас за счёт её же содержится. Через час Борис, нагруженный солидными связками книг и журналов на русском и корейском языках, отправился на вокзал, сдал с большим трудом свой багаж в камеру хранения, ведь не ехать же ему было с этими книгами в Раздольное. Затем он подошёл к кассе, чтобы выяснить, как можно уехать в нужном ему направлении. Протолкавшись сквозь толпу к окошечку кассира и постучав, он протянул свой служебный билет – кусочек зеленовато-голубого картона с напечатанным на нём номером, изображением паровоза, вписанной чернилами его фамилией и приклеенной в одном из уголков фотокарточкой. К его удивлению, кассир встал со стула, почтительно высунулся из окошечка и очень вежливо, и даже как-то подобострастно, сказал: – Товарищ Алёшкин, поезд № 1 отойдёт через час. В мягком вагоне всегда есть места, так что не беспокойтесь, главный вас устроит, я его предупрежу! Борис взял билет, бережно спрятал его в карман юнгштурмовки и невольно подумал: «Видно, этот билет – штука непростая!» Уже гораздо позже он узнал, что такие билеты управление дороги выдавало только специальным ревизорам или особенно ответственным работникам дороги. Главный инспектор детского коммунистического движения, служащий при Управлении Дальневосточной железной дороги, одновременно член бюро Дальневосточного крайкома ВЛКСМ и бюро юных ленинцев, старый комсомолец, более двух лет состоявший в партии, Хейфиц Иосиф, или, как его звали ребята, Ёська, был очень оборотистым парнем и сумел уговорить начальника управления, чтобы инспекторам выдали служебные билеты. Этот кусочек картона сослужил хорошую службу и Борису Алёшкину. Главный кондуктор курьерского поезда № 1 Владивосток – Москва при виде этого билета немедленно проводил Алёшкина в мягкий вагон и даже поместил в отдельное купе. Никогда ему ещё до сих пор не приходилось ездить в мягком вагоне и, конечно, оборудование и, вообще, устройство этого вагона его поразило. Пребывание в Раздольном, а затем и в Надеждине, знакомство с работой школьных вожатых и имевшихся там отрядов юных пионеров показало Борису, как много значит, когда на эту работу выделяются работники на зарплате, да ещё постоянно получающие помощь и советы от грамотных педагогов, и он решил, что будет стараться всеми силами, чтобы на должность вожатых назначались преимущественно комсомольцы-учителя.* * *
Слёт вожатых отрядов юных пионеров Шкотовского района прошёл хорошо. В ШКМ жили всего несколько человек, всех остальных расхватали шкотовские вожатые и пионеры, причём в этом вопросе возникло даже немало ссор и обид: все так загорелись желанием принять у себя приехавших гостей, что некоторым из них, чтобы никого не обидеть, пришлось даже два раза менять квартиры. Борис и Катя – организаторы этого дела – вначале беспокоились, как к этим гостям отнесутся родители их пионеров, но и тут всё оказалось в порядке, не было ни одного дома, где бы вожатых приняли недостаточно гостеприимно. Очень интересен был доклад Костромина. Конечно, как всегда в те времена, по докладу после многочисленных выступлений приняли резолюцию, заканчивавшуюся призывом к воспитанию надёжной смены комсомолу, чтобы как можно скорее совершить мировую революцию. Удачным оказался и доклад Алёшкина: в первой части его, использовав материалы, полученные от Дорохова, Борис рассказал о детском коммунистическом движении вообще и о том, как оно развивается в нашей стране, а затем, пользуясь немногочисленными примерами, имевшимися в его распоряжении, основательно покритиковал работу отдельных отрядов Шкотовского района. Эта вторая часть его выступления вызвала много откликов. Большинство выступавших вожатых нашли у себя подобные недостатки, и, не имея возможности справиться с ними самостоятельно, в своих выступлениях просили помощи от райбюро. Новый председатель бюро только успевал записывать претензии выступавших и к районным организациям, и к своим местным комсомольским и партийным ячейкам. В результате к концу слёта у него имелось достаточно полное представление о положении чуть ли не каждого отряда. При работе прежними методами ему потребовался бы, наверно, целый год, чтобы узнать столько, сколько он узнал за два дня слёта. Между прочим, заслушав выступления вожатых, а выступили почти все присутствовавшие, Алёшкин пришёл к выводу, что для более успешной работы совершенно необходимо провести специальные курсы вожатых, так как многие, даже учителя, работу с пионерами представляли себе довольно слабо. Но он понимал, что к таким курсам нужно серьёзно подготовиться, получить материальную базу для их проведения – тут самодеятельностью не обойдёшься. Курсы потребовали бы 2–3 недель, а это без соответствующих средств невозможно. Поэтому он с большой радостью ухватился за мысль, высказанную Катей Пашкевич, которая, вычитав в одном из журналов «Вожатый» о существовании в некоторых городах так называемых Уголков вожатых, предложила организовать что-то подобное и при шкотовском райбюро, чтобы приезжавшие в Шкотово по каким-нибудь делам вожатые могли получить в этом Уголке необходимые советы, литературу и даже методические рекомендации. Её предложение было единогласно принято, и одновременно с выборами райбюро встал вопрос о руководителе Уголка. Поскольку инициатором идеи была Пашкевич, её единогласно и избрали на эту должность. Выбранное бюро сразу же утвердило план работы на оставшуюся часть 1926 года, представленный Алёшкиным, и установило твёрдый график заседаний бюро – не реже чем раз в две недели. В бюро вошли 8 человек, в том числе все шкотовские вожатые, вожатый корейского отряда из села Андреевки и вожатые из сёл Новонежина и Новой Москвы. Был на слёте и Гриша Басанец, привезший несколько экземпляров «Библиотечки вожатого». Их, по общему решению, распределили между вожатыми наиболее удалённых от Шкотова сёл, понимая, что им всего труднее будет посещать Уголок вожатого, да и к ним кто-нибудь приезжать из района сможет реже, чем к другим. Басанец смог присутствовать на слёте всего один день, от поезда до поезда. Он заслушал доклад Алёшкина и около половины выступлений, выступил сам, рассказав о работе пионеротрядов в городе и на железной дороге. Одобрив доклад Бориса, а также и предложение о создании Уголка вожатого, он уехал во Владивосток. Кроме библиотечек, он привёз сельским пионерам от городских в подарок барабан и горн. На слёте же решили, что пока этот подарок останется в райбюро, а 1 января 1927 года будет вручён отряду, который к этому времени станет лучшим по работе. В своих выступлениях многие вожатые говорили, что даже сам вызов их на слёт в районный центр сразу же поднял их авторитет и у комсомольцев, и в партячейках, и даже в сельсовете, так что теперь им будет, наверное, легче получать всякую помощь от этих организаций.Глава девятая
Удачное проведение слёта вожатых юных пионеров получило одобрение со стороны бюро райкома ВЛКСМ и со стороны райкома ВКП(б). Многие из работников райкомов присутствовали на слёте, а на докладе Бориса были оба секретаря: и Смага, и Бовкун. После этого Алёшкин сразу стал пользоваться значительным авторитетом, и, что, пожалуй, важнее – к работе с пионерами у руководителей районных организаций появилось более серьёзное отношение. Теперь Бовкун, посылая куда-нибудь в отдалённое село инструктора райкома, предлагал ему ознакомиться в том числе и с работой отряда юных пионеров. Для Уголка вожатого выделили часть комнаты, в которой находились Гриша Герасимов и Борис, там поставили шкаф с книгами и журналами, которых удалось собрать уже довольно много, на стенах разместили соответствующие плакаты, поставили небольшой столик, на котором разложили свежие газеты и журналы. За этим же столиком сидела часто и Катя, беседуя с приезжавшими вожатыми. Обычно такие встречи у неё бывали по вечерам. Естественно, что в это же время в райкоме находился и Борис. Он обычно сочинял или перепечатывал какое-нибудь очередное письмо вожатым или протокол заседания райбюро, или РКК. Его работа затягивалась на более долгое время, чем у Кати, и она из чувства солидарности оставалась вместе с ним, помогая ему и в печатании, и в сочинении. Таким образом, они иногда задерживались чуть ли не до полуночи, и, уж во всяком случае, почти всегда уходили из здания райкома самыми последними. Можно догадаться, что два юных существа, из которых один был безумно влюблён, а другая тоже не испытывала к своему партнёру чувства отвращения, оставшись на весь райком одни, иногда занимались не только печатанием очередного методического письма, но и своими личными делами, так как выходили из здания с раскрасневшимися лицами и блестящими глазами. Если бы не разумная и строгая сдержанность Кати, то они бы натворили много глупостей, но она всегда умела вовремя остановить пылкие порывы Бориса. Хотя, надо признать, что понемногу становилась податливей и она. Если в первые встречи Катя была более чем холодна, за что и заслужила прозвание «льдинка», то теперь её губы при поцелуях становились всё горячее, и она всё чаще отвечала на поцелуй. Однако устраивать такие встречи особенно часто им не удавалось: слишком много было других обязанностей, отнимавших всё свободное время, ведь они активно участвовали в драмкружке, а впоследствии и в организовавшейся «Синей блузе», следовательно, были вынуждены посещать частые репетиции; как активные комсомольцы, они не пропускали ни одного собрания, политзанятия или ещё какого-нибудь мероприятия, проводимого ячейками ВЛКСМ. Бориса, освободив от обязанностей секретаря сельской ячейки ВЛКСМ, перевели во вновь организованную и пока ещё очень малочисленную ячейку железнодорожников, ведь он теперь, кроме всего прочего, был и железнодорожным служащим. Раз в неделю проводилось заседание районного бюро ВЛКСМ, на котором они должны были присутствовать оба, а Борис ещё что-нибудь и докладывать как председатель РКК. Кроме того, Борису приходилось часто выезжать в район и в железнодорожные школы, а Кате выполнять и многочисленные домашние работы. Между прочим, в семье Пашкевичей как-то так сложилось, что на Катю легла работа как бы второго парня в семье, ведь, кроме Андрея, все остальные были девочки. Даже когда Мила жила с ними, она выполняла только женскую работу, а за то, что следовало делать мужскими руками, в отсутствие Андрея отвечала Катя. И, наконец, Катя ведь ещё училась, заканчивая школу-девятилетку. И вот, с этим-то делом в последнее время у неё стало не ладиться. Вообще, Катя Пашкевич была очень способной, по всем предметам она имела отличные и хорошие отметки, а учительница английского языка прямо не могла ею нахвалиться, но вот в последнее время стала отставать по математике. Это было понятно: находясь на севере почти два года, где не имелось в то время никаких школ, Катя прервала учёбу, подзабыла кое-что и, начав занятия сразу с седьмого класса, встретила много затруднений. Большинство из них, проявив всё своё старание и способности, она сумела преодолеть, причём так, что дома об этом ничего и не знали, но когда в девятом классе ей пришлось столкнуться со сложными вопросами по математике, а начальные основы её из памяти улетучились, да многого она раньше и не проходила, то это сразу сказалось. Попросить кого-нибудь о помощи не позволяла гордость – вот и получилось, что она всё чаще и чаще при решении задач или во время устного ответа плавала. Это не осталось незамеченным, стало предметом разговоров и среди комсомольцев школы, и среди педагогов. Следующая за Катей сестра Женя к этому времени уже была комсомолкой, эти разговоры слышала, от неё и через Ирину Михайлову положение Кати стало известно в семье Пашкевичей. Может быть, Катя и не допустила бы этих прорех в учёбе, если бы не отдавала так много времени комсомольской работе, и, конечно, пребыванию с Борькой. Ему она тоже из гордости о своих затруднениях ничего не говорила, но теперь Борис Алёшкин довольно часто бывал у неё в доме, и хотя она всегда хмурилась и торопилась поскорее его выпроводить (он ведь обычно появлялся, чтобы увести её на какое-нибудь собрание или заседание), но это не всегда удавалось. К нему уже привыкли, и Акулина Григорьевна иногда с ним даже советовалась кое о каких делах, ведь он уже стал считаться как бы своим, близко знакомым. Однажды, когда Катя ушла в другую комнату переодеваться, а на кухне, где сидел в ожидании её Борис, находились Акулина Григорьевна и Женя, последняя вдруг сказала: – Вот, Борис, вы с Катей всё по собраниям разным ходите, да в «Синей блузе» выступаете, а у неё очень плохо с математикой, даже разговоры уже пошли в школе среди комсомольцев. Ты бы ей хоть помог! Люся говорила, что ты очень хорошо знаешь математику. Парень всполошился: – Что же она мне ничего не сказала?! Мать Кати усмехнулась: – Что же, вы нашей Катерины не знаете? Дождётесь этого от неё, как же! Ведь у неё гордыня непомерная! А если бы вы, Борис, позанимались бы с ней немного, хоть у нас по вечерам, может быть, ей бы это и помогло… Делая это предложение, Акулина Григорьевна имела двоякую цель: конечно, помощь Алёшкина Кате была бы небесполезна, а главное, что-то в последнее время у Катьки стали уж очень часто заседания и собрания, длившиеся чуть ли не до часу ночи, да и уходит она на них обязательно вместе с Борисом, и возвращаются они тоже вместе. Всякие сердобольные родственницы их уж не раз видели и спешили уведомить об этом мать. Да, наверно, они и целуются вовсю! Это как-то при их расставании она из окошка аптеки нечаянно и сама видела. «Долго ли до греха? Дело молодое! Ему-то что, а Катьке может плохо прийтись. Поди-ка, удержи теперешнюю молодёжь! Жениться им пока ещё рано: Катерина должна обязательно школу кончить! – так думала Акулина Григорьевна Пашкевич, женщина совершенно неграмотная, но наделённая большой сообразительностью и пониманием обстановки. – Куда теперь может женщина без среднего-то образования пойти? В жёны какому-нибудь парню вроде Пыркова, который, кстати сказать, уже и сватов собирался засылать. И будет весь свой век спину гнуть на мужа, да его семью. Нет уж, пусть окончит школу…» И она рассудила, лучше уж им вечера проводить дома – всё на глазах будут. Когда одетая Катя вышла на кухню, Борис обратился к ней с вопросом, в котором звучал упрёк: – Что же ты, Катя, не сказала, что тебе с математикой трудно, неужели бы я тебе не помог?.. А Катя, сердито посмотрев на мать и сестру, буркнула: – Это не твоё дело! Успели уже наболтать, я сама справлюсь! Не нужны мне никакие помощники и наставники! Пойдём, что ли. Акулина Григорьевна сочла нужным вмешаться: – Нет, Катерина, ты погоди, раз тебе человек помощь предлагает, то чего ты ершишься-то? Это нехорошо, даже неприлично, ведь не кто-нибудь со стороны, а твой же хороший знакомый, друг, можно сказать! Ты, Борис, приходи, приходи, хоть каждый свободный вечер, а уж я её заставлю заниматься! Катя, не отвечая, вышла на крыльцо, вслед за ней поспешил и Борис. – Ну и ловок же ты, Борька, ишь, как маму обошёл! Репетитор, тоже мне, выискался! Понимаю я тебя: в райкоме холодно, да и ходить далеко, на улице уже снег выпал (разговор происходил в начале декабря 1926 года), а тут в доме для свиданий самое подходящее место, и не стыдно тебе?!! Борису пришлось потратить немало времени и слов, чтобы убедить Катю, что инициатива о занятиях происходила не от него, а от её матери и Жени, но что перспектива каждый вечер проводить у них дома рядом с нею, не опасаясь какого-нибудь нескромного намёка, которые им уже приходилось выслушивать от сторожихи райкома, или каких-нибудь насмешек от друзей, застававших их вместе, его, конечно, прельщала. Но в то же время он твёрдо обещал, что его пребывание у них по вечерам будет действительно отдано учёбе, и ему тоже доставит большую радость. В конце концов, ему удалось уломать девушку. С этих пор почему-то заседания и собрания стали кончаться удивительно рано, и в 8–9 часов вечера Борис и Катя, усевшись бок о бок на лавке за большим кухонным столом, усердно разбирали алгебраические правила, решали задачи по геометрии – одним словом, занимались. По строгому приказу матери, никто из членов их многочисленной семьи в это время в кухню не заходил, чтобы не мешать им. Вряд ли Борис сумел оказать своей подруге действительно серьёзную помощь, но уже то, что она не сидела где-то на скамеечке или в райкоме, а старательно учила заданное и лишь иногда обращалась за помощью к Борису, повторяла услышанное в классе и более или менее внимательно читала написанное в учебнике, дало свои плоды. Через каких-нибудь две недели она уже уверенно отвечала на вопросы учителя математики, успешно справлялась с письменными работами. Об этом сейчас же стало известно Акулине Григорьевне, которая приписала это, конечно, заслугам Бориса. Но надо честно признать, что, находившийся на седьмом небе от счастья парень, сидя голова к голове с Катей над каким-нибудь учебником, конечно, не упускал случая, чтобы не прижаться губами к находившейся так близко щёчке любимой девушки, а иногда просто схватывал её в охапку, крепко обнимал и целовал без всякого стеснения несчётное число раз. Она не всегда успевала увернуться от этих горячих порывов, ведь ни кричать, ни отбиваться с шумом она не могла, боясь, что услышат её родные. Но, кажется, что эти объятия и ей не были неприятны. Занятия продолжались почти до самой весны. За это время все члены семьи Пашкевичей не только хорошо узнали Бориса, но и прониклись к нему симпатией. Обладая счастливым даром располагать к себе окружающих людей, видимо, унаследованным от деда, Болеслава Павловича Пигуты, Борис понравился всем старшим членам семьи и полностью покорил всех младших.* * *
Как правило, получать своё жалование Борис ездил во Владивосток, естественно, что в эти дни он старался посетить школы на станции Угольной, в Раздольном и в Надеждине. Его посещения, замечания приносили определённую пользу: вожатые школ работать стали лучше, количество пионеров неуклонно росло, и вскоре он и здесь завоевал доверие и уважение. Алёшкин курировал и ещё одну школу – на станции Кангауз, но туда он ездил обычно, совмещая свою поездку с посещением отрядов в Романовке, Новонежине или Лукьяновке. Получив деньги в кассе управления дороги, Борис проводил некоторое время в закупках различного рода гостинцев для ребятишек – братьев и сестры, а в последнее время и для Кати и её сестер. Обычно это были всякого рода сладости, чаще всего пирожные. Встретившись с Катей, Борис совал ей в руки коробку пирожных, она от них отказывалась и принимала лишь после долгих и настойчивых просьб. Девушка понимала, что ни мать, ни брат такие подарки не одобрят. Приходилось поэтому есть их ночью в спальне, там же угощать и сестрёнок, взяв с них предварительно самую страшную клятву, что они об этом угощении никому не расскажут. Кончился 1926 год, начался 1927. В райкоме ВЛKCM произошли изменения: ушёл в губком партии на должность инструктора Смага, секретарём стал Володя Кочергин, Гриша Герасимов стал зав. агитпропом, а на должность инструктора взяли комсомольца-корейца Пак Моисея. Он окончил русскую сельскую школу и учился во Владивостоке в школе II ступени до 1924 года, затем по каким-то семейным обстоятельствам вынужден был учёбу оставить. Жил он в корейском поселке при Шкотове, в комсомол вступил в середине 1924 года. Он для райкома ВЛКСМ был очень необходим: в районе уже насчитывалось 8 корейских комсомольских ячеек и 12 пионеротрядов, из обкома стала поступать регулярно литература и директивы на корейском языке. Для того чтобы разобраться в ней, пользовались услугами одного из работников райисполкома, но тот часто находился в отъезде, и это затрудняло работу. Имея своего корейского инструктора, можно было обеспечить работу с корейской молодежью и детьми эффективнее. В райбюро юных пионеров Шкотовскoго района работа кипела. Количество пионеров росло, так же, как и отрядов, буквально не по дням, а по часам. Алёшкин в январе 1927 года отчитывался на заседании областного бюро юных пионеров, а затем и на бюро ВЛКСМ, его работу одобрили, хотя, конечно, не обошлось и без замечаний. После этого и он, и все члены бюро усилили свою активность, взяв за основу шефство и постоянный контроль за работой вновь организованных отрядов. Это потребовало частых разъездов на места не только самого Бориса, но и многих членов бюро, ну а поскольку разъезды эти совершались пешим хождением иногда за десятки вёрст от Шкотова, то, конечно, все были так загружены, что, кажется, будь в сутках не 24, а 25 часов, их бы тоже не хватало. Время летело незаметно. Мы уже говорили, что Борис жил отдельно от семьи отца в маленькой квартирке, доставшейся ему по наследству от Чибизова, и, естественно, должен был обслуживать себя сам, то есть мыть полы, подметать, стирать пыль и тому подобное. У него, как правило, на это времени не хватало. Отдавая большую половину своего жалования матери, он питался вместе со всей семьёй и лишь ужинал у себя, куда ему приносил и оставлял до его прихода еду кто-нибудь из младших членов семьи. Иногда он неделями не топил квартиру: приходя домой, раздевался и залезал в своё «логово» – постель, где вместо матраса была всё та же медвежья шкура, на которой он спал и в Новонежине. Накрывался суконным солдатским одеялом, накладывая на него всю имевшуюся верхнюю одежду, и засыпал, дрожа. Если бы не молодость и, очевидно, всё-таки изрядное здоровье, то он бы должен был уже давно захворать, но пока всё обходилось. Неделями не убираясь в квартире, Борис привёл её в такое состояние, что заглядывавшая иногда к нему Анна Николаевна приходила в ужас, устраивала ему крепкий нагоняй, и тогда он хоть кое-как приводил жилище в относительный порядок. Между прочим, приглашая к себе в гости Катю, что Боря не раз делал, в душе он боялся, как бы она не приняла его приглашения и совершенно не разочаровалась в нём, увидев, в каком хаосе он живёт. Но состояние его квартиры всё-таки, в конце концов, Кате стало известно. Борина сестра училась в одном классе с Катиной сестрой, а так как Люся неоднократно относила Борису ужин, то видя запущенность его жилья, проболталась об этом Жене, а та не замедлила поддразнить этим Катю, посоветовав сходить к Борису, чтобы вымыть у него полы и вообще прибраться. Катя, узнав об этом, рассердилась на парня: – Вот ты всё говоришь, что жениться на мне хочешь? А куда ты меня приведёшь – в свою грязную берлогу, чтобы я её тебе от грязи отчищала? И тебе не будет стыдно? Смотри, приду к тебе в гости неожиданно, уж всё равно про нас чёрт знает что болтают, и если только действительно увижу в квартире грязь, немедленно уйду и уж никогда больше ты меня у себя не увидишь, так и знай! После такой проборки Бориса словно подменили. Помещение теперь подметалось ежедневно, полы мылись не реже раза в неделю, так же регулярно он стал менять и постельное бельё. Мало этого, из первого же после этого разговора жалования он купил материи на простыни, наволочки и занавески. Когда Борис принёс материю матери и попросил сшить из неё необходимое бельё и занавески, та, конечно, сразу решила, что сын женится, а так как весь последний год его имя связывали только с именем Кати Пашкевич, то, очевидно, что её первой невесткой будет именно эта девушка. Надо прямо сказать, что Анна Николаевна была не очень-то довольна выбором сына: она долго не могла забыть то высокомерное, как она считала, отношение к ней Кати после неудачного вручения ею Бориного послания. Хотя с тех пор, встречаясь с Катей, она не имела повода на неё обижаться: та всегда первая здоровалась, приветливо отвечала на задаваемые вопросы – одним словом, держала себя вполне учтиво, а по рассказам всех знакомых считалась одной из примерных девушек села, у матери сохранился некоторый осадок неприязни к Кате. Но настроение настроением, а выполнить просьбу сына надо. Анна Николаевна около недели старательно шила Борису постельное бельё, занавески, полотенца и ещё что-то. А вопрос о женитьбе у Бориса и Кати ставился уже довольно остро и, хотя между ними ничего серьёзного ещё не произошло, но их совместные занятия и пребывание в райкоме носили не совсем невинный характер. Катя уже сама начала подумывать о том, что, видимо, этот настырный парень, становившийся ей с каждым днём дороже, от неё не отстанет, да она и сама его никому не отдаст. В конце концов, они договорились, что Катя выйдет за Бориса замуж сразу же после окончания школы. Между прочим, как-то так получилось, что она всё ещё не решила, что же будет делать после школы. Стать учительницей, как собирались многие её одноклассницы, Катя не хотела. Она любила пионерскую работу, любила этих бойких любознательных ребят, как пионервожатая могла быть с ними целыми днями, но становиться педагогом не планировала. Ей казалось, что учителя становятся не ближе к детям, а, наоборот, отдаляются от них, поднявшись на какую-то более высокую ступень. А вожатый – это ровня им, их друг, хотя одновременно и воспитатель. Так, на распутье она и находилась до сих пор. В конце января 1927 года секретарь партячейки железнодорожников предложил Борису Алёшкину подать заявление о приёме в партию. Предложение это явилось для парня неожиданностью: он, конечно, мечтал о вступлении в партию, но полагал, что это произойдёт в каком-то отдалённом будущем, ведь ему было всего ещё только 19 лет. Он решил посоветоваться об этом со Смагой. На последней районной конференции ВЛКСМ, происходившей в начале января 1927 года, Смага заявил о своём уходе на партийную работу во Владивосток и в Шкотове находился последние дни. Борис пошёл к нему домой, это было впервые за всё время их знакомства. В квартире царил беспорядок: Смага и его жена Даша, тоже хорошо известная Борису комсомолка, занимались укладкой вещей, готовились к переезду в город. Борис, увидев их занятость, уже собирался уйти, но Даша, понимая, что парня к ним привело что-то важное, весело сказала: – Вот хорошо, что ты зашёл, нам как раз передохнуть нужно, а то мы с этими книгами замучились, никак их уложить не можем. Давайте попьём чайку, а, Захарий? Тот, затягивая узел на большой связке книг, что-то буркнул в ответ, и через несколько минут все они уже сидели за столом и пили горячий чай с мёдом и какими-то вкусными ватрушками, привезёнными Дашей из дому – из Новороссии, куда она ездила прощаться. За чаем Боря осмелился: – Знаешь, товарищ Смага (почему-то никто в райкоме не решался называть Смагу по имени, хотя всех других называли по именам, да между прочим, и сам Смага своих сослуживцев называл тоже только по фамилии), мне Левицкий (секретарь партячейки железнодорожников) предложил в партию вступать. – Ну и что? – А примут ли меня? Я ведь ещё молодой. – Ну, этого наперёд я тебе сказать не могу, а только по твоей работе в райкоме я могу судить, что ты достоин быть в партии. Правда, вступать тебе будет нелегко: ведь ты из семьи служащих, отец-то даже белым офицером был, так что тебе придётся трудно с рекомендациями – нужно их пять, и все от партийцев с не менее чем пятилетним стажем. Я бы и сам тебе рекомендацию, безусловно, дал, да у меня ещё стажа не хватает для этого. Поговори с Костроминым, его женой, Бовкуном – он тоже о тебе хорошего мнения, поищи других старых большевиков. А вступать в партию нужно, не бойся своей молодости. Спрос с тебя, конечно, после приёма будет строже, ну да, я думаю, справишься. Затем они поговорили ещё о предстоящей работе Смаги, о тех неотложных задачах, которые стоят перед райкомом ВЛКСМ. Поздно вечером Борис вернулся домой и долго не мог заснуть, раздумывая о своём будущем. На следующий день он поделился вестью о предполагаемом вступлении в партию с отцом и матерью. Если последняя это горячо одобрила, то отец отнёсся более чем прохладно. – Дело твоё, – сказал он, – но видишь, я вот живу беспартийным – и ничего. Не знаю, стоит ли тебе лезть в эту партию. Как ни говори, а она партия рабочих, ну а ты уже вышел из этого сословия… – Ну и что же, – возражала Анна Николаевна, – Боря и сейчас ведёт почти партийную работу, так зачем же ему оставаться вне партии? Я думаю, что если тебя примут, Борис, то это для тебя будет и почётно, и нужно во всей твоей жизни! Рассказал Борис об этом и своей Кате, чем вызвал у неё радостное восклицание и такой взгляд, что он готов был за него не только перетерпеть все испытания, которые, конечно, ожидали его перед приёмом в партию, но и нечто гораздо более трудное. Как всегда, их задушевный разговор закончился многочисленными поцелуями при расставании. Со следующего дня Алёшкин приступил к подысканию рекомендаций. К его удивлению, этот вопрос разрешился сравнительно просто: дали ему рекомендации оба Костромины, Бовкун, секретарь Дальлесовской партячейки Кочин и заведующий школой-девятилеткой Шунайлов. У всех у них имелся необходимый стаж, и все они знали Бориса более года, а некоторые, например, Шунайлов, уже более четырёх лет. Не прошло и двух месяцев после отъезда Смаги, как Бориса Алёшкина шкотовская железнодорожная ячейка приняла в кандидаты ВКП(б). Через неделю его приём утвердило бюро райкома партии, и, будь Борис рабочим или крестьянином, он бы уже мог считаться принятым и получить соответствующий документ. Но приём его, как служащего, утверждало бюро обкома. Борис понимал, что при рассмотрении его дела в обкоме к нему будут подходить строго, и потому усиленно готовился. За этот период времени даже свидания с Катей стали реже, и продолжались меньше по времени. Почти все мало-мальски свободные вечера он проводил за чтением газет, журнала «Большевик», имевшихся учебников по обществоведению, докладов и речей Сталина по вопросам борьбы с троцкизмом и правым уклоном. Он прочёл и несколько статей Владимира Ильича Ленина, и даже попробовал читать «Капитал» Маркса, имевшийся в библиотеке райкома партии. Но, кажется, больше всего ему помогли разговоры с Костроминым, старательно объяснявшим своему подопечному события последних лет, а также и те моменты из истории партии, которые были особенно непонятными. На это дело ушло около трёх месяцев, и в июне 1927 года Алёшкина вызвали во Владивосток на бюро обкома. Решение вопроса о его принятии в кандидаты партии заняло всего несколько минут: инструктор обкома, который готовил его дело, в нескольких словах рассказал биографию Бориса, зачитал список лиц, давших рекомендации, подчеркнул, что один из рекомендовавших – секретарь райкома партии, и высказал предложение об утверждении решения бюро райкома. Затем один из членов бюро спросил: – Ваш отец, Яков Матвеевич Алёшкин – в прошлом офицер? – Да, – ответил Борис, – но теперь он командир Красной армии. Спрашивавший улыбнулся, и, обернувшись к другим членам бюро, сказал: – Я этого Алёшкина хорошо знаю, он был у нас связным в партизанских отрядах Сучана. Думаю, что его сын не уронит звания большевика. После этого другой член бюро спросил Бориса о II съезде партии, о III съезде РКСМ, о речи Ленина на нём и о докладе И. В. Сталина по вопросу правой опасности в партии. К своей радости, все эти вопросы Борис знал и потому сумел ответить на них вполне удовлетворительно. После краткого совещания секретарь обкома Костя Пшеничный (как ласкательно его звали почти все) – сподвижник Лазо и Суханова, встал, пожал Борису руку и сказал: – Что же, товарищ Алёшкин, поздравляем вас с вступлением в ряды ВКП(б), надеемся, что вы оправдаете наше доверие. Кандидатскую карточку получите завтра, зайдите за ней в общий отдел. До свидания! Не помня под собою ног от радости, Борис выскочил из здания обкома на улицу. Конечно, он сейчас же отправился в кинотеатр «Художественный», затем долго гулял по саду Буфф, вновь смотрел кино и, наконец, поздно вечером отправился на ночлег в так называемое учительское общежитие, располагавшееся в районе Мальцевского базара. Для ночлега в этом общежитии ему выдали записку от общего отдела обкома. Состояло оно из нескольких комнат в каком-то большом, похожем на казарму, здании. В каждой комнате стояло 10–12 кроватей, но в это время года народу в нём было совсем немного. Итак, с июня 1927 года Борис Алёшкин стал кандидатом ВКП(б) и с гордостью показывал всем знакомым и, конечно, Кате, в первую очередь, коричневую картонку с напечатанным на ней названием «Приморский обком ВКП(б)», номером и написанными от руки фамилией, именем и отчеством. В то время ещё не было единых партийных документов, и почти каждый обком, губком или крайком выпускал свои членские билеты и кандидатские карточки. Между прочим, у членов партии была точно такая же карточка, только красного цвета. Все описанные события произошли в июне, но ещё в марте с Борисом случилось одно происшествие, о котором мы не можем умолчать. Во время весенних каникул класс, в котором училась Катя, по инициативе классного руководителя, учителя естествознания Ланового, решил провести экскурсию во Владивосток с тем, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города, посетить музей. День этой поездки совпал с тем, в который Борис получал обыкновенно жалование. Он договорился с Катей, чтобы этот день провести вместе. Катя, как мы знаем, хотя и недолго, жила во Владивостоке. Её родственники – тётки и двоюродные сёстры за это время успели довольно хорошо познакомить девушку со всеми замечательными местами города. Она охотно согласилась на предложение Бориса, так как в городе могла чувствовать себя менее стеснённо: тут не было на каждом шагу знакомых или родственников, как это было в Шкотове. По дороге к городу Катя договорилась с Лановым, под предлогом необходимости навестить родственников, о том, что она проведёт этот день одна и вернётся лишь ко времени возвращения экскурсии прямо на вокзал, тот согласился. Как только ученики приехали в город, Катя Пашкевич откололась от класса и направилась в привокзальный сквер, где её уже ожидал Борис, приехавший с этим же поездом, разумеется, в другом вагоне – так, чтобы ни один из одноклассников Кати, а тем более одноклассниц, его не видел ни в поезде, ни в городе. Вместе с Катей они прошли у в Управление отделения железной дороги, там в кассе Борис получил своё жалование – что-то около 55 рублей. Имея такую кучу денег, они решили кутнуть. Правда, решал-то этот вопрос один Борис, Катя молча и довольно пассивно ему подчинялась. Он, однако, был рад и этому, боясь встретить какие-нибудь возражения или даже прямое сопротивление его планам. Очутившись с Борькой с глазу на глаз в большом и всё-таки малознакомом городе, где не было спасительной калитки их ворот или двери дома, Катя несколько растерялась и, пожалуй, струсила. С одной стороны, ей было приятно иметь полную самостоятельность, чувствовать отсутствие какой-либо опеки и наблюдения со стороны родных, приятно сознавать, что Борис все эти траты и затеи делает только ради неё, интересно и любопытно наблюдать за ним, да и за собой тоже, как бы со стороны, ожидая с некоторым волнением, что же из всего этого получится. С другой стороны, было немного и страшновато: а вдруг этот Борька, покорный до сих пор каждому её слову, каждому движению, вырвется из подчинения и натворит что-нибудь такое, о чём ей придётся жалеть потом всю жизнь? Так, под влиянием этих противоречивых чувств она и находилась весь день. Конечно, прежде всего, они направились в кино. В Шкотове кино бывало не каждую неделю, картины привозили старые, значительно потрёпанные, рвавшиеся в каждой части по несколько раз, что вызывало длительную задержку в показе, и только такие молодые люди, как Борис и Катя, которым больше нравилось находиться в обществе друг друга, чем смотреть фильм, на эти задержки внимания не обращали, все же остальные громко возмущались, хлопая в ладоши, топоча ногами и крича: «Сапожник!» Здесь, в городе, сеансы начинались с 10 часов утра и продолжались до позднего вечера, перерывов между частями не было, показ осуществлялся двумя аппаратами, картины шли новые. Поэтому посещение кинотеатров «Арс» и «Художественный» – тогда их во Владивостоке было всего только два – считалось чуть ли не обязанностью каждого, кому приходилось бывать в городе. Побывав в обоих кинотеатрах, и в одном переживая замечательные приключения Дугласа Фэрбенкса в картине «Знак зеро», а в другом вдоволь нахохотавшись над Чарли Чаплиным, наши гуляки отправились обедать в ресторан «Сан-Суси», который ещё продолжал функционировать. Катю поразила невиданная ею до этого роскошь ресторана, а Борис старался держаться как можно развязнее и независимее. Вероятно, со стороны эта пара выглядела довольно комично. Он и она по одежде и своим манерам значительно отличались от завсегдатаев ресторана. Молодые люди это и сами видели, и потому, поскорее управившись с обедом, вкус которого Катя из-за стеснения и непривычности обстановки даже как следует и не разобрала, поторопились покинуть этот сверкающий огнями и хрусталём зал. Зашли они в кондитерскую, купили две коробки разнообразных пирожных и фунта два шоколадных конфет. Одну коробку решили отвезти домой, чтобы разделить её содержимое между братьями, сестрой Бориса и сёстрами Кати, а конфеты и пирожные из другой им предстояло съесть сейчас. Но где? Ведь не сядешь же на скамейку в саду или где-нибудь на улице и не начнёшь на глазах прохожих лакомиться пирожными? Надо было придумать, где-нибудь провести время до вечера и поесть свои лакомства, не подвергаясь наблюдению посторонних глаз. В то время во Владивостоке имелись две большие гостиницы – «Золотой Рог» и «Версаль» и очень много мелких частных, так называемых номеров, иногда имевших в своём распоряжении меньше десятка комнат. В них за весьма скромную плату могли найти уединение парочки на сутки, на ночь и даже всего на несколько часов. В одну из таких гостиниц Борис и повёл свою Катю. Она не понимала ужаса посещения мебилирашек в силу своей полной невинности, а он даже не подумал о том, что уже один визит девушки в эти номера может её скомпрометировать: слишком он был беспечен и легкомысленен. Да Борис и сам не догадывался, что в такие гостиницы гости приводят с собой только девушек так называемого лёгкого поведения, используя для прочих услуг горничных и другой обслуживающий персонал. Ему как-то пришлось раз переночевать в одной из гостиниц около Семёновского базара, в неё он и привёл свою Катю. Когда он договаривался с хозяйкой, сидевшей за столиком в прихожей, о комнате до вечера или, может быть, до утра, его очень удивили насмешливые взгляды, брошенные ею и довольно миловидной горничной на смущённо прятавшуюся за его спиной Катю. Удивило его и то, что хозяйка взяла с него в этот раз двойную плату за такой же номер, как тот, в котором он останавливался в прошлый раз. Конечно, при Кате он не осмелился торговаться, но та, услышав цену, и сама пришла в ужас: нужно было заплатить 4 рубля! Она дёрнула парня за рукав и тихонько шепнула: – Уйдём, съедим пирожные завтра где-нибудь в селе. Но Борис, заметив, что колебания его спутницы, да и его самого, вызвали у хозяйки презрительную улыбку, вынул из кармана деньги и молча положил их на стол перед хозяйкой. Та спихнула бумажки в открытый ящик стола и приказала горничной проводить гостей в номер. Горничная провела их на второй этаж, где в довольно грязный, обшарпанный коридор выходило, наверно, десять или двенадцать дверей. Она открыла одну из них и жестом пригласила пройти нанимателей в комнату. Комната среднего размера, с большой двуспальной кроватью у одной из стен, с умывальником у противоположной стены, со шкафом, стоявшим напротив окон сбоку от входной двери, со столом посередине, накрытым цветастой скатертью не первой свежести и несколькими стульями, стоявшими вокруг стола, с какой-то несуразной картиной, висевшей над кроватью и с треснувшим зеркалом, укреплённым над умывальником, выглядела не очень уютно. Но ребята, уставшие после двух сеансов кино, пообедавшие, затем основательно побродившие по городу, были рады и такому пристанищу: оно позволяло снять верхнюю одежду, сесть за стол и наконец-таки приняться за своёсоблазнительное лакомство. Борис потребовал самовар и чай, сразу же заплатил за всё это горничной и запер дверь на ключ. Сбоку от окон комнаты, выходящих на Семёновский базар, висели толстые, но сильно поношенные гардины. Борис хотел их задёрнуть, но Катя воспротивилась. Сняв и повесив свои довольно-таки жалкие пальтишки в шкаф, помыв руки, они принялись за чай. С большим аппетитом съели чуть ли не целый десяток пирожных и выпили по две чашки чая. После этого Катя, заявив о своей усталости, разулась и прилегла на кровать прямо на одеяло. Поколебавшись несколько минут, Борис, тоже разувшись, лёг около неё. Она отодвинулась к стенке, но против его присутствия не возражала. Несколько минут они лежали рядом, не двигаясь, думая каждый о своём. О чём думала Катя, мы сказать не берёмся, а у Бориса вдруг возникло горячее желание обладать этой девушкой. Он повернулся к ней и принялся горячо целовать её в губы, щёки, глаза и шею. Она не сопротивлялась и даже иногда отвечала на его поцелуи. Борис осмелел, и его рука коснулась упругой, прохладной, бархатной кожи Катиной груди. Но он смог продержать так свою руку всего несколько секунд. Девушка опомнилась, оттолкнула от себя парня и, слабо улыбнувшись, произнесла: – Борис, Борька, не сходи с ума, хватит! Пойдём, а то меня хватиться могут. Смотри, на улице совсем стемнело, скоро будет поезд. Если я не приеду, отстану от класса, то мне потом и не оправдаться… А ну, как мама спросит тетю Елену, была ли я у неё сегодня, что я скажу? Катя соскочила с кровати, повернулась к Борису, нагнулась к нему, крепко его поцеловала, посмотрела на него умоляющими глазами, стала обуваться и ещё раз повторила: – Ну, Борька, я тебя прошу! Вставай, пойдём! Что-то в тоне её голоса было такое, что заставило его немедленно подчиниться. Через четверть часа Борис выводил из этого вертепа свою любимую Катю такой же невинной девушкой, какой и вводил её. Подходя к вокзалу, они ещё издали заметили группу экскурсантов, стоявших у входа в вокзал и о чём-то оживлённо рассуждавших. Катя потребовала, чтобы Борис немедленно её оставил. Он перешёл на противоположную сторону улицы, свернул в привокзальный сквер и, пройдя через боковую калитку на перрон, забрался в первый вагон уже стоявшего поезда так, что никто из Катиных подруг и приятелей-одноклассников его не заметил. В Шкотове он выскочил из поезда до его остановки и быстро зашагал по линии к дому, а Катин класс ещё довольно долго шумел и смеялся на перроне станции, делясь впечатлениями об увиденном за день и обсуждая все маленькие происшествия, которые произошли с ними, как это всегда бывает при таких путешествиях. Только одна Катя стояла немного в стороне и задумчиво глядела куда-то в сторону моря. Её подруга Нюся Цион заметила состояние обычно весёлой и подвижной девушки, она подошла и спросила: – Кать, ты что? С Борькой Алёшкиным поссорилась? – Не-ет, – протянула она, – просто я себя и ругаю, и жалею, и вообще ничего не могу понять. Оставь меня, не обращай внимания, я пойду домой, – и Катя неспешно направилась по линии в ту же самую сторону, куда только что ушёл Борис. Может быть, она хотела его догнать? Но для этого она шла слишком медленно…Глава десятая
После происшествия, описанного нами в прошлой главе, Борис и Катя стали словно избегать друг друга. Объяснить, отчего это произошло, почему они как бы чурались один другого, молодые люди вряд ли сумели бы. Так получилось, что он уехал по своим служебным делам в Кангауз и задержался там на несколько дней, а она поехала вместе с братом Андреем на рыбалку, где тоже провела целую неделю. Но вот в воскресенье в клубе шла какая-то кинокартина, не сговариваясь, они оба очутились там. И стоило им только увидеть друг друга, только встретиться взглядами, как на лицах появилось выражение такой радости, что бывшая рядом с Катей Нюська не выдержала и воскликнула: – Катька, да ты хоть глаза-то отведи! Ведь по ним сразу можно увидеть, как ты обрадовалась, какая ты счастливая, что своего Борьку увидела! Ну же, отвернись! Но было уже поздно. Борис, встретив Катин взгляд, протолкался к ним через толпу молодёжи и, схватив Катю за руку, продолжая смотреть ей в глаза, взволнованно сказал: – Катеринка, как хорошо, что я тебя встретил! Мне так много тебе нужно рассказать! Та лишь смущённо улыбнулась и, тихонько пожав руку парню, ответила: – Пойдём, сядем, а то сейчас сеанс начнётся. Видишь, Нюська уже нам места заняла. А та, видно, не желая присутствовать при встрече парочки, сразу же, как только подошёл Борис, оставила их и, заняв на одной из скамеек места, сейчас махала им призывно рукой. Конечно, ничего особенного Борис рассказать Кате не мог, он просто хотел её видеть, быть рядом с ней, держать её руку в своей и болтать о чём угодно. Она, кажется, тоже этим была довольна. После кино они вместе пошли домой. При расставании, как всегда, целовались. Но ни он, ни она ни словом не обмолвились о своей владивостокской встрече, им почему-то было стыдно о ней вспоминать. Дни шли, время летело. Как всегда, обоих молодых людей вертела сутолока текущей жизни. Многочисленные комсомольские собрания, заседания бюро юных пионеров, отрядные сборы, а у Бориса теперь ещё и партийные собрания, и учёба, и драмкружок, и многое-многое другое, что занимало жизнь комсомольцев двадцатых годов, для их так называемой личной жизни оставляло очень мало времени. Но они всё-таки умудрялись видеться ежедневно. Каждый вечер Борис провожал Катю домой. При прощании они уже не стояли у ворот Катиного дома, а сидели по нескольку часов на скамеечке, находившейся на крыльце аптеки, иногда пугая своим присутствием возвращавшуюся поздно вечером из гостей старую аптекаршу. Правда, садясь рядом с Борисом на скамейку, Катя тщательно измеряла пальцами расстояние, на котором полагалось находиться от неё кавалеру, но через некоторое время это расстояние как-то незаметно сокращалось, и они сидели, уже тесно прижавшись один к другому. Губы их беспрестанно встречались в горячих поцелуях, а Борькина непослушная рука нежно ласкала тело девушки. Катя, окончив школу, как обычно, выехала вместе с родными на работу в поле. Мы уже, кажется, говорили, что поля у шкотовских крестьян, как правило, находились километрах в 10–12 от села, и поэтому выезд в поле происходил надолго. Свидания Бориса и Кати стали редкими, а он уже буквально не мог прожить и дня без того, чтобы не видеть и не целовать свою Катю, как он теперь её смело называл, и на что она уже не отвечала сердитым возражением, как это бывало раньше. Очевидно, подобное чувство испытывала и она, хотя, конечно, никогда в этом бы не созналась – не в её это было характере. Раз в неделю она обязательно прибегала под каким-нибудь предлогом в село. В этот день они обязательно встречались и сидели чуть ли не до рассвета. Кате иногда приходилось возвращаться в поле сразу после свидания. Через много лет они оба удивлялись, как это она могла выдерживать такую нагрузку, но тогда об этом даже и не думали. Но Борису еженедельных свиданий было мало, да и не всегда они удавались: он тоже не сидел всё время в селе, и хотя свои командировки по комсомольским ячейкам и пионеротрядам он всегда старался провести так, чтобы по возвращении в Шкотово встретиться с Катей, с которой заранее договаривался о дне её прихода в село, но иногда не получалось. Ему хотелось и самому прийти к Кате в поле и хотя бы увидеть её там. Идти в такой далёкий путь пешком он не мог, у него на это просто не было времени: ежедневно, с 9 утра и до 3 часов дня Борис должен был находиться в райкоме. Но тут его, как это уже происходило не раз, выручил случай. Он уже давно подумывал о том, чтобы как-нибудь облегчить себе командировки по району, а к этому ещё прибавилось и стремление видеть как можно чаще Катю. Он мечтал о покупке велосипеда. На нём, как мы помним, он выучился ездить ещё в Новонежине, и теперь этот стальной конь пришёлся бы очень кстати. Его попытки договориться об аренде или продаже велосипеда с отцом Федьки Сердеева ни к чему ни привели, тот категорически отказал (сам Федька в это время уже служил в Красной армии и находился где-то в Сибири), купить велосипед в магазине было невозможно – в то время их у нас в стране выпускалось очень мало, и продажа в магазинах была большой редкостью, на них записывались чуть ли не за год вперёд. Привозимые моряками контрабандным путём из-за границы велосипеды иностранных марок продавались тайком на базаре, но на приобретение такого товара Борис пойти не мог: как комсомолец, а теперь уже и большевик, он не считал себя вправе покупать контрабанду. Кроме того, спекулянты драли за машину такую цену, которую Борис всё равно бы выложить не смог. Но вот, в случайном разговоре с одним из знакомых шкотовских комсомольцев Борис выяснил, что у того где-то в сарае валяется старый поломанный велосипед, приобретённый его отцом ещё в довоенное время, и он может продать его. Комсомолец этот был Лёнька Лозицкий, сын начальника станции Шкотово. Борис довольно хорошо знал всю семью этого парня и в особенности его сестру Марусю Лозицкую – комсомолку, учительницу из той же школы, где служила и его мать. При помощи Лёньки, а также и при поддержке Маруси, которым Борис довольно обстоятельно объяснил необходимость велосипеда для райкома комсомола, ему удалось уговорить их отца, и он согласился на продажу того, что весьма относительно могло называться велосипедом. Правда, и цену за этот остов машины он взял смехотворно низкую – всего пять рублей. Велосипед имел целую, но достаточно поржавевшую раму, целые и непогнутые ободья колес, с некоторым недостатком спиц, довольно приличные покрышки на колёсах, относительно исправный руль, одну педаль, цепь и даже звонок. Полностью отсутствовали шины и вторая педаль. Став обладателем этой машины, вообще-то говоря, выпущенной в свет, вероятно, в самом начале века, Борис на следующий же день отправился во Владивосток, где на Семёновском базаре, на его обширной толкучке сумел найти и педаль, и две подержанные камеры. Вернувшись в Шкотово, он при помощи китайца-кузнеца прикрепил педаль на нужное место, хотя, как оказалось, педаль эта была совсем от другой марки велосипеда и по размерам значительно отличалась от имеющейся, но кузнец всё-таки каким-то образом сумел её зафиксировать. Он же помог Борису заклеить и порванные в нескольких местах камеры, и даже продал за полтинник старый велосипедный насос, оказавшийся у него по какому-то счастливому случаю. Одним словом, уже через два дня Борис Алёшкин явился в райком на работу на собственной машине. Правда, последние 200 шагов в гору он фактически нёс велосипед на себе, но зато после работы торжественно водрузился на него и, к зависти своих друзей из райкома ВЛКСМ, поднимая пыль, помчался по дороге в центр села к своему дому, вызывая лай дворовых собак и кудахтанье куриц, мирно копавшихся в пыли на середине улицы и разлетавшихся при его приближении в разные стороны. Сразу же он договорился с секретарём райкома Кочергиным, что на следующий день поедет проверить работу комсомольской ячейки и пионеротряда в селе Новая Москва. Дорога в это село проходила мимо поля, на котором работали Пашкевичи, и Борис, конечно, считал вполне допустимым по пути завернуть к ним, чтобы увидеться с Катей. Его уже давно воспринимали хорошим знакомым всей семьи, и потому его появление не вызвало бы особого удивления. Ну а то, что он появится на собственной машине – велосипеде, хоть и неказистом, обещало придать ему более значительный вид – по крайней мере, он так думал. Часам к 10 утра Борис был готов к выезду. Спустившись на тропинку между кустарниками и мелкими деревцами, росшими у берега реки Цемухэ, проходившую вдоль проселочной дороги, ведущей в село Новая Москва, Борька весело покатился вперёд. Светило яркое солнышко. Всё, казалось, соответствует его настроению: и дорожка, по которой он ехал, и то, что велосипед отлично слушался руля и, будучи тщательно смазан, двигался легко, и то, что даже набор инструментов, случайно оказавшихся в сумочке, прикреплённой к велосипедной раме, позвякивал при каждом толчке, одним словом, всё-всё радовало и веселило. Сзади на багажнике, на котором Борис впоследствии думал катать Катю, находилась связка литературы – брошюры и газеты, без которых тогда в село не ездил ни один комсомольский работник. Поглощённый своими мечтами о встрече с любимой, Борис не замечал времени и почти неожиданно очутился у поворота, от которого отходила менее наезженная, ведущая к полям шкотовцев, в том числе и к полю Пашкевичей, дорога. Поколебавшись несколько секунд, Борис решил прежде завернуть к ним с тем, чтобы в Новую Москву приехать вечером. Всё равно сейчас народу в селе мало – молодёжь, да и пионеры находятся в поле, а вечером удастся собрать больше народу. Он должен был делать доклад «О текущем моменте», тогда без таких докладов не выезжал в село ни один работник райкомов ВЛКСМ и ВКП(б). Свернув с гладкой тропинки на проезжую дорогу, изобиловавшую рытвинами, камнями и глубокими колеями, Борис обнаружил, что ехать ему стало значительно труднее. Кроме того, приближавшееся к полудню солнце основательно припекало, а он был одет в обычный для того времени у комсомольцев юнгштурмовский костюм, сшитый из довольно толстой, хотя и хлопчатобумажной материи, во всяком случае, для велосипедной езды явно непригодный. Вскоре вся спина у него стала мокрой, а пот со лба всё время струился по щекам. Наконец, Борис не выдержал, остановился, снял с себя рубашку и, оставшись в одной майке, отправился дальше. Ехать стало легче. До места работы Катиной семьи оставалось не более полутора вёрст, но дорога три раза пересекала речку Стеклянуху, и Борису предстояло также преодолеть это препятствие. В это время года – в конце июля Стеклянуха настолько обмелела, что глубина её в местах переездов составляла не более 10–15 сантиметров. Парень решил преодолевать речку на машине, чтобы не разуваться. Это решение пришло ещё и потому, что он уже заметил семейство Пашковичей, окучивающих кукурузу. Ему, конечно, захотелось похвастаться своим транспортом – велосипед в то время был редкостью. Очевидно, и он оказался замечен работавшими. Внимание их привлекло то, что путник, продвигавшийся по дороге с большой быстротой, был не на лошади, а его велосипед из-за высоких хлебов, окружавших дорогу, был им не виден. Такое быстрое передвижение их удивило, и они, приложив козырьком руки ко лбу, так как яркое солнце светило в глаза, с удивлением рассматривали приближавшегося человека. Катя первой узнала Бориса и, хотя в душе и была рада его появлению, но вместе с тем немного сердилась. Она знала, что его приезд вызовет пересуды в семье, насмешки сестрёнок, и, самое главное, шутки Андрея. Его острого языка она боялась больше всего. Между тем Борис лихо миновал сперва один брод, затем другой. Дно в этих местах было песчаное, и проехать по твёрдому песку в воде, разбрасывая в стороны тучи брызг, доставило только удовольствие. Он приближался к третьему броду, находившемуся почти у края поля Пашкевичей. В этом месте дно реки было покрыто довольно крупными камнями, и Борис, так же смело ринувшись в воду, как и на предыдущих бродах, почти сразу же попал передним колесом между двумя камнями, потерял равновесие и через мгновение очутился в воде. Это увидели все, конечно, и Андрей, он тоже узнал парня, и воскликнул: – Да это никак Борька Алёшкин! Смотри-ка, Катин женишок пожаловал, вот мы его сейчас опробуем на работе, посмотрим, какова его сноровка! Или он только языком работать умеет? Ой, да что же это он выделывает! А Борис действительно «выделывал»: поначалу он старался сохранить равновесие на велосипеде, а когда это ему не удалось, то в попытке соскочить с него зацепился ногой за педаль и плюхнулся в воду плашмя. Он, конечно, сразу же вскочил на ноги и, оставив велосипед, бросился вниз по течению за уплывавшей рубашкой, которую он небрежно бросил сверху литературы, когда раздевался, и которая теперь, свалившись в воду, на глазах уплывала. Догнал её, вытащил, слегка отжал и, перекинув через плечо, направился к велосипеду. Тот не свалился в воду, а, застряв между камнями, лишь накренился, и благодаря этому привязанная к багажнику литература не подмокла. Но случилось кое-что похуже: когда он спрыгивал с машины, довольно сильно опёрся на недавно приделанную «чужую» педаль, что-то хрустнуло. Борис на это не обратил внимания, торопясь догнать рубаху, теперь же, вытащив велосипед из воды, он увидел, что шплинт, которым кузнец укреплял педаль, сломался, и она болтается так, что пользоваться ею нельзя. Огорчённый, вместо того, чтобы с триумфом подкатить к работавшим в поле, он понуро волочил велосипед за руль, шагая рядом с ним. В общем-то, авария не причинила ему особого вреда, и если не считать мокрой рубахи да ног, то он отделался только лёгким испугом. Но уже то, что он так позорно свалился на глазах у всей Катиной семьи, смущало его так, что он был готов провалиться сквозь землю. Тем более что зрители, вначале немного испугавшись его падения, увидев, что велосипедист цел и невредим, разразились громким смехом. Так, под этот хохот Борис и подвёз свой искалеченный велосипед к полевому стану Пашкевичей. Почти вместе с ним туда подошли и все члены семьи, работавшие в поле: Андрей, Наташа – его жена, Катя, и её сестры Женя и Тамара. Правда, Наташа, собственно, встречала остальных, она готовила обед. Посмеявшись и посочувствовав несчастью незадачливого велосипедиста, пригласили его к обеду, от которого он не стал отказываться. Свою мокрую рубаху он развесил на торчащей вверх оглобле телеги, в тени которой на чистом рядне был собран обед. Во время обеда Борис рассказал, что по поручению райкома ВЛКСМ ехал в Новую Москву, а, увидев их, решил завернуть к ним. Андрей, правда, немного удивился, как это Борис сумел увидеть их с дороги, когда и здесь-то, среди хлебов и уже подросшей кукурузы, их можно было разглядеть с трудом. Но свои сомнения высказывать не стал. Не стал он также, чего больше всего боялась Катя, и насмешничать над нею и Борисом. После обеда, осмотрев свою машину и убедившись, что пользоваться ею будет очень трудно, Борис взвалил за плечи связку литературы, натянув предварительно ещё влажную юнгштурмовку, и отправился в Новую Москву пешком. Он попросил у Андрея, как у старшего, разрешения оставить велосипед у них, чтобы по возвращении зайти и забрать его. Андрей согласился на это и даже показал парню тропинку через сопку, сокращавшую путь до села, в которое Борис направлялся, почти вдвое. Перед уходом Борис успел шепнуть Кате, что на ночь не останется в Новой Москве, а вернётся к ним. Он полагал, что это произойдёт не позднее часов 11 ночи. Так всё и случилось. Пионеротрядом в Новой Москве руководила Лида Смага, младшая сестра бывшего секретаря райкома Захара Смаги, она окончила школу-девятилетку вместе с Катей и, изъявив желание стать учительницей, сразу же после окончания получила направление на работу в родное село – в Новую Москву. По комсомольской линии ей поручили работать с пионерами. Внешне, как, впрочем, и по характеру, она совсем не походила на своего брата. Невысокая, довольно полная шатенка, с весёлыми карими глазами, постоянной улыбкой на румяном лице и какой-то озорной подвижностью, она быстро завоевала уважение пионеров, и её отряд считался одним из лучших, тем более что она к работе с пионерами относилась очень серьёзно и отдавала им всё своё свободное время. О предполагаемом приезде Борис предупредил секретаря новомосковской ячейки ВЛКСМ, служившего одновременно и секретарём сельсовета, с которым имелась телефонная связь. К его приходу в школе уже собрались все комсомольцы и большая часть молодёжи села. Выслушали доклад, сделанный им достаточно толково и интересно, и после пения революционных и комсомольских песен все разошлись. Борис побеседовал с Лидой о работе пионеротряда, снабдил её несколькими полученными недавно из облбюро директивами и инструкциями, передал журналы «Пионер» и «Вожатый», и несмотря на приглашение её и секретаря ячейки остаться на ночёвку в селе, отправился в обратный путь. До стана Пашкевичей было всего около двух вёрст, если идти по той тропинке, которую ему показал Андрей, поэтому Борис согласился поужинать у Смаги. Основательно подзакусив, он часов в 10 отправился в обратный путь. Из-за сопки показался серп месяца, он достаточно хорошо освещал путь, и Борис быстро и уверенно шагал по уже знакомой тропе. Воздух, напоённый ароматом вечерних цветов, которых так много на Дальнем Востоке, запахом созревающего хлеба от простиравшихся кругом многочисленных полей новомосковцев и шкотовцев, слабое дуновение тёплого ветерка и ласковое журчание протекавшей вдоль тропки Стеклянухи вызывали чувство какой-то приподнятости и удивительно радостного и счастливого настроения. Способствовало этому и сознание добросовестно выполненного дела и, пожалуй, самое главное, – возможность, если не сегодня, то уж, во всяком случае, не позднее завтрашнего утра увидеться с Катей. Борис быстро приближался к полевому стану Пашкевичей. Он уже забыл о своём печальном приключении с велосипедом и радостно почти бежал по знакомой дороге. До стана оставалось около пятисот шагов, когда он заметил впереди себя силуэт – кто-то шёл ему навстречу. Сердце подсказало ему, что это Катя, и оно не ошиблось – это была, действительно, она. Через несколько минут, дрожа то ли от возбуждения, то ли от ночной сырости, то ли от страха быть услышанной родными, девушка, прильнув к нему, торопливо отвечая на его страстные поцелуи, шептала: – Да тише ты, сумасшедший! Ведь Андрей и Наташа, наверно, ещё не спят, они только что со мной разговаривали. Не сопи ты так! Я уйду сейчас! Но она не уходила, а продолжала стоять, плотно прижавшись к нему так, что он через тонкое ситцевое платье, надетое на ней, ощущал теплоту и упругость её тела. Потом они ходили по тропинке взад и вперёд, то и дело останавливаясь, чтобы поцеловаться и прислушаться к ночным шорохам. И лишь тогда, когда на востоке явственно заалела полоса рассвета, Катя заявила, что нужно идти спать. Она зашла в некоторое подобие шалаша, сооружённого из старого брезента и одеял около одной из телег, там спали её сестрёнки Женя и Тамара. Борису она указала на рядно, разостланное на свеженакошенной траве рядом с этим шалашом, с маленькой подушкой и стареньким полушубком. Перед расставанием они ещё раз поцеловались, и Катя прошептала: – Спи! Думаю, что не замёрзнешь. Подушку я тебе свою отдала. Борис растянулся на мягком душистом ложе, положил голову на Катину подушку, на которой ещё совсем недавно, только вчера, находилась её голова, и от которой, как ему казалось, всё ещё исходил аромат её волос, пахнувших как-то неизъяснимо приятно. Укрылся шубейкой и, украдкой взглянув на соседний шалаш, в котором спали Андрей и Наташа, и из которого доносился храп мужчины, хорошо поработавшего в поле в течение трудного дня, невольно подумал: «Вот, может быть, скоро и я так с Катей буду спать в одном шалаше!» Так, с этими радужными мыслями он и заснул. Около пяти часов утра Андрей выбрался из своего шалашика и громким голосом возвестил побудку. Все потягивались и, позёвывая, нехотя поднимались. Задерживаться никто не стал: все знали, что опоздавший может получить в постель добрую пригоршню ледяной стеклянухинской воды – Андрей в этом вопросе был беспощаден. Если и давал кому-нибудь поблажку, то только своей жене Наташе, которая почему-то очень часто болела. Увидев поднявшегося со всеми Бориса, Андрей откровенно, а может быть, и притворно, изумился: – Как, и ты уже здесь? Когда же ты успел? То-то я смотрю, Катька никак спать не укладывается, – не смог удержаться Андрей, чтобы не подпустить шпильку. К Бориному счастью, Катя этого замечания не слыхала, вместе с сёстрами она уже скрылась за кустами, обрамлявшими реку. – Ты что же, сейчас прямо идёшь в Шкотово? – обратился Андрей к Борису. – Да нет, – ответил немного нерешительно тот, – я должен вернуться только к завтрашнему дню. – Вот и хорошо, поможешь немного мне, а то вон у меня одни девки… Правда, Катюха наша ломит за доброго парня, но с мужиком всё же способнее. Хоть замуж бы скорей вышла, взяли бы зятя в дом, вот и был бы у меня хороший помощник, – говорил Андрей, лукаво поглядывая на смутившегося Бориса. А тот, преодолев внезапное смущение, ответил: – Что же, я с удовольствием помогу! – Ну, если с удовольствием, так и совсем хорошо, – улыбнулся Андрей, вытираясь полотенцем после умывания над небольшой ямкой, над которой Наташа только что поливала ему на руки, шею и спину той же самой холодной водой, которая была и в речке. Вслед за ним умылся и Борис при помощи Наташи. Та, поливая ему воду на руки, воспользовалась тем, что муж уже отошёл к разостланному около телеги рядну, на котором был собран нехитрый полевой завтрак, усаживался около него, поджимая под себя ноги, и вполголоса сказала: – Да вы, Борис, не пугайтесь его, он шутит! Не думает он, конечно, будущего Катиного мужа себе в батраки брать, это он так только! Борис внутренне очень обрадовался, и совсем не от того, что боялся работы в крестьянской семье, хотя, конечно, никогда и не думал на подобное предложение соглашаться, а тому, что раз Наташа с ним так доверительно заговорила, значит, уже все или почти все считают его настоящим Катиным женихом. Он также вполголоса ответил: – Я знаю крестьянскую работу и всегда помогу Андрею, чем сумею, но всю жизнь крестьянствовать, конечно, не собираюсь… В это время усевшийся Андрей крикнул: – А ну, девчата, быстро завтракать! Садись-ка и ты скорее, Борис, а там и за работу примемся! Катя и её сестрёнки в это время занимались утренним туалетом, полощась в холодных и прозрачных струях быстротекущей Стеклянухи, которая у находившейся недалеко излучины образовала неглубокий омуток. Борис удивился, когда через несколько минут увидел входящих на полянку, где находился стан Пашкевичей, троих девушек. Все они были с мокрыми головами, а старенькие ситцевые платьица плотно облегали их, прилипая кое-где складками к мокрому телу. Очевидно, они были надеты прямо на влажные тела. – Вы, наверно, опять купались! – с укором сказала Наташа. – Простудитесь ведь, оглашенные! Хоть бы ты их, Андрей, урезонил! Но девушки только весело посмеивались, да, поёживаясь от прохладного ветерка, торопливо рассаживались вокруг рядна. После завтрака Андрей хотел запрячь в одну из телег старого меринка, прозванного в семье Индюком, но Борис сказал: – Давай я его сам запрягу! Андрей удивлённо взглянул на Бориса, но ничего не сказал и молча протянул ему хомут. Борис быстро и сноровисто запряг спокойно стоявшего Индюка, лихо развернулся и, подкатив к палатке, крикнул: – Лошадь подана! Андрей, исподтишка наблюдая за работой парня, мысленно похвалил Бориса за быстроту. Подошёл к лошади, опробовал подпругу, осмотрел, как затянут хомут и надета дуга и, убедившись, что всё сделано аккуратно и правильно, спросил: – Это где же ты так с лошадью обращаться научился? Борису не хотелось рассказывать про свои жизненные перипетии, да и сделать это быстро было невозможно. Он кратко ответил: – Да вот так, научился! – Ну ладно, поедем сейчас с тобой на покос, там у нас несколько копен осталось не смётанных, их надо домой отвезти. Нагрузим воз и отправим в Шкотово, а то мама передавала, что там коровам есть нечего. Катя, ты тут ещё помоги немного, а к обеду приходи на покос, сено отвезёшь домой, там с отцом его на сеновал сложите. Я думаю, тебе сюда возвращаться уже не стоит, окучивание сегодня закончим, до жнива ещё больше недели осталось, постараемся завтра управиться и все вернёмся домой. Надо передохнуть малость, да в баньке попариться. Да и маме надо помочь, а то она там с ребятишками-то, наверно, замучилась совсем, от отца-то, знаешь, какая помощь! Ну, поехали. Андрей забрался на телегу, Борис туда же взгромоздил свой велосипед. Он решил, что так как покос Пашкевичей лежал на увале сопки, находившейся ближе к селу, чем пашня, то после помощи Андрею он сможет кое-как уехать со своей поломанной машиной в Шкотово. Ему хотелось к вечеру быть дома, тем более что и Катя к этому времени уже будет в селе. Но прежде чем Борис сумел попасть домой, ему пришлось изрядно попотеть. Андрей, то ли для того, чтобы на самом деле испытать работоспособность своего возможного шурина, то ли для того, чтобы немного посмеяться над «интеллигентом», взявшимся помогать в крестьянской работе, решил парня основательно натрудить. После того, как они положили несколько навильников на телегу, он сам остался на ней, предоставив Борису подавать для укладки сено. Сено приходилось таскать из копёнок, расположенных шагах в десяти-пятнадцати от телеги. Борис подцеплял большими деревянными вилами солидную охапку сена, тащил её к телеге, а затем подавал Андрею. С каждым разом поднимать охапку приходилось всё выше и выше, а солнце начинало припекать всё сильнее и сильнее. Андрей очень аккуратно и умело укладывал сено на возу и лишь покрикивал сверху: – А ну, поднажмись, поднажмись, Борис, уж немного осталось! Проработали они так часа три, причём последние 10–15 минут показались Борису целой вечностью: навильники придавливали его к земле, рубашка промокла от пота насквозь, за воротник насыпалась труха, и всё тело нестерпимо зудело. Вот когда он был готов броситься в речку, какая бы холодная она ни была. Но до реки было далеко, остановиться в работе нельзя. Наконец, Андрей крикнул: – Ну, хватит! Что осталось, мы завтра с собой захватим. Давай байстрюг (так называлась большая жердь, которой придавливался воз). Затем он соскочил с воза. Вместе с Борисом они обчесали воз, затянули верёвку, накинутую на байстрюг и укреплённую на задней грядке телеги. Оглядев ещё раз затянутый воз, Андрей усмехнулся и сказал: – Ну, теперь на нём можно хоть до Владивостока ехать. Борис тем временем снял рубаху, майку и вытряхивал из них набившиеся травинки и труху. Затем он присел рядом с Андреем под кустом в тени. Последний, свернув большую самокрутку, уже отдыхал от работы. Борис развесил потную одежду на другом кустике. Они помолчали немного, затем Андрей одобрительно сказал: – А ты, парень, ничего, работать можешь! Здорово устал? Теперь будешь сидеть здесь и ждать Катьку, а потом вместе на возу и поедете. Но Борис отлично знал, что на такую поездку вместе по селу Катя никогда не согласится, и поэтому ответил: – Да нет, я уж на своём велосипеде как-нибудь доберусь. Да мне его сразу и чинить отдать надо. Завтра, может быть, опять ехать придётся. Пользуясь тем, что они находились с Андреем с глазу на глаз, Борис решил приступить к разговору, который был одной из причин, приведших его на полевой стан Пашкевичей. Вчера Кате об этой причине он не обмолвился ни одним словом, а дело заключалась вот в чём. Несколько дней тому назад заведующий школой на станции Угольной, служащим которой он официально числился, предложил ему идти в очередной отпуск, сроком на две недели. Он сказал, что отпуск надо использовать до начала учебного года, когда школьная работа, да и пионерская при железнодорожных школах, находится из-за каникул в затишье. Ведь в железнодорожных школах многие ученики были приезжими, они прибывали из путевых будок, ремонтных казарм, расположенных на обслуживаемом участке пути, вдали от сёл и городов. Зимой учащиеся жили в интернате школы, а на лето разъезжались по домам. Естественно, что на это время работа в их пионеротрядах замирала. В отрядах же, имевшихся при комсомольских ячейках сёл и рабочих посёлков, работа с пионерами велась с одинаковой интенсивностью круглый год. Поэтому, когда Борис заявил об отпуске секретарю райкома ВЛКСМ Кочергину, тот категорически запротестовал: оставлять пионерскую организацию на две недели без районного руководства он считал невозможным. В самом деле, количество пионеров в районе перевалило уже за две тысячи, почти вдвое против прошлого года увеличилось и количество отрядов. Борис и сам понимал, что руководить работой этой организации необходимо беспрерывно, но в то же время жертвовать своим отпуском не хотел и продолжал настаивать на нём перед Кочергиным и Костроминым, ставшим секретарём райкома ВКП(б), так как Бовкун был переведён секретарем Сахалинского обкома, а вместо него Приморский обком ещё никого не прислал. Костромин посоветовал такой выход. Он предложил Борису найти на это время себе заместителя, тем более что, по заявлению заведующего школой, этот заместитель получит такой же оклад, который был и у основного работника. Собственно, искать такого заместителя Борису было не нужно, у него была Катя Пашкевич, заведующая Уголком вожатого. При его выездах в район она довольно часто замещала Бориса, присутствуя на различных заседаниях, как представительница райбюро юных пионеров. Она это выполняла как дополнительное общественное комсомольское поручение, а тут ей полагалось стать на положении служащей, регулярно приходить в райком, отвечать на все запросы обкома юных пионеров, писать письма по отрядам и выезжать в район в командировки. Борис совсем не был уверен, захочет ли она это делать, а самое главное, не знал, согласятся ли на это её родные. Вот он и решил, что прежде, чем будет уговаривать Катю, сперва поговорит с Андреем, ведь наступала самая страдная пора в сельском хозяйстве, и Катя была необходима дома. В семье Пашкевичей, в сущности, кроме Андрея, работоспособных мужчин не было. Официальный глава семьи – Пётр Яковлевич Пашкевич, по некоторым причинам, о которых мы расскажем подробнее в дальнейшем, в счёт идти не мог. Всю мужскую работу, кроме Андрея, в доме выполняла Катя, и её отсутствие могло очень затруднить положение. Вот Борис и решил поговорить с Андреем по этому вопросу, как с фактическим главой семьи. Он даже хотел в конце поставить вопрос перед своим будущим родственником (так как считал, что Катя обязательно будет его женой) о том, что когда Катя выйдет за него замуж, он, конечно, не пойдёт в примаки, а заберет её к себе, семье Пашкевичей всё равно рано или поздно придётся приспосабливаться к тому, что её в доме не будет. Но до этого вопроса дело не дошло. Борис наконец осмелился: – Знаешь что, Андрей, – начал он, – я с 21 июля в отпуск на две недели пойду. – Что же, это хорошо! Везёт вам, служащим: и отпуск-то вам каждый год, и работаете-то по часам. Как три стукнуло, так и по домам! А вот мы, крестьяне, работаем от зари до зари, а отпусков никаких не имеем. – Да-а! – неопределённо протянул Борис и, набравшись духу, продолжал, – Но вот беда, не пускают меня, пока я заместителя себе не найду. Вот и хочу я попросить, отпустите Катю на две недели вместо меня поработать в райкоме комсомола. Андрей сперва изумлённо посмотрел на Бориса, потом весело рассмеялся: – Да ты в уме? Катьку в райком – да кто же её возьмёт? Это такую девчонку-то? Брось, не чуди, думай, что говоришь! Между прочим, в представлении Андрея все его сёстры, даже самая старшая Милочка, уже несколько лет работавшая учительницей, остались девчонками – пусть немного подросшими, неплохо справлявшимися с домашними работами, но всё равно девчонками. – Брось, Борис, не блажи! Ты думаешь, что, коли она тебе пришлась, так и все остальные о ней так думают? Ничего из этого не выйдет, не согласится никто! – Вот и неправда! Все уже согласны: и Володька Кочергин, и даже сам Костромин. Да ты не думай, она ведь не даром будет работать: ей за две недели 28 рублей 50 копеек заплатят, да ещё и бесплатный железнодорожный билет до Владивостока дадут на всё это время, – продолжал убеждать Борис. – Сколько-сколько? Да ты ошалел! Я такие деньги с лошадью за две недели не заработаю! Сколько же ты в месяц получаешь? – 57 рублей 50 копеек, – ответил Борис – Вот это да! – присвистнул Андрей. – Куда же ты деньги деваешь? На них целой семьёй прожить можно! Борис смешался. Он как-то не задумывался над тем, куда же на самом деле текут получаемые им деньги – они расходовались как-то незаметно. Правда, больше половины он отдавал маме, ну а остальное? И он немного растерянно ответил: – Да так, знаешь… Домой даю, да ещё разные расходы, книги покупаю, курю вот… – он помолчал несколько минут, не зная, что ещё сказать, а затем продолжил, – Ну, а Катю-то ты отпустишь? – А ты сам-то с ней об этом говорил? Она-то согласна? – Да нет, с ней я не говорил, я решил сперва узнать твоё мнение, да и Акулину Григорьевну спросить нужно. Это заявление, видимо, Андрею понравилось. Он фактически уже давно выполнял роль главы семьи, и ему было приятно, когда посторонние это замечали и подчеркивали. Сознательно или бессознательно Борис задел самую чувствительную струну у молодого мужчины. Подействовали тут и меркантильные соображения: 30 рублей, как-никак, на земле не валялись, а Катерине к зиме справить много чего надо. Если она и в учительницы пойдёт (хотя она от этой работы почему-то всё время отказывается), всё равно много чего покупать придётся, эти деньги будут совсем не лишними. Да сейчас и в поле пока затишье: самая работа-то недели через две начнётся, а она к тому времени вернётся. – Ну что же, Борис, считай, что договорились. Маму я уговорю, а вот с Катюхой договаривайся сам. Я ей препятствовать не стану, но и заставлять её тоже не буду. – Конечно, конечно, – обрадовался Борис, – только ты ей, пожалуйста, ничего не говори о нашем разговоре, пусть она сама у вас попросится. Андрей засмеялся: – А ты уже, оказывается, с характером моей сестрицы ознакомился! Да, брат, она с норовом, к ней подход нужен! Ну, да это твоё дело. Борис ничего не ответил, поднял велосипед, привязал к багажнику отвалившуюся педаль, крикнул «до свидания», вскочил на него, подобрав ноги, и покатился по направлению к Шкотову. Покос располагался на увале сопки с уклоном в сторону Шкотова, туда же вела и чуть заметная полевая дорожка. Мы не будем подробно описывать эту поездку нашего героя, скажем только, что, где был уклон в сторону села, там он кое-как ехал на велосипеде, а где намечался хотя бы незначительный подъём, там велосипед ехал на нём. Весёлого было мало, поэтому, даже не заезжая домой, он направился к знакомому кузнецу и потребовал, чтобы тот приварил злосчастную педаль намертво. Тот так и сделал. Благодаря этому почти всё лето Борис регулярно пользовался своей машиной, чем значительно облегчил себе путешествия по району в места, не связанные с железной дорогой. Забежав вперёд, расскажем, как Борис расстался с велосипедом. Осенью, в один далеко не прекрасный день Гришка Герасимов выпросил у Бориса его машину, чтобы съездить на конезавод. Борис, тщательно оберегавший старенький велосипед, почти никогда не давал его никому, за что уже получил прозвище «скупердяй» и даже «собственник», но Грише отказать не смог, и тот уселся на велосипед. Борис, конечно, не вытерпел и выбежал на улицу, чтобы посмотреть, как тот поедет. Гришка на велосипеде ездить умел, очевидно, очень плохо, в чём он, конечно, не сознавался, и поэтому, взобравшись на машину и направив её в сторону довольно крутого спуска по направлению к конезаводу, быстро покатился по тропинке. Но так как всё его внимание было сосредоточено на том, чтобы удержаться на быстро движущейся машине, то он вскоре с тропинки съехал и уже мчался по прямой. На его несчастье, на дороге попался фундамент недостроенного здания, отвернуть от которого он не сумел и с полного хода врезался в возвышавшуюся над землёй на полметра кирпичную стенку. Силой удара его выбросило из седла, и он пролетел вперёд метров 10 по воздуху и упал на землю, а вернее, на кусты, уже за пределами фундамента, и это было большой удачей: упади он на него, дело могло бы не ограничиться синяками и царапинами, а закончиться значительно хуже. Увидев падение приятеля, Борис бросился к нему. К тому времени, когда Борис подбежал к месту аварии, её виновник, кряхтя и чертыхаясь, поднялся и с виноватым видом смотрел на хозяина машины. Убедившись, что с Гришкой ничего страшного не произошло, Борис вернулся к тому месту, где валялся велосипед. Машина была так искорёжена, что никакой возможности починить её не представлялось. Он кое-как отвёл «калеку» домой, и с этих пор она стала игрушкой в руках его младших братьев, умудрявшихся кататься на ней с невысокого холмика, на котором стоял их дом. Но мы забежали вперёд. Вечером того же дня, когда Борис разговаривал с Андреем, он, встретившись с Катей, рассказал ей о своём отпуске, а также и о том, что, по согласованию с райкомом ВЛКСМ и райкомом ВКП(б), на это время она назначается председателем райбюро юных пионеров, за что будет получать соответствующую зарплату. Вначале Катя пыталась отказываться от этой работы, ссылаясь на то, что она с ней не справится, но когда Борис убедил её в противном, то она заявила, что может согласиться на работу в райкоме только в том случае, если дома не будут возражать. Услыхав это, Борис радостно расцеловал своего заместителя и сказал: – Ну вот и отлично! Пиши заявление, всё остальное я оформлю.Глава одиннадцатая
Прошёл месяц, Борис уже давно отгулял свой отпуск, вдоволь накупавшись в Цемухэ и нагулявшись по окрестным сопкам вместе со своими братишками. Конечно, вечерами он не отходил от Кати. Если она задерживалась в райкоме, то там находился и он. Кроме того, они часто гуляли на ветке железной дороги, ведущей к конезаводу. Им нравилось сидеть на старых шпалах, сложенных на насыпи, и слушать перекличку многочисленных лягушек, населявших болота вдоль ветки. Борис помогал своей заместительнице в работе, в решении каверзных вопросов. Это пионерское лето в Шкотове прошло вообще-то очень хорошо. Кроме многочисленных прогулок, экскурсий и весёлых костров, была проведена военная игра сообща всеми шкотовскими отрядами. Последняя понравилась не только пионерам, но даже и комсомольцам, принимавшим в ней участие. Наступила и прошла страда, жатва закончилась. В этот период времени Катя и Борис виделись нечасто: он ездил по району, а она проводила время на полевом стане. Ему попасть в поле к Пашкевичам не удавалось, а когда он уже совсем было собрался, чтобы к ним поехать, произошло непредвиденное обстоятельство, отменившее эту поездку. Это случилось в середине августа. В Шкотово неожиданно приехал сам председатель областного бюро юных пионеров Филка Дорохов. Явившись в райком, он представился секретарю РК ВКП(б), и последний, вызвав к себе Кочергина и Алёшкина, объяснил им, что Дорохов прибыл по поручению приморских обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, чтобы проверить состояние работы комсомольских ячеек с пионерами, и что ему следует оказать в этом деле максимальную помощь. Созвали заседание бюро райкома ВЛКСМ, и на нём Филка изложил плансвоего визита. После однодневной проверки бумаг бюро юных пионеров он предполагал съездить с Алёшкиным в несколько отрядов, расположенных в стороне от железной дороги, затем посмотреть работу шкотовских отрядов, доложить на бюро райкома свои замечания и предложения. План Дорохова ни у кого возражений не встретил, и со следующего дня он приступил к его осуществлению. Гостиниц в Шкотове не было, и Дорохов остановился у Алёшкина, там же он и питался. К счастью, ещё продолжались каникулы, и Анна Николаевна смогла как следует принять гостя. Разумеется, Борис должен был всюду сопровождать Филку, он от этого не страдал: Катя всё равно находилась в поле, и видеться им не приходилось. После проверки дел райбюро юных пионеров, найдя, что все они ведутся правильно, и директивы обкома размножаются и рассылаются на места своевременно, Филка, одобрив эту сторону деятельности Алёшкина, предложил на следующий день выехать по району. Тут встретилось затруднение. Лошадей ни в распоряжении райкома ВКП(б), ни в распоряжении райисполкома не оказалось. Имелась всего одна лошадь, на которой как раз в это время выехал куда-то в самый дальний край района председатель райисполкома, и никто не знал, когда он вернётся. Ехать вдвоём на одном, не совсем надёжном велосипеде было нельзя, и Филка решил отправиться в путешествие тем способом, какой использовали почти все инструкторы райкомов, то есть пешком. На следующий день, взяв с собой порядочную связку книжек и журналов из привезённых Дороховым, немного пирожков и ещё кое-какой снеди, приготовленной Анной Николаевной, Борис и Филка, погрузив взятое в старенький вещевой военный мешок, оставшийся у Алёшкиных чуть ли не со времён Германской войны, отправились в путь. По предложению Дорохова, первый маршрут их путешествия должен был охватить ячейки и отряды, расположенные в сёлах Майхинской долины, начиная с корейского села Андреевки, через Многоудобное и Сицу, до села Хатуничи. О дальнейшем решили договориться после возвращения с этого участка. Из дома они вышли после основательного завтрака часов в 8 утра. Накрапывал мелкий дождичек, и всё небо затянуло серыми тучами, висевшими так низко, что казалось, некоторые из них лежат на вершинах сопок. Конечно, такой пустяковый дождик не мог служить препятствием для их похода, но когда они вышли за пределы села, то он усилился, и у Бориса появились опасения, что из-за грязи и сырости они не сумеют выполнить намеченный на этот день план. Он уже был насквозь мокрый сам, да и Филка выглядел не лучше. Борис рискнул предложить: – Слушай, Филка, может быть, вернёмся, переждём дождь, а завтра и отправимся? Но Дорохов, заявив, что у него очень ограничено время командировки, настоял на продолжении пути: – Неужели ты, если начинается дождь, так вот и возвращаешься домой, не дойдя хотя бы до первого села, в которое наметил идти? – спросил он Бориса. – Конечно нет! – ответил тот. – Ну, видишь? Почему же мы сегодня должны вернуться? Из-за меня, что ли? Не сахарные, не растаем! Пойдём побыстрее. Борису ничего не оставалось, как промолчать. Первые километры пути они, обутые в лёгкие сандалии, пытались как-то прыгать с одного более сухого места на другое, избегали луж и ручейков, образовавшихся в колеях дороги, но уже через полчаса можно было бросить это занятие: вся дорога представляла собой один сплошной ручей, в котором им приходилось брести чуть ли не по колено в воде. Вскоре дождь усилился до ливня, дорога превратилась в настоящий бурный поток, который приходилось преодолевать с трудом. Теперь и Дорохов готов был вернуться домой, но, к сожалению, это представлялось уже неразумным: до Андреевки оставалось каких-нибудь две-две с половиной версты, а обратно до Шкотова около десяти. Забравшись на невысокий холмик, ещё не покрытый водой, отдохнув под раскидистым кустом ивняка, они отправились дальше. Когда парни вышли из кустов, закрывавших дорогу на ровные рисовые поля вокруг Андреевки, то вместо них увидели одно сплошное озеро. Впрочем, дождь был настолько силён и плотен, что видимость ограничивалась несколькими десятками шагов, и определить в точности, насколько широко раскинулась вокруг вода, им не удавалось. Дороги уже не было видно совсем, и передвигались они вперёд, ориентируясь по кустам, окаймлявшим дорогу, да полагаясь на Бориса, не раз бывавшего в Андреевке, и его память. Вскоре после выхода на рисовые поля Филка, шедший сзади, внезапно вскрикнул, и Борис, оглянувшись, не увидел своего спутника. Он испугался, но в это время показалась фыркающая и чертыхающаяся голова Филки, а затем и он сам. Оказывается, он чуть-чуть оступился в придорожную канаву и нырнул с головой. Через некоторое время подобный казус произошёл и с Борисом. Так и брели они почти по пояс в воде, с трудом преодолевая бурное течение, часов до четырёх дня. К этому времени они вышли к Андреевке, расположенной на небольшой возвышенности, и где вследствие этого вода стояла ещё невысоко, а вокруг школы, построенной на самом верху холма, её не было и совсем. Учитель Ким Ир Сен – комсомолец, хорошо знавший Алёшкина, был в школе. Встретив намокших гостей, он затопил печь в своей комнатушке, напоил прибывших горячим чаем, предварительно раздев их почти догола и развесив всю одежду для просушки около печки. Ребята настолько устали, что, наскоро попив чаю, легли на постель Кима валетом, укрылись его одеялом, поверх него ещё каким-то пальто и тотчас же заснули. Сквозь сон они слышали неясный шум, разговоры, крики, плач детей, но проснуться не смогли. Когда Боря с Филкой одновременно, точно по команде, открыли глаза, в окно, находившееся напротив кровати, светило яркое солнце и голубело чистое ясное небо. Всё происшедшее с ними вчера обоим показалось каким-то неправдоподобный сном, а по легкомыслию, свойственному их молодости, – просто забавным приключением. И если бы не безнадёжно испорченная обувь, которую они видели прислонённой к печурке, и не ужасный вид их одежды, висевшей на веревке около той же печурки, да ещё чувство усталости во всех членах, то они бы совсем и не огорчились. Однако, разлёживаться было некогда, следовало скорее приниматься за работу, чтобы наверстать упущенное вчера. Они вскочили с постели, чтобы позвать Кима, обещавшего ночевать в соседней комнате – классе школы. Они собирались попросить у него утюг, чтобы хоть как-то разгладить совершенно помятые брюки и рубашки. Переговариваясь о своих планах на этот день, они с удивлением прислушивались к какому-то непонятному шороху, шуму, разговорам и плачу детей, доносившимся из-за закрытой двери. Борис, поднявшись первым, подошёл к окну, откинул небольшую занавеску, прикрывавшую нижнюю часть окна, и, выглянув наружу, невольно издал такой крик волнения и испуга, что Филку, остававшегося в постели, сдуло с неё как ветром. Он в один прыжок очутился рядом с Борисом. Картина, представившаяся их взору, действительно могла испугать. На всём пространстве, которое можно было охватить взглядом, а из окна школы, стоявшей, как мы сказали, на самом высоком месте селения, вид был достаточно обширен, бурлила мощная жёлтая вода, волоча на своих грязных волнах клоки сена, брёвна, предметы домашней утвари, утонувших коз и овец, и даже целые стены и крыши разрушенных домов и сараев. Андреевка помещалась почти в середине довольно широкой долины – пади, в которой протекала река Майхэ, сейчас вся она была погружена в воду, причём некоторые фанзы, остававшиеся неразрушенными, были затоплены по самую крышу. Вода покрывала и весь пригорок, на котором стояла школа, её волны плескались на высоте пола, залив часть ступеней высокого крыльца. Пока они молча, не в состоянии произнести ни слова, смотрели на эту ужасную картину, дверь открылась, и в комнату вошёл Ким. Подойдя к гостям, он рассказал им о событиях ночи. Ливень, шедший весь прошлый день и часть ночи, переполнил горные ручьи и речки, впадавшие в Майхэ, та вышла из берегов, и сейчас вся долина оказалась под водой. Вода, как это часто бывает в Приморье, поднялась настолько внезапно и быстро, покатившись вниз от верховьев сплошным валом, высотой до нескольких метров, что жители Андреевки, как и других сёл, расположенных в низовьях этой долины, еле успели выскочить из своих домов, захватив самый ценный скарб и крупный скот, и как можно скорее пытались добраться до сопок, окружавших долину. Вероятно, последние сотни шагов им пришлось бежать, борясь с настигавшей их водой. Конечно, брать с собой в такое опасное путешествие маленьких детей, старух и стариков они не могли и избрали для них убежищем школу. Свой выбор на этом здании они остановили потому, что, во-первых, она стояла на самом высоком месте, и жители, покидавшие село, полагали, что вода дом этот не зальёт, а во-вторых, школа была единственным прочным зданием в селе. Выстроенная из толстых брёвен, на кирпичном фундаменте, она, конечно, не могла сравниться по своей прочности с глинобитными фанзами корейцев, поставленными прямо на землю. В настоящее время все помещения школы, кроме комнатки учителя, где разместились наши путешественники, были заняты тем корейским населением села, которое не могло убежать на склоны сопок. Школа была наполнена стариками, старухами и детьми самого разнообразного возраста – от грудных до младших школьников. Беженцев набралось около сотни. Ким рассказал, что в прошлые годы тоже случались наводнения от дождей. Тогда, хотя Андреевку и затапливало, но так, что вода выше, чем по колено, никогда не поднималась, а около школы её не было совсем. В этом же году вода поднялась так высоко, что затопила и почти разрушила всё село. – Обычно высокий уровень воды держится часов пять-шесть, затем она так же быстро спадает, как и поднялась. В этом году, видимо, получится по-другому: вода поднялась так высоко, что, наверно, не спадёт дней 5–10, а то и долее. Не знаю, что я буду делать с людьми, набившимися в школу, ведь они прибежали безо всего, а детишки уже сейчас просят есть. Всё, что у меня было, я раздал, но что значат мои скудные запасы для ста человек? – говорил Ким. Борис бросился к своему мешку, в котором вместе с литературой лежали с десяток пирожков, испечённых для них Анной Николаевной, но вместо них увидел какую-то вязкую, грязную, перепачканную в земле и перемешанную с обрывками бумаги кашу. Вопрос о еде встал и пред ними, только теперь они почувствовали голод. Вчера они так устали, что, кроме пары кружек сладкого чая, ничего не ели. Между тем Ким продолжал свои невесёлые предположения: – Ведь помощь к нам, а, следовательно, и еда, сможет добраться не раньше, чем через 5–6 дней, когда начнёт спадать вода. Снизу из Шкотова её вообще ждать не приходится: против такого течения ни на лодке, ни на лошадях не проехать, да и глубоко. Многоудобенцы (крупное русское село Многоудобное находилось верстах в трёх выше по течению реки) сами, наверно, в таком же положении, как и мы. Взрослое население, которое успело спастись и укрыться в сопках, быстро к нам добраться тоже не сможет, прямо не знаю, как нам и быть! Я, конечно, успокоил людей, как мог, но сам-то понимаю, что положение наше просто отчаянное. Филка Дорохов присел к столу и спросил: – Неужели мы так ничего и не придумаем? А ну-ка, ребята, шевели мозгами! Не может быть, чтобы в селе никакой еды не осталось. Пойдём по воде к уцелевшим фанзам, поищем там и что-нибудь да принесём. Ты, Ким, спроси женщин, которые тут есть, у кого из них остались дома запасы продуктов. – Да я уже спрашивал. Запасы-то у некоторых были – чумиза, кукуруза и мука, да ведь всё это вместе с фанзами вода смыла. Добраться до уцелевших фанз не удастся, видите, как вода валит? Разве против такого течения куда-нибудь проедешь, сейчас же унесёт. – Нужно же что-нибудь придумать! – вмешался Борис, – неужели у тебя запаса картошки нет? – Ну какая в августе картошка? Уже давно молодую подкапываем. – А где же вы её подкапываете? – оживился Борис. – Да она-то недалеко, вот прямо под этим окном мой огород начинается, так ведь она под водой! – Эх ты, – чуть ли не одновременно вскричали Борис и Филка, – а ещё горюешь! Сейчас с картошкой будем. Давай ведро и верёвку, есть? – Ну, конечно, есть! Через несколько минут Борис, обвязавшись верёвкой и взяв в руку ведро, выскочил из окна и очутился почти по плечи в довольно-таки холодной воде, с трудом удерживаясь на ногах. Через несколько минут он нащупал ногами ещё не размытые гребни грядок с торчащими из них кустами картофеля. Он нагнулся, погрузившись с головой в воду, выдернул куст, и, ощупав его корни, к своей радости, обнаружил, что они усыпаны множеством, хотя и некрупных, картофелин. Сорвать их и бросить в ведро было делом нескольких секунд. Затем он высунул голову из воды, передохнул и, нагнувшись снова, постарался пошарить в образовавшейся яме. Там он нашёл несколько более крупных клубней. Так, ныряя минут пятнадцать, Борис сумел набрать полное ведро, почти не удаляясь от спасительного окна. Правда, когда Ким и Филка, заметив посиневшее лицо Бориса после его последнего ныряния, за верёвку подтащили его в окно и помогли ему взобраться в комнату, он трясся, как осиновый лист. Ким заранее затопил печку. К счастью, около неё лежала порядочная охапка дров, остальные находились в сарае, и взять их оттуда было нельзя. Но всё-таки теперь голодная смерть не угрожала всем, находившимся в школе. Вслед за Борисом набрал ведро картошки и Филка, а затем и Ким. Потом Борис повторил свою вылазку, сделали то же самое и его товарищи. Примерно через полтора часа в углу комнаты Кима уже лежала порядочная кучка подводной картошки, как её не замедлил окрестить Борис. Ким раздал картофель всем своим постояльцам, предварительно сварив её на плите печки в большом ведре. Наелись картошки и добытчики. Теперь, как заявил Ким, вопрос с питанием хотя бы на два-три дня был решён. А там, может быть, уровень воды понизится, и находившиеся в школе женщины и сами смогут добывать картошку из-под воды. Отдохнув после вынужденного купания, Борис и Филка стали думать, что же им делать дальше. Конечно, ни о каком продолжении путешествия по долине не могло быть и речи. Оба теперь мечтали лишь о том, как бы скорее очутиться в Шкотове, а Филка – и о том, чтобы поскорее уехать во Владивосток. Ещё утром Дорохов поручил Киму отметить на крыльце высоту уровня воды. После окончания работы по добыче картошки они с Борисом вышли на крыльцо и убедились, что, если вода больше и не прибывает, то пока ещё и не убывает. Посоветовавшись, они решили не ждать, пока вода спадёт, а сейчас же отправиться в обратный путь. Им казалось, что это будет не так трудно, ведь они пойдут вниз по течению, ну а кое-где, может быть, и поплывут. Будут стараться приближаться к тем сопкам, которые окружают Шкотово, а может быть, в конце дороги и вообще выберутся на них и часть пути пройдут уже посуху. Они сообщили о своём намерении Киму, тот, почти не умевший плавать, как, впрочем, и многие корейцы, стал горячо протестовать против их плана. А когда он рассказал о намерении своих русских знакомых находившимся в школе односельчанкам, те подняли настоящий вой. Все они – кто по-корейски, кто, пользуясь своими скудными познаниями, по-русски – стали отговаривать ребят от их безумной, как её назвал Ким, затеи. Но и Борис, и Филка твёрдо стояли на своей идее, может быть, именно потому, что их так настойчиво уговаривали её не осуществлять. Связав свою одежду в плотные узлы, укрепив эти узлы на головах, они смело спустились с крыльца и погрузились в мутную воду. Первые десятки шагов они прошли довольно свободно. В этом месте вода достигала Борису груди, а Филке плеч, они двигались по течению, поэтому идти было легко. Вода была не очень уж холодна, и они совсем приободрились. Но как только они отошли от школы шагов на сто и очутились в том месте, где начинались рисовые поля, вода поднялась так, что они вынуждены уже были плыть. Парни старались держаться поближе друг к другу, время от времени хватаясь за встречавшиеся им кусты, чтобы немного передохнуть. Перед ними расстилалась бурлящая, пенящаяся, грязно-жёлтая вода всюду, насколько хватало глаз. Впереди эта пелена воды сливалась где-то далеко с посеревшим небом. На нём вновь появились серые низкие тучи, из которых начал накрапывать мелкий дождь. Берега сопок, окружавших падь, находились так далеко, что были едва различимы в этом мутном туманном воздухе. Кусты кончились, и течение с силой несло их вниз. Теперь думать о том, чтобы пересечь этот поток поперёк, было нечего, требовалось всеми силами стараться удержаться на поверхности, отдавшись течению, дожидаясь, что, может быть, при повороте реки, которая всё-таки составляла основу потока, их подтолкнёт к какому-нибудь берегу. На счастье ребят, в этот момент их нагнала довольно большая и толстая доска, за которую они и поспешили ухватиться. Бурное течение швыряло их в разные стороны вместе с ненадёжной опорой, било о деревья, встречающиеся на пути, и о разные предметы, несшиеся одновременно с ними. Они так боялись, что даже не чувствовали холода воды, иногда набегавшие на них волны накрывали их с головой. Отфыркиваясь, они выныривали и продолжали цепляться за свою доску. Течение было настолько быстрым, что, вероятно, через два-два с половиной часа они должны были находиться на линии железной дороги, ведущей со стороны Угольной в Кангауз. К их удивлению, никакой железной дороги и невысокой насыпи, по которой она проходила, на месте не оказалось. Немного впереди был виден какой-то непонятный, никогда ранее Борисом невиданный, забор. Когда они со своей доской подплыли к нему, и доска, умышленно развёрнутая ими поперёк, зацепилась за препятствие, они увидели, что это и есть железнодорожное полотно, поставленное вертикально, а то, что они приняли за забор, – это поставленные на попа шпалы! Вода, снеся полотно и перевернув его, с шумом неслась между шпалами. Вся же дорога, зацепившись концами шпал за край кювета, а рельсами уткнувшись в телеграфные столбы, продолжала, сдвинувшись на несколько десятков шагов и выгнувшись дугой, оставаться целой. Пользуясь этой преградой, перебираясь от шпалы к шпале, наши довольно-таки легкомысленные ответственные работники направились в сторону Шкотова. Им предстояло, пользуясь полотном железной дороги, преодолеть расстояние, вероятно, версты в три – как будто немного, но ведь всё это делалось в холодной воде. Закоченевшие пальцы могли каждую минуту сорваться с той шпалы, за которую они в данный момент держались, и бурные потоки воды, стремительно несущиеся между шпалами, могли легко вынести их к устью реки и далее в морской залив, где гибель того, кто попал в такую беду, была бы неизбежной. Через много лет вспоминая о том, что пережили во время этого путешествия, они удивлялись своему безумию и той удаче, которая позволила им уцелеть. Этот последний отрезок пути они преодолели часов за пять, и когда достигли участка, где линия не была повреждена, и выбрались-таки, наконец, на сухое место, а это было уже почти совсем рядом со шкотовскими казармами, то оба свалились на землю и, наверно, около часа лежали совершенно неподвижно, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на мелкий дождик, всё ещё продолжавший сыпаться с мрачного серого неба. Отдышавшись, они не стали одеваться, а так, с узлами одежды за плечами, и прошествовали через всё село до дома Алёшкиных. Правда, было уже совсем темно, и немногочисленные прохожие, встречавшиеся им на пути, из-за дождя торопившиеся скорее добраться до дома, не очень-то вглядывались в полуголых парней, понуро шагавших посередине размокшей улицы. Ну вот, они и дома. Анна Николаевна и Яков Матвеевич смотрели на обоих ребят с нескрываемым ужасом, они больше всего боялись простуды, и каждый принял против неё свои меры – мать приготовила горячий чай с малиной, а отец налил им по большой рюмке водки и заставил выпить. То ли от лечения, то ли от молодости, но это приключение ни у одного, ни у другого из его участников к плохим последствиям не привело. Наводнение испортило линию железной дороги, прервало сообщение с Владивостоком: ехать по просёлочной дороге, соединявшей в то время село с городом, можно было только верхом, дорога эта отнимала много времени, а сейчас, после наводнения, представляла известную опасность. Дорохов решил ограничиться проверкой работы шкотовских отрядов, дождаться восстановления железнодорожного сообщения и после этого вернуться в город. Уведомив телеграммой обком и родных (телеграфная связь была восстановлена через несколько дней после наводнения), он остался в Шкотове в гостях у Алёшкиных. После возвращения Бориса и Филки, по их настоянию, райисполком отправил в Андреевку на вьючных лошадях кое-какие продукты. Этот караван должен был пройти по склонам сопок и, лишь приблизившись на 1–2 версты, спуститься вниз к Андреевке, чтобы там уже вброд добраться до села. Когда обоз появился в селе, уже начавшие голодать жители, сидевшие в школе, повеселели. Их родные, угнавшие скот в сопки, пока ещё не имели возможности вернуться. Прибывшие из Шкотова продукты были просто необходимы. Ким и кореянки, жившие в школе, от людей, сопровождавших обоз, узнали, что Алёшкин и Дорохов, которых они считали погибшими, благополучно вернулись в своё село и, как рассказывал потом Ким, все очень обрадовались за них. В Шкотове Филка Дорохов, проверив работу отрядов села, убедился, что Алёшкин толково руководит деятельностью пионерской организации, что у него имеются хорошие помощники, и так и доложил о результатах проверки на заседании райкома партии. За своё путешествие – во время наводнения и за те две недели, что Дорохов провёл с Борисом под одной крышей, он также убедился в том, что Алёшкин – хороший и верный товарищ, способный оказать помощь и друзьям, и просто окружающим людям, и проникся к нему чувством искренней дружбы, которая, кстати сказать, продолжалась всё время, пока Борис жил на Дальнем Востоке.Глава двенадцатая
Наводнение, происшедшее в 1927 году в Приморье, захватило не только долину реки Майхэ, одновременно взбунтовались почти все горные речки побережья, в том числе и река Цемухэ, около которой находилось поле и стан семейства Пашкевичей. Как раз в это время проходила уборка урожая. К началу наводнения хлеб был уже сжат и снопы уложены в бабки. Большая часть семьи вернулась в село, в поле оставались только Андрей и Катя, им нужно было дожидаться прихода на ток находившейся в версте от поля молотилки, арендуемой в комитете крестьянской взаимопомощи, чтобы свезти хлеб к току. Андрей, уже достаточно опытный дальневосточник, определил предполагавшееся наводнение за несколько часов до его начала и решил предпринять необходимые меры по спасению урожая. А меры эти могли заключаться только в том, чтобы как можно скорее вывезти снопы хлеба не на ток, который тоже могло залить (так и случилось), а поднять его по возможности выше по склону сопки. Эту работу предстояло выполнить им вдвоём с Катериной всего за несколько часов, используя оставшегося с ними Индюка. Объяснив сестре всю опасность положения, Андрей с её помощью стал поспешно нагружать телегу и по бездорожью, прямо по стерне, а затем, продираясь через кусты орешника и дубняка, подыматься как можно выше. Пока он совершал эту поездку и выгружал телегу, Катя стаскивала снопы с разных концов поля поближе к тому месту, куда должна была спуститься телега. Последние снопы ей пришлось тащить, уже бредя по колено в прибывавшей воде. Всю ночь она и Андрей трудились над спасением хлеба и всё-таки всё увезти не смогли. Часть урожая была захвачена надвинувшимся валом воды и унесена в море. Часть подмоченного хлеба пришлось потом сушить. В результате полученный в этот год урожай оказался настолько недостаточным, что прокормить своим хлебом всю многочисленную семью Пашкевичей, состоявшую к тому времени из девяти человек, было невозможно. Перед молодым крестьянином возникли новые трудности. Если ранее весь вопрос заключался в том, что у Пашкевичей не было земли, ведь её давали только на мужчин-членов семьи, а таких было всего двое, то с приходом советской власти, когда землю стали давать на всех едоков, включая и женский пол, положение семьи значительно выправилось, и благодаря большому трудолюбию старших её членов и умению заставить работать с полной отдачей сил и младших, они вскоре после возвращения с севера вполне встали на ноги: завели дополнительный скот и могли существовать относительно безбедно. Случившееся наводнение вновь ставило эту семью под угрозу бедности. Андрей не хотел, да и не мог этого допустить. А почему он? Да потому, что он был единственным добытчиком в этой семье. Его отец Пётр Яковлевич Пашкевич страдал серьёзным пороком – длительными периодическими запоями, и, хотя славился как мастер на все руки, вследствие участившихся приступов своего порока, а вернее, уже болезни, фактически совсем забросил семью. Одной из причин развития его пьянства явилась неудачная поездка на север: соблазнённый своим старшим братом Михаилом, Пётр рассчитывал получить большие заработки, а на самом деле потерял почти всё, что имел. В результате все заботы о семье легли на плечи его уже довольно пожилой жены и старшего сына Андрея. Закончив уборку урожая, Андрей решил отправиться куда-нибудь на заработки, и не на сезонные, как он делал это до сих пор, а так, чтобы найти себе постоянную работу, которая бы могла прокормить его собственную семью (в ней уже было двое детей) и в то же время оказать хоть какую-нибудь материальную поддержку матери и сёстрам. Единственным делом, в котором он хорошо разбирался, были лесозаготовки: Андрей прекрасно знал дальневосточный лес, был достаточно грамотен, и потому без особого труда поступил в лесозаготовительную контору Дальлеса на станции Ин, куда с наступлением осени и выехал. Так как вопрос с жильём на новом месте работы Андрея был неясен, то он пока решил оставить жену и детей у матери в Шкотове до весны, посылая им всё, что только мог урвать из своего заработка. Перед его отъездом в Шкотово приехала старшая сестра Людмила, или, как все её называли и в доме, и в комсомоле, Милочка, с мужем Дмитрием Яковлевичем Сердеевым. После очередных перевыборов советов он получил должность в Дальневосточном крайисполкоме, членом которого был избран. Естественно, что ему предстояло переехать на жительство в город Хабаровск, где этот крайисполком находился, а с ним направлялась и его жена. Так как Милочка была уже на последних месяцах беременности, то, заехав в Шкотово, Сердеевы решили расстаться. Он, пробыв у тёщи несколько дней, уехал в Хабаровск, чтобы приступить к работе и подготовить квартиру, а Милочка оставалась в Шкотове, чтобы родить и первое время быть под присмотром матери. Обо всём, что мы только что рассказали, Борис узнал от Кати. Она, признав его уже полностью своим, делилась с ним всеми событиями в её семье. Произошло это уже в конце сентября, когда они вновь довольно часто оставались подолгу в райкоме. Теперь у Пашкевичей жила Милочка, и сидеть по вечерам у них Борису стало неудобно, тем более что и благовидного предлога для этого не стало: Катя закончила ученье, и, следовательно, ни о каких занятиях с ней не могло быть и речи. Днём Борис ещё довольно часто бывал у Пашкевичей, ну а вечера они с Катей проводили в райкоме. Кроме часов, которые они тратили на работу, у них, конечно, оставалось достаточно времени, чтобы поговорить и о домашних, и о собственных делах. Оставив в комнате, в которой обычно работал Борис, горящую лампу, они уходили в кабинет секретаря райкома, садились на стоявший там диван и подолгу обсуждали самые разные вещи, а иногда просто сидели и молчали, прижавшись друг к другу, временами целуясь. Борис становился всё смелее и смелее, его руки всё чаще и чаще ласкали нежную прохладную кожу Катиной груди, их губы в поцелуях задерживались всё дольше и дольше. Сопротивление девушки становилось всё слабее. В один из таких вечеров Катя стала фактической женой Бориса. После случившегося, когда они оба опомнились, она села на край дивана, а Борис опустился на пол, уткнулся лицом в её колени и преисполненный чувства счастья, блаженства, необъяснимого стыда и глубокой вины перед доверившейся ему девушкой, которую он любил по-настоящему, бессвязно повторял: – Родная моя! Любимая! Прости меня, прости! Он мысленно ругал себя за несдержанность, со страхом ожидал слёз, упрёков и, может быть, глубокой обиды, способной повлечь за собой их полный разрыв. Он понимал, он чувствовал, что всё это заслужил, но раскаяние пришло к нему сейчас, а тогда… Тогда он не думал ни о чём. Катя подняла руками его голову и в полумраке, царившем в комнате от проникавшего из соседней комнаты света, посмотрела ему в лицо. Затем она нагнулась, поцеловала его в губы и каким-то совсем непривычным для Бориса голосом сказала: – Ну чего ты просишь прощения? Я ведь сама виновата! Борис вскочил и, обняв девушку, торопливо заговорил: – Катеринка, милая, теперь мы поженимся, да? Как можно скорее! Ты согласна? Та усмехнулась, снова пристально посмотрела на него и ответила: – Ну конечно, куда же я от тебя денусь? Только одно условие: мы поженимся не здесь, не в Шкотове, здесь я жить не хочу! – Куда же мы поедем? Ведь здесь я работаю. – А мне всё равно куда, хоть в город, но только не здесь! – заявила упрямая девушка. Борис согласился. Но они продолжали встречаться, гулять вдоль линии, а пока ничего изменить не удавалось. Мы использовали выражение «встречались», это значило, что они по-прежнему работали вместе в райкоме ВЛКСМ, вместе бывали на собраниях, в клубе смотрели кино, довольно часто гуляли по своему излюбленному месту на линии железной дороги, ведущей к конезаводу, – одним словом, вели себя так же, как и раньше. Но того, что случилось в памятный для них вечер, между ними не повторялось. Несмотря на настойчивые просьбы Бориса, Катя находила в себе достаточно сил, чтобы сдержать его. Когда он начинал возмущаться, она говорила: – Что ты хочешь? Ведь ты уже добился своего, чего же тебе ещё нужно? Выйду я за тебя замуж, уж сказала, вот тогда и натешишься, а пока терпи, ведь никуда же я от тебя не денусь! Эти слова, хотя и действовали на парня отрезвляюще, но в то же время и немного обижали его. Он думал: «Неужели она меня не любит? И согласилась выйти замуж только потому, что случилось с нами месяц назад? Ведь и в самом деле, она никогда не говорила мне, что любит меня, это только я без конца твержу ей о своей любви». Однажды после бурных его излияний и довольно выраженной холодности Кати, он не выдержал: – Катя, может быть, ты совсем не любишь меня, а согласилась за меня выйти только потому, что у нас так получилось? Девушка положила ему руки на плечи, внимательно посмотрела ему в глаза, вздохнула и ответила: – Ох, и дурак же ты, Борька! Да если бы не любила, разве могло бы произойти то, что между нами произошло? Как ты не понимаешь, я могла это сделать только потому, что от любви к тебе голову потеряла! Эх ты, за кого же ты меня принимаешь? Борис, смутившись, долго уверял свою Катю, что он о ней ничего плохого не подумал. Они ещё долго стояли, обнявшись и слушая лягушачьи переклички (разговор происходил на упоминавшейся нами железнодорожной ветке), затем оба, умиротворённые и счастливые, пошли домой. Довелось Борису в это время принять участие в работе краевого пленума ВКП(б), и не просто принять участие, а даже выступить на нём с докладом о своей работе с пионерами. Сначала, когда Дорохов ему об этом сказал, Борис не то чтобы испугался, но немного заробел. Дорохов его убедил, что выступить необходимо и что всё у Бориса получится отлично. Как было заведено в то время, на пленуме подробно рассказали о той борьбе, которая разгорелась после смерти В. И. Ленина внутри партии между его последователями и всевозможными оппортунистическими течениями и группами, показали, как некоторые оппозиционные группы старались привлечь на свою сторону молодёжь и наименее сознательную часть молодых членов партии. По этому вопросу секретарь крайкома ВКП(б) подробно изложил как сущность этих взглядов, так и их вредность, неправильность. До сих пор Борису как-то не приходилось задумываться серьёзно над тем, что же такое эта оппозиция. Слово это он многократно слышал, знал, например, что бывший секретарь шкотовского райкома ВКП(б) Куклин и инструктор владивостокского укома Чепель от работы в партийных органах отстранены как оппозиционеры-троцкисты. Но в чём заключалась сущность их оппозиции, он пока ещё как следует не разобрался. Пожалуй, Борис узнал только теперь, из доклада секретаря крайкома ВКП(б), что Троцкий вместо ленинской линии партии по развитию и укреплению советского государства, ещё в 1923 году начал выдвигать свою программу, искажавшую смысл ленинского учения, и больше того – противопоставлять себя Ленину даже во время таких исторических событий, как Октябрьская революция; что в своей деятельности Троцкий опирался на Каменева и Зиновьева, все они выступали против остальных членов Политбюро, которое возглавлял товарищ Сталин, и что именно последний в своих речах, статьях и докладах разгромил Троцкого, доказав вредность, антипартийность его линии и практического поведения. Узнал он также, что после фактического разгрома троцкистов товарищу Сталину во главе с большинством ЦК партии и при поддержке основной массы коммунистов страны пришлось выдержать бои и с другими оппозиционерами, в частности, с группой Бухарина. В заключение секретарь крайкома партии просил работников пионерских организаций вести соответствующую разъяснительную работу, объясняя ребятам опасность и вред оппозиционеров. Как всегда в те годы, доклады партийных и комсомольских руководителей не только были выслушаны с самым глубоким вниманием, но и вызвали самые горячие споры и обсуждения. Были и такие выступления, которые подвергали сомнениям правильность линии партии и ЦК, возглавляемого товарищем Сталиным. Правда, подобных выступлений было совсем немного, и они нашли горячий отпор у большинства участников пленума, в основной своей массе защищавших и поддерживавших линию партии. Были и такие высказывания, что, мол, борьба с оппозицией – дело партийное, и нам, комсомольцам, а тем более пионерам, в неё ввязываться не следует. Этим выступлениям дал хорошую отповедь председатель Дальбюро юных пионеров Михайлов, он заявил: – Мы не можем воспитывать аполитичных, беспринципных ребят, наши пионеры должны понимать, что будущее придётся строить им. Они поэтому должны знать, как они его будут строить, что и им придётся бороться с различными отклонениями от правильной линии партии, и наша прямая обязанность научить их этой будущей борьбе! Этот пленум оставил в душе и в сознании Бориса Алёшкина, как и многих других его участников, неизгладимый след. Сейчас, по прошествии многих лет, когда от тех оппозиционных группировок не осталось и следа, он с чувством глубокой признательности вспоминает тех, кто своими словами и делами направил его по правильному пути. На том заседании, на котором ему пришлось выступать с докладом о работе пионерской организации Шкотовского района, он обратил внимание на то, что основными проводниками ленинских идей среди ребят являются, прежде всего, вожатые отрядов. Он посетовал, что в его районе многие вожатые не только не очень хорошо политически подкованы, но в большинстве не имеют и простейших педагогических навыков – вожатых-учителей всё ещё было мало. Он считал необходимым проведение специальных курсов вожатых в каждом районе. Память об этом пленуме у Бориса сохранилась так надолго, может быть, ещё и потому, что ему впервые в жизни приходилось принимать участие в таком ответственном, важном и довольно высоком собрании. Во время пребывания в Хабаровске Борис навестил Митю Сердеева, которому передал письмо от жены и с которым провёл почти целый вечер. Там он познакомился с его матерью и старшим братом. Они имели собственный дом, и на втором этаже этого дома находилась квартира, которая предназначалась для Мити и его семьи. Узнав о приезде Бориса – посланца от жены Мити, его родные решили отметить это событие, для чего была организована солидная выпивка. Борис и раньше знал, что Митя довольно часто выпивает. Был он свидетелем такой пьянки и во Владивостоке, о чём мы уже писали, теперь увидел, что в этой семье выпивка по любому, даже пустяковому случаю являлась обычным делом. Это его покоробило, он привык, что дома отец выпивал очень редко, а дети и Анна Николаевна в этом никогда не принимали никакого участия, а такое стремление обязательно каждое событие отметить солидным возлиянием ему было и неприятно, и просто непонятно. Он, конечно, под предлогом необходимости идти на вечернее заседание от участия в выпивке отказался. Однако ещё перед уходом он успел переговорить с Митей и рассказать ему, что вопрос о женитьбе на Кате Пашкевич между ними уже решён, и что она скоро состоится. – Ну вот, значит будем родственниками! – весело воскликнул Митя. – За это нужно обязательно выпить! Борису стоило немалого труда уклониться от этого предложения. Через несколько дней после этой встречи, получив от Мити письмо для Милочки и распрощавшись с ним (на этот раз Борис зашёл к нему в крайисполком), он вместе со своими друзьями уже мчался в скором поезде из Хабаровска во Владивосток. Служебные билеты давали им право проезда в мягком вагоне, как областному начальству, такое же право имел и Дорохов. И вот, молодые люди, заняв втроём целое купе, исполненные самых радужных надежд и впечатлений, высунувшись в окно (в Приморье в конце октября бывает ещё достаточно тепло), распевая новые, выученные на пленуме комсомольские и пионерские песни, радуясь своей молодости, были по-настоящему счастливы. И не предполагали они, что очень скоро, совсем скоро в их жизни произойдёт новый поворот, в корне меняющий их положение. Особенно резкие изменения должны были произойти в положении Алёшкина, но об этом потом. Сейчас же, после весёлой дороги счастливый Борис готовился к проведению того мероприятия, которое было одобрено и на пленуме, и, после его доклада, в бюро шкотовского ВКП(б). Его идею поддержал и новый секретарь райкома ВЛКСМ Тебеньков, сменивший ещё летом Кочергина, переведённого на работу в обком ВЛКСМ, и секретарь райкома ВКП(б) Костромин. После долгих споров с заведующим общим отделом, одновременно и бухгалтером райкома, в распоряжение Бориса была выделена необходимая сумма для проведения курсов. Правда, существенную материальную помощь в этом деле оказал и заведующий школой крестьянской молодёжи Владимир Сергеевич Чибизов. Но всё это произошло немного позже, а сразу же по возвращении в Шкотово, едва дождавшись следующего утра, Борис отправился к Пашкевичам, чтобы встретиться с Катей. Он полагал, что она уже управилась со своими полевыми работами, и он её застанет дома. Ему не терпелось рассказать ей о пленуме, о том, как хорошо прошёл его доклад и, наконец, о предстоящих курсах вожатых, которые вскоре можно будет провести. Самым благовидным предлогом для посещения Пашкевичей было имевшееся у него письмо Мити к жене. Зайдя к Пашкевичам, он, к своему большому горю, застал Катю в постели. Она лежала в столовой, отгороженная ширмой, там, где во время пребывания Мити спали Сердеевы. Мила теперь спала на Катином месте в комнате её сестёр. После того как Борис отдал письмо и узнал о Катиной болезни, он захотел её немедленно увидеть. В доме уже привыкли к нему, как к близкому знакомому, и потому разрешили увидеться с больной. Когда Боря проник к ней за ширму и увидел её похудевшее и побледневшее лицо, он не выдержал, бросился к девушке и осыпал горячими поцелуями её лицо, шею и руки (из какого-то чувства деликатности все родные Кати в это время из столовой вышли, оставив молодых людей одних). Когда Катя, порозовев от смущения, а может быть, и от радости, сумела, наконец, прекратить эти неумеренные ласки, ссылаясь на то, что они ей вредны, Борис немного успокоился. Он присел на краешек её кровати и начал подробный рассказ о пленуме, с которого только что вернулся. Рассказал он и о курсах вожатых, их необходимо было провести в самое ближайшее время. – Куй железо, пока оно горячо, – говорил он, – пока деньги дают! А там год кончится, и снова надо будет их выбивать, а без твоей помощи я эти курсы провести не сумею. Так что давай, скорее поправляйся! Они, вероятно, проговорили бы весь день, если бы часа через два после начала этого свидания за ширму не заглянула Акулина Григорьевна и, укоризненно качая головой, заметив, что Борис сидит рядом с Катей на её постели, высказала, что такие длительные разговоры для больной вредны. С тех пор Борис ежедневно посещал свою Катю, советовался с ней о курсах, приносил кое-какие сладости, а когда узнал, что врач рекомендовала ей теперь держать ноги в тепле, то в первую же получку купил для любимой во Владивостоке маленькие лёгкие чесанки, и несмотря на упорное сопротивление, заставил её принять их в подарок. В этом ему помогла и Мила, которую он призвал себе на помощь. Последняя сказала, что получить такой подарок от своего близкого друга совсем не зазорно, а вот отказаться от него – это значит обидеть хорошего парня. Этими же словами она убедила и мать не препятствовать приёму такого сравнительно дорогого подарка. Между прочим, как-то в одно из посещений Катя рассказала Борису, что её болезнь женская, называется, кажется, воспалением придатков каких-то, и что врач Степанова, которая её лечила и даже уговаривала лечь в больницу, осматривала её как женщину. – И при этом, – краснея, добавила она, – хотя, конечно, и заметила, что я уже не девушка, однако, ни мне, ни маме ничего не сказала. Мама-то, впрочем, и не поняла, как там она меня осматривала, а Милка, когда услыхала название болезни, наверно, поняла, потому что теперь посматривает на меня уж очень подозрительно. – Вот видишь! – горячо заявил Борис, хотя, откровенно говоря, он тоже не понял, откуда врачиха могла узнать, что Катя уже не девушка. – Значит, нам жениться, расписаться надо как можно скорее! – Я же тебе сказала, что выйду за тебя замуж только тогда, когда ты уедешь из Шкотова, так что больше и не будем об этом говорить! Между тем Борис, не дожидаясь выздоровления Кати, продолжал готовиться к проведению курсов вожатых. По совету Милочки, с которой тоже этот вопрос обсуждали, курсы наметили организовать во время школьных зимних каникул, ведь большинство вожатых – или учителя, или сами учились. Таким образом, и решено было проводить курсы с 20 по 30 декабря. Утвердив сроки у Тебенькова и Костромина, Алёшкин начал рассчитывать смету на их проведение, без такой сметы Кужель категорически отказалсявыдавать какие-либо деньги. Расходы состояли из стоимости питания курсантов, оплаты преподавателей, приобретения письменных принадлежностей и литературы. К этому времени работа с пионерами уже вышла из тех рамок, когда вожатые отрядов опирались на учителей, теперь иногда даже и противопоставляли себя им. Это объяснялось отчасти не всегда советским настроем некоторых старых педагогов. Большинство молодёжи уже являлось выпускниками советской школы, и на них можно и нужно было опереться. На курсах решили прослушать лекции по педагогике, конечно, вопросы современной внутренней и внешней политики партии, а большая часть времени отводилась на привитие вожатым навыков работы с пионерами, причём эту часть решили подкрепить и практическими занятиями. Для лекций по вопросам педагогики пригласили наиболее опытных учителей, имевшихся в Шкотове: Шунайлова, Чибизова, Ланового. Политическую часть программы взяли на себя Тебеньков и Костромин, а теорию пионерского движения и организацию работы отрядов должны были провести Алёшкин и Пашкевич. На последнюю легла основная часть работы по организации практических занятий. Кстати сказать, эти занятия должны были заключаться в проведении каждым курсантом пионерских сборов в одном из шкотовских отрядов. Наконец, смета была составлена, утверждена, нужные деньги получены, необходимые пособия и принадлежности приобретены, вопрос с размещением и питанием курсантов решён. Между прочим, последнее удалось легко с помощью всё того же Чибизова, заведующего школой крестьянской молодёжи, разрешившего занять для общежития одну из комнат интерната, для питания пользоваться столовой школы, внеся необходимую плату, а для занятий использовать один из её же классов. Были отправлены вызовы вожатым отрядов с приглашением на курсы. Надо сказать, что решение вопроса о кандидатурах слушателей вызвало на бюро райкома ВЛКСМ немало споров. Ведь кроме семи шкотовских вожатых, можно было вызвать из района всего 12 человек, а там имелось уже более 30 отрядов. Но, наконец, и этот вопрос был улажен. На все приготовления ушло почти полтора месяца. Тем временем Катя успела окончательно поправиться и стала принимать самое деятельное участие в подготовке к проведению курсов, Борису стало сразу легче. А самое главное, его Катеринка опять почти целыми днями находилось рядом с ним, иногда им удавалось даже обменяться поцелуями. Но о женитьбе он не переставал думать даже во время этой напряжённой работы, решил так: после проведения курсов обратиться к Дорохову с просьбой о переводе в какой-нибудь другой район, обещать там поднять работу с юными пионерами, если она ещё слаба, и жениться. В этот период времени из-за приезда к Пашкевичам мужа Людмилы Катя вынуждена была переселиться в комнату к сёстрам – столовую отдали Сердеевым, и вечерние встречи Бориса с нею прекратились. Они за это вознаграждали себя днём, стараясь при каждом удобном случае остаться вдвоём. В это время Катя была с Борисом так ласкова и добра, что он находился наверху счастья. Курсы, во время которых все их организаторы и преподаватели работали с самым большим энтузиазмом и старанием, прошли очень продуктивно. Алёшкин получил хорошие отзывы о них и от своих партийных и комсомольских руководителей, и от Кочергина, приезжавшего из обкома комсомола, чтобы ознакомиться с новой для Приморья формой работы. Борис уже планировал проведение подобных курсов и в весенние каникулы 1928 года с тем, чтобы охватить к лету всех вожатых района, но вдруг… Да, опять это проклятое «вдруг»! В конце декабря, в последний день занятий на курсах, когда большинство курсантов решило сфотографироваться вместе с Алёшкиным и секретарём райкома ВЛКСМ Тебеньковым (Катя сниматься категорически отказалась, несмотря на усиленные уговоры и Бориса, и всех слушателей, хотя причины отказа так и не объяснила, и лишь много лет спустя Борис узнал, что отказ этот был вызван не капризом её, а тем, что у неё не было приличного или нового платья, она стеснялась сниматься в единственном стареньком, в котором ходила на занятия), Борис получил письмо заведующего угольнинской школы железнодорожников, в котором тот просил Алёшкина немедленно прибыть в школу. Борис предполагал, что произошло какое-нибудь чрезвычайное событие в одном из железнодорожных пионерских отрядов, и поэтому заволновался. Однако, приехав на Угольную и явившись к заведующему, был прямо-таки огорошен полученным известием. Оказалось, что по распоряжению наркома путей сообщения, которому подчинялись все железные дороги страны, товарища Томского, должности инспекторов деткомдвижения упразднялись и оставлялись оплачиваемыми только должности вожатых отрядов, причём далеко не при всех школах. Угольнинской школе дали ставку только одного пионервожатого, таким образом, кроме Алёшкина, подлежал увольнению и второй вожатый. Заведующий школой предложил Борису стать единственным вожатым, но тот не согласился. Во-первых, он значительно терял бы в окладе, а во-вторых, и, пожалуй, это было главным, он не хотел вытеснять парня, жившего на станции Угольной и занимавшего эту должность. Второй или, вернее, вторая вожатая жила на Седанке, на работу ей приходилось ездить на поезде, и она была даже рада этому увольнению. Вернувшись в Шкотово, Алёшкин доложил о своём увольнении секретарю райкома ВЛКСМ Тебенькову. После того как тот посовещался с Костроминым и выяснил, что по райкому на 1928 год оплачиваемая должность председателя бюро юных пионеров не запланирована, Борис передал свои дела инструктору райкома Грише Герасимову, а сам, получив соответствующую бумагу, направился в распоряжение обкома ВЛКСМ в город Владивосток. Филка Дорохов уже знал о происшедшем сокращении пионерских работников, знал он также и то, что ходатайство Дальбюро юных пионеров перед наркомом путей об оставлении их хотя бы в пределах Дальневосточного края, учитывая его отдалённость от центра, большую территорию и сравнительно недавнее установление советской власти, успеха не имело. Дорохову пришлось расстаться даже со своим обкомовским работником Гришей Басанцом. Между прочим, из разговоров с последним Борис выяснил, что в обкоме комсомола знали о предполагаемом сокращении ещё с октября месяца, но не сообщали никому, чтобы не расхолаживать работников. Это Бориса обидело: «Выходит, всем им на меня плевать, лишь бы работал в полную силу!» – раздражённо думал он. Поэтому на предложение Филки поехать на работу в один из районов побережья, где должность председателя райбюро юных пионеров была платной, отказался, хотя раньше об этом думал сам просить.Глава тринадцатая
Борис загорелся желанием устроиться на работу в городе. К тому времени безработица была уже ликвидирована, биржи труда во Владивостоке не существовало, и приходилось искать работу самому. Конечно, он мог бы поступить учиться. Как он выяснил, на лесной факультет ГДУ производился и зимний набор, а его документы всё ещё находились там, но тогда бы его мечты о женитьбе разрушились, её пришлось бы откладывать, и надолго. Обо всём этом он рассказал Филке. Тот сам, женившись несколько месяцев тому назад, понял настроение Бориса и, как друг, решил ему помочь. Возможно, что в глубине души он чувствовал себя и немного виноватым перед Борисом. Он связался по телефону с одним из инструкторов обкома ВКП(б) и попросил его направить Бориса в какое-нибудь из учреждений, постоянно открывавшихся в городе. Очевидно, тот ответил согласием, потому что Филка, повернувшись к Борису, сказал: – Иди-ка в комнату 176 к инструктору обкома Вольному, он обещал тебе помочь найти работу в городе. Когда Борис зашёл в указанную комнату и увидел ещё молодого, но, видимо, чрезвычайно утомлённого худого человека, одетого в защитную гимнастёрку с прикреплённым на ней орденом Красного Знамени, взглянувшего на вошедшего каким-то задумчивым взглядом, то он оробел и смущённо остановился у порога комнаты. Вольный встал из-за стола и предложил Борису сесть на стул у большого шкафа. Несколько минут они молча смотрели друг на друга, затем Вольный спросил: – Да, брат, молод ты! Что же ты умеешь делать? Поди, только школу окончил? – Нет, – ответил Борис, – школу я окончил уже давно, три года тому назад, с тех пор прошёл курсы десятников Дальлеса, работал десятником, а затем вот с пионерами, – добавил он, немного смущаясь. – Курсы десятников? И даже уже успел поработать десятником? Это меняет дело, это хорошо! У меня на эту должность как раз запрос есть. Вот, кабы ты был партийным, так и совсем бы хорошо было! – Так я уже полгода кандидатом партии состою. – Что же ты мне сразу-то не сказал? И Дорохов ничего не сказал! Ну тогда вопрос решён! Пойдёшь служить в Дальгосрыбтрест, они сейчас как раз десятника ищут, а нам обязательно нужно туда хоть несколько человек коммунистов послать. Ты ведь знаешь, что за последние годы, в связи с развитием на Дальнем Востоке промышленности, здесь много различных учреждений пооткрывалось, разных трестов, контор и тому подобное. Специалистов для работы в этих учреждениях приходится набирать из так называемых бывших, иногда даже из мелких хозяйчиков и даже фабрикантов в прошлом, они там такого наработать могут, что только держись! Вот и нужно, чтобы в каждом таком учреждении у нас свой партийный глаз был, и в Дальгосрыбтресте этом. Задачи перед ним ставятся большие, аппарат его главной конторы уже вырос до полутораста человек, а партийная ячейка всего из пяти коммунистов состоит. Не больно-то туда нашего человека пропихнёшь, ведь нужны люди грамотные. Так что отправляйся в Дальгосрыбтрест, вот тебе направление. Найдёшь товарища Глебова, он там кадрами заведует и секретарём партийной ячейки является. Впрочем, подожди-ка, я ему ещё позвоню. Он снял трубку, назвал телефонистке номер и, видимо, услышав, как ответили на противоположном конце провода, сказал: – Товарищ Глебов? Здравствуй! Послушай-ка, ты вот просишь в свой коммерческий отдел человека – коммуниста, знающего лесное дело. Ну-ну, я понимаю, что у тебя в этом отделе на 30 человек служащих ни одного партийца нет, а все ответственные места занимают настоящие «зубры». Так вот, посылаю тебе паренька! Да-да, молодого! Ну что же, молодость – это не порок, по-моему! Нет, ты посмотри со специалистами, знает ли он то дело, за которое берётся, по рассказу должен бы знать. Да-да, кандидат партии, комсомолец уже с пятилетним стажем, последнее время на комсомольской работе был. Ну вот, видишь, вот и чудесно, значит, договорились. А это вы уж там сами смотрите, пока! Вольный обернулся к Борису и, улыбаясь, сказал: – Кажется, всё в порядке. Наверно, там тебе и комсомольской работы хватит: у них секретаря комсомольской ячейки нужно менять. Ну, смотри не подведи, счастливо! – и он, продолжая улыбаться, пожал Борису руку. Как только Вольный улыбнулся, его лицо преобразилось: как будто и усталость куда-то делась, и помолодел он сразу, и как-то подобрел. Выходя от него, Борис невольно почувствовал уважение к этому ещё, наверно, очень молодому человеку. «Вот ведь, – думал он, – такой молодой, а уже орден имеет. Наверно, всю Гражданскую воевал!» Взяв протянутую Вольным записку и узнав от него адрес Дальгосрыбтреста, Борис отправился в путь. Через полчаса он уже входил в большой трёхэтажный дом на Алеутской улице (ул. 25 Октября), расположенный, как раз напротив домов Бринера, где помещалось агентство Международного Датского телеграфа. Александра Александровича Глебова (имя и отчество его сказал Вольный) Борис нашёл без особого труда. Это был невысокий, чуть сутуловатый, уже довольно пожилой человек, с головой, имевшей форму почти правильного треугольника, опрокинутого вершиной вниз. Узнав, что Алёшкин из обкома ВКП(б), Глебов приветливо улыбнулся, но заметил: – Ну, товарищ Алёшкин, ты уж не обижайся, но у тебя, прямо скажем, для лесного специалиста вид-то малоподходящий, больно молод ты. Так что мы тебе сейчас проверочку устроим. Ты только пойми, проверка мне эта не нужна, я тебя как коммуниста и комсомольца и так взял бы без разговоров: если чего не знаешь, научу. Но тебе придётся иметь дело со специалистами, и перед ними нам, партийным, в грязь лицом ударять нельзя. Надо сразу же показать, что ты знаешь. Готов? Борис был не робкого десятка. А потом, он просто любил всякие проверки, ну а проверки по лесному делу он тем более не опасался. – Готов! – улыбнулся он. – Валя, – обернулся Глебов к девушке, сидевшей на стуле у двери, – сбегай в коммерческий отдел, позови сюда инженера Антонова, да вежливенько, смотри! Когда девушка вышла, Глебов, вздохнув, сказал: – Вот тоже её к нам обком комсомола прислал. Хорошая девушка, послушная, и комсомолка неплохая, а училась всего 4 класса, куда же я её пристрою? Назначили в статистический отдел, так она там только два дня пробыла, выжили: «У нас здесь не ликбез». Завотделом, какой-то бывший чиновник, сказал: «Нам грамотные работники нужны!» Посадил её курьером, да помаленьку делопроизводству обучаю, может быть, через год хоть делопроизводителем в какой-нибудь отдел устрою. Беда у нас и с секретарём комсомольской ячейки, парень тоже, кажется, на своём месте не удержится. Вот… – но тут он свою речь прервал. В комнату вошёл высокий узкоплечий мужчина, с красивыми вьющимися каштановыми волосами, карими глазами, горбатым носом и полными яркими губами, на которых блуждала какая-то неопределённая улыбка. Лицо его оканчивалось широким квадратным подбородком с глубокой бороздкой посередине. Подбородок этот совсем не гармонировал с остальной частью лица и казался приставленным от другого человека. На вид ему можно было дать лет 35, так оно и оказалось на самом деле, как впоследствии узнал Борис. Приятным баритоном он спросил: – Чем могу быть полезен, Александр Александрович? – Николай Фёдорович, вы говорили, что в отдел нужен десятник на лесной склад. – Да, Александр Александрович, желательно опытный, грамотный, и нужен он прямо-таки безотлагательно. – Ну так вот, разрешите вам представить, – показал Глебов на Алёшкина – Как это такое?!! – впоследствии Борис узнал, что это было любимое восклицание Антонова, когда он чему-нибудь удивлялся. – Этот юноша? – Да, этот молодой человек, – поправил Глебов, – он имеет законченное среднее образование и, кроме того, после курсов по лесозаготовкам проработал несколько лет в Дальлесе. Товарищ Алёшкин, покажите товарищу Антонову своё удостоверение об окончании курсов, вы говорили, что оно при вас. Борис достал из кармана удостоверение, захваченное им при поездке во Владивосток совершенно случайно, и протянул его Антонову. А Глебов продолжал: – Я хочу просить вас, товарищ Антонов, побеседовать с ним, и, если он хоть немного разбирается в лесном деле, его нужно взять. Мне очень хочется его взять, надо пополнять трест молодёжью! Николай Фёдорович поморщился. – Товарищ Глебов, я не против молодёжи, ведь я и сам ещё не старик. Но нам нужен знающий, грамотный во всех отношениях работник, ведь он, по существу, будет отвечать за целый лесной склад! – А вы всё-таки поговорите, поговорите с ним, товарищ Антонов! Пройдите в соседнюю комнату, она сейчас пустая – ревизор уехал, так что вам никто не помешает. Антонов вздохнул и как-то грустно произнёс: – Ну что же, пойдёмте, молодой человек! Поданное ему Борисом удостоверение об окончании курсов он всё ещё неразвёрнутым держал в руке. Зайдя в указанную Глебовым комнату, Антонов сел за стоявший там стол и, предложив Борису усесться напротив, заговорил: – Вы понимаете, на что вы идёте? Ведь на вас ляжет большая материальная ответственность! Ведь в тюрьму могут посадить, если у вас недостача окажется. Откажитесь лучше! Бориса такое вступление взорвало, он довольно грубо ответил: – Простите, товарищ Антонов, разве вам об этом поручал со мной говорить товарищ Глебов? Если вы так считаете, то нам говорить не о чем. Я тогда ему сейчас так и скажу! – Ах, как это такое? Я просто вам совет даю, а принять его или не принять, дело ваше! – и Антонов развернул удостоверение, которое всё ещё продолжал держать в руке. Там перечислялись предметы, пройденные на курсах, и против каждого стояла отметка «отлично», а внизу, среди подписей комиссии, принимавшей экзамены, первой стояла фамилия профессора Василевского. Антонов воскликнул: – Ну, это уже кое-что! Я сам у Николая Васильевича учился, замечательный старик! Если он подписался под таким документом, то значит вы действительно что-то знали неплохо. Расскажите-ка мне, где и в качестве кого вы работали. Борис рассказал о своей работе в шкотовской конторе Дальлеса, благоразумно умолчав о своей последней работе с пионерами. Оказывается, Антонов знал и Озьмидова, а, услышав от Бориса, что тот к нему относился очень хорошо, и, если надо, мог бы дать о нём отзыв, заявил, что он верит представленному удостоверению и никаких дополнительных отзывов не требует. Затем он задал Борису несколько вопросов, касающихся определения качества леса, главным образом, досок, попросил подсчитать в кубофутах объём бруса и нескольких досок и, убедившись, что ответы на некоторые вопросы Борис в состоянии дать даже без карандаша и бумаги, Антонов остался доволен. Так он и сказал Глебову, когда они вышли из своей «экзаменационной» комнаты: – Ну что же, если деловая, организаторская способность у товарища Алёшкина окажется такой же, как его знания в лесном деле, то он нам вполне подойдёт. Но вы ведь знаете, Александр Александрович, решающее слово в этом вопросе не моё, а заведующего коммерческим отделом Черняховского, а он мужчина строгий. – Ну, положим, не только его, а и председателя правления треста товарища Берковича, да и моё тоже, как секретаря партячейки. Конечно, дело будет зависеть также и от того, как вы о товарище Алёшкине Черняховскому доложите. – Я доложу так, как есть. По-моему, товарищ Алёшкин по своим знаниям нам подходит, ну а остальное покажет дело. Думаю, что всё будет хорошо, ну а будет ли в конечном счёте хорошо для него, увидим! – Ну так идите в коммерческий отдел, а потом, товарищ Алёшкин, с результатами зайдите ко мне. В коммерческом отделе, занимавшем широкую темноватую комнату, стояло несколько больших письменных столов, за каждым из которых сидел какой-нибудь человек, что-то писавший или разбиравшийся в лежавших перед ним бумагах. Бумаг этих находилось на каждом столе великое множество. За одним из столов сидел парень, старательно щёлкавший на счетах. В уголке за небольшим столиком на новеньком отличном «ундервуде» молоденькая машинистка бойко выстукивала какое-то письмо. Взглянув на машинку и на машинистку, Борис невольно подумал: «Эх, если бы нам в райком такую же машинку вместо старой телеги с западающей буквой «у», да уметь бы так же быстро печатать…» Напротив машинистки, около другого такого же огромного окна, за очень большим письменным столом, покрытым зелёным сукном, с массивным письменным металлическим прибором, имевшим вид какого-то старинного замка, где боковыми башнями служили чернильницы, а центральной – вместилище для ручек и карандашей, сидел человек лет пятидесяти, с чёрными, чуть подёрнутыми сединой курчавыми волосами, с толстыми губами и выпуклыми глазами, со щеками и подбородком, покрытыми тёмной синевой, оставшейся после бритья, вероятно, чёрной густой бороды и усов. На его толстом мясистом носу находилось пенсне в золотой оправе. Перед ним лежала какая-то напечатанная бумага, которую он безжалостно и довольно сердито черкал красным карандашом. Это и был Виталий Илларионович Черняховский. Антонов и Борис остановились напротив его стола. Закончив исправление находившейся перед ним бумаги, Черняховский повернулся к сидевшему за соседним столом толстому, круглолицему, с совсем заплывшими жиром глазками, одетому в какой-то кургузый серый пиджачок, сравнительно молодому, но уже лысеющему человеку, и скучным голосом произнёс: – Товарищ Игнатьев, когда же вы наконец научитесь служебные письма писать? Ведь вы коммерческий корреспондент, можно сказать, мой заместитель, а пишете, простите меня, как институтка! Толстячок, покраснев, неестественно быстро для своей полноты подскочил к столу заведующего и, как-то странно изогнувшись, быстренько схватил протянутую ему бумагу. Алёшкин, глядя на эту картину, едва удержался, чтобы не фыркнуть. Уж очень его удивило и насмешило почти раболепное преклонение Игнатьева перед начальником. – Ну, а вам что? – всё тем же скучающим голосом спросил Черняховский Антонова. – Вот, Виталий Илларионович, – довольно робко заговорил Антонов, – Глебов рекомендует нам товарища Алёшкина на должность десятника лесного склада. Я с ним уже поговорил, он в лесном деле разбирается. – Гм, разбирается! Ну что же, это уже хорошо! Вы партийный? – вдруг неожиданно спросил совсем другим тоном Черняховский, взглянув на парня, глаза его при этом блеснули. – Да, и комсомолец! – не задумываясь, ответил Борис. – Пишите заявление о приёме на работу. Дайте ему бумагу и перо, – снова повернулся он к Антонову. Николай Фёдорович, видимо, не ожидавший такого немедленного решения вопроса, провёл Бориса к своему столу в самом тёмном углу у двери, усадил его и положил перед ним чистый лист бумаги. За время работы в райкоме Борис уже довольно уверенно овладел искусством составления разных документов, потому написание заявления труда для него не составило, это заняло не более трёх минут. Закончив, он встал, подошёл к столу Черняховского и положил перед ним, опять поглощённым рассмотрением какой-то бумаги, своё заявление на стол. Тот недовольно поднял голову, но, увидев Алёшкина, приветливо спросил: – Уже написали? Он взял заявление в руки, внимательно прочитал его, видимо, стараясь найти ошибки, когда же их не обнаружил, ещё раз взглянул на спокойно стоявшего перед ним парня и своим красным карандашом надписал в углу листа: «Зачислить с месячным испытательным сроком. Оклад старшего десятника, по тарифным ставкам Дальлеса с надбавкой 20 %». Возвращая заявление Алёшкину, он сказал: – Передайте для дальнейшего оформления товарищу Глебову, а вы, товарищ Антонов, возьмите работу вновь принятого под своё наблюдение и учтите, что ответственность за организацию лесного дела в тресте с вас не снимается! Александр Александрович обрадовался, что с Черняховским дело уладилось так просто, и через час уже был готов приказ о зачислении Бориса на службу. С Антоновым он договорился о том, что на место работы они пойдут завтра, Борис примет имеющиеся материалы, подробно ознакомится со своими обязанностями и приступит к работе. Между прочим, почти через три года, когда Антонов волею судьбы оказался сам в подчинении у Бориса Алёшкина, он как-то в одном откровенном разговоре рассказал ему, почему Черняховский так легко и быстро согласился на его кандидатуру – в сущности, очень молодого, и потому не внушающего особого доверия, человека на такую ответственную работу. После ухода Бориса с подписанным заявлением из коммерческого отдела, Черняховский, заметив на лицах сотрудников, в прошлом почти всех работавших в каких-нибудь торговых компаниях, удивление, улыбнувшись, довольно откровенно заявил: – Эх вы, недотёпы! Неужели не понимаете, что Глебов спит и видит, как бы нам в отдел большевичка втиснуть? До сих пор ему это не удавалось, а тут вот нашёлся паренёк. Так пусть таким большевиком в нашем отделе будет этот мальчишка, чем какой-нибудь опытный революционер. Да к тому же, засунув его на лесной склад, мы фактически отстраним его от работы отдела, а если он там погорит, то для нас опять же выгодно будет: вот, мол, как партийные-то работают! Однако, мы можем сказать, что предположения Черняховского не оправдались, и он сам вскоре вынужден был своё мнение об этом мальчишке переменить. Но вернёмся к текущим событиям. Получив на руки выписку из приказа, Борис с большим удовольствием увидел, что оклад его составит 82 рубля в месяц, то есть почти на 30 рублей больше, чем он получал до сих пор. Эта солидная по тем временам сумма позволяла ему вполне удовлетворительно содержать семью, и вопрос о его браке с Катей теперь мог решиться буквально в несколько дней. Он почему-то нисколько не сомневался, что испытательный срок, определённый ему Черняховским, он выдержит. На следующее утро в 9 часов Борис уже был в коммерческом отделе, куда скоро явился и Антонов. После этого они вместе отправились на лесной склад, на котором Алёшкину предстояло теперь работать. Оказалось, что склад этот находился в самом центре города, рядом с так называемой Графской, а теперь Комсомольской пристанью, расположенной на берегу бухты Золотой Рог, чуть ниже кинотеатра «Арс». Здесь было несколько железнодорожных путей и тупиков, подходящих к разным пакгаузам и причалам торгового порта, а одна линия шла вдоль всего берега бухты, огибая её так, что с городского берега переходила на мыс Чуркин, где тоже имелись различные причалы и торговые склады. Шагах в двухстах от Комсомольской пристани по направлению к углу бухты, а точнее, к Дальзаводу, и располагался лесной склад лесопромышленника Бородина, часть территории которого арендовал Дальгосрыбтрест. До прихода на Дальний Восток советской власти Бородин имел несколько лесопильных заводов, располагавшихся по линии железной дороги от Хабаровска до Владивостока на наиболее крупных станциях. Хищнически вырубая леса, окружавшие эти станции и находившиеся при них сёла и городки, он заготавливал пиломатериалы в огромных количествах. Большая часть этих материалов продавалась за границу, преимущественно японцам, их подвозили железнодорожными вагонами в торговый порт и производили погрузку на пароходы прямо из вагонов. Небольшую часть леса, главным образом, из отбракованного японцами, он продавал в городе для нужд местного населения, и барыши от этой торговли имел порядочные: Владивосток, город молодой, всё время вёл строительство жилья, лес Бородина расходился по хорошей цене и быстро. После октября 1922 года, когда последнее буржуазное правительство на Дальнем Востоке было ликвидировано, а интервенты убрались восвояси, Бородин лишился почти всех своих заводов и права на торговлю за границу. У него значительно сократилась возможность сбывать лес и на внутреннем рынке. Однако территория склада, арендованная им у города на несколько лет вперёд, ещё оставалась за ним. Горсовет, учитывая существование НЭПа, не решился сразу отобрать у Бородина склад, а лишь повысил плату за аренду, и, в соответствии с законами РСФСР, увеличил размер налога на частную торговлю. Пока Бородин с этими условиями соглашался и продолжал иметь со своего маленького заводика, оставленного ему на станции Бикин, некоторое количество пиломатериалов, а торговал ими с этого склада. Но территория склада была для него теперь велика – половина его пустовала, и потому он с радостью согласился отдать большую часть в аренду Дальгосрыбтресту. Пользуясь неопытностью, а может быть, и недобросовестностью некоторых работников треста, Бородин сумел содрать такую плату, которая полностью покрывала всё, что он платил за весь склад горсовету. По дороге Николай Фёдорович Антонов объяснил Алёшкину, что ему предстоит не только принимать и отправлять полученный лес, но фактически и заведовать той частью помещения, которая трестом арендована. Основными материалами на складе будут доски различной толщины, дощечки для изготовления ящиков и клёпка для изготовления бочек. Весь материал будет поступать по железной дороге, и важно разгружать вагоны своевременно, иначе придётся платить за простой, что вызовет неприятности. Взаимоотношения с железной дорогой Борису были хорошо известны ещё по работе в Новонежине, и он знал, как в этом случае следует поступать. Правда, там ему приходилось следить за своевременностью погрузки, а здесь дело обстояло наоборот, но это его не пугало. «Главное, были бы грузчики», – подумал он и задал по этому поводу вопрос Антонову. Тот ответил, что до сих пор работа по разгрузке начавших уже поступать материалов, по особой договорённости, производилась десятником Бородина с использованием грузчиков-китайцев, работавших на этом складе уже несколько лет. В связи с сокращением объёма работ Бородин рассчитал этого десятника, в тресте тот работать не согласился, грузчики тоже могли куда-нибудь перейти, так как их заработки упали. Выдавать же лес, заявил Антонов, Борису придётся по нарядам коммерческого отдела разным кустарным артелям, изготовлявшим (по заключаемым с ними договорам) бочки и ящики для продукции Дальгосрыбтреста. О погрузке материалов для них Борису беспокоиться не нужно, это их забота, ну а отправку досок на рыбные промыслы и на заводы, проводившуюся морем на китайских шаландах, специально нанимаемых для этого трестом, ему придётся осуществлять с помощью тех же грузчиков, которые будут работать и на разгрузке. Рассказал Антонов также и о том, что расчёты с грузчиками Борису придётся производить самому, для чего он по специальным чекам будет получать из банка необходимые авансы. Расчётами с мастерскими будет заниматься бухгалтерия коммерческого отдела (оказывается, была и такая), от Бориса потребуется только выдача квитанций на принятые изделия. Всё услышанное Алёшкиным от Антонова не очень его взволновало, он не испугался объёма работ и полагал, что сумеет справиться. Когда они пришли на склад, то первое, что бросилось Борису в глаза, была путаница, созданная при хранении: материалы треста и материалы Бородина лежали вперемешку: рядом со штабелем досок, принадлежавших тресту, лежал штабель досок, принадлежавших Бородину. Новый работник уже был достаточно опытным, чтобы понять, что при таком складировании возможны самые различные злоупотребления, поэтому, принимая лес от уходящего десятника, он потребовал, чтобы склад был чётко разграничен и даже разгорожен колючей проволокой, мотки которой он обнаружил тут же, в довольно большом сарае, предназначенном для хранения наиболее ценных пород и в настоящее время пустовавшем. Антонов, понимая справедливость этого требования, согласился с ним, и несмотря на протесты и десятника-приказчика, и самого Бородина, это требование поддержал, уточнив, что расходы по перегораживанию территории склада, как и переноску материалов, трест возьмёт на себя. Борис же согласился на то, чтобы в случае, если материалы треста и материалы Бородина (одинаковой стоимости и количества) окажутся на чужих участках, обменять их без переноски. Так в дальнейшем и поступили. На приведение содержимого склада в относительный порядок потребовалось три дня, но зато потом территория его была чётко разграничена, и в каждой половине находился лес того, кому он принадлежал. Забежав немного вперёд, надо сказать, что на части Бородина количество леса всё время уменьшалось, так как проводить прежним хищническим способом заготовку его он не мог, завод его часто простаивал, и поступления на склад были очень ограничены. Склад со всех четырёх сторон ограничивался высоким деревянным забором. На стороне, обращенной к бухте, имелись большие ворота, около которых стоял небольшой деревянный домик, выходивший своим фасадом в сторону бухты и железнодорожных путей, а большей своей частью находившийся на территории склада. В этом доме было 4 комнаты, узкий тёмный коридорчик, маленькая кухонька и довольно просторные сени. Там имелось электрическое освещение и тёплая уборная. Воду приходилось носить из водопроводной колонки, находившейся от склада на расстоянии 50–60 шагов. Отопление в доме было печное. Самая лучшая комната, выходившая большим венецианским окном на улицу, и другим – поменьше на двор, занимавшая целый угол дома, служила кабинетом хозяину склада. Вторая проходная комната, единственное окно которой выходило к бухте, была предоставлена в распоряжение Дальгосрыбтреста, там и стоял стол, за которым работал Алёшкин. Рядом находилась маленькая (6 квадратных метров) комната без окон, в ней раньше иногда ночевал десятник Бородина. Остальную часть дома, обращённую окнами на склад, занимала канцелярия склада, коридор и кухня. В канцелярии стояли пять или шесть письменных столов. Когда Антонов и Алёшкин явились на склад, столы пустовали, занят был лишь один, за которым сидел старичок с длинной седой бородой, что-то энергично считавший на старых счётах. Этот старичок и представлял всю некогда большую канцелярию конторы Бородина, он вёл бухгалтерские книги, производил расчёты с грузчиками, он же и продавал лес. Сам Бородин находился почти постоянно в разъездах по области, организуя в допустимых пределах заготовку леса и заключая договоры на его продажу. Между прочим, одним из основных покупателей его досок была Владивостокская контора Дальлеса. Старичок этот оказался очень приветливым и словоохотливым человеком. Он охотно рассказал всё, что ему было известно о фирме Бородина, сообщил, что он трудился в конторе с конца прошлого века, когда делом заправлял ещё отец теперешнего хозяина, что здесь ранее служило до десятка человек, что он тогда был главным бухгалтером и вот теперь остался её единственным служащим. Честно рассказал Алексей Васильевич Соболев, так звали этого старичка, и о том, что дела фирмы идут под гору и что он боится на старости лет остаться без работы и, следовательно, без куска хлеба. Антонов его утешил, сказав, что сейчас, когда во Владивостоке появляется так много новых учреждений, человека с его опытом на работу возьмут всегда. После окончания формальностей с приёмкой склада и получения Борисом спецодежды – отличного полушубка, валенок, шапки и рукавиц, перед ним встал новый, очень важный, с его точки зрения, вопрос о жилье. До сих пор, по протекции Анны Николаевны, у которой оказались знакомые в городском отделе народного образования, Борис жил в общежитии для приезжавших в командировки учителей. Но это общежитие его никак не устраивало теперь, когда он уже окончательно и, как он полагал, прочно устроился на работу. Увидев, как толково Борис берётся за дело, и доложив об этом начальству, Антонов потом в разговоре упомянул, что Черняховский остался очень доволен действиями этого мальчишки, как он продолжал называть Бориса. Теперь Алёшкин уже серьёзно задумался над тем, как ему перевезти в город Катю. О том, чтобы поселиться в общежитии учителей, нечего было и думать: его и самого-то уже несколько раз спрашивала заведующая общежитием, когда он от них переедет, там жили обычно 2–3 дня, а Борис находился уже более недели. Значит, нужно было искать квартиру. Во Владивостоке уже и в то время с жильём было непросто: нового строительства жилья почти не велось, а в связи с открытием новых учреждений в город понаехало очень много людей и из области, и из края, и даже из центра страны. Свою обеспокоенность он как-то при случае в первые же дни высказал Алексею Васильевичу, с которым, несмотря на значительную разницу в возрасте, как-то очень быстро сошёлся. Тот дал ему множество самых полезных советов в деле хранения, приёмки и отпуска леса и, между прочим, сразу же свёл его с необходимыми старшинами китайских артелей грузчиков, которых очень скоро потребовалось много. Борис уже совершенно серьёзно полагал, что теперь его своенравная избранница от него не откажется. Да судя по её обещанию, ей теперь уже и предлогов не осталось для того, чтобы от него отвертеться. Кроме того, где-то в глубине души он был уверен в том, что ей и самой отказываться от него не захочется. Значит, квартира ему была необходима, и притом в самый кратчайший срок. Он сказал об этом своему новому знакомому. Через два дня тот заявил, что жильё, хотя бы на первое время, для двоих (Борис ведь сообщил, предвосхищая события, что женат) у него на примете имеется и дал Борису адрес. В этот же вечер Борис отправился в указанное место. Дом, в котором ему предстояло начать свою семейную жизнь, находился недалеко от Куперовской пади (так назывался тогда один из районов Владивостока, расположенный рядом со станцией Первая Речка), на склоне сопки, обращенном к кладбищу. Квартира состояла из четырёх комнат. Хозяйка с двумя дочерями, девушками 15 и 17 лет, занимала одну угловую комнату, две других небольших комнатки на противоположной стороне сдавала: одну – работнице с кондитерской фабрики Ткаченко (был такой фабрикант во Владивостоке, работавший даже в то время, о котором мы пишем; качество его товаров было превосходным и славилось на всё Приморье и, пожалуй, даже на весь Дальний Восток), другую занимал какой-то пожилой мужчина, служащий банка, а посередине, между всеми этими помещениями, пустовала большая проходная комната, очевидно, когда-то, в хорошие времена, служившая столовой. Вот её-то хозяйка и сдала Алёшкину. Правда, она была не очень довольна тем, что её новый жилец женат, женщина больше желала бы иметь холостого постояльца, в надежде пристроить за него одну из дочек, как это стало впоследствии известно, но теперь, когда Борис сказал ей, что снимает комнату потому, что к нему вскоре должна приехать жена, хозяйка, хоть и поморщилась, но согласилась. Её материальное положение, как позднее узнал Борис, было вовсе не завидным, и единственным доходом являлась квартплата, которую она получала с постояльцев. Принадлежавший её отцу дом после смерти хозяина был поделён между нею и братом. Брат служил на железной дороге на станции Первая Речка, а она, потеряв мужа во время Германской войны, осталась с двумя детьми без всяких средств к существованию, так как никакой специальности не имела, а идти простой рабочей не могла по состоянию здоровья, как она говорила (но как утверждала её жиличка, работница, – от лени). Так или иначе, Борис с этой хозяйкой о жилье договорился. Она определила весьма недорогую, с его точки зрения, плату – 12 рублей в месяц за койку в большой комнате и трёхразовое питание. С момента приезда жены сумма, естественно, удваивалась. В этой комнате для молодых супругов была поставлена полутораспальная кровать у одной из стен, рядом с ней комод, у самой кровати небольшая тумбочка. Вся эта обстановка отделялась от остальной части комнаты высокой и довольно длинной ширмой. Остальные жильцы в эту комнату не заходили, но сама хозяйка и её дочери ходили через неё беспрестанно: то на кухню, то на улицу. Однако легкомысленного Бориса это не смущало, он знал, что у него теперь есть свой угол – с едой, постелью и даже уборкой. «Значит, Катю привозить можно», – решил он. После найма квартиры Борис сообщил Глебову, что для устройства семейных дел ему необходимо съездить в Шкотово, на это потребуется, по крайней мере, два дня. Он заявил, что на время отсутствия его заменит конторщик Бородина Соболев, с которым он уже договорился и в честности которого не сомневался. Глебов помог Борису получить согласие на эту поездку от Черняховского, и в этот же день Алёшкин был уже в Шкотове. А на следующее утро, едва дождавшись удобного часа, он зашёл к Пашкевичам. Там знали, что Борис уволен из райкома и уехал во Владивосток устраиваться на работу. Зайдя к ним, он застал семью в большом волнении и хлопотах. Милочка, родив месяц тому назад сына, должна была уезжать в Хабаровск. Её муж Митя уехал сразу же, как только жену привезли из больницы, дольше оставаться в Шкотове из-за своих служебных дел он не мог. Отпускать дочь с ребёнком одну зимой в такой дальний, с точки зрения Акулины Григорьевны, путь она не решалась, и поэтому вынуждена была, оставив хозяйство на Наташу и младших дочерей, сопровождать старшую в Хабаровск. Надо помнить, что Акулине Григорьевне тогда было 60 лет, она была совсем неграмотной, дальше Владивостока за всю свою жизнь не бывала, и такая поездка, вообще-то отнимавшая немногим более суток, казалась ей невероятно далёким и трудным путешествием. Не представляла себе эта бедная женщина, что на старости лет ей придётся ещё очень много и очень часто путешествовать на расстояния гораздо более дальние. Но сейчас все были поглощены сборами. Поздоровавшись с Борисом и вкратце узнав от него о том, что он уже работает, на него перестали обращать внимание, но он всё-таки не ушёл. Улучив минутку, вызвал в кухню, где как раз никого не было, свою Катеринку, расцеловал её и сообщил, что у него есть хорошая работа и квартира во Владивостоке, следовательно, все препятствия к их браку устранены, и что он сейчас об этом скажет её маме. Катя, может быть, внутренне и обрадовалась, но сразу же заявила, что сейчас этого делать просто нельзя, это может очень расстроить маму, и так находившуюся в сильном волнении в связи с предстоящей дорогой. Тогда Борис решил посоветоваться с Милочкой, для которой их отношения уже не были тайной. Но та, услышав его заявление, сразу же сообразила, что как только мать узнает о предполагаемом замужестве Кати, хотя возражать, наверно, и не будет (Борис в доме уже считался её женихом, хотя вслух об этом никто не говорил), но она откажется от поездки в Хабаровск, и тогда Миле придётся задержаться в Шкотове ещё на неопределённое время. Это её не устраивало, и она сказала робевшему парню: – Вот что, Борис, я думаю, что мама согласится на твоё предложение, если, конечно, Катя согласна, но может пока повременить с ответом, ожидая согласия Андрея, ведь всё-таки он считается главой семьи. Поэтому я тебе советую так: мы с мамой будем проезжать через Владивосток послезавтра, приходи на вокзал к хабаровскому поезду, поможешь нам погрузиться в вагон, и я тогда предоставлю тебе возможность поговорить с мамой о твоих намерениях. А за эти дни я её ещё и сама немного подготовлю. Борис согласился. Он был так счастлив, что любимая дала согласие стать его женой, что о согласии кого-либо другого и не задумывался. А Катя ещё до его разговора с Милочкой уверяла, что не позднее чем через неделю она приедет к нему, и записала адрес его квартиры. Борис, конечно, пообещал её встретить. Больше того, Катя взяла у него на дорогу деньги, а он знал, что она, такая щепетильная в денежных вопросах (даже билеты в кино не всегда позволяла покупать для неё), уж если сделала это, то, значит, приняла твёрдое и окончательное решение стать его женой. Он уехал в город со спокойной душой и ликующим сердцем. У себя дома о предполагаемой женитьбе он пока не сказал ничего. Через день, зайдя в зал ожидания вокзала, он застал на одной из скамеек в куче всевозможных узлов и свёртков свою будущую тёщу и Милочку, о чём-то оживлённо беседующих. Он подошёл к ним, поздоровался и спросил, скоро ли будет поезд. Милочка ответила, что посадка должна начаться через полчаса, билеты она уже закомпостировала. Затем она вдруг встала и заявила, что ей нужно пойти справиться, через какие двери будет посадка, и, передав Руслана (так назвали они с Митей своегопервенца) матери и подмигнув Борису, вышла из зала. Мать с внуком на руках осталась с глазу на глаз с Борисом. Последний смущённо потоптался на месте несколько минут, затем, собравшись с духом, вдруг решительно выпалил: – Акулина Григорьевна, а мы с Катей решили пожениться! – Как?!! – ахнула та, широко открыв глаза и чуть не выронив лежавшего у неё на руках ребёнка. – Когда? На что вы жить-то будете? Где будете жить? Но Борис уже овладел собой и довольно связно рассказал о размерах своего жалования – 82 рубля, о том, что квартиру в городе он уже имеет, о том, что с Катей они уже обо всём договорились, и что она к нему на следующей неделе приедет. Бедная старушка еле сумела сохранить сознание: – Да как же это так, разве так можно? Ведь её собрать нужно, какую-никакую свадьбу сделать надо, ведь это невесть что! Что люди-то о нас скажут? Одна выскочила как-то без нас, и вторая так же! – А ничего не скажут, а если кто и будет чего болтать, так пускай, коли им больше делать нечего! – вмешалась в разговор Милочка, незаметно подошедшая и слышавшая последние фразы матери. – Ведь они давно женихаются. Борис – парень неплохой, за эти годы ты и сама его узнала, да и Андрей его хвалил. Я знаю, что и Катя его любит, чего же им ещё ждать? – Ну хорошо, тогда я с тобой не поеду, вернусь в Шкотово Катьку собирать! – Да нет, мама, нельзя! Билеты уже взяты, а они немаленьких денег стоят, да вон и поезд подают. Борис, забери-ка эти узлы, помоги нам погрузиться. Взяв из рук матери Руслана, Милочка направилась к выходу. За ней шагал нагруженный узлами Борис, а за ними, понуро опустив голову, поплелась и Акулина Григорьевна, украдкой смахивая со щёк непроизвольно катившиеся слёзы. Усадив своих новых родственников в вагон и дождавшись отхода поезда, Борис радостно зашагал к трамваю, вскочил в него и поехал домой. Теперь у него был свой дом, до него на трамвае от вокзала можно было доехать за полчаса. Следует немного остановиться на том, как происходило вселение Бориса в эту квартиру. Он, конечно, и не подозревал, что хозяйка его здорово надула: она сдала, по существу, не комнату, а лишь угол, а это стоило по тогдашним ценам, по крайней мере, рублей на пять дешевле. Запрашивая 12 рублей, хозяйка думала поторговаться с нанимателем и согласиться рублей на 8–9, но Борис так обрадовался тому, что у него будет свой угол, куда он может привести Катю, что даже не стал торговаться. Ну а после, когда узнал о своей ошибке, менять договорённость показалось неудобно. Когда он зашёл в отведённую для него часть комнаты и увидел настоящую – даже с шишечками – кровать, закрытую хорошим плюшевым одеялом и застланную белыми простынями, а на подушках такие же чистые и белые наволочки, он понял, что ложиться в эту постель в своём затасканном белье, не мывшись уже более двух недель, нельзя. Сославшись на неотложность ночной работы, он отправился в общежитие, в котором жил до этого, где и бельё, и вся обстановка особой чистотой не отличались и, заявив дежурной, что ночует в последний раз, улёгся спать там. На следующий день, после работы, забрав свой фанерный чемоданчик, купленный ещё в Новонежине, в котором находились, кроме книг, две пары чистого белья, отправился в баню, расположенную недалеко от его новой квартиры, хорошенько помылся, переодел бельё и, поужинав, со спокойной совестью улёгся в замечательную кровать. Перед тем как заснуть, он вспомнил, что в такой чистой и хорошей постели он не спал с тех пор, как умерла его бабуся, и был так счастлив от этой чистоты и мягкости постели, что уже ни о каких неудобствах проходной комнаты даже и не думал. Теперь он со спокойной душой ждал Катю, он был уверен, что эта квартира ей также безусловно понравится, и что они проживут в ней долго. Перед отъездом его будущая тёща взяла с него слово, что если Катя без неё к нему и приедет, то всего на несколько дней, погостить. Потом они зарегистрируют свой брак обязательно в Шкотове, а после регистрации она считает своим долгом устроить хоть небольшое торжество, собравшись всей семьёй с его родителями. Борис дал на это твёрдое обещание. Так закончился ещё один этап в жизни нашего героя.Оригинальные документы и письма из личных архивов семей Алексиных и Пигут
Указ Костромского Сиротского суда Дмитрию Болеславовичу Пигута об опеке над малолетними детьми умершей Нины Болеславовны Алексиной (урожд. Пигута), Ниной и Владиславом. 13 августа 1918 г.
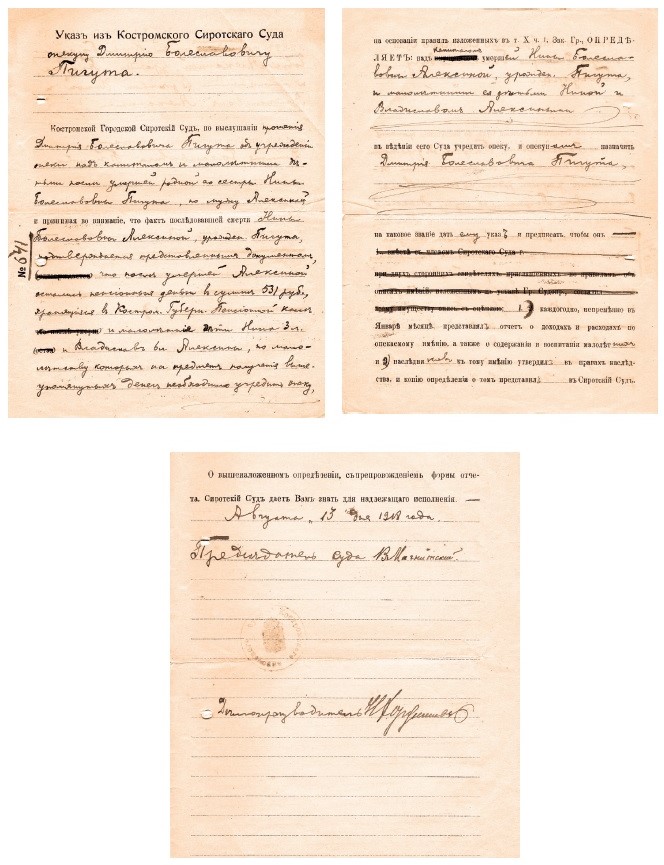
Расписка Анны Смирновой о получении от врача Дмитрия Болеславовича Пигуты 531 руб. на расходы по воспитанию малолетних детей покойной, Владислава и Нины. 17 сентября 1918 г.

Письмо отца Бориса бабусе о согласии на развод при условии, что Нина отдаст ему Борю.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 5 января 1914 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 23 октября 1913 г.
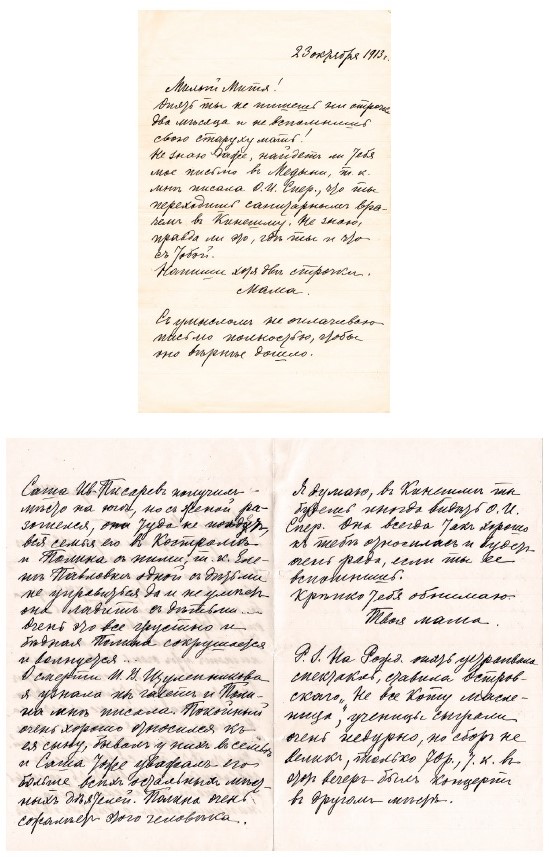
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 16 марта 1914 г.
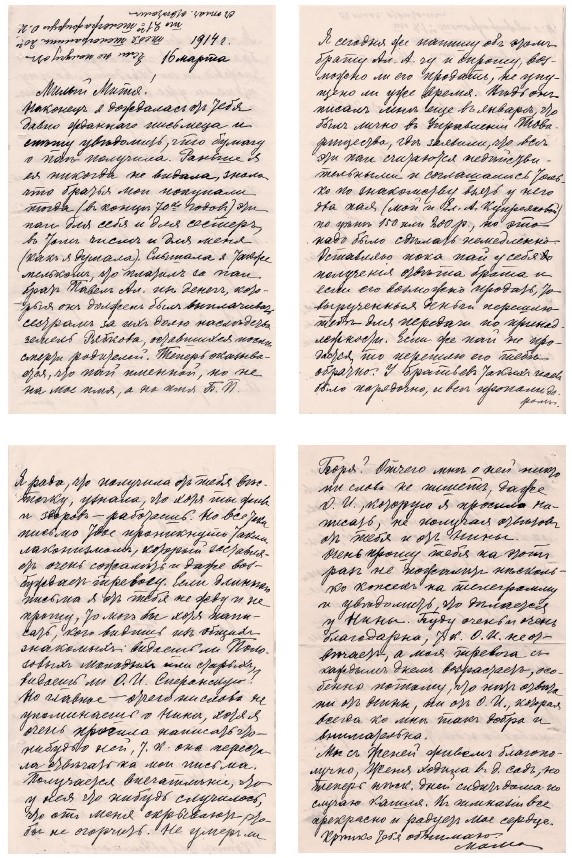
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 30 марта 1914 г.


Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 19 июля 1914 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 2 февраля 1915 г.
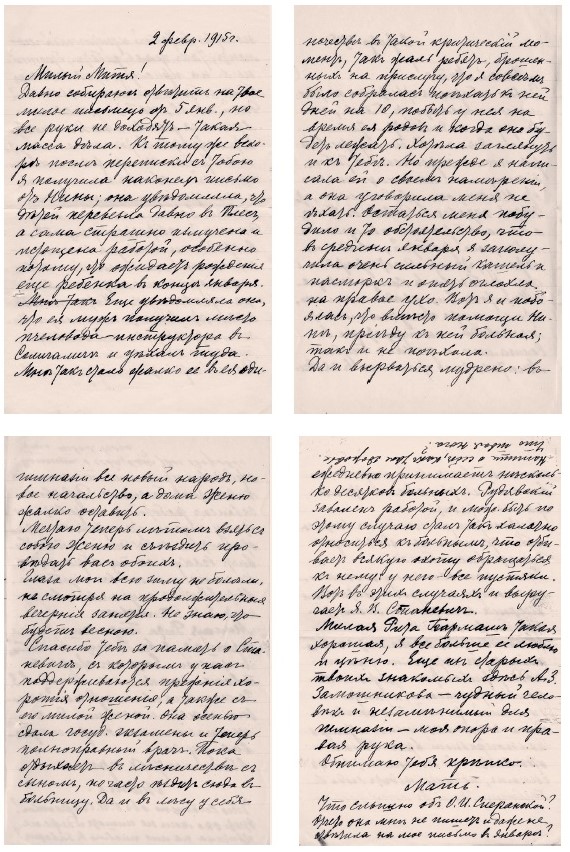
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 9 февраля 1915 г.
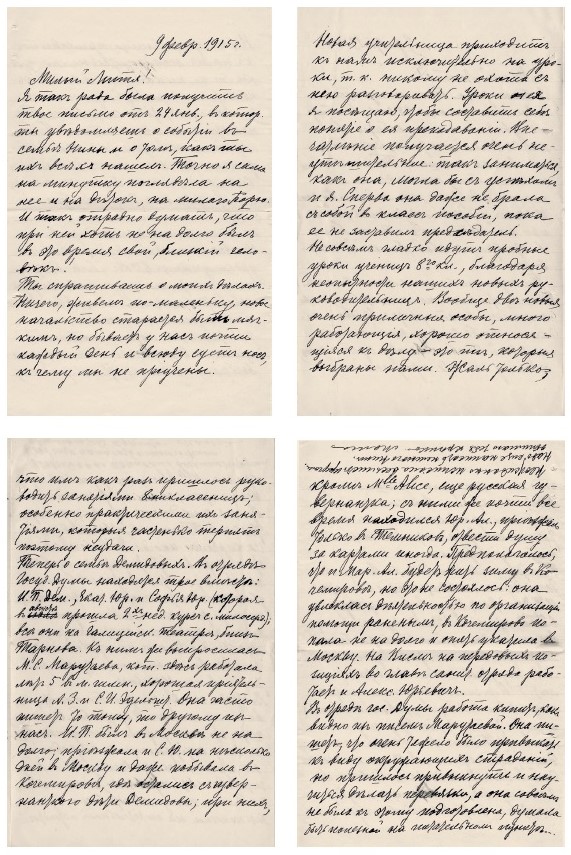
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 31 марта 1915 г.
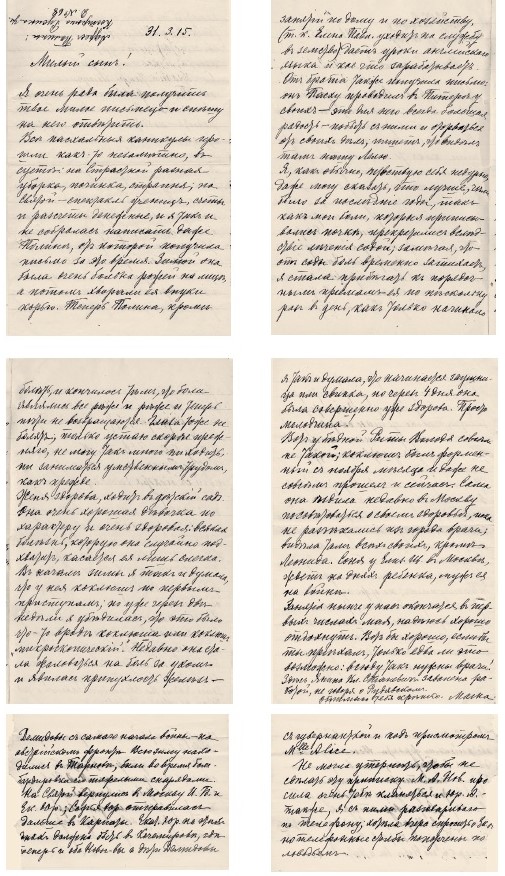
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 20 июня 1915 г.
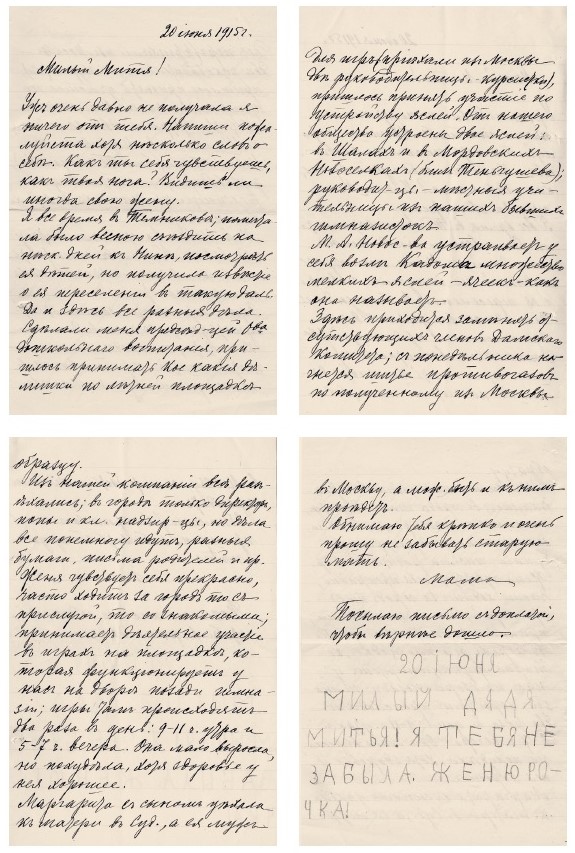
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 30 августа 1915 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 17 января в Кинешму
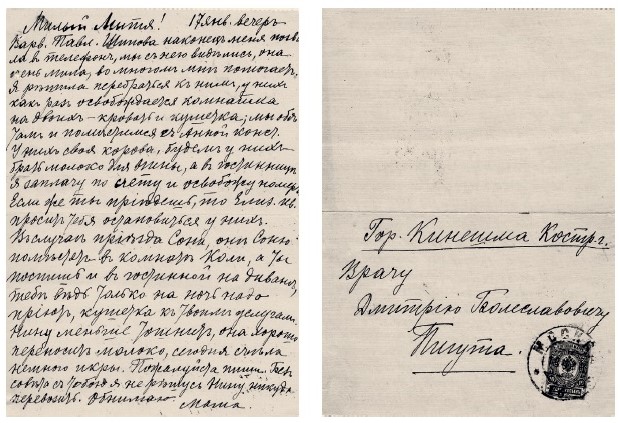
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой)
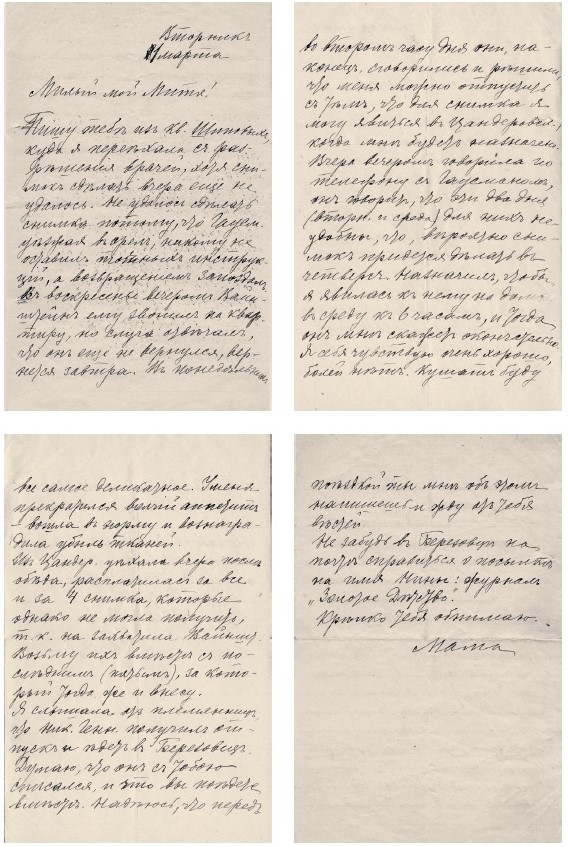
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 13 марта 1916 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 28 марта 1916 г.
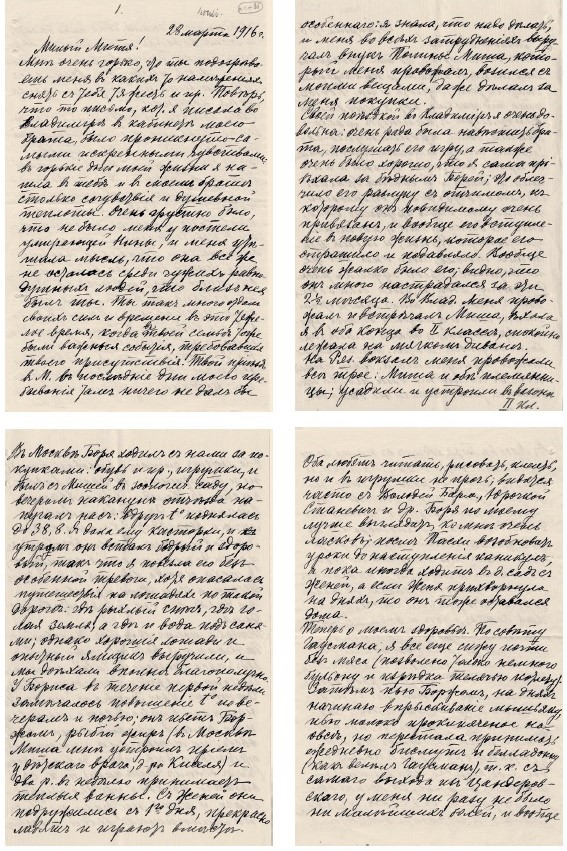

Почтовая карточка, адресованная Дмитрию Пигуте до востребования

Текст с почтовой карточки от 28 марта 1916 г. Дмитрию Пигуте от Марии Александровны Пигуты (Шиповой)

Письмо Дмитрию Пигуте от 23 февраля 1916 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) от 12 апреля 1916 г.
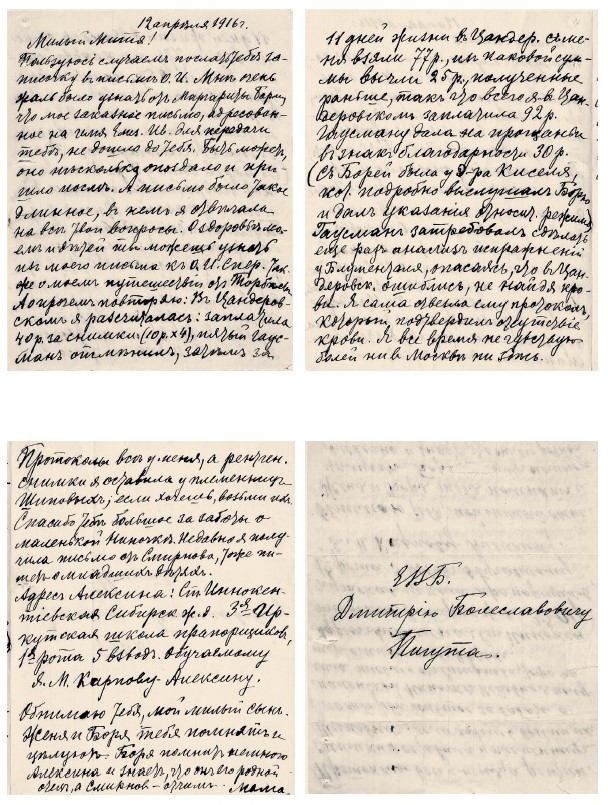
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Ольге Ивановне от 12 апреля 1916 г.


Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 19 апреля 1916 г.

Письмо Дмитрию Пигуте от 11 мая 1916 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 19 мая 1916 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 1 июня 1916 г.

Почтовая карточка Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Болеславовичу Пигуте от 20 июня 1916 г.

Почтовая карточка Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Болеславовичу Пигуте от 10 июня

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 26 июля

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 15 августа 1916 г. с приписками от Жени и Бори

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 15 ноября 1916 г.

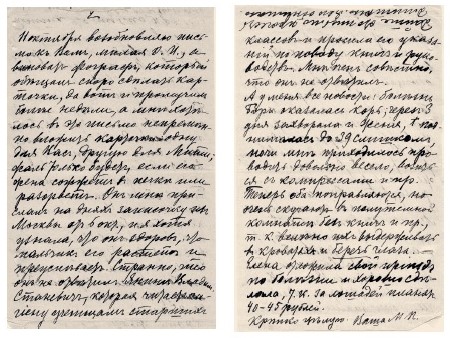
Письмо от 3 марта 1918 г.
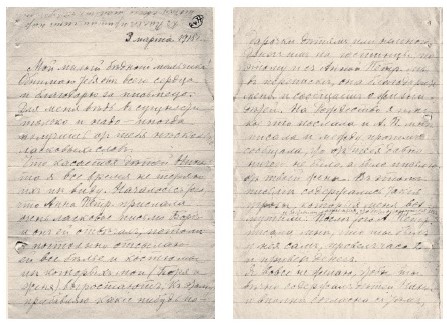

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 9 ноября 1918 г.
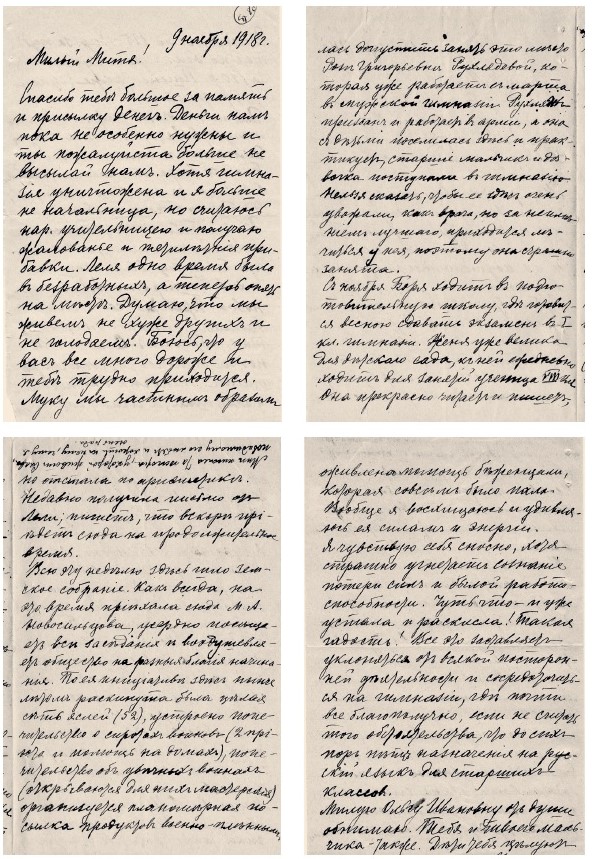
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 19 декабря 1918 г.
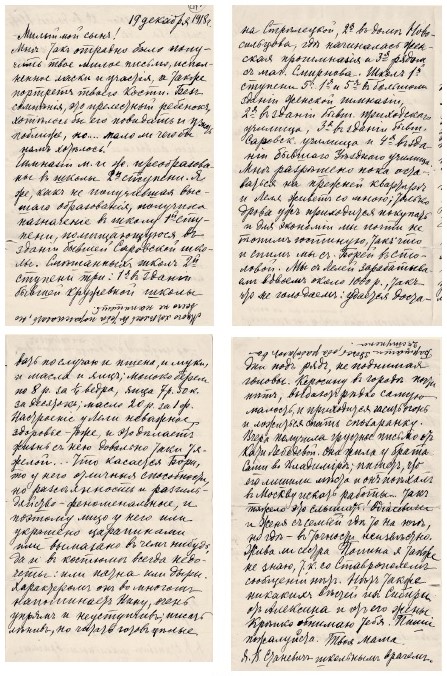
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 3 января 1919 г.

Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 2 февраля 1919 г.

Страницы из письма Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте
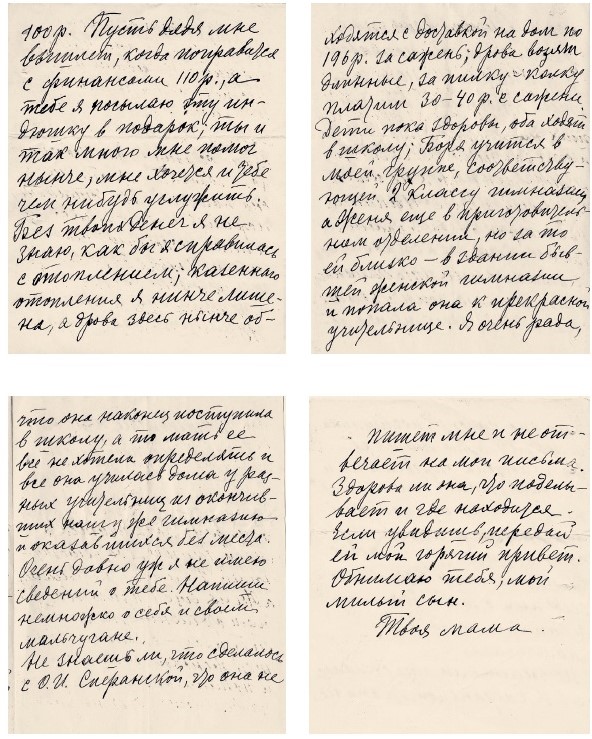
Письмо Марии Александровны Пигуты (Шиповой) Дмитрию Пигуте от 30 марта 1919 г.

Письмо Я. Станевич Дмитрию Пигуте от 19 июня 1916 г.

Письмо Я. Станевич Дмитрию Пигуте


Письмо Бориса Алексина Дмитрию Пигуте (дяде Мите) от 19 августа 1919 г.

Письмо Дмитрию Пигуте без даты и подписи

Выпись о рождении Якова Матвеевича Карпова-Алексина
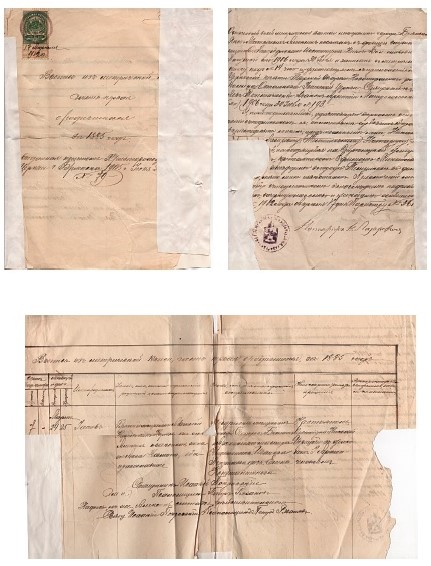
Выпись о смерти Марии Александровны Пигута

Выписка из метрик о смерти Владимира – сына Болеслава Павловича и Марии Александровны
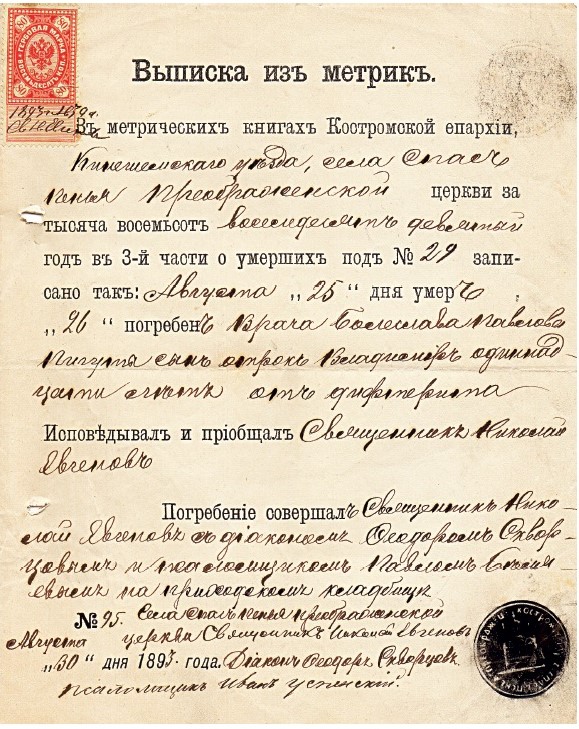
Письма Лёли к Володе во время его болезни

Ответ Дмитрию Пигуте из Общества врачей

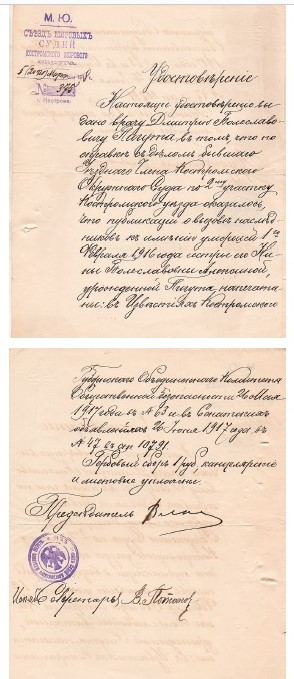


Указ Костромского сиротского суда

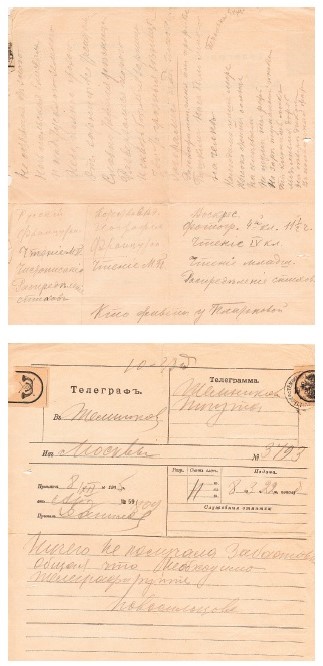
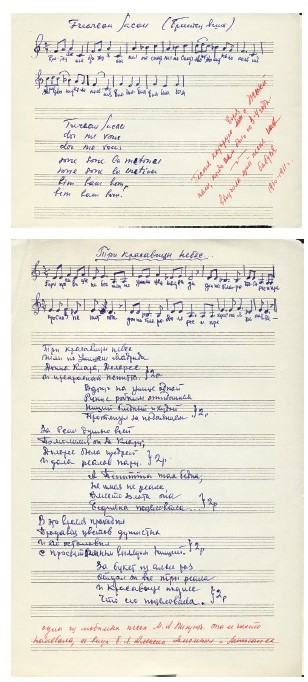
Тетрадь, озаглавленная «Заветы моей матери»

Тетрадь, озаглавленная «Завет моей матери»


Рекомендация Алексина Якова Матвеевича


Последние комментарии
2 часов 17 минут назад
2 часов 25 минут назад
2 часов 35 минут назад
2 часов 40 минут назад
4 часов 9 минут назад
4 часов 12 минут назад