Жизнь и приключения Максима Горького по его рассказам [Илья Александрович Груздев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Илья Груздев Жизнь и приключения Максима Горького (по его рассказам)
Отец
Нижний-Новгород — большой торговый город на Волге, ощетинившийся со стороны реки сотнями острых мачт. В 1863 году в этот город пришел пешком из Сибири юноша шестнадцати лет. Звали его Максимом Пешковым. Жизнь Пешкова сложилась тяжко. Отец так сурово с ним обращался, что с малых лет он стал бегать от него. Убегал он пять раз, хотя каждый раз неудачно. Один раз, впрочем, убежал далеко, и отец искал его по лесу с собаками как зайца. А после другого побега раздосадованный отец, поймав его, стал так бить, что соседи отняли мальчика и спрятали у себя. Потом его взял к себе дядя для обучения столярному ремеслу, но, видно, и там жилось не сладко, потому что Максим убежал и от дяди. Чтобы прокормиться, он стал водить слепых нищих по ярмаркам, а придя в Нижний, нанялся к подрядчику-столяру. Другой от всех этих горьких скитаний стал бы нелюдимым, озлобился, но не таким был Максим. Вся улица, на которой он работал, знала славного столяра. Умел он и петь и плясать хорошо, и ободрить мог товарищей, задерганных работой и нуждой.
Бок о бок с мастерской столяра помещалось красильное заведение Василия Каширина. Максим Пешков познакомился с дочерью Каширина, Варварой Васильевной. Молодые люди понравились и полюбились друг другу. Но о том, чтобы жениться, Максиму и думать было нельзя. Старик Каширин сам из бурлаков вышел, но, разбогатевши, кичиться стал. А после того как в малярном цехе старшиной сделался да шляпу с позументом и мундир получил, так и совсем загордился. «Выдам — говорит, — дочь за дворянина, за барина».
Но Максим был человеком упорным. Он перемахнул раз через забор к красильщику, чтобы его не увидел хозяин, да и явился прямо к матери Варвары Васильевны — Акулине Ивановне Кашириной, явился как был на работе в мастерской, — босой, без шапки, на длинных волосах — ремешок, чтобы волосы работать не мешали. Поклонился ей в ноги и просит помочь в трудном деле. Акулина Ивановна так и обомлела, — уж очень сердит и страшен был красильщик, — но видит: не отступится от своего Максим, и будет беда. Тогда и уговорились, что поможет она им уехать из дому венчаться тайком. Да узнал об этом мастер один, не любил он Максима, — и не успели еще сладить дело, донес он обо всем Каширину. Взревел старик, мечется по двору, как огнем охвачен, созвал сыновей да мастера этого, да кучера, взяли ружье, кистень, гирю на ремешке — и в погоню за Варварой и Максимом. Но догадалась Акулина Ивановна, незаметно подрезала гужи у оглобель, они дорогой и лопнули. Задержалась погоня, запоздала. Но бежавших все-таки разыскали. Пошли на Максима с боем, а у него сила была редкая, раскидал всех, да и говорит красильщику:
— Я — человек смирный, а что взял, то никому у меня не отнять, и больше мне ничего от тебя не надо.
Старик отступился, а после и вовсе примирился. Да и то сказать: хорош был Максим, добрый и разумный человек. А когда родился у Пешковых сын Алексей, то и жить стали все вместе.
Но не взлюбили Максима сыновья красильщика, братья Каширины, Яков и Михаил. Жадные они были до денег, все думалось им, что сестра их Варвара потребует себе часть наследства и будет им убыток. А тут еще Максим подшутил над ними. Был морозный год, стали заходить волки с поля, забоялись люди, а Максим сам к волкам идет. Возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле; глядишь — одного притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза, — хорошо выходило! Вот пошел раз ночью Михайло в сени, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! А Максим смеется: больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Шутки — шутками, а отдалось все это ему чуть не гибелью. Михайло обидчивый был, злопамятный, подговорил брата Якова извести Максима.
Шли они в начале зимы из гостей и заманили Максима на пруд, будто покататься по льду — на ногах, как мальчишки катаются; заманили да и столкнули его в прорубь. Он вынырнул, схватился руками за край, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные; он вытянулся подо льдом, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали в голову ему ледяшки и ушли, — дескать, сам потонет! А он вылез да бегом домой. Узнала и полиция, да только ничего ей Максим не сказал, скрыл, — сам, говорит, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Тогда старик Каширин пришел к Максиму и говорит:
— Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в дом привела!
Прислал и сыновей прощенья просить. Максим и говорит им:
— Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?
А потом к Акулине Ивановне:
— Эх, мама, — говорит, — едем с нами в другие города, скушновато здесь!
И вышло скоро Пешковым ехать в Астрахань. Готовились там к празднику, и Максиму, как хорошему мастеру, заказали строить ворота с украшениями.
Астрахань — пестрый город. Живут там и татары, и армяне, и персы, живут плохо, бедно и грязно. А болезни частыми гостями приходят с Востока.
Алеша, которому тогда было пять лет, заболел холерой. Во время болезни отец весело возился с ним, усердно ухаживал за больным сыном, а потом сам заболел и умер.
А незадолго перед тем он катал Алешу на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал Алешу коленями и крикнул:
— Ничего, не бойся, Лук!
Другой от всех этих горьких скитаний стал бы нелюдимым, озлобился, но не таким был Максим. Вся улица, на которой он работал, знала славного столяра. Умел он и петь и плясать хорошо, и ободрить мог товарищей, задерганных работой и нуждой.
Бок о бок с мастерской столяра помещалось красильное заведение Василия Каширина. Максим Пешков познакомился с дочерью Каширина, Варварой Васильевной. Молодые люди понравились и полюбились друг другу. Но о том, чтобы жениться, Максиму и думать было нельзя. Старик Каширин сам из бурлаков вышел, но, разбогатевши, кичиться стал. А после того как в малярном цехе старшиной сделался да шляпу с позументом и мундир получил, так и совсем загордился. «Выдам — говорит, — дочь за дворянина, за барина».
Но Максим был человеком упорным. Он перемахнул раз через забор к красильщику, чтобы его не увидел хозяин, да и явился прямо к матери Варвары Васильевны — Акулине Ивановне Кашириной, явился как был на работе в мастерской, — босой, без шапки, на длинных волосах — ремешок, чтобы волосы работать не мешали. Поклонился ей в ноги и просит помочь в трудном деле. Акулина Ивановна так и обомлела, — уж очень сердит и страшен был красильщик, — но видит: не отступится от своего Максим, и будет беда. Тогда и уговорились, что поможет она им уехать из дому венчаться тайком. Да узнал об этом мастер один, не любил он Максима, — и не успели еще сладить дело, донес он обо всем Каширину. Взревел старик, мечется по двору, как огнем охвачен, созвал сыновей да мастера этого, да кучера, взяли ружье, кистень, гирю на ремешке — и в погоню за Варварой и Максимом. Но догадалась Акулина Ивановна, незаметно подрезала гужи у оглобель, они дорогой и лопнули. Задержалась погоня, запоздала. Но бежавших все-таки разыскали. Пошли на Максима с боем, а у него сила была редкая, раскидал всех, да и говорит красильщику:
— Я — человек смирный, а что взял, то никому у меня не отнять, и больше мне ничего от тебя не надо.
Старик отступился, а после и вовсе примирился. Да и то сказать: хорош был Максим, добрый и разумный человек. А когда родился у Пешковых сын Алексей, то и жить стали все вместе.
Но не взлюбили Максима сыновья красильщика, братья Каширины, Яков и Михаил. Жадные они были до денег, все думалось им, что сестра их Варвара потребует себе часть наследства и будет им убыток. А тут еще Максим подшутил над ними. Был морозный год, стали заходить волки с поля, забоялись люди, а Максим сам к волкам идет. Возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле; глядишь — одного притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза, — хорошо выходило! Вот пошел раз ночью Михайло в сени, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! А Максим смеется: больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Шутки — шутками, а отдалось все это ему чуть не гибелью. Михайло обидчивый был, злопамятный, подговорил брата Якова извести Максима.
Шли они в начале зимы из гостей и заманили Максима на пруд, будто покататься по льду — на ногах, как мальчишки катаются; заманили да и столкнули его в прорубь. Он вынырнул, схватился руками за край, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные; он вытянулся подо льдом, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали в голову ему ледяшки и ушли, — дескать, сам потонет! А он вылез да бегом домой. Узнала и полиция, да только ничего ей Максим не сказал, скрыл, — сам, говорит, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Тогда старик Каширин пришел к Максиму и говорит:
— Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в дом привела!
Прислал и сыновей прощенья просить. Максим и говорит им:
— Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?
А потом к Акулине Ивановне:
— Эх, мама, — говорит, — едем с нами в другие города, скушновато здесь!
И вышло скоро Пешковым ехать в Астрахань. Готовились там к празднику, и Максиму, как хорошему мастеру, заказали строить ворота с украшениями.
Астрахань — пестрый город. Живут там и татары, и армяне, и персы, живут плохо, бедно и грязно. А болезни частыми гостями приходят с Востока.
Алеша, которому тогда было пять лет, заболел холерой. Во время болезни отец весело возился с ним, усердно ухаживал за больным сыном, а потом сам заболел и умер.
А незадолго перед тем он катал Алешу на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал Алешу коленями и крикнул:
— Ничего, не бойся, Лук!
В доме деда
После смерти отца приехала в Астрахань бабушка, Акулина Ивановна, и увезла Алешу и его мать на родину, в Нижний. В маленькой каюте парохода, взобравшись на узлы и сундуки, смотрел Алеша в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно лилась мутная, пенная вода. Когда она, вскидываясь, лизала стекло, Алеша каждый раз спрыгивал на пол. — Не бойся, — говорила бабушка и, легко приподняв его мягкими руками, снова ставила на узлы. Алеша знал, что бояться нечего, но не мог удержаться, — так неожиданно вода кидалась на него. Бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом, была вся какая-то черная, мягкая и казалась Алеше удивительно интересной. Говорила она ласково, весело и складно, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. На палубе бабушка совсем расхлопоталась. — Ты гляди, как хорошо-то! — говорила она, переходя от борта к борту и шумно радуясь, словно сама была не больше своего внука. Было в самом деле хорошо. Погода была славная, небо ясно, берега точно шиты зеленым шелком, а по берегам — города и села, похожие издали на пряничные. Хороши были и сказки бабушкины, что рассказывала она Алеше во время долгого путешествия. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней. Алеша слушает и просит: — Еще! — А еще вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!» Подняв ногу, бабушка хватается за нее руками, качает ее на весу, смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы — бородатые ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят: — А ну, бабушка, расскажи еще чего! Потом говорят: — Айда ужинать с нами! Ужинать с ними было очень весело. Сами они пили водку, Алешу же угощали арбузом и дыней. Когда приехали в Нижний, к борту парохода подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. Это был дедушка. Он быстро вертелся, поворачиваясь то к тому, то к другому, и не просто говорил, а кричал, взвизгивая и прибавляя: — Эх, вы-и… И когда до Алеши доносился этот долгий звук «и-и», ему становилось как-то зябко и скучно. Позади деда молча шли дядья Михаил и Яков. У обоих были мальчишки-сыновья, и обоих сыновей звали Сашами. Бабушка толкала Алешу вперед, чтобы со всеми здоровался да кланялся бы. А он и вовсе растерялся. Съехали с парохода и пошли толпой по улице, мощенной крупным булыжником. И взрослые, и дети не понравились Алеше.
Взрослые были какие-то серые и скучные, дети — тихие и пугливые.
Зато двор дома, где жил дед, был удивительный: весь завешен огромными мокрыми тряпками, всюду стояли чаны с густой разноцветной водою. В этой воде тоже мокли тряпки. Тут же стояла печь, в ней жарко горели дрова и что-то кипело, булькало, а человек с высокой лысой головой и в темных очках громко говорил странные слова:
— Сандал — фуксин — купорос…
Это была красильня. В заведение деда приносили материи и платья, их распарывали по швам и бросали в кипящие котлы. Работали дед, дядья Михаил и Яков и два работника. Один из них — Григорий Иванович — плешивый, бородатый, в темных очках, с большими ушами. Когда он сидел около котлов или мешал кипящую краску среди белых клубов пара, он похож был на доброго колдуна. Другим работником был молодой широкоплечий парень Иван, по прозвищу Цыганок, черный, как большой жук, весельчак и плясун.
По субботам, когда дед уходил в церковь, в кухне начиналась неописуемо-забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал упряжь, вырезал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, кричал:
— За архиреем поехали!
Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объявлял:
— Мешок забыли. Монах бежит, тащит! Их ты!
Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, похлопывая ладонями:
— Дьячок из кабака к вечерне идет!
Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз.
Но особенно хорошо бьвало по праздникам, когда на кухню приходил дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с закуской; волчком вертелся Цыганок; тихо, боком приходил мастер Григорий, сверкая темными стеклами очков.
Дядя Яков настраивал гитару и играл какую-то заунывную песню. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Бабушка слушала, вздыхая. Неподвижно сидел Григорий Иванович, опустив длинную бороду и поблескивая очками. Алеша сидел зачарованный, а когда песня становилась уж очень грустной, буйно плакал в невыразимой тоске. По-особому слушал Саша Михайлов — сын дяди Михаила: он весь вытягивался в сторону играющего, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он даже падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, упав, так и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. А Цыганок, слушая музыку, запускал пальцы в свои черные космы и иногда неожиданно и жалобно восклицал:
— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!
Но, бывало, дядя Яков вдруг оборвет свою музыку, ударит по струнам и закричит:
— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!
Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:
— Только почаще, Яков Васильич!
Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.
Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…
— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.
Цыганок шел поперек, а музыкант пронзительно свистел и выкрикивал:
И взрослые, и дети не понравились Алеше.
Взрослые были какие-то серые и скучные, дети — тихие и пугливые.
Зато двор дома, где жил дед, был удивительный: весь завешен огромными мокрыми тряпками, всюду стояли чаны с густой разноцветной водою. В этой воде тоже мокли тряпки. Тут же стояла печь, в ней жарко горели дрова и что-то кипело, булькало, а человек с высокой лысой головой и в темных очках громко говорил странные слова:
— Сандал — фуксин — купорос…
Это была красильня. В заведение деда приносили материи и платья, их распарывали по швам и бросали в кипящие котлы. Работали дед, дядья Михаил и Яков и два работника. Один из них — Григорий Иванович — плешивый, бородатый, в темных очках, с большими ушами. Когда он сидел около котлов или мешал кипящую краску среди белых клубов пара, он похож был на доброго колдуна. Другим работником был молодой широкоплечий парень Иван, по прозвищу Цыганок, черный, как большой жук, весельчак и плясун.
По субботам, когда дед уходил в церковь, в кухне начиналась неописуемо-забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал упряжь, вырезал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, кричал:
— За архиреем поехали!
Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объявлял:
— Мешок забыли. Монах бежит, тащит! Их ты!
Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, похлопывая ладонями:
— Дьячок из кабака к вечерне идет!
Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз.
Но особенно хорошо бьвало по праздникам, когда на кухню приходил дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с закуской; волчком вертелся Цыганок; тихо, боком приходил мастер Григорий, сверкая темными стеклами очков.
Дядя Яков настраивал гитару и играл какую-то заунывную песню. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Бабушка слушала, вздыхая. Неподвижно сидел Григорий Иванович, опустив длинную бороду и поблескивая очками. Алеша сидел зачарованный, а когда песня становилась уж очень грустной, буйно плакал в невыразимой тоске. По-особому слушал Саша Михайлов — сын дяди Михаила: он весь вытягивался в сторону играющего, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он даже падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, упав, так и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. А Цыганок, слушая музыку, запускал пальцы в свои черные космы и иногда неожиданно и жалобно восклицал:
— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!
Но, бывало, дядя Яков вдруг оборвет свою музыку, ударит по струнам и закричит:
— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!
Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:
— Только почаще, Яков Васильич!
Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.
Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…
— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.
Цыганок шел поперек, а музыкант пронзительно свистел и выкрикивал:
История с синей скатертью
Вечером, от чая до ужина, дядья и работники сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. В это время дядья Михаил и Яков, «неумное племя», как их называла бабушка, всегда устраивали безобидному и смирному мастеру Григорию что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или подложат ему, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьет их в одну «штуку», а дед ругает его за это. Однажды, когда Григорий спал после обеда, ему накрасили лицо красным, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да, когда ему было больно, на его большом лице появлялась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе. Бабушка сердилась на дядьев, грозила им кулаком и кричала: — Бесстыжие рожи, злыдни! Дядья не унимались, — однажды дядя Михаил велел своему племяннику, Саше Яковову, накалить на огне наперсток мастера Григория. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в это время пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток Сильно обжегшись, он схватился за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: — Чье дело, басурмане? Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали на его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. — Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил. — Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу Саша Яковов плакал и кричал ему: — Папа, не верь. Он сам меня научил! Дело грозило строгим наказанием. Все говорили — виноват дядя Михаил. Алеша уже знал, что дед каждую субботу на кухне сечет детей, провинившихся за неделю. За чаем он спросил, будут ли дядю Михаила сечь. Все засмеялись, а дядя Михаил рассвирепел, ударил по столу кулаком и обещал проучить племянника. И подговорил он Сашу Яковова подбить Алешу на какое-нибудь озорство. А Саше и самому очень хотелось из беды вылезти, да на другого свалить. И вышел случай. Алешу очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой», полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно. Захотелось самому окрасить что-нибудь, а Саша Яковов тут как тут. Ласково посоветовал он ему взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. — Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно. Алеша вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на него налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее своими широкими лапами, крикнул Саше, следившему из сеней за Алешиной работой: — Зови бабаню скорее! И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал Алеше: — Ну, и попадет же тебе за это! Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая Алешу: — Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло! Потом стала уговаривать Цыганка: — Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то. Уж я спрячу дело; авось, обойдется как-нибудь… Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые губы разноцветным передником: — Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы! — Я ему пятак дам, — сказала бабушка, уводя Алешу в дом. Как секут детей, Алеша никогда не видел, и дед, зло подмигивая глазом и тряся рыжей бородкой, уже не раз обещал ему показать это. В субботу привели его в кухню. Было темно и тихо. На широкой скамье сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок. Дед, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: — Ра-ад… мучитель… Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. Их тоже привели смотреть на порку. Саша Яковов сидел на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: — Простите Христа ради… — Высеку — прощу, — сказал дед, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!.. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у Алеши тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда Саша покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток. — Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут… Раз!.. Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. — Врешь. — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней! И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а Саша протяжно завыл. — Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток! Когда он взмахивал рукой, в груди у Алеши все поднималось вместе с нею; падала рука — и он весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно: — Не буду-у… Ведь я же сказал про скатерть… Ведь я сказал… Спокойно, точно книгу читая, дед говорил: — Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть! Как только бабушка услышала слово «скатерть», она кинулась к Алексею и схватила его на руки, закричав: — Лексея не дам! Не дам, изверг! Она стала бить ногою дверь, призывая на помощь Алешину мать: — Варя! Варвара! Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил Алексея и понес к лавке. Алеша бился в руках деда, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Дед орал, тискал его и наконец бросил на лавку, разбив ему лицо. — Привязывай! — кричал он. — Убью!Посетители
Дед засек Алешу до потери сознания, и несколько дней он хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дед и сел на кровать. — Здравствуй, сударь… Да ты ответь, не сердись!.. Алеше хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Дед казался еще более рыжим, чем раньше. Голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, перед носом Алеши. — Вот, видишь, я тебе гостинца принес! Потом заговорил, тихо поглаживая голову внука маленькой жесткой рукой, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях: — Я тебя тогда перетово́, брат… Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зачет пойдет! Эх! Ты думаешь — меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! И, привалившись сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях да о том, как в молодости бурлаком ходил. Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил Алеше в лицо: — Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, а я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эх-ма, Олёша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила начисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи верст! Говорил он и — словно рос в глазах Алеши, рос быстро, как облако, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу… Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил: — Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим бывалоче костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни! Несколько раз в дверь заглядывали, звали деда, но Алеша просил: — Не уходи! Дед, усмехаясь, отмахивался от людей: — Погодите, там… Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, то Алеша знал, что дед не злой и не страшный. Ему до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил его. Но и забыть об этом Алеша не мог. Кубарем вкатился Цыганок, широкогрудый, с огромной кудрявой головой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. — Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая Алеше голую руку до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! — Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу — запорет он тебя, так начал я руку ему подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, — гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывал вспухшую руку и, смеясь, говорил:
— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…
Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда.
— Я тебя очень люблю, — сказал Алеша.
— Так ведь и я тебя тоже люблю, — ответил он просто, — за то и боль принял: за любовь! Али я стал бы за другого за кого!? Наплевать мне…
Потом он стал тихонько учить Алешу, часто оглядываясь на дверь:
— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!
Алеша спросил:
— Разве еще сечь будут?
— А как же? — серьезно сказал Цыганок. — Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть.
— За что?
— Строптив очень, поперек слова норовишь сказать…
И снова озабоченно стал учить:
— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!
Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:
— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть рукавицы шей!
— Маленьких всегда бьют?
— Всегда, — спокойно ответил Цыганок, потом ласково обхватил Алешу и приподнял на руках.
— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, — силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Пошли бы мы с тобою… Эх! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый, — добавил он смеясь.
И вдруг, стиснув Алешу крепко, он почти застонал:
— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ…
Пришел раз и мастер Григорий. Алеша спросил, за что дядья его обижают.
— За что? А они, поди, и сами не знают. Дядя Яков-то жену насмерть забил, замучил, а дядя Михаил и сейчас жену бьет; дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Может, и за то бьет, что лучше она его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего сживали. Она всё скажет: она неправду не любит. Она вроде святой. Ты держись за нее крепко. А людей не бойся! — добавил он, помолчав. — Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже — отстанет. Понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!
Алеша смотрел на мастера, и казалось ему, что тот из-под очков видит все насквозь.
— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая Алеше голую руку до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! — Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу — запорет он тебя, так начал я руку ему подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, — гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывал вспухшую руку и, смеясь, говорил:
— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…
Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда.
— Я тебя очень люблю, — сказал Алеша.
— Так ведь и я тебя тоже люблю, — ответил он просто, — за то и боль принял: за любовь! Али я стал бы за другого за кого!? Наплевать мне…
Потом он стал тихонько учить Алешу, часто оглядываясь на дверь:
— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!
Алеша спросил:
— Разве еще сечь будут?
— А как же? — серьезно сказал Цыганок. — Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть.
— За что?
— Строптив очень, поперек слова норовишь сказать…
И снова озабоченно стал учить:
— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!
Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:
— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть рукавицы шей!
— Маленьких всегда бьют?
— Всегда, — спокойно ответил Цыганок, потом ласково обхватил Алешу и приподнял на руках.
— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, — силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Пошли бы мы с тобою… Эх! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый, — добавил он смеясь.
И вдруг, стиснув Алешу крепко, он почти застонал:
— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ…
Пришел раз и мастер Григорий. Алеша спросил, за что дядья его обижают.
— За что? А они, поди, и сами не знают. Дядя Яков-то жену насмерть забил, замучил, а дядя Михаил и сейчас жену бьет; дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Может, и за то бьет, что лучше она его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего сживали. Она всё скажет: она неправду не любит. Она вроде святой. Ты держись за нее крепко. А людей не бойся! — добавил он, помолчав. — Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже — отстанет. Понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!
Алеша смотрел на мастера, и казалось ему, что тот из-под очков видит все насквозь.
Пожар
Однажды вечером, когда Алеша уже лежал в кровати, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом крикнул бабушке: — Ну, мать, посетил нас господь, — горим! — Да что ты! — крикнула бабушка, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. Слышно было, как бабушка строгим, крепким голосом командовала, а дед тихонько выл: — И-и-ы… Алеша выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и тоже выл со страха. — Поворачивайся, ты! — крикнула бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красные широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, Алеша вышел в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, накрывшись попоной, она бежала прямо к огню и сунулась в него, вскрикивая: — Купорос, дураки! Взорвет купорос… — Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала… Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. — Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно?.. Григорий сорвал с ее плеч тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя Яков прыгал около него с топором в руках; дед бегал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: — Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней! Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дед выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: — Мать, держи! Бабушка бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал и потянулся к ней, косясь на пламя. — А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох, ты, мышонок… Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и кричала деду: — Василий Васильич, Лексея нет!.. Услышав это, Алеша быстро спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и его. Крыша мастерской уже провалилась; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопом выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром и кидавших в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы с красками, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Алеша выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке. — Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди… На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя: — Раздайсь! Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично-красиво. Алеша онемел от восторга. Бабушка сердито и сильно толкнула его на крыльцо. — Я кому говорю? Уйди! Нельзя было не послушать ее в этот час. Алеша ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не было видно огня, — только медные шлемы сверкали среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. — Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уже кончилось… Села рядом и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил: — Мать? — Ой? — Обожглась? — Ничего. Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой. — Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. — Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает… Бабушка усмехнулась и ушла, держа руки перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на Алешу, тихо спросил: — Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь… Бита, ломана… То-то же! Эх, вы-и… Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил: — Боялся ты? — Нет. — И нечего бояться… Дед ушел, а Алеша забился на печь и задремал. Проснулся он от пьяных криков дяди Михаила. Тот проспал весь пожар, а теперь вылез на кухню, сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. Алеша слез с печи, но, когда поравнялся с дядей, тот поймал его за ногу, дернул, и Алеша упал, ударившись затылком. — Дурак, — сказал Алеша. Дядя вскочил на ноги, снова схватил его и взревел, размахнувшись им: — Расшибу об печку… Очнулся Алеша в кровати. Было жарко, душил густой, тяжелый запах; в голове или сердце росла какая-то опухоль… Дверь очень медленно открылась, в комнату вошла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку лампадки, тихо, по-детски жалобно сказала: — Рученьки мои, рученьки больно…Ученый скворец
После пожара дед купил новый дом с садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка. — Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув Алеше. — Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они сгодятся… И однажды больной, сидя на постели, без рубахи, кашляя и отирая длинным полотенцем пот, дед достал откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал внука: — Ну-ка ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что? — Буки. — Попал! Это? — Веди. — Врешь — аз! Гляди: глаголь, добро, есть — это что? — Добро. — Попал! Это? — Глаголь. — Верно! А это? — Аз. Вступилась бабушка: — Лежал бы ты, отец, смирно… — Стой, молчи! Валяй, Лексей! Он обнял Алешу за шею горячей, влажной рукою и через плечо его тыкал пальцем в буквы, держа книжку под самым его носом. От деда жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, Алеша почти задыхался, а тот, приходя в ярость, хрипел и кричал ему в ухо: — Земля! Люди! Слова были знакомы Алеше, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Дед долго гонял его по всему алфавиту, заразил его своей горячей яростью, Алеша тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило деда; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел: — Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего? — Это вы кричите… Алеше было весело смотреть на него и на бабушку: она, облокотись о стол, упираясь кулаком в щеку, смотрела на ученье и негромко смеялась, говоря: — Да будет вам надрываться-то! Дед объяснял Алеше дружески: — Я кричу потому, что я нездоровый, а ты чего? И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою: — А память у него лошадиная! Вали дальше, курнос! Наконец он шутливо столкнул его с кровати. — Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак… Вскоре Алеша уже читал по складам Псалтирь. Каждый день после вечернего чая он должен был прочитать псалом. Читал он так: — Буки, люди, аз — бла; живете, есть — же; блаже; блаже, наш — блажен. Книга была скучная. Деду было тоже скучно, но он каждый вечер, молясь перед сном, читал из нее наизусть. — А скушно, поди-ка, богу слушать-то тебя, отец, — сказала однажды бабушка: — всегда ты твердишь одно да все то же. Дед побагровел от ярости, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке: — Вон!.. По утрам дед тоже долго и скучно молился. Перед тем как стать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, как гвоздь, внушительно говорил: — Во имя отца и сына и святого духа! Казалось, что после этих слов даже мухи в комнате жужжали осторожнее. Дед стоял, вздернув голову; брови приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно. — Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся… И нешибко бил себя в грудь кулаком. Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом, — есть хочется! Бабушка и Алеша ждут у накрытого стола, когда дед кончит. А тот все молится, качается и взвизгивает: — Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен! Алеша знал напамять все молитвы и следил, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово? Ошибки деда возбуждали у него веселость. Кончив молиться, дед говорил Алеше и бабушке: — Здравствуйте! Те кланялись, и тогда все садились за стол. Тут Алеша говорил деду: — А ты сегодня «довлеет» пропустил! — Врешь? — беспокойно и недоверчиво спрашивал он. — Уж пропустил! Надо: «но та вера моя да довлеет вместе всех», а ты и не сказал «довлеет». — На-ка вот! — восклицал дед, виновато моргая глазами. И после со зла, придравшись к чему-нибудь, сек Алешу за такие указания. Но тот подстерегал его снова на ошибках, и тогда все начиналось с начала.Однажды бабушка отняла у кота пойманного им скворца, обрезала сломанное крыло, а на место откусанной ноги ловко пристроила деревяжку и, вылечив птицу, стала ее учить. Стоит перед клеткой и твердит: — Ну, проси: скворушке — кашки! Скворец, черный, как уголь, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяжкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему. — Да ты не балуй! — серьезно говорит ему бабушка. — Ты говори: скворушке — кашки! Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки, — старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит: — Я тебя, шельму, знаю: притворяшка ты, — все можешь, все умеешь! И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на: — Дра-астуй… А после скворец сам уже выучился дразнить деда. Дед станет перед образом, внятно произнося слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает: — Ть-ю, ть-ю, ть-ю-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тыо-уу! Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо: — Убери его, дьявола, убью! Так и прогнали скворца.
Новые знакомства
Товарищей у Алеши не заводилось. Его возмущали жестокие забавы соседских ребятишек. Он не мог терпеть, когда стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли коз или издевались над пьяными нищими, и всегда вмешивался в дело, разгоняя ребят. Те отвечали ему враждой и не упускали случая напасть на него кучей. Кроме того, ему не нравилось, когда его называли Кашириным, по фамилии деда. Ребята это подметили, и, как только Алеша появлялся на улице, они кричали: — Кащея Каширина внучонок вышел, глядите! — Валяй его! И начиналась драка. Алеша был силен и ловок, ему весело было отбиваться одному против многих, но в конце концов улица всегда била его, и домой он приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли. Бабушка встречала его испуганно, и соболезнуя и сердясь: — Что, редькин сын, опять дрался? Да что ж это такое, а? Как я тебя начну с руки на руку… Дед, видя синяки, только крякал и мычал: — Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь! Но и в саду было много интересного. Через щели забора виден был Алеше соседский двор. По двору иногда прохаживался высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали как иголки. Иногда из конюшни выводили к нему серую длинноголовую лошадь: узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Старик звонко шлепал ее ладонью, — свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. Алеше казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может — заколдован. Почти каждый день на дворе играли трое мальчиков — одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что Алеша различал их только по росту. Ему нравилось, что они так хорошо, весело и дружно играли в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не обидно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колени, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил: — Вот ус неуклюзый!.. Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды Алеша влез на дерево и свистнул им, — они остановились там, где застал их свист, затем сошлись не торопясь и, поглядывая на незнакомого мальчика, стали о чем-то тихонько совещаться. Алеша подумал, что они станут швырять в него камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево. Но мальчики уже играли далеко в углу двора и, видимо, забыли о нем. Ему стало грустно, начинать драться первому не хотелось. Много раз он сидел на дереве, ожидая, что они позовут его играть с ними, — а они не звали. Иногда им кричали в форточку. — Дети, марш домой! И они шли не торопясь и покорно, точно гуси. Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он стал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие сани под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца не зная, куда девать себя. — Раз! — кричал старший. — Два!.. Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Алеша обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но тотчас же понял, что может произойти, и соскочил с дерева прямо во двор к ним, крича: — Упал в колодезь!.. Средний мальчик подбежал к срубу в одно время с Алешей, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но Алеша уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший; помогая ему вытягивать бадью, он сказал: — Тихонько, пожалуйста!.. Маленького быстро вытянули, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже была сильно ссажена, по пояс был он мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул: — Ка-ак я па-да-ал… — Ты с ума сосол, вот сто, — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил: — Идем, все равно не скроешь… — Вас будут бить? — спросил Алеша. Мальчик кивнул головой, потом сказал, протянув ему руку: — Ты очень быстро прибежал! Обрадованный похвалой, Алеша не успел взять его руку, как тот уже снова говорил среднему брату: — Идем — он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь — не надо! — Да, не надо, — согласился младший, вздрагивая. — Это я упал в лужу, да? Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда Алешавзглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист… С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидел Алешу на дереве, он крикнул ласково: — Иди к нам! Забрались все вместе под навес амбара в старые сани и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. Вдруг явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке. — Это кто такой? — спросил он, указывая на Алешу пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головой на дедов дом. — Он — оттуда… — Кто его звал? Мальчики все сразу, молча вылезли из саней и пошли домой, снова напомнив Алеше покорных гусей. Старик крепко взял Алешу за плечо и повел по двору к воротам. Алеше хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что Алеша не успел заплакать, как уже очутился на улице, а старик, остановясь в калитке, погрозил ему пальцем и сказал: — Не смей ходить ко мне! Алеша рассердился. — Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт! Длинной рукою своей старик снова схватил Алешу и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по его голове: — Твой дед дома? На беду дед оказался дома. Он стоял перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза старика, тусклые и круглые, как копейки: — Мать у него — в отъезде, я человек занятый, глядеть за ним некому, — уж вы простите, полковник! Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. В этот день дед ссобенно яростно сек Алешу.В школе
Дядя Михайло, отец Саши Михайлова, после смерти первой жены женился во второй раз. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. Алешу и Сашу вместе отдали в школу. Прежде всего Алешу стали учить, что на вопрос: «как твоя фамилия?» нельзя ответить просто: «Пешков», а надобно сказать: «моя фамилия — Пешков». А также нельзя сказать учителю: — Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь… Алеше школа сразу не понравилась, а Саша первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне: — Не буду-у!.. Когда его разбудили, он попросился вон из класса, и был жестоко осмеян за все это. На другой день, по дороге в школу, спустясь в овраг на Сенной площади, Саша остановился и сказал Алеше: — Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду. Он присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный день, всюду сверкало солнце. Алеша позавидовал брату, но скрепя сердце пошел учиться, — не хотелось огорчить бабушку. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду… Обоих мальчиков привлекли к суду, — в кухне за столом, допрашивая виновных, сидели дед и бабушка. Саша смешно отвечал на вопросы деда: — Как же это ты не попадаешь в училище-то? Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша: — Забыл, где оно. — Забыл? — Да. Искал-искал… — Ты бы за Лексеем шел, он помнит! — Я его потерял. — Лексея? — Да. — Это как же? Саша подумал и сказал, вздохнув: — Метель была, ничего не видно. Дед и бабушка рассмеялись, — погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка, ехидно говорил, оскалив зубы: — Ты бы за руку его держал, за пояс! — Я держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Алеше было неловко слушать, эту ненужную, нескладную ложь, и он очень удивлялся упрямству Саши. Обоих выпороли и наняли им провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, — он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не-помогло: на другой же день Саша, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил его в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел Алешу домой. Целый день дед и бабушка ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и далее не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал с Алешей на полатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил: — Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, — что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, — тогда вы все узнаете… Бежим вместе? Алеша не мог бежать с ним: он надумал другое — он решил быть офицером с большой светлой бородой, — такой офицер жил по соседству, — а для этого необходимо было учиться. Когда Алеша рассказал брату план, тот, подумав, согласился: — Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать. — И я тебя тоже. На этом и порешили.Книга о Робинзоне
Сашу оставили в покое и отправили опять к своим. Алешу же отправили к матери, и та взяла с него слово, что он будет прилежно и хорошо учиться. Правду говоря, это было лишнее, потому что учиться Алеша был не прочь, и в истории с Сашей он-то пострадал совершенно напрасно. Однако новая школа встретила его неприветливо. Алеша пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск». Все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху он получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками он скоро, впрочем, поладил, но учитель и поп не взлюбили его. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей и разглядывал ее, качая головой. Несколько дней Алеша сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, — это было для него нестерпимо. Учитель гнусил все время: — Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а! Алеша платил ему за эту канитель озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел Алешу с запиской учителя домой, и он порядком поплатился за, свою шалость. Другой раз он насыпал учителю в ящик стола нюхательного табаку; учитель так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Ах, ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Поп не взлюбил Алешу за то, что у него не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что он передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, поп первым делом спрашивал: — Пешков, книгу принес или нет? Да. Книгу? Алеша отвечал: — Нет. Не принес. Да. — Что — да? — Нет. — Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен. В конце концов купить «Священную историю» оказалось необходимым. Придя домой и не застав матери, Алеша нашел у ней рубль и, идя на базар, сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, он узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день во время перемены, он рассказывал мальчикам сказку, как вдруг один из них презрительно заметил: — Сказки — чушь, а вот — Робинзон, это настоящая история! Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, и Алеша тогда же решил прочесть книгу о Робинзоне. Робинзона, однако, он в книжной лавочке не нашел, зато, кроме «Священной истории», принес в школу два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. Решив доказать мальчикам, что сказки тоже не чушь, он зазвал их домой, разделил с ними хлеб и колбасу и начал читать первую сказку «Соловей». «В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец». Это всем понравилось. Но в ту же минуту явилась домой мать и спросила Алешу: — Ты взял рубль? — Взял. Вот — книги… Мать, не говоря ни слова, взяла сковородник, мальчики разбежались, а Алеша весьма основательно был побит. Потом вечером мать пришла к нему за печку, обняла его и, тихо плача, говорила: — Прости, я виновата! Но мы бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка… — и не договорила. Помирились с матерью, но пришел отчим, второй муж матери, узнал про рубль, страшно рассердился, затопал ногами и закричал, что не хочет, чтобы у него в доме жил вор. Это было уже совсем глупо, — ведь Алеша не скрыл, что рубль он взял на покупку книг. Он перебрался опять к деду.Снова у деда
— Что, разбойник? — встретил дед Алешу, стуча рукой по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит! — И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь! — Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив Алеше: — Мы с ней совсем разделились, у нас теперь все порознь… Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева. Весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, — неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрели подозрительно. Бабушка рассказала Алеше, что дед разорился дотла. Дал барину одному все свои деньги, а барин обанкротился, и все деньги пропали. Посмеиваясь, бабушка рассказала и о разделе имущества между нею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал: — Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай! А от нее отобрал все ее вещи, продал и деньги отдал под проценты. Он окончательно заболел скупостью и стал неописуемо жаден. Все в доме строго делилось; один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку, легкие, сычуг. Не доверяя бабушке, дед и стряпал сам. При этом, возясь в углу между печью и окном, постоянно выбивал стекла из окна концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у деда что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал: — Господи, господи… Днем, когда он ушел, Алеша взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидев его работу, начал ругаться: — Бес проклятый, — пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя! И, махая руками, возбужденный, он выбежал в сени. Чай и сахар у деда и у бабушки хранились отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил: — Постой, погоди, — ты сколько положила? Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: — У тебя чай-от мельче моего, значит — я должен положить меньше: мой крупнее, наваристее. Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек. — По последней, что ли? — спрашивала она, перед тем как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: — Ну, уж — по последней! Алеше было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно. — А ты — полно! — успокаивала она Алешу. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отша-гай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе заработаю кусок, не бойсь! Начал зарабатывать деньги и Алеша: по праздникам, рано утром, он брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восьми копеек. Занимался он этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у него деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала его, опустив глаза: — Вот и спасибо-те, голуба-душа! Мы-то с тобой да не прокормимся, — мы? Велико дело! Однажды Алеша подсмотрел, как она, держа на ладони его пятаки, глядела на них и молча плакала. В школе ученики высмеивали Алешу, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от Алеши пахнет помойной ямой и что нельзя сидеть рядом с ним. Жалоба была выдумана со зла: Алеша очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Не хотелось ему ходить в школу после этого, но, к счастью, наступили каникулы, школьников распустили. Алеша получил в награду Евангелие и басни Крылова в переплете, да еще похвальный лист «За отличные успехи в науках». Когда он принес эти подарки домой, дед очень обрадовался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал: — Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх, вы-и… Алеша отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями, и тогда уже вручил деду. Тот бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив озорства…На улице
Разделавшись со школой, Алеша зажил на улице. Приближалась весна, заработок стал обильнее, и подобралась у Алеши дружная ватага товарищей: десятилетний Вяхирь, сын нищей мордовки, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; все — люди с одной улицы. Больше других заработков мальчикам нравилось собирание костей и тряпок. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, после дождей, чисто омывших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко находились деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли и не отнимали мешков, нужно было или платить им пятаки, или долго кланяться им. Вообще деньги давались мальчикам не легко, но жили они очень дружно и хотя иногда ссорились немножко, но ни одной драки не было между ними. Общим примирителем был Вяхирь; он всегда умел во-время сказать какие-то особенные слова; простые, они удивляли и конфузили ссорящихся. Злые выходки не обижали, не пугали его, он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал: — Ну, зачем это еще? — спрашивал он, и все ясно видели — незачем! Вяхиря била мать, если он не приносил ей каждый день на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, — он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя — грузчик, утонувший вскоре по приезде в Нижний. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги. Мальчиков почему-то очень смешил этот город, они дразнили косоглазого татарчонка, распевая:Страхи
Всю весну мальчики сообща и дружно промышляли ветошничеством. Но к лету компания развалилась. Вяхирь помер от оспы, так и не довелось ему книжки читать. Хаби ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. А старшие мальчики, черноглазый Кострома да Чурка, все чаще стали ссориться. Особенно после того, как появилась на дворе хроменькая девочка Людмила. На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у нее были большие, серьезные, лицо худенькое, остроносое. Она приятно улыбалась, а когда здоровалась, три раза подряд кивала головой. И Чурке и Костроме хотелось отличиться перед ней. Во время игры тот или другой бежали похвастаться: — Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб? Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду. Раньше вся компания друзей старалась держаться во всех играх вместе, а теперь Алеша замечал, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях. Однажды Кострома; позорно проиграв Чурке партию, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал. Другой раз они подрались так, что их разливали водой как собак. Алеша видел, что теряет прежних товарищей, и это ему очень не нравилось. Отличаться и хвастаться перед Людмилой — все это он считал пустяками. Но случилось, что сам Алеша отличился, и не только перед Людмилой, а перед всей улицей. Произошло это так. Сидели у ворот: Алеша, Людмила, Чурка и Кострома. Подсела к ним соседская лавочница и стала рассказывать об охотнике Калинине, седеньком старичке с хитрыми глазами. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копье, трость и две кости. Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу. Может он это делать потому, что он колдун. — Ой, не говори о страшном! — просила Людмила. — Ну, что врешь? — сказал Кострома лавочнице. — Я сам видел, как зарывали гроб, сверху-то пустой поставили — просто камень, для памятника… А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали… — А если вру, — обиженно заговорила лавочница, — так пойди ночью на кладбище, переспи там! Подошел сын лавочницы Валёк, толстый, румяный парень, узнал, в чем дело, и сказал Костроме: — Пролежишь до света на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, струсишь — уши надеру, сколько хочу. Ну, пойдешь? Кострома покраснел и отошел за угол, делая вид, что чем-то занялся. Валёк самодовольно и торжествующе хохотал. — Давай рубль, пойду! — сказал вдруг Чурка. — А за двугривенный — трусишь? — выскочил вдруг из-за угла Кострома. И сказал Вальку: — Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только… — Ну, бери рубль! Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Валёк опять захохотал, а Людмила тревожно заговорила: — Ах, господи! хвастунишка какой… что же это? — Куда вам, трусы! — издевался Валёк. — А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята… Алеше было обидно слушать издевки этого сытого парня. Но еще обиднее было за товарища, стыдно было смотреть, как уходит Чурка съежившийся и пристыженный. Он вышел вперед и сказал Вальку: — Давай рубль, я пойду… Озадаченный Валёк стал пугать Алешу и посмеиваться, но тот стоял на своем. Пришлось Вальку отдавать рубль кому-нибудь на хранение до конца спора, но тут оказалась другая беда. Никто из подошедших баб не хотел брать рубля. — Глупости какие! — говорили они строго. — Разве можно детей подбивать на этакое… Алеша хотел было уже идти, не требуя денег, но тут подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а Алеше спокойно сказала: — Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет… Условие было такое: Алеша должен был до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Если он с испугу спрыгнет на землю, то проиграет. Алеша шел быстро. Ему хотелось поскорее начать и кончить все это. Его сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, он запутался в одеяле и упал. За оградой злорадно захохотали. Что-то ёкнуло в груди у Алеши, по коже спины пробежал неприятный холодок. Спотыкаясь, он дошел до черного гроба. Потом, закутавшись в одеяло, уселся на нем, подобрав ноги. Когда он шевелился, гробница поскрипывала, и песок под нею хрустел. Вдруг что-то ударило о землю сзади него раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но Алеша тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания, хотят испугать его. Потом Алешу стало клонить в сон; он свернулся калачиком и сказал себе: будь, что будет! В песке было много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и Алеше стало казаться, что он лежит на плотах и смотрит в воду. Вдруг почудилось: к самому лицу его подплывает подлещик. Вот он повертывается боком, стал похож на человечью щеку. Потом взглянул на Алешу круглым птичьим глазом и нырнул в глубину, колеблясь, как падающий лист клена. Больше ничего страшного Алеша в эту ночь не видел. Разбудила его бабушка. Стоя рядом с ним и стаскивая одеяло, она говорила: — Вставай! Не озяб ли? Ну, что, страшно? — Немножко, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори! — А почему молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, так и хвалиться нечем… Пошли домой, и дорогой она ласково говорила: — Все надо самому испытать, голуба-душа, все надо самому знать… Сам не поучишься — никто не научит… К вечеру Алеша стал героем улицы, все спрашивали его: — Да неужто не страшно? И когда он говорил: — Страшно! — они, качая головой, восклицали: — Ага! Вот видишь? Лавочница же громко и убежденно заявила: — Стало быть, врали, что Калинин встает. Кабы вставал, так разве уцелел бы мальчишка? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда… Людмила смотрела на Алешу с ласковым удивлением. Даже дед был, видимо, доволен им, все ухмылялся.В лесу
Нужда все больше давала себя знать, и Алеша решил заняться новым промыслом: ловлей птиц. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток. И вот, на рассвете, Алеша сидит в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи. Птицы смешат Алешу своими хитростями. Лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие вещи. Алеше немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, ему больше правится смотреть на них, но желание заработать деньги побеждает сожаление. Когда бабушка впервые продала пойманных им птиц за сорок копеек, это очень удивило ее. — Гляди-ка ты! Я думала — пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось! — Дешево еще продала… — Да ну? В базарные дни она продавала на рубль и более, и все удивлялась: как много можно заработать пустяками! — А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олёша! Но Алеша уж очень увлекся птицеловством. К тому же лес заставлял его забывать все огорчения и неприятности. После дня, проведенного в лесу, Алеша замечал, что слух и зрение его становились острее, память — более крепкой. А сколько интересного он узнал и увидел! Алеша стал почти каждый день просить бабушку: — Пойдем в лес! Она охотно соглашалась, и так они прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Бабушка никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала Алешу: — А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папортник? По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала Алеше беличьи дупла, он взлезал на дерево и находил гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнезде их было фунтов до десяти. Однажды Алеша провалился в глубокую яму, распоров себе суком бок и разодрав кожу на затылке. Он сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и со стыдом чувствовал, что сам не вылезет, а пугать криком бабушку ему было неловко. Пришлось, однако, позвать ее. Она живо вытащила его и, крестясь, говорила: — Слава те, господи! Ну ладно, что пустая берлога, а кабы там хозяин лежал? И заплакала сквозь смех. Оказывается, яма-то была не простая, а медвежья. Бабушка повела Алешу к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой и приложила каких-то листьев, утоливших боль. А то еще так было. Как-то вечером, набрав белых грибов, Алеша и бабушка, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а Алеша зашел за деревья — нет ли еще гриба? Вдруг слышит он ее голос и видит: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая поджарая собака.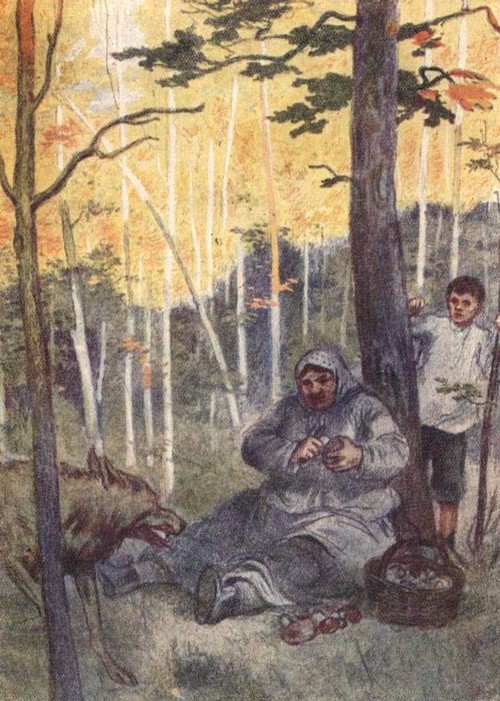 — А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!
Незадолго перед этим Валёк отравил Алешину собаку; Алеше очень захотелось приманить эту, новую. Но, когда он выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на него зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда Алеша свистнул, она дико бросилась в кусты.
— Видал? — улыбаясь спросила бабушка. — А я вначале обозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи да и шея тоже! Испугалась даже; ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…
Кончилось все же несчастьем. Однажды, когда Алеша вынимал на дереве из беличьего дупла орехи, какой-то охотник всадил Алеше в правый бок двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иголкой, а остальные сидели в его коже долгие годы, постепенно выходя.
Бабушке нравилось, что Алеша терпеливо относится к боли.
— Молодец, — хвалила она, — есть терпенье, будет и уменье!
— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!
Незадолго перед этим Валёк отравил Алешину собаку; Алеше очень захотелось приманить эту, новую. Но, когда он выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на него зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда Алеша свистнул, она дико бросилась в кусты.
— Видал? — улыбаясь спросила бабушка. — А я вначале обозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи да и шея тоже! Испугалась даже; ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…
Кончилось все же несчастьем. Однажды, когда Алеша вынимал на дереве из беличьего дупла орехи, какой-то охотник всадил Алеше в правый бок двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иголкой, а остальные сидели в его коже долгие годы, постепенно выходя.
Бабушке нравилось, что Алеша терпеливо относится к боли.
— Молодец, — хвалила она, — есть терпенье, будет и уменье!
Странный сундук
Привольная жизнь Алеши с бабушкой прервалась неожиданно. Однажды дед пришел из города мокрый весь, — была осень, и шли дожди, — встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал: — Ну, шалыган, завтра сбирайся на место! — Куда еще? — сердито спросила бабушка. — К Егоровне, в иконописную мастерскую. — Ох, отец, худо ты выдумал! — Молчи! — сказал дед. — Бросить ему пора пустые дела-то! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! А там, может, мастером его сделают. В мастерской жарко и душно, она тесно заставлена столами, за каждым столом сидит согнувшись иконописец, за иным по-двое. Работает около двадцати человек «богомазов». Все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, босые или в опорках. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом. С первых же дней Алеша заметил одну странность. Иконописцы писали не так, как случалось ему рисовать на бумаге, не целым рисунком, а по частям. Один мастер пишет только деревья, другой только одежду, третий только лицо и руки. Когда большие иконы стояли у стен неготовые, без лица, рук и ног, было неприятно на них смотреть. Да и самим мастерам работа была нестерпимо скучна, словно занимались они без конца одним и тем же смертельно надоевшим им делом. Впрочем, Алеше скучать да смотреть по сторонам было некогда. Утром его будил сердитый крик кухарки, и он шел ставить самовар для мастеров. После готовил посуду для чая, уставляя ее на длинном столе среди мастерской, и будил мастеров, а те ругали его и лягали ногами. Потом быстро убирал постели, мёл мастерскую и, выпив стакан холодного чая, доставал большую каменную плиту. На этой плите он растирал краски большим пирамидальным камнем. От тяжелого камня у него болели руки, плечи и спина. После обеда чистил пемзою доски, зашпаклеванные под иконы, и, кашляя и чихая, долго дышал тонкой меловой пылью… Но самым трудным делом была заготовка яичных желтков для красок (краски разводились на желтках). Осторожно разбив яйцо, нужно было слить желток в одну чашку, белок в другую. Когда Алеша портил яйцо, раздавив в нем желток, или сливал белок в чашку с желтками, он получал в награду звонкие подзатыльники, а старик-мастер замахивался огромной волосатой рукой и рычал: — Я т-тебя! У той же хозяйки служил и двоюродный брат Алеши, Саша Яковов. Только находился он не в мастерской, а в иконной лавке, на базаре. Саша Яковов по виду был тихий, ласковый, перед старшими выслуживался, но с Алешей был горд и не замечал его. Еще тогда, когда жили все вместе в красильне, дед, поглядывая на него искоса, говорил: — Экий подхалим! Саша гордился тем, что скоро будет вторым приказчиком и что уже теперь он носит рыженький сюртучок и брюки навыпуск. Постоянным врагом его была кухарка, женщина странная, — нельзя было понять, добрая она или злая. Лучше всего на свете люблю я бои, — говорила она, широко открыв черные горячие глаза. — Мне все едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики, — мне это все едино. По праздникам, вечерами, она говорила Алеше и Саше: — Што вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше! Саша сердился: — Я тебе, дура, не ребятишки, а второй приказчик! — Ну, этого я не вижу, — равнодушно говорила она и добавляла — Эх, ты, таракан, богова ошибка! Сердясь на кухарку, Саша уговаривал Алешу намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натыкать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней. Алеша смотрел на него немо, удивляясь его злобе. Однажды вечером, разобиженный кухаркой, Саша долго плакал, лежа в постели, а потом вдруг приподнял голову и спросил Алешу: — Хочешь, посмотрим мой сундук? У Саши был таинственный сундук, и Алеше давно хотелось узнать, что он туда прячет. Саша запирал его висячим замком и открывал всегда с каким-то особенным, загадочным видом. Алеша согласился, и мальчики сели на кровать, не спуская ног на пол. Саша тоном приказания велел поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на груди. Оглянув темные углы комнаты, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячей, и наконец приподнял ее. Сундук был до половины наполнен аптечными коробками и жестянками из-под ваксы и сардин. Алеша был изумлен до крайности. — Это что? — А вот увидишь… Он обнял сундук ногами и склонился над ним, тихонько напевая молитву: — Царю небесный… Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на Алешу, сказал: — Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки! — Дай мне посмотреть! — Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые… В коробке из-под ваксы лежало много разных пуговиц. Саша объяснял с гордостью: — Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж… В поисках тряпок и костей Алеша легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у него чувство разочарования, смущения и томительной жалости к этому чудаку. А тот разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопыривались, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным. — Зачем это тебе? — спросил Алеша. Саша мельком взглянул на Алешу сквозь оправу очков и спросил: — Хочешь, подарю что-нибудь? — Нет, не надо. Обиженный отказом, Саша помолчал минуту, потом тихонько сказал: — Возьми полотенце, перетрем всё, а то запылилось… Когда вещи были перетерты и уложены, Саша кувыркнулся в постель и, не оборачиваясь, сказал: — Погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку — ахнешь! Алеша промолчал, укладываясь спать.Колдун
Через несколько дней, в праздник, когда хозяева и мастера после обеда легли спать, Саша таинственно сказал: — Идем! Вышли в сад. Саша прошел в угол сада, остановился под липой, присел на корточки и разгреб руками кучу листьев. Обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Саша поднял их, под ними оказался кусок кровельного железа, под железом квадратная дощечка, и наконец открылась большая дыра, уходящая под корень. Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку, повозился там, потом сказал: — Гляди! Не бойся только… Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел и неприятно распустил губы. Страх его передался Алеше, тот очень осторожно заглянул в углубление под корнем и — что же увидел? Открылась довольно обширная пещера глубиною с ведро, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепками чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчевый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. Вокруг всего этого горели три восковые огарка в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет. Запах воска, теплой гнили и земли бил Алеше в лицо, и все это вызвало у него тягостное удивление и отвращение. — Хорошо? — спросил Саша. — Это зачем? — Часовня, — объяснил он. — Похоже? — Не знаю. — А воробей — покойник! Может, мощи будут из него, потому что он внезапно пострадавший мученик. — Ты его мертвым нашел? — Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил. — Зачем? — Так… Он заглянул Алеше в глаза и снова спросил: — Хорошо? — Нет. Тогда Саша наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил: — Почему не нравится? — Воробья жалко. Саша посмотрел неподвижными глазами, точно слепой, и, толкнув Алешу в грудь, крикнул: — Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится. У тебя, что ли, лучше было? Алеша вспомнил своих синиц и снегирей и ответил уверенно: — Конечно, лучше! Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, со злостью сказал: — Когда так, давай драться! Драться Алеше не хотелось, ему было скучно и неловко смотреть на озлобленное лицо брата. Саша наскочил, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на Алешу и закричал: — Жизни или смерти? Алеша был сильнее его и очень рассердился; через минуту Саша лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, Алеша стал было поднимать его, но он лежал неподвижно. Алеша отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил: — Что взял? Вот буду так валяться, покуда хозяйка не увидит, а тогда и пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят! Этот обман снова рассердил Алешу, он бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем, изрыл все внутри пещеры и затоптал ее ногами. — Вот тебе, видел? Он ожидал буйства и рева, но Саша отнесся ко всему этому странно: сидя на земле, он не двинулся с места, а когда Алеша кончил, не торопясь встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал: — Теперь увидишь, что будет, погоди немножко. Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага?.. Алеша так и присел от неожиданности. А Саша ушел, не оглянувшись, все с тем же зловещим спокойствием. На другой день утром кухарка, разбудив Алешу, закричала: — Батюшки! Что у тебя с рожей-то?.. «Началось колдовство!» с тревогой подумал Алеша. Кухарка заливчато хохотала, размахивая руками; Алеша бросился к зеркалу: лицо у него было густо вымазано сажей. — Это Саша? — А то я? — смешливо кричала кухарка. Алеша начал чистить обувь, сунул руку в башмак — в палец ему впилась булавка. — Вот оно, колдовство! Во всех сапогах, которые Алеша должен был чистить, оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались ему в ладонь. Что тут было делать? Алеша взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.Цирк
С этих пор Саша старался как можно больше делать ему неприятностей, кляузничал на него хозяйке, портил его работу. Алеша решил бежать от грубых и скучных богомазов, от толстой сварливой хозяйки, от попреков и подзатыльников, от всей этой нудной, дурацкой жизни. Его манила жизнь на воле, среди славных товарищей, интересных взрослых, манило в поле, в лес, на улицу, где скоро стает снег и повеет теплом. Но было еще холодно, бежать было некуда: домой ведь не придешь — дед рассвирепеет, и ничего хорошего не выйдет. Вскоре, однако, случилось событие, которое решило дело. Алешу послали к столяру за досками. Доски оказались еще не готовы. Возвращался он уже вечером по другой улице и, проходя мимо большой круглой постройки, остановился, привлеченный яркой афишей: КЛОУН ФРИЦ! НАЕЗДНИЦА КЛАРА! Незаметно для себя оказался он у дверей цирка и вместе с народом втолкнулся в деревянное, неуклюжее помещение. Какие-то люди в зеленой одежде с красными галунами отбирали билеты и указывали пальцем кому куда идти. Алеша решил, что самые важные люди должны быть наверху и что видно оттуда лучше всего. Но, протиснувшись наверх, он оказался сдавленным со всех сторон, и между ног каких-то бородатых людей и франтов с великим трудом пробрался к решетке. То, что увидел он, заставило его замереть на месте. Он стоял на галерее, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел на арену, где кувыркался ярко одетый клоун. Окутанное пышными складками розового и желтого атласа тело клоуна, гибкое как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимало различные позы: оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней… Потом клоун вновь извивался, кувыркался и прыгал, играя колпаком. При каждом его движении золотые блестки, нашитые на атласе, сверкали, как искры… — Фот тяк!.. — ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул. — И фот тяк!.. — он вспрыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг, неестественно изогнувшись, упал и, съежившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним!.. На лице Алеши стали появляться уморительные гримасы, повторявшие мимику клоуна. Алеша невольно повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в кучерской одежде, с боков тоже давили его. На галерее было душно; грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли, они устали от толчков, но — до того ли ему было! Сильно захотелось самому быть там, на арене, в таком же сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни хороших, веселых лиц. Потом ездила на лошади какая-то барыня в длинном черном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведерко, — но все это было уже не то! Возвращаясь из цирка, Алеша подбегал к окнам магазинов иподолгу рассматривал отражение в стекле скуластой рожицы с веселыми живыми глазами. Он делал уморительные гримасы, потом весело свистел и с прыжком удалялся. Скача через канавы, он кричал: — Фот тяк… и фот тяк!.. Только подходя к двухэтажному хмурому дому своей хозяйки, Алеша сообразил, что дело не так просто и не так весело. Толкнулся в калитку и убедился, что она заперта. Стучать — значит разбудить хозяйку и сейчас же получить возмездие. Он предпочел оттянуть дело и перелез через забор. Потом выбрал укромный уголок двора — узкую дыру между поленницей дров и стеной погреба — и зарылся в солому; это было не хуже постели в мастерской под столом. С наслаждением вытянулся он на спине и несколько минут смотрел на небо. В небе сверкали звезды. Они напомнили Алеше золотые блестки на атласном костюме клоуна. Подумал о том, что есть какая-то жизнь, совсем не похожая на жизнь грязной мастерской богомазов. Подумать еще о чем-нибудь он не успел, потому что тотчас же заснул. Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой все тело. Он с испугом открыл глаза и понял свою оплошность. Вытянувшись на соломе, он незаметно для себя высунул ногу за поленницу, и по этой ноге кухарка нашла его. — Чертенок, — укоризненно говорила она, дергая его за ногу, — да я ж тебя ищу сколько! Где ж ты был? Тащи дров! Ставь самовар! Буди людей! Мети пол! Все обязанности, которые Алеше приходилось всегда выполнять в известной последовательности, теперь нужно было отправлять сразу. Но это его не смутило. Вертясь по комнате и работая, он еще находил время подбегать к кухарке и рассказывать: — А я в цирке вчера был — здорово представляли. Фот тяк!.. Кухарка закричала было на него, но, увидав его лицо, покатилась со смеху. — Ах ты, таракан! Ведь уж перенял, а? Высыпали в кухню и мастера. Увидав домашний цирк, захохотали и они, забыв наказать актера за незаконную отлучку. Дело обещало сойти с рук. Весь день Алеша за работой показывал мастерам все известные ему номера и чувствовал себя героем дня. Было приятно, что он мог вызвать веселый смех на лицах этих людей, занятых постоянно ссорами и руганью. Кончилось, однако, плохо. Неся готовую икону и делая на ходу прыжок, он передвинул палец и смазал немножко живопись. Наступила тишина. Старший мастер медленно подошел к нему. Потом неторопливо запустил свои пальцы Алеше в волосы и, с большой силой подняв его на воздух, бросил потом на пол. Это в мастерской было самое сильное наказание. — Ловко кувыркнулся, паяц! — захохотали вокруг. — Это, брат, воздушный полет! — Ха-ха! Ну-ка, Лексей, еще! Этот смех был Алеше больнее побоев. Он убежал в кухню, по там его ждала новая беда. Кухарка скрыла от хозяйки позднее возвращение Алеши, но не удержалась от того, чтобы не рассказать, как она его нашла за поленницей. Хозяйка подманила его к себе и стала мотать за ухо, приговаривая: — А ты, чертенок, спи, где велят, не прячься, не прячься, не пряч-чься! Алеша был очень рассержен и, улучив момент, ловко свалился ей под ноги. Хозяйка перевалилась через него и звонко стукнулась лбом, загородив полкухни. Теперь выбора не было; опрометью выбежал он на улицу и бежал, пока не почувствовал себя в безопасности. Оглянувшись, он увидел себя на набережной Волги. Ласково сиял весенний день. Волга разлилась широко, на земле было шумно, светло и просторно. Неужели же ему попрежнему жить в темноте, как мышонку в погребе?Пароход «Добрый»
Несколько дней шатался Алеша по набережной, подсаживался к лохматым и могучим крючникам, питался около них, ночуя с ними на пристани. Потом один из них сказал ему: — Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там поваренка надо… Алеша пошел. Высокий бородатый буфетчик парохода «Добрый», в черной шелковой шапочке без козырька, посмотрел на него сквозь очки мутными глазами и тихо сказал: — Два рубля в месяц. Паспорт. Паспорта у Алеши не было. Какой там паспорт! Буфетчик смерил Алешу взглядом, подумал и сказал: — Ну, ладно. Идем! И он повел мальчика на корму парохода. Там Алешу ждало необычайное зрелище. За столиком сидел, распивая чай и куря толстую папиросу, огромный человек в белой куртке и в белом колпаке. Он так шибко курил, что клубы табачного дыма временами закрывали его. Потом сквозь них появлялась большая остриженная голова и темные глаза. Весь в белом, он все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы. Это был повар. Буфетчик толкнул Алешу к нему и сказал: — Поваренок. После этого буфетчик ушел. Повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему: — Нанимаете всякого беса, лишь бы дешевле… Алеше такой прием не понравился. А повар сердито вскинул большую остриженную голову, вытаращил глаза, напрягся, надулся, как мяч, и закричал зычно: — Кто ты такой? — Я хочу есть, — сказал Алеша. Замечательно интересное лицо повара минуту сохраняло прежнее свирепое выражение, потом подмигнуло одним глазом и вдруг все изменилось от широкой улыбки: толстые, каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились. Повар стал похож на толстую, добрую бабу. Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул Алеше непочатую булку, большой кусок колбасы. — Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры — научат! Говорил он, точно лаял. Огромное, досиня выбритое лицо его было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, к углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани — от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот. — Так нету отца-матери? Ну, и не надо, без них проживем. Только не трусь! Понял? С Алешей давно уже никто не говорил так хорошо. Он почувствовал друга в этом большом человеке, и слушать его стало невыразимо приятно. Когда Алеша напился чаю, повар сунул ему рублевую бумажку. — Ступай, купи себе фартук и колпак. Стой, — я сам куплю! Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь. И вот, надев белое одеяние, такое же, как у повара, только во много раз меньшее, Алеша стал жить на стареньком рыженьком пароходе с белой полосой на трубе. Пароходик скрипел, тарахтел и не торопясь шлепал плицами по серебряной воде. Алеша должен был чистить картошку, рубить морковь, молоть мясо и вертеться около повара, подавая ему то и сё. На его же обязанности лежало мытье всей посуды, которую за день напачкают пассажиры. Люди деловые, спешившие куда-то, садились на почтовые пароходы, идущие скорее. А пароходик «Добрый» шел медленно, и Алеше казалось, что и ехали на нем всегда какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пили и ели. Бывало так, что Алеша с шести часов утра начинал мыть посуду, чистить ножи и вилки и работал вплоть до полуночи. В первый же день, после обеда, повар позвал его в свою каюту. Алеша думал, что он его будет учить чему-нибудь и наставлять в новых обязанностях, но произошло нечто другое и весьма удивительное.Повар и поваренок
Повар лег на койку, у стены. За стеной был ледник, и повар с намерением выбрал себе такое место, считая необходимым охлаждать себя время от времени. Потом он сунул удивленному Алеше книжку в кожаном переплете и сказал: — Читай! Алеша сел на ящик макарон и стал читать: «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков…» — Верблюды! — зарычал повар. — Написали… «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьен…» — Вот чертовщина! — хрипит повар. — Там, в конце, стихами написано, катай оттуда. Алеша катает:Нестроевой солдат
Поступил на пароход новый кухарь, солдатик из Вятки, костлявый, с маленькой головкой и рыжими глазами. Повар тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, — три курицы перелетели за борт и утонули. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал. В это время из кухни вышел повар. — Ты что, дурак? — изумленно спросил он. — Разве солдаты плачут? — Я — нестроевой роты, — тихонько сказал солдат. Это погубило его, — через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним. Подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят: — Этот? И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха: собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукава. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил скороговоркой: — Што вылупили шары-те на меня? Ой, да чтоб вас разорвало на кусочки!.. Это еще более развеселило публику. Солдата начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним точно с козлом, и так травили его до обеда. А после обеда кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесемкам его фартука: солдат идет, ложка болтается сзади, все хохочут, а он суетится, как пойманный мышонок, — не понимает, что вызывает смех. Повар следил за ним молча, серьезно, лицо у него сделалось бабьим. Алеше стало жалко солдата, он спросил повара: — Можно сказать ему про ложку? Тот молча кивнул головой. Алеша подошел к солдату и объяснил ему, над чем смеются. Солдат быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и вдруг вцепился обеими руками в волоса поваренка. Он решил, что это Алеша так жестоко подшутил над ним. Тот отбивался, а публика, обрадовавшись новому развлечению, неистово хохотала. Тогда явился повар и, расталкивая людей своим животом, закричал страшно: — Пошел прочь, дурак! Он называл дураком многих сразу, — подойдет к целой куче людей и кричит на них: — По местам, дурак! Это было тоже смешно, однако казалось верным: все хохотавшие люди были словно один большой дурак. Расшвыряв зрителей, повар рознял дерущихся и, натрепав уши сначала Алеше, схватил за ухо солдата. Когда публика увидела, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукой повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота. — Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо! Повар выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошел на публику кабаном, ощетинившись, страшно оскалив зубы. — По местам — марш! Аз-зиаты… Как только повар выпустил солдата, тот снова бросился на Алешу, и опять заварилась каша. Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей. Враги Алеши указывали на него как на главного виновника скандала. Повар же, чтобы охладить солдата, снес его на отвод и начал качать воду, поливая его голову и повертывая его под краном, точно куклу из тряпок. — Всё едино, — вдруг сказал солдат тонко и высоко, — убью мальчишку! Повар всплеснул руками и сказал: — Что же с тобой делать? А солдат с мокрой головою сидел на палубе, курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал, оглядывая опять обступивших зевак: — Мучители… му-учители… Алеша взобрался повыше, чтобы рассмотреть лица людей, — люди улыбались, хихикали, говорили друг другу: — Гляди, гляди… Эта злобная радость стада людей возбуждала у Алеши желание броситься на них и колотить по глупым башкам поленом. Снова разогнав публику, повар поднял солдата и отвел его в каюту. — Ляг и спи! Ты что такое, а? Солдат молча сел на койку. — Он тебе есть принесет и водки, — сказал повар, указывая на Алешу. — Пьешь водку? — Немножко пью… — Ты, смотри, не трогай его, — продолжал повар, — это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю — не он… — А зачем меня мучили? — тихонько спросил солдат. Повар не сразу и угрюмо отозвался: — Ну, а я знаю? Идя с Алешей в кухню, он бормотал: — Н-да… действительно, привязались к убогому! Видишь как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут… Привяжутся, как клопы, и — шабаш! Потом посмотрел внимательно на Алешу и заговорил снова: — Пропадешь ты, жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы… даже на колени бы стал и спросил: что ж вы делаете, такие-сякие, а? Что вы, слепые? Верблюды!.. И, оттолкнув Алешу, прибавил угрюмо: — Не место тебе здесь! На, покури… Алеша и сам, чем больше узнавал людей, тем больше думал: почему буфетная прислуга так злобствует на него и друг на друга, почему пассажиры или — озорники, или — такие смирные, что позволяют над собой издеваться? Часто говорили: — Положено господом богом терпеть, и терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба… Эти слова было скучно слушать. Алеша не терпел грязи, не хотел терпеть злого, несправедливого, обидного отношения к себе. Он не заслужил его. И солдат не заслужил. Для чего же это? С такими вопросами он подходил к своему учителю-повару. Тот, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил иногда с досадой: — Эх, что тебя щекотит! Люди, ну и люди… Один — умный, другой — дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть все сказано… И, махнув рукой, добавлял: — Эх, как бы надо учить тебя! Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться! Не место тебе здесь… Алеша и сам чувствовал, что — не место. Жить ему становилось все хуже. Официанты таскали с его стола посуду и продавали пассажирам. Не раз Алеше хотелось, смотря на плывущие мимо берега, убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал добрый учитель-повар — он относился к нему все ласковее; да еще нравилось Алеше непрерывное движение парохода. Алеша все ждал, что поплывет пароход по другим путям, из Камы в Белую, в Вятку, а то — по Волге, и он увидит новые берегá, города, новых людей. Но этого не случилось. Жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для него. Буфетчик заметил пропажу посуды, несправедливо обвинил Алешу в воровстве и не слушал защиты повара. — Эх, — горько крякнул повар и легонько щелкнул Алешу пальцем в темя. — Дурак! И я дурак! Мне надо было следить за тобой да учить… В Нижнем буфетчик рассчитал Алешу. Он получил около восьми рублей — первые крупные деньги, заработанные им. Повар, прощаясь с Алешей на пристани, угрюмо говорил: — Н-ну, вот!.. Теперь понял как жить? Теперь гляди в оба, — понимаешь? Рот разевать нельзя… Он сунул Алеше бисерный кисет. — На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделие, это мне крестница вышила… Ну, прощай! Читай книги — это самое лучшее! Он взял Алешу под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Алеше было жалко и его, и себя. Он едва не заревел, глядя, как повар возвращается на пароход, расталкивая крючников, — большой, тяжелый, одинокий… И еще подумал он, что за время жизни на пароходе он много увидел и пережил, старше стал и поумнел; подумал и о том, что, несмотря на все обиды и несправедливости, как интересно, как хорошо, как славно жить, если встречаешь таких добрых людей…Трёпка
Алеша снова явился к деду. Он пришел настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело, — за что его сочли вором? Бабушка встретила Алешу ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил: — Много ли золота накопил? — Сколько есть — все мое, — ответил Алеша. Дед еще больше сердил его. Садясь у окна, Алеша торжественно вытащил из кармана коробку папирос и важно закурил. — Та-ак, — сказал дед, навострившись. — Вот оно что! Чёртово зелье куришь? Не рано ли? — Мне вот даже кисет подарили, — похвастался Алеша. — Кисет! — завизжал дед. — Да ты что, дразнишь меня? Он бросился к Алеше, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелеными глазами. Алеша вскочил и ткнул его головой в живот, — старик сел на пол и несколько секунд смотрел на Алешу, изумленно мигая и открыв рот. Потом спокойно спросил: — Это меня ты толкнул, деда? Матери твоей родного отца? Но Алеша уже и сам понял, что поступил скверно. — Довольно уж вы меня били, — пробормотал он в замешательстве. Дед, сухонький и легкий, вскочил с пола, ловко вырвал у Алеши папироску и бросил ее за окно. — Дикая башка! — заговорил он испуганным голосом. — Понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? В это время вошла бабушка. — Мать, — обратился он к ней, — ты гляди-ка, он меня ударил ведь! Он! Ударил. Спроси-ка его! Бабушка не стала спрашивать, а просто подошла к Алеше и схватила за волосы. Она трепала его и приговаривала: — А за это вот как его! Вот как!.. Было не больно, но обидно, и особенно обижал Алешу ехидный смех деда, — дед подпрыгивал на стуле, хлопал себя ладонями по коленям и каркал сквозь смех: — Та-ак, та-ак… Наконец Алеша вырвался, выскочил в сени и лег там в углу. Плакать он не плакал, хотя было нестерпимо обидно. Но подошла бабушка, наклонилась над ним и чуть слышно шепнула: — Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя, — дедушка-то старик, его надо уважать, у него тоже косточки надломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем, — обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это… Надо понимать, Олёша! Он тот же ребенок, не боле того… Слова ее омывали Алешу, точно горячей водой. От этого дружеского шёпота ему становилось и стыдно, и легко, он крепко обнял бабушку, они поцеловались. — Люблю я тебя очень, бабушка, — от всей души сказал Алеша. — Родной потому что, — объяснила она, — а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят… Потом сказала: — Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нем сразу-то, дай привыкнуть… Алеша вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха: дед действительно был доволен, как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу. — Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошел в дом — не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена-копейка! Алеша молчал. Дед, излив свое торжество, заговорил серьезно: — Ну, Лексей, за то, что место себе сам нашел да денег прикопил, — молодец! Поживи-ка у нас пока, а потом я тебя тоже на хорошее место поставлю. — Куда еще? — недовольно спросила бабушка. — К тетке Матрене, к сыну ее… — Ох, отец, худо ты выдумываешь!.. — Молчи! — сказал дед. — Чертежником он будет.Учение у чертежника
Дом, в который отвели Алешу, находился на окраине города. Дом был новый, но какой-то худосочный, грязный и вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. В подвалах и кухнях жили прачки, кухарки, денщики, землекопы. В квартирах — офицеры, лавочники, ремесленники. И все это копошилось и суетилось, напоминая муравейник. Перед домом был овраг, в него сваливали мусор с дворов, и на дне его всегда стояла лужа густой темно-зеленой грязи. Место было донельзя скучное, нахально-грязное. После реки, полей и леса этот угол города возбуждал у Алеши злую тоску. Было противно видеть так много грязи в одном месте. Хозяева Алеши были люди странные и смешные. Хозяин-чертежник, длинноволосый, с серыми глазами и ястребиным носом, чертил целый день, согнувшись над столом. А две хозяйки, — старуха — мать чертежника и молодая — жена его, — ругались целыми днями. С утра, обе нечесаные, расстегнутые, они метались из комнаты в комнату и постоянно ссорились. Что бы ни делала старшая, младшая непременно говорила: — А моя мамаша делает это не так. — Не так, значит, хуже! — Нет, лучше! Ну, и ступай к своей мамаше. — Я здесь — хозяйка! — А я кто? Вмешивается хозяин: — Довольно, звери-курицы! Что вы — с ума сошли? Но старуха, выбежав в другую комнату, уже высовывала из-за двери злое лицо и кричала: — Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка! А молодая валилась на стул и стонала: — Уйду! Умру! — Не мешайте мне работать, чёрт вас возьми! — орал хозяин, бледный с натуги. — Сумасшедший дом! Ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы!.. Намучившись таким образом, все садились обедать, пили и ели много, до опьянения, до усталости и за обедом лениво переругивались, готовясь к новой ссоре. Глупость женщин была невообразима. Живя в своих комнатушках, ничего не видя, не зная, они удивлялись каждому пустяку. Иногда они звали Алешу и заставляли его рассказывать о жизни на пароходе. При этом они спрашивали: — А все-таки, поди-ка, боязно? Алеша не понимал, — чего бояться? — А вдруг он свернет на глубокое место, да и потонет! Хозяин хохочет. Алеша, хотя и знает, что пароходы не тонут на глубоких местах, не может убедить в этом женщин. Старуха была уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле. — Коли он железный, как же он плывет? Небось, топор не плавает… — А ковш ведь не тонет в воде? — Сравнил! Ковш — маленький, пустой… Хозяева жили как заколдованные: пили, ели, болели от обильной еды, спали и говорили все об одном и том же. На Алешу все это наводило отупляющую тоску. Чтобы побороть ее, он старался как можно больше работать. Недостатка в работе, впрочем, не было. Он возился с детьми, мыл пеленки, полоскал на речке белье, по средам мыл пол на кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи и ходил с хозяйкой по базару, таская за ней корзину. Спал он в кухне, у дверей на крыльцо; голове его было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, он собирал все половики и складывал их в ноги себе. Работал Алеша охотно, — ему нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; но хозяйкам все казалось мало. То и дело они шипели: — Тащи самовар! Подотри здесь! Снеси это! Беги в лавку… И обе старались наперебой воспитать в нем почтение к ним, но Алеша считал их полоумными и, делая свое дело, не спускал им брани и разговаривал зуб-за-зуб. Они жаловались хозяину на дерзости, а хозяин строго говорил своему ученику: — Ты, брат, смотри у меня! Но однажды он равнодушно сказал жене и матери: — Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке как на мерине, — другой бы давно убежал, али издох от такой работы… Это неожиданное замечание привело женщин в неописуемую ярость. Топая ногами, они кричали: — Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же мы для него после этих слов? Когда они ушли, плача и воя, хозяин строго сказал Алеше: — Видишь, чёртушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником! Не стерпев обиды, Алеша сказал: — Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить… Хозяин взял Алешу за волосы, без боли, осторожно, и, заглядывая ему в глаза, сказал удивленно: — Однако ты ёрш! Это, брат, мне не годится, не-ет… Алеша думал, что его прогонят, но случилось не так. Через день хозяин пришел на кухню. В руках у него была трубка толстой бумаги, карандаш, угольник и линейка. Он сказал Алеше: — Кончишь чистить ножи, нарисуй вот это! На листе бумаги был изображен двухэтажный дом со множеством окон и лепных украшений. — Вот тебе циркуль! — говорил хозяин. — Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль — это будут горизонтальные, потом поперек — это вертикальные. Валяй! Алеша обрадовался чистой работе и началу учения. На бумагу и инструменты он смотрел со страхом и благоговением, ничего не понимая. Однако тотчас же старательно вымыл руки и сел за стол. Провел на листе все горизонтальные, смерил — хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и — с изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось. Окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо поднялось на второй этаж, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно — на трубе. Алеша долго и со слезами смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. Потом решил исправить дело с помощью фантазии. Нарисовал на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном — людей под зонтиками. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю. Тот высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился: — Это что же такое? — Дождик идет, — объяснил Алеша. — При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам кривой всегда. Птицы — вот это всё птицы — спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это — люди бегут домой, вот барыня упала, а это. разносчик с лимонами… — Покорно благодарю, — сказал хозяин и вдруг захохотал и закричал: — Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей! Пришла хозяйка, посмотрела и сказала мужу: — Ты его выпори! Но хозяин заметил: — Ничего, я сам начинал не лучше… Дал еще бумаги и сказал: — Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку… И, когда Алеша сделал исправную копию, хозяину это очень понравилось. — Вот, видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем скоро и до настоящего дела… И задал ему урок: — Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду — делай сам! Алеша пошел в кухню и задумался: с чего начать? Но на этом дело и кончилось. Подошла старуха-хозяйка и зловеще спросила: — Чертить хочешь? Схватив Алешу за волосы, она оттащила его от стола, разорвала чертеж и отшвырнула инструменты. Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начали все друг на друга кричать, плеваться и выть, а когда все кончилось и бабы разошлись реветь по-одиночке, хозяин сказал Алеше: — Ты покуда брось все это, не учись — сам видишь, вон что выходит!Ночные похождения
И снова началась для Алеши бесконечная работа под градом попреков и жалоб. Иногда ему думалось: надо убежать. Но стояла окаянная зима, по ночам выли вьюги, на чердаке возился ветер, трещали стропила, сжатые морозом, — куда убежишь? Гулять его не пускали, да и некогда, было гулять. Но в церковь хозяева обязывали его ходить. По субботам — ко всенощной, по праздникам — к обедне. Стоя в церкви, Алеша сочинял стихи о своей невеселой жизни:Борьба за книгу
Однажды, сбегая по черной лестнице, Алеша услышал детский плач. Маленькая девочка стояла на лестнице и плакала, не зная дороги. Он узнал в ней дочь одной дамы, живущей этажом ниже. Кухарка ушла, оставив открытой дверь, и девочка, выйдя на незнакомую лестницу, заблудилась. Алеша отвел ребенка домой. Мать девочки, красивая, высокая дама, увидев ее с Алешей, удивилась, но, узнав, в чем дело, посмотрела на него пристально, прищурив глаза. — Ну, спасибо! — сказала она густым приятным голосом. — Что тебе подарить? Алеша сказал, что ему ничего не надо дарить, а не даст ли она какую-нибудь книжку почитать. Дама усмехнулась и дала ему со стола одну из книжек. — А руки ты плохо моешь… — сказала она, поморщившись. «Ну, этого она могла бы и не говорить, — думал Алеша, уходя. — Если бы она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих». Он спрятал книгу на чердаке, а в субботу, развешивая белье, вспомнил о ней, достал и прочитал начальную строку: «Дома́ — как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило Алешу своей правдой — он стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всенощной, снес книгу в кухню и зачитался, забыв все на свете. Когда же он наконец услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, то не сразу понял, кто это звонит и зачем. Из комнаты выскочила нянька. — Оглох? Звонят! Алеша заметался по кухне, ища, куда спрятать книгу, наконец сунул ее в подпечек и бросился отпирать двери. — Дрых? — сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что мальчишка ее простудил, а старуха уже от самых дверей снизу ругаться начала. В кухне она сразу увидала зажженную свечу и закричала: — Вот, глядите, всю свечу сжег и дом сожгет. Все трое принялись допрашивать его, что он делал. Алеша молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что старуха найдет книгу. Ужиная, хозяева продолжали пилить его, но Алеша знал, что теперь они делают это уже по привычке и от скуки. И ему было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с теми сильными и интересными людьми, о которых он только что читал в книге. Наконец хозяева кончили есть, отяжелели и устало разошлись спать. Старуха последней покряхтела, забралась на печь и примолкла. Тогда Алеша тихо встал, вынул книгу из подпечка и подошел к окну. Ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но, сколько ни всматривался Алеша, мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно — что делать? Подумав немного, он достал с полки медную кастрюлю, отразил ею свет луны на книгу, но стало еще хуже, темнее. Тогда Алеша забрался на лавку, в угол, к образам и начал читать стоя, при свете лампадки. Потом, утомленный, заснул, опустясь на лавку. Проснулся он от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам Алеши, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головой, босая, в одной рубахе. «Пропала книга, изорвут», тоскливо думал Алеша. Утром все собрались, ощупывали и оглядывали книгу. Хозяин подозрительно нюхал страницы и говорил: — Духами пахнет, ей-богу… И строго допрашивали Алешу, где он взял книгу. Он нашелся и сказал, что книга принадлежит священнику. Все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это успокоило их, и — книга была спасена! Зато теперь приходилось беречься. Во дворе жил солдат Сидоров, денщик, тощий и костлявый, всегда печальный и говоривший тихим голосом. Алеша был с ним в приятельских отношениях. Он отнес книгу Сидорову, рассказал ему, в чем дело. Солдат взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав Алеше: — Не слушайся их, — приходи ко мне и читай, я никому не скажу. А если придешь, нет меня, — ключ висит за образом, отопри сундук и читай… Но старуха, подозревая что-то, стала зорко следить, чтобы Алеша не бегал к денщику. А Алеша побаивался, чтобы у солдата не пропала книга или чтобы он как-нибудь ее не испортил. В конце концов пришлось снести ее квартирантке и постараться не думать о таких хороших и дорогих книгах. Он стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю… За прочтение каждой книжки нужно было платить копейку. Он читал в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда книга очень сильно тянула к себе, он вставал ночью, зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучиной и мерку куда-то прятала. Если утром в свече недоставало высоты, или если Алеша не обламывал лучину, найдя ее где-нибудь, то в кухне поднимался яростный крик. Алеша всячески ухитрялся читать, а старуха выслеживала его и, когда это ей удавалось, уничтожала книги.Пьяный самовар
В одно из воскресений, когда все ушли к ранней обедне, Алеша поставил по приказу хозяев самовар и отправился убирать комнаты. В это время старший ребенок забрался в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Алеша еще в комнате услыхал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, — лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Алеша облил его водой, самовар зашипел и печально развалился на полу. В ту же минуту позвонили на парадном крыльце. Алеша отпер двери и на вопрос старухи, готов ли самовар, кратко ответил: — Готов. Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и удвоило наказание. Алешу избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины. Это было не очень больно, но оставило под кожею спины множество глубоких заноз. К вечеру спина у Алеши вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти его в больницу.
Доктор осмотрел Алешу и сказал спокойно, глухим басом:
— Здесь нужно составить протокол об истязании.
Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:
— Не могу. Нельзя.
Потом обратился к Алеше:
— Жаловаться хочешь?
Алеше было больно, но он сказал:
— Не хочу, лечите скорее…
Его отвели в другую комнату, положили на стол; доктор вытаскивал занозы щипцами и балагурил:
— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый…
Кончив работу, он сказал:
— Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?
Алеша подумал и ответил:
— Раньше — чаще били…
Доктор захохотал басом.
— Все к лучшему идет, приятель, все!
Он вывел Алешу к хозяину и сказал ему:
— Извольте получить, починен! На ваше счастье, комик он у вас…
Сидя на извозчике, хозяин говорил Алеше:
— И меня, Пешков, тоже били — что поделаешь? Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому!.. Людей везде — теснота, а пожалеть — нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы!..
Дома Алешу встретили как именинника. Женщины заставили его подробно рассказать, как доктор лечил, что он говорил, — слушали и ахали.
Алеша видел, как они довольны тем, что он отказался жаловаться на них. Он воспользовался этим и потребовал разрешения беспрепятственно читать книги в свободное от работы время.
Застигнутые врасплох, они не решились отказать ему, только старуха удивленно воскликнула:
— Ну и бес!
Да хозяин, добродушно усмехаясь, сказал:
— Настойчив ты, Пешков, чёрт тебя возьми! Что из тебя выйдет, и не догадаешься даже…
К вечеру спина у Алеши вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти его в больницу.
Доктор осмотрел Алешу и сказал спокойно, глухим басом:
— Здесь нужно составить протокол об истязании.
Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:
— Не могу. Нельзя.
Потом обратился к Алеше:
— Жаловаться хочешь?
Алеше было больно, но он сказал:
— Не хочу, лечите скорее…
Его отвели в другую комнату, положили на стол; доктор вытаскивал занозы щипцами и балагурил:
— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый…
Кончив работу, он сказал:
— Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?
Алеша подумал и ответил:
— Раньше — чаще били…
Доктор захохотал басом.
— Все к лучшему идет, приятель, все!
Он вывел Алешу к хозяину и сказал ему:
— Извольте получить, починен! На ваше счастье, комик он у вас…
Сидя на извозчике, хозяин говорил Алеше:
— И меня, Пешков, тоже били — что поделаешь? Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому!.. Людей везде — теснота, а пожалеть — нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы!..
Дома Алешу встретили как именинника. Женщины заставили его подробно рассказать, как доктор лечил, что он говорил, — слушали и ахали.
Алеша видел, как они довольны тем, что он отказался жаловаться на них. Он воспользовался этим и потребовал разрешения беспрепятственно читать книги в свободное от работы время.
Застигнутые врасплох, они не решились отказать ему, только старуха удивленно воскликнула:
— Ну и бес!
Да хозяин, добродушно усмехаясь, сказал:
— Настойчив ты, Пешков, чёрт тебя возьми! Что из тебя выйдет, и не догадаешься даже…
Завоеванная книга
Хозяева выписывали иллюстрированный журнал, но не читали его. Посмотрев картинки, журнал складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома больших книг — «Живописное обозрение». Когда Алеша мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Теперь Алеша завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами. Но огня ему не давали, свечку уносили в комнаты, а денег на покупку свеч у него не было. Тогда он стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывая его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь. Когда Алеша перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым он рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали перед Алешей землю все шире и шире. Уводя его из душных мещанских комнат, они показывали ему сказочные города, высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. И за всем этим Алеша видел проблески какой-то иной жизни и иных отношений между людьми. Из иностранных романов было ясно, что за границею извозчики, рабочие, солдаты ивесь «черный народ» не такой, как в Нижнем, в Казани, в Перми: он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот солдат, но он не похож ни на забитого Сидорова, ни на вятича с парохода. Вот — лавочник, но и он лучше всех известных Алеше лавочников. И священники в книгах не так грубы, они словно сердечнее и участливее относятся к людям. Вообще жизнь, о которой рассказывалось в книгах, казалась Алеше лучше, легче той жизни, которую он знал: там не дрались так часто и зверски, не издевались так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не жили так темно и убого, как жили рабочие люди в Кунавинской слободе. А жизнь, которую Алеша наблюдал вокруг себя, вот какая была. Дом, где жил чертежник, принадлежал подрядчику землекопных и мостовых работ. Остробородый, сероглазый, он был всегда зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек тридцать рабочих. Жили они в темном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной вонючей капусты, землекопы выползали на грязный двор — в сыром подвале было душно и всегда угарно от огромной печи. Тогда подрядчик являлся в окне своей комнаты и орал: — Эй, вы, дьяволы, опять во двор выползли! Развалились, свиньи! У меня в дому хорошие люди живут, али им приятно глядеть на вас! И рабочие покорно уходили в подвал. В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступеньки с длинной узкой книжкой в одной руке, обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженным голосом, кланялись и почесывались, а подрядчик орал на весь двор: — Ладно, будет! Бери целковый! Чего? А в морду хочешь? Хватит с вас! Иди прочь… Но! И рабочий отходил, как пришибленный. Всё это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко и неохотно. Всегда выпачканные землей, они казались Алеше покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить еще целую жизнь. «Хорошие люди» — офицеры, — пьяницы и картежники, — били денщиков до крови, денщики дрались с землекопами, и все пили, пили помногу, насмерть.Опасная переправа
Накануне весеннего праздника Пасхи Алеша сбежал от чертежника. Ушел он с плотничьей артелью, работавшей на подряде его хозяина. Староста артели Осип, чистенький и складный мужичок, весело покрикивал на плотников: — Шевелись поживей, курицыны дети! Работа была кончена вовремя. Артель возвращалась из слободы в город. Впереди была встреча с семьей, баня и затем праздничные удовольствия. Плотники шли быстро и весело, переговаривались на ходу. Нужно было спешить, потому что река, отделявшая город от слободы, могла двинуться каждый час, а это угрожало отрезать усталых работников от дома. Уже там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые вешки, обозначая дороги, полыньи и трещины на льду. Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже не пускала на реку лошадей, и только на линии мостков виднелись редкие пешеходы, и слышно было, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде. — Чу, будто трешшит? — нерешительно сказал плотник Мишук, мигая белыми ресницами. Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его: — Это стружка в башке у тебя сохнет, скрипит! Шевелись, знай! Плотники сошли с берега и зашагали по льду. Вдруг где-то впереди на городском берегу невидимый голос радостно завыл: — По-оше-ол… о-го-го-о! В ту же минуту над рекой потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе. Матросы, работавшие на льду, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж. Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с крутым берегом тихо поплыл по реке. — Беги обратно! — крикнул Осип, толкнув Алешу. — Чего разинул рот? Алеша почувствовал, что лед уходит из-под ног; а ноги как-то сами собой вскинулись и понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка и валялись старые доски, брошенные матросами. Бежали и плотники, сердито ругаясь. Сзади всех шагал Осип, покрикивая: — Не лайтесь, ребята! — Да ведь как же, дядя Осип… — Так же все, как было. — Застряли мы тут суток на двое… — И посидишь… — А праздник? — Без тебя отпразднуют в этом году… Лица плотников сделались сумрачными и тоскливыми. Прошло несколько минут. Потом Осип встал, поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал: — Встала… Только это не надолго… — Отрезало нас от праздника, — угрюмо проговорил Мишук. Все продолжали сидеть понуро. — Встала, — повторил Осип задумчиво. — М-да… На том берегу что-то орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко: — Дядя Осип, как же? — Чего? — дремотно отозвался он. — Так нам и сидеть тут? Осип не ответил, — казалось, он спал. Плотники стали ссориться и попрекать друг друга. Потом уставились сердитыми и грустными глазами на видневшийся. город и замолчали. Замерли. Вдруг Осип, точно проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно: — Ну-ко-сь, ребята, айда с богом… — В город? — воскликнул Мишук, вскакивая. Другой плотник, не двигаясь, уверенно заявил: — Потонем! — Тогда — оставайся. И, оглянув всех, Осип крикнул: — Ну, шевелись, живо! Все поднялись, сбились в кучу. Осип словно помолодел, окреп. Ленивая, развалистая походка его исчезла, — он шагал твердо, уверенно. — Каждый бери по доске и держи ее поперек себя, — командовал он. — В случае — не дай бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить… Веревка — есть? Готовы?.. Ну, я вперед, а за мной — кто всех тяже́ле? Ты, солдат! Потом — Мокей, Мордвин, Боев, Мишук, Сашок. Олёха всех легче, он позади… Сымай шапки, молись… Вот и солнышко-батюшко встречу нам… Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд. — Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип. — С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале, — то и лучше! Пошел, детки! Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед. И тотчас же сзади, где-то на берегу, раздался отчаянный крик: — Ку-уда, бараны?! — Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый. — Наза-ад, дьяволы!!! — Айда, ребята! — властно говорил Осип. Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал: — Во-от, ерои… Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу… Коли не утопнем — в часть нас, в полицию… Я на себя ответ не беру… Бодрый голос Осипа вел людей за собой, точно на веревке. — Гляди под ноги зорче!.. Шли наискось, против течения, и Алеше, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур. Сзади кричат всё гуще, — видимо, сбежался народ большою толпою, слов уже не разобрать, слышен только гул. Под ногами Алеши синевато-серый, свинцовый лед. Кое-где он лопнул, выгорбился, синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда вверху реки зашуршало зловещим шорохом… В ту же минуту лед поплыл из-под ног Алеши, он покачнулся и, не устояв, припал на колено, удивленный. Взглянул вверх по реке — испуг схватил его за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу. С тихим свистом струилась вода, трещало дерево барж, взвизгивая как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом, жутком гуле звенел голос Осипа: — Разойдись!., расходись — держись порознь!.. Пошла, матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а! Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас как ружье, тыкал им, вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед под Алешей заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги ему хлынула вода, — он вскочил и слепо бросился к Осипу. — Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул Осип. — Стой! Показалось, что это не Осип — лицо его странно помолодело, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот: — Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью! И снова замахнулся на Алешу ватерпасом: — Ты куда? — Потонем, — тихонько сказал Алеша. — Цыц! Молчи… Но, оглянув его, он прибавил тише и мягче: — Потонуть и дурак сумеет, а ты, вот, выберись… Ты — вылезь! И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову. Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь. Людей медленно сносило мимо города. Темные фигуры их качались, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, и немолчно звучал властный голос Осипа: — Не зева-ай!.. Первым провалился под лед Мокей. Он шел впереди Мордвина, шел спокойнее всех, и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску. — Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги! А Мокей, отфыркиваясь, говорил Мордвину и Алеше: — Отойдите, парни… я сам… ничего… Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал: — Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам деле потопнешь.. За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед, и тотчас закричал неистово: — А, б-батюшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь! Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом, и в хлопотах около него едва не погиб Мордвин, окунувшись с головою в воду. — Вот, попал бы к чертям ко всенощной, — сказал он, выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь. На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги; казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Но Осип, словно заранее сосчитал трещины во льду, скакал зайцем со льдины на льдину: перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит: — Гляди, как надо, эй! Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги товарищей большие, прочные льдины. Однако, чем ближе к берегу, тем лед становился мельче, и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, грозило вынести людей на Волгу, а там лед еще не тронулся, и всех подтянуло бы под него. — Пожалуй, потонем, — тихонько сказал Мордвин Алеше, поглядывая налево в синюю муть вечера. Но вдруг, точно пожалев смельчаков, огромная льдина уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и — встала. — Беги! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!.. Прыгнул на льдину, упал и, сидя на краю ее, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя, — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и Алеша остановились, желая помочь Осипу. — Утопнете, щенки свинячьи, бегите, ну!.. Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся. — Вставай, дядя Осип… Он опустил голову. — Ногу я сломал будто… не встать… Мордвин и Алеша подняли его и понесли, а он, закинув руки на шеи им, ворчал, щелкая зубами: — Утопнете, лешманы… Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже… Бросить бы вам меня!.. Когда они сошли с куска льдины на берег, вся часть льда, лежащая на воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла. — Ишь ты, — одобрительно сказал Мордвин, — поняла дело! Мокрые, иззябшие и веселые, плотники столпились на берегу среди городских мещан. Осипа положили на какие-то бревна. С горы шел серый околоточный и двое черных полицейских. — Ах, ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено. Мещане, завидя полицию, раздвинулись, и околоточный подошел к плотникам, строго говоря: — Это вы, дьяволы… Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил: — Это я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите праздников великих ради, ваше благородие… — Как же ты, старый чёрт… — закричал околоточный, но его крик пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов Осипа: — Квартера у нас здесь, в городу; на том берегу ничего у нас нет, а после завтрея, ваше благородие, праздник, — в баньку надобно, на церковную службу. Я и говорю: айдате, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем, и за продерзость наказан я: вот — ноженьку разбил вовсе… — Да! — сурово крикнул околоточный. — Ну, а если б вы утопли, — что тогда было бы? Осип глубоко вздохнул. — Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините… Полицейский обрушился на него с руганью, потом, переписав имена всех, ушел. Осип усмехаясь поглядел вслед полиции и вдруг, поднявшись на ноги, истово перекрестился. — Вот и конец всему, слава тебе, господи! — Стало быть, — закричали все изумленно, — нога-то цела? Не сломал, значит? — А вам надо, чтобы сломать? — Ай да дядя Осип! — Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку. Алеша шел рядом с ним сзади всех. — Ловко я полицию-то обошел! — говорил ему Осип. — А ведь быть бы всем в части, клопам на корм… Нет, паренек, без хитрости не проживешь… Они шли навстречу колокольному звону на горе; журчали ручьи, сбегая под ноги, на душе у Алеши было просто и легко. Рядом с Осипом он готов был идти всюду, куда надобно — хоть снова через реку по льду, ускользающему из-под ног. Гудели колокола, и радостно думал Алеша: «Еще сколько раз я встречу весну!..»В Казань — учиться!
Расставшись с плотниками, Алеша стал бродить по городу в поисках заработка. Нашел работу в пивном складе, перекатывал в сыром подвале бочки, мыл и купорил бутылки. Потом наняли его развозить баварский квас по лавкам и по квартирам. Подошло ему уже пятнадцать лет. Жизнь его складывалась все более путанно и трудно. Что он будет делать дальше? Кто поможет ему разобраться во всем, что он пережил, прочитал, о чем беспокойно думалось? «Надобно что-нибудь делать с собой, а то пропаду», думал Алеша. Не зная, куда деться, он дошел до того, что решил было снова поступить на пароход и, спустившись по Волге в Астрахань, бежать в Персию. Почему в Персию — он сам не мог бы сказать. Может быть, потому, что ему нравились персияне, которых он видел на ярмарке: бороды крашеные, а глаза темные, большие, всезнающие. Но дело обернулось иначе. Однажды, когда он с книгой сидел у своей тележки, у ворот одного дома, и ждал денег за квас, из дому вышел юноша, краснощекий гимназист. Увидав развозчика кваса, читающего книгу, он живо заинтересовался, а когда узнал, что Алеша все свободное время отдает чтению, он пришел в совершенный восторг. — Вам нужно учиться! — воскликнул он, тряся Алешу за плечо. Слово за слово, он развернул перед новым приятелем план действий: Алеша едет в Казань, за осень и зиму проходит курс гимназии, сдает экзамен в университет и через пять лет становится ученым. — Наука нуждается в таких людях, как вы. Вы созданы природой для служения науке. — говорил гимназист, красиво встряхивая гривой длинных волос. И тут же привел несколько примеров того, как простые рабочие становились знаменитыми учеными. Дело было решено. Сдав свои экзамены, гимназист уехал в Казань, пригласив Алешу поселиться у него, а недели через три отправился вслед за ним и Алеша. Провожая его, бабушка говорила: — Ты не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а — что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик… Прощай, ну… И, отирая с дряблых, бурых щек скупые слезы, она сказала: — Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я — помру… И Алеша вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встретит такого сердечного, близкого человека, каким ему с детства была бабушка. Он стоял на корме парохода и долго смотрел, как она там, у борта пристани, крестилась одной рукой, а другой — концом старенькой шали — отирала свои глаза. В Казань Алеша приехал, но дела его сложились совсем не так. как тайно надеялся он и как выходило по уверениям его приятеля, добряка-гимназиста. Мать гимназиста содержала семью на нищенскую пенсию мелкого чиновника. Бедная вдова изворачивалась, как только могла, и Алеша, не привыкший есть чужой хлеб, увидел, что ему здесь не место. С утра он уходил из дома в поисках заработка, а в дурную погоду отсиживался на пустыре, в подвале большого полуразрушенного дома. В этом подвале жили и умирали бездомные собаки. «Вот так университет», думал Алеша под шум ливня и вздохи ветра. А уж он было мечтал увидеть себя знаменитым человеком, ученым, который придумал бы немало благодеяний для земли. Пока тянулась осень, Алеша ходил на Волгу к пристаням. Работая грузчиком, он легко добывал пятнадцать-двадцать копеек в день, но не всегда случалась работа, а с наступлением зимы стало и совсем скверно.Крендельщик
Играл ветер-позёмок, вздымая по улицам сухой серый снег, когда Алеша в отчаянии пошел на новые поиски работы. На одном из дворов, где помещалась пекарня, он увидел странное зрелище. Среди мятущихся по двору клочьев сена и обрывков мочала стоял круглый, пухлый человек в одной рубахе и в резиновых галошах на босу ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы — один вокруг другого — и смотрел на Алешу маленькими разноцветными глазами. Правый был зеленый, а левый — серый. — Ступай, ступай, — заговорил он высоким голосом, — нет работы! Какая зимой работа? Безобразная внешность человека возбудила у Алеши любопытство. Ты — дворник, что ли? — спросил он. — Иди, знай, это не твое дело… — А нельзя ли повидать самого хозяина? Вздохнув и внимательно присматриваясь зеленым глазом, человек сказал: — Это я самый и есть… Надежды Алеши на работу рухнули. Ветер сразу стал холодней, а человек еще более неприятен. — Что? — воскликнул он усмехаясь. — Вот-те и дворник! Теперь, стоя близко от него, Алеша видел, что человек находится в тяжком похмелье. — Айда прочь! — сказал он веселым голосом, дохнув на Алешу густою струей винного перегара и размахивая короткой ручкой. Алеша повернулся и не торопясь пошел к воротам. — Эй! Три целковых в месяц — хошь? Алеша был здоров, силен, грамотен — и ему работать на этого жирного пьяницу за гривенник, в день! Но — зима не шутит, делать было нечего. Скрепя сердце, Алеша сказал: — Ладно. — Ступай к приказчику! Войдя в покосившуюся, щелявую пристройку двухэтажного дома, Алеша стал пробираться между мешками муки, как вдруг на дворе раздались странные звуки: что-то зашлепало, зафыркало. Прильнув лицом к щели в стене сеней, Алеша обомлел от удивления: хозяин, прижав локти к бокам, мелкими прыжками бегал по двору, точно его как лошадь кто-то гонял на невидимой корде. Сверкали голые икры, толстые круглые колени, трясся живот и дряблые щеки. Округлив свой рот, человек вытянул губы трубою и пыхтел: — Фух, фух… Кружится солома, мочало, катаются колесики стружек, ветер свистит в трубе, торопливо барабанит какая-то щепа, а на дворе, среди хлама, как бы играя с ним, грузно прыгает, прогоняя похмелье после запоя, потея и хрипя, странный, невиданный человек, — прыгает, хлябая сырым, жирным телом, и фыркает: — Фух, фух, фух… И откуда-то из-за угла ему неистово отзываются свиньи сердитым визгом и хрюканьем. «Это куда же я втряпался?» подумал Алеша.В огромной печи жарко пылает золотой огонь, а перед ним чёртом извивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка Цыган, человек маленький, черноволосый, с раздвоенной бородкой и ослепительно-белыми зубами. — Жарь да вари! — кричит он, смахивая ладонью пот с красивого лба в черных кудрях. У стены, под окнами, за длинным столом, сидят восемнадцать человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «В»; на одном конце стола двое режут тесто на длинные полосы, щиплют его на равномерные куски и разбрасывают вдоль стола под руки мастеров, — быстрота движений этих рук почти неуловима. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью — в мастерской непрерывно звучат мягкие шлепки. Стоя у другого конца стола, Алеша укладывал готовые крендели на лубки, мальчишки брали у него полный лубок и бежали к варщику. Тот сбрасывал сырое тесто в кипящий котел и через минуту вычерпывал оттуда крендели медным ковшом. Скользкие, жгучие фигурки из теста снова укладывались на лубки, пекарь сушил их, ставя на шесток, складывал на лопату, швырял ловко в печь, а оттуда они являлись уже румяными: готовы! Если Алеша не успевал вовремя разложить все подбрасываемые ему крендели, они тотчас слеживались, слеплялись, работа была испорчена, и люди за столом, ругая его, швыряли в лицо ему шматки теста. Кроме того, в смену с другим рабочим, он должен был месить тесто. Это очень тяжелая работа — вымесить семипудовую массу так, чтобы она стала крутой и упругой, подобно резине, и чтобы в ней не было ни одного камешка сухой не промешанной муки. А сделать это нужно быстро, — самое большее в полчаса. Работали крендельщики шестнадцать часов в сутки в низком и душном подвале с маленькими окнами. Стекла окон были побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висели клочья паутины, покрытые мучной пылью. Восемнадцать носов сонно и уныло качались над столом. Люди покачивались, чтобы не задремать, не заснуть от однообразной, одуряющей работы. Лица их мало отличались одно от другого, на всех лежало одинаковое выражение сердитой усталости.
Какой же он брат?
В первый же день Алеше рассказали, что еще недавно шесть лет тому назад, хозяин был тоже рабочим, пекарем, потом подговорил жену своего хозяина извести мужа мышьяком, и сам забрал все в свои руки. Алешу удивляло то, что все рабочие, от старика Кузина, ябедника и доносчика, до милого мальчика Яши, который нанизывал крендели за два рубля в год, все говорили о хозяине с какой-то хвастливостью: — Вот он какой человек! Заведение на сорок человек держит: крендельная, хлебопекарня, булочная, сушечная — оборотись-ка с этим! Жаден — харчи дает скверные. А работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, а на мешок два с половиной часа уходит! — Удивительно говорите вы о нем, — сказал Алеша. — Чего удивительно? — Словно хвалитесь… — Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечишка, а теперь перед ним квартальный шапку ломит! Кузин, благочестиво вздохнув, подтвердил: — Разума дал ему Христос достаточно. А пекарь Цыган, разгораясь, кричал: — Одного кренделя в уезд за зиму он продает боле пяти тысяч пудов, да семеро разносчиков в городе обязаны каждый день продать по два пуда кренделей и сушек первого сорта — видал? Воодушевление пекаря было непонятно Алеше и раздражало его, — он уже имел достаточно причин думать и говорить о хозяевах иначе. А старый Кузин, прикрыв вороватый глаз седой бровью, как будто дразнит: — Это, братец ты мой, не прост человек! — Видно, не прост, коли вы сами говорите, что он хозяина отравил… Пекарь, нахмурив черные брови, неохотно проговорил: — Свидетелей этому нет. Мало ли что говорят. Не любят, когда нашему брату удача приходит… Алеша сказал внушительно и раздельно: — Какой же он тебе брат? Цыган не ответил, и все остальные молчали, точно их не было на земле. Только Кузин повел на Алешу зловеще глазом.Когда наступала очередь Алеши укладывать крендели, он, стоя у стола, рассказывал рабочим все, что он знал и что, по его мнению, могло бы внушить им надежду на более легкую и разумную жизнь. Чтобы заглушить шум работы, нужно было говорить громко, а когда его слушали хорошо, Алеша увлекался и еще больше повышал голос. В один из таких моментов бесшумно за его спиной появился хозяин. Алеша продолжал говорить до поры, пока не заметил, что все звуки в мастерской стали тише, хотя работа пошла быстрей, и в то же время за плечом у него раздался насмешливый голос: — Про што грохаешь, Грохало? Алеша обернулся и, смутившись, замолчал, а хозяин прошел мимо, смерив его острым взглядом зеленого глаза. Потом спросил пекаря: — Как работает? Тот ответил: — Ничего! Здоров… Не торопясь, точно мяч, хозяин перекатился наискось мастерской и, обернувшись у выхода, сказал Цыгану лениво, тихо: — Поставь его тесто набивать без смены неделю… И скрылся за дверью. — Здо-орово! — протянул кто-то. Другой насмешливо свистнул. Тогда с пола, из угла, где сидели мальчики, раздался сердитый, укоряющий голос Яши: — Стоз вы, челти, — с клаю стола котолые? Толканули бы человека, когда видите — хозяин идет… — Да-а, — сипло протянул его брат Артем, парень лет шестнадцати, — это не шуточка — неделю без смены тесто набивать, косточки-то взноют. С краю стола сидели старше Кузин и солдат Милов, добродушный мужик. Кузин, спрятав глаз, промолчал, солдат виновато проговорил: — Не догадался я… Наступило неловкое, тягостное молчание. На Алешу старались не смотреть. Ему было грустно, чувство одиночества и отчужденности от этих людей все более охватывало его. Стали с тех пор в крендельной звать Алешу Грохалом. Иногда в мастерской буйно гремела хоровая песня. Но являлся бесшумно хозяин, или вбегал шустрый рыжий приказчик. — Веселитесь, ребятки? — слащаво-ядовитым голосом спрашивал хозяин, а приказчик просто кричал: — Тише, сволочи! И все тотчас гасло, а от быстроты, с какой эти люди подчинялись властному окрику, на душе Алеши становилось еще темнее, еще тяжелее. Когда они перестанут быть такими покорными и терпеливыми? Алеша устроил из лучины нечто вроде подставки. Когда, отбив тесто, он становился к столу укладывать крендели, то ставил на нее книжку и так читал вслух. Руки его не могли ни на минуту оторваться от работы, а потому обязанность переворачивать страницы лежала на Милове. Он же должен был предупреждать Алешу пинком ноги в ногу о выходе хозяина из своей комнаты в хлебопекарню.
 Но солдат был порядочный ротозей, и однажды во время чтения за плечом у Алеши раздалось лошадиное фырканье хозяина, протянулась его пухлая рука, схватила книжку, и не успел Алеша опомниться, как хозяин пошел, помахивая книжкою, к печи, говоря на ходу:
— Чего придумал, — а? Ловок!..
Алеша настиг его, схватил за руку.
— Жечь книгу — нельзя!
— Как так?
— Так. Нельзя!
В мастерской стало очень тихо. У Алеши зеленело в глазах и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.
— Нельзя? — переспросил хозяин, не глядя на Алешу, склонив голову набок и точно прислушиваясь к чему-то.
— Дайте-ка сюда.
— Ну… на!
Алеша взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошел на свое место, а тот, наклоня голову, прошел, как всегда, молча на двор.
В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отер пот с лица и, топнув ногою, проговорил:
— Ух, даже сердце захолонуло, ну вас к чёрту! Так и ждал, сейчас схлестнется он с тобой…
— И я, — радостно подтвердил Милов.
— Мо-огла быть драка! — воскликнул Цыган. — Ну, теперь, Грохало, держись. Начнет он тебя покорять — ух ты!
Артем пониженным голосом ругал солдата:
— Растяпа! Что ж ты — не видал?
— Стало быть, не видал.
— А тебе не наказывали — гляди!?
— А я вот не доглядел…
Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню.
Алеша не мог понять, как относятся к нему эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше ему уйти отсюда.
И, как будто поняв его думы, Цыган сердито заговорил:
— Ты, Грохало, бери-ка расчет, — все равно теперь тебе житья не будет!
Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже, — встал, выпучил живот и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, крикнул, подняв кулачок:
— Засем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться — я заступлюсь.
Секунда молчания — и все захохотали освежающим, здоровым смехом, а Яшка, сконфуженно посмеиваясь, одергивал рубаху.
— А сто? вот ессё!..
Первый кончил смеяться крендельщик Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:
— Яшка верно говорит, младенец! Зря путаете человека. Он добро нам оказывает, а вы ему — уходи…
И все дружно заговорили о том, как бы предохранить Алешу от грозящих бед.
Но солдат был порядочный ротозей, и однажды во время чтения за плечом у Алеши раздалось лошадиное фырканье хозяина, протянулась его пухлая рука, схватила книжку, и не успел Алеша опомниться, как хозяин пошел, помахивая книжкою, к печи, говоря на ходу:
— Чего придумал, — а? Ловок!..
Алеша настиг его, схватил за руку.
— Жечь книгу — нельзя!
— Как так?
— Так. Нельзя!
В мастерской стало очень тихо. У Алеши зеленело в глазах и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.
— Нельзя? — переспросил хозяин, не глядя на Алешу, склонив голову набок и точно прислушиваясь к чему-то.
— Дайте-ка сюда.
— Ну… на!
Алеша взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошел на свое место, а тот, наклоня голову, прошел, как всегда, молча на двор.
В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отер пот с лица и, топнув ногою, проговорил:
— Ух, даже сердце захолонуло, ну вас к чёрту! Так и ждал, сейчас схлестнется он с тобой…
— И я, — радостно подтвердил Милов.
— Мо-огла быть драка! — воскликнул Цыган. — Ну, теперь, Грохало, держись. Начнет он тебя покорять — ух ты!
Артем пониженным голосом ругал солдата:
— Растяпа! Что ж ты — не видал?
— Стало быть, не видал.
— А тебе не наказывали — гляди!?
— А я вот не доглядел…
Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню.
Алеша не мог понять, как относятся к нему эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше ему уйти отсюда.
И, как будто поняв его думы, Цыган сердито заговорил:
— Ты, Грохало, бери-ка расчет, — все равно теперь тебе житья не будет!
Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже, — встал, выпучил живот и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, крикнул, подняв кулачок:
— Засем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться — я заступлюсь.
Секунда молчания — и все захохотали освежающим, здоровым смехом, а Яшка, сконфуженно посмеиваясь, одергивал рубаху.
— А сто? вот ессё!..
Первый кончил смеяться крендельщик Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:
— Яшка верно говорит, младенец! Зря путаете человека. Он добро нам оказывает, а вы ему — уходи…
И все дружно заговорили о том, как бы предохранить Алешу от грозящих бед.
Хозяин на рогоже
На другой день, рано утром, хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, стал на пороге и сказал с ядовитой сладостью: — Господин Грохало, подь-ка перетаскай мучку со двора в сенцы… В дверь белыми клубами врывался холод, окутывая варщика Никиту; оглянувшись на хозяина, Никита попросил: — Притвори дверь-то, Василий Семеныч, — дует больно мне… — Что-о? Дует? — взвизгнул хозяин и, ткнув Никиту в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь открытой. Никита в течение шести лет стоял у котла с пяти часов утра и до восьми вечера, непрерывно купая руки в кипятке; правый бок ему палило огнем, а за спиной у него была дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, легкие воспалены, а на ногах натянулись синие узлы вен. Надев на голову пустой мешок, Алеша пошел на двор, и, когда поравнялся с Никитой, тот сказал ему тихонько, сквозь зубы: — Это все из-за тебя, черти бы те взяли… Из больших его глаз лились мутные, как пот, слезы. Алеша вышел на двор, убито думая: «Надо уходить отсюда…» Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки. Их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Алеша сказал ему это, — он издевательски усмехнулся, отвечая: — Не уберется — назад перетаскать заставлю… Ничего, ты здоров… Сдернув мешок с головы, Алеша заявил хозяину, что не позволит ему издеваться, и пусть он даст ему расчет. — Таскай, таскай, знай! — снова усмехнувшись, сказал хозяин. — Куда пойдешь зимой-то? С голоду подохнешь… — Расчет! Серый глаз хозяина налился кровью, зеленый злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, всхлипнувшим голосом спросил: — А в рожу — хочешь? Отбив его протянутую руку, Алеша схватил его за ухо и стал молча трепать, а он мотал головой и негромко, удивленно вскрикивал: — Постой! Что ты? Хозяина-то? Пусти, чёрт… Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя в лицо Алеши остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать: — Хозяина? Ты? Ты — кто такой, а? Да я… я… полицию вскричу! Я тебя… И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошел прочь, моргая правым глазом. Было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол, а под короткой шубенкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад. Алеша был уверен, что хозяин или прогонит его, или позовет полицию. Однако этого не случилось. Нельзя было хозяину признаться, что парень-рабочий его за уши трепал. Он придумал другую месть. Он стал каждый день приходить в мастерскую, словно нарочно выбирая то время, когда Алеша что-нибудь рассказывал или читал. Входя бесшумно, он усаживался под окном на ящик с гирями, и если Алеша, заметив его, останавливался, он с угрюмой насмешливостью говорил: — Болтай, болтай, профессор, ничего не будет. Мели, знай! Однажды Алеша рассказал мастерам о строении мира, о солнце и звездах. К тому времени он прочел уже немало серьезных книг. На земле жилось нелегко, и потому Алеша очень любил небо. О происхождении вселенной и о ее красоте он рассказывал с большим увлечением. Внимание мастеров еще более его воодушевляло. Вдруг хозяин медленно встал и, бесшумно уходя, похожий на куль муки, сказал тоненьким голосом и в нос: — Ну, будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень всё хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих… Алешу охватило бешенство: не помня себя, он выбежал вслед за хозяином, но в сенях его схватили Цыган и Артем и стали отпаивать водой. Подошел Яшка и серьезно сказал: — Возьми гилю фунта в тли, а то полено… А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал: — Охота связываться…Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: четыре огромных борова помещались в темном, тесном хлеве, и, когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами; редко кто выдерживал эти любезности, не падая в грязь хлева. Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиною к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что, рассерженные ударами, свиньи кусались. Хозяин в свиньях души не чаял. Часто он заставлял дворника выпускать их на двор, садился посредине; боровы хрюкали, терлись около него, тыкали мордами в колени ему; он совал булки в красные пасти и ворчал отечески-ласково: — У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят! На, на, на… Боровы тыкали его рылом в бок. Хозяин покачивался от ударов и сладостно хохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза тонули в складках кожи. — Отшельнички-шельмочки, — взвизгивал он сквозь смех. — В темноте… во тьме живут, а вот они — чхо-чхо! Во-от они — а! Затворнички, угоднички мои-и…
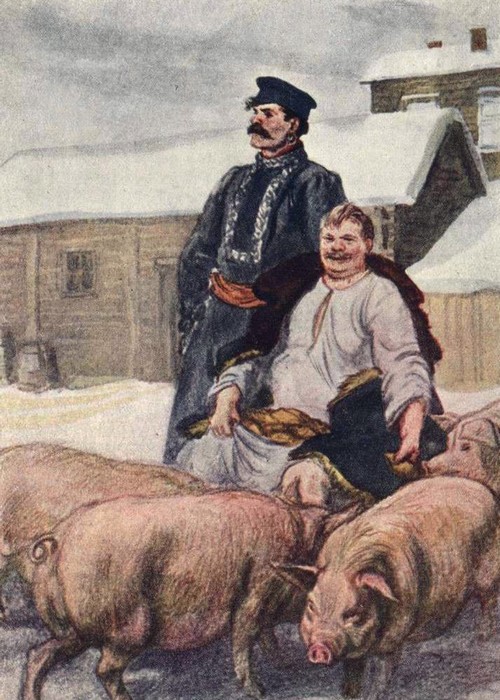 И когда хозяин шел по двору, свиньи катились за ним, как поросята за маткой.
Но бывало и так, что выпущенные на двор животные разыграются и не хотят идти в хлев. Тогда дворник, отворив дверь в мастерскую, кричал:
— Гайда свиней загонять!
Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась — к великому наслаждению хозяина — веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро задыхались со зла и усталости. Свиньи отвратительно похожи одна на другую, — по двору мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, катаясь по двору, как бочки, они то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотницкое возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:
— Ваньки, не поддавайсь! Сковыривай болячки!
Когда человек валился на землю, хозяин визжал особенно громко и радостно, хлопал себя руками по толстым бедрам, захлебываясь смехом.
И действительно смешно, должно быть, было смотреть, как по двору быстро мечутся туши розового жира, а вслед за ними бегают, орут, размахивают руками рабочие, напудренные мучной пылью, в грязных лохмотьях, в опорках на босу ногу, бегают и падают; или ухватят борова за ногу, а он волочит их по двору.
Но людям было не до смеху. А в тот день, когда Алеша получил новое наказание, после «свиного парада», как называли мастера выход свиней, один боров вырвался на улицу, и Алеша, Цыган, Артем и еще трое парней два часа бегали за ним по городу, пока прохожий татарин не подбил свинье передние ноги палкой, после чего нужно было тащить животное домой на рогоже, к великой забаве жителей. Татары, покачивая головами, презрительно отплевывались, русские образовали толпу провожатых, — черненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артема, указывая глазами на верещавшую свинью:
— Мамаша или сестрица?
— Хозяин, — ответил усталый и злой Артем.
И когда хозяин шел по двору, свиньи катились за ним, как поросята за маткой.
Но бывало и так, что выпущенные на двор животные разыграются и не хотят идти в хлев. Тогда дворник, отворив дверь в мастерскую, кричал:
— Гайда свиней загонять!
Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась — к великому наслаждению хозяина — веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро задыхались со зла и усталости. Свиньи отвратительно похожи одна на другую, — по двору мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, катаясь по двору, как бочки, они то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотницкое возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:
— Ваньки, не поддавайсь! Сковыривай болячки!
Когда человек валился на землю, хозяин визжал особенно громко и радостно, хлопал себя руками по толстым бедрам, захлебываясь смехом.
И действительно смешно, должно быть, было смотреть, как по двору быстро мечутся туши розового жира, а вслед за ними бегают, орут, размахивают руками рабочие, напудренные мучной пылью, в грязных лохмотьях, в опорках на босу ногу, бегают и падают; или ухватят борова за ногу, а он волочит их по двору.
Но людям было не до смеху. А в тот день, когда Алеша получил новое наказание, после «свиного парада», как называли мастера выход свиней, один боров вырвался на улицу, и Алеша, Цыган, Артем и еще трое парней два часа бегали за ним по городу, пока прохожий татарин не подбил свинье передние ноги палкой, после чего нужно было тащить животное домой на рогоже, к великой забаве жителей. Татары, покачивая головами, презрительно отплевывались, русские образовали толпу провожатых, — черненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артема, указывая глазами на верещавшую свинью:
— Мамаша или сестрица?
— Хозяин, — ответил усталый и злой Артем.
Бунт
В тот день Алеша особенно горячо говорил мастерам о том, что рабочие — сила, и что нельзя без конца терпеть и все переносить, подчиняясь полубезумным издевательствам пьяного хозяина. Тот, подозревая об опасных разговорах, перевел Алешу в хлебную. А дня через два, ночью, посадив хлеб в печь, Алеша заснул и был разбужен диким визгом: в арке, на пороге крендельной, стоял хозяин, истекая скверной руганью. Он был взбешен отпором одного из крендельщиков и теперь, вцепившись руками в косяки, сосредоточенно пинал его в грудь и бока. — Ать, ать, — спокойно выговаривал хозяин с каждым ударом и катил перед собою поваленное тело, ловко сбивая парня с ног каждый раз, когда тот пытался вскочить с пола. Из крендельной выскакивали рабочие, молча сбиваясь в тесную кучу, — в сумраке утра лиц не видно было. Но чувствовалось, что все испуганы. Парень катился к их ногам, вздыхая: — Братцы… убьет… Рабочие подавались назад, заваливаясь, точно сгнивший плетень под ветром, но вдруг откуда-то выскочил Артем и крикнул прямо в лицо хозяина: — Будет! Тот отшатнулся. Стало очень тихо, и несколько секунд длилось это мучительное молчание, когда не знаешь, кто победит — человек или животное. — Это кто? — хрипло спросил хозяин, из-под руки присматриваясь к Артему и другую руку поднимая вровень с его головой. — Я! — слишком громко крикнул Артем, отступая; хозяин размахнулся, но вперед вышел пожилой рабочий Осип Шатунов, и ему пришелся удар кулаком по лицу. — Вот что, — мотнув головою и сплюнув, спокойно заговорил Осип, — ты погоди, не дерись! И тотчас на хозяина, пряча руки за спину, в карманы, за гашники, полезли Пашка Цыган, солдат, тихий мужик Лаптев, варщик Никита, все они высовывали головы вперед, точно собираясь бодаться, и все наперебой, неестественно громко кричали: — Будет! Купил ты нас? Ага-а!? Не хотим! А хозяин встал неподвижно, точно он врос в гнилой, щелявый пол. Руки он сложил на животе, голову склонил немножко набок и словно прислушивался к непонятным ему крикам. Все шумнее накатывалась на него темная, едва освещенная желтым огоньком стенной лампы толпа людей, все кричали, жаловались, и выше всех поднимался голос варщика Никиты: — Всю мою силушку съел ты! Чем перед богом похвалишься? Э-эх, отец! Грязной пеной вскипала ругань, кое-кто уже размахивал кулаками под носом хозяина, а он точно заснул стоя. — Кто тебя обогатил? Мы! — кричал Артем, а Цыган точно по книге читал: — И так ты и знай, что семи мешков работать мы не согласны. Опустив руки, хозяин повернулся направо и молча ушел прочь, странно покачивая головою с боку на бок. … Крендельная мирно и оживленно ликовала. Все настроились деловито, взялись за работу дружно, все смотрели друг на друга как бы новыми глазами — доверчиво, ласково и смущенно, а Цыган пел петухом: — Пошевеливайся, ребятки, скрипи костями! Эх-ма! Лаптев с мешком муки на плече, стоя среди мастерской, говорил, облизываясь и чмокая: — Вот оно что… вот как бывает, ежели дружно, артельно…. Шатунов вешал соль и гудел: — Артельно и отца бить сподручней. Алеше весело было глядеть на товарищей. Все ожили, точно повеяло весной. Ждали, что за непокорство хозяин прибавит еще мешок муки на день, и готовились к борьбе. Но хозяин оказался хитрее. Встретив крендельщиков в трактире, он подсел к ним, поставил вина и обошел ласковыми словами. — С чужими людьми, — говорил он, — озеро водки выпил я, а со своими давно не приходилось… На лицах ребят появились мягкие усмешки, и размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечьи. сердца, — все сдвинулись плотнее, а Шатунов сказал как бы за всех: — Мы тебя обидеть нисколько не хотели, а тяжело нам, измотались за зиму, — вот и все дело. Алеше становилось тяжело. Он чувствовал себя лишним на этом празднике примирения. Незаметно встал он и вышел на улицу. Невозможность начать учение приводила его в отчаяние; тяжелая физическая работа истощала силы; сознание своей ненужности людям и своего неумения помочь товарищам по работе привело его к поступку, о котором после он вспоминал со стыдом.Тульский револьвер
Алеша пошел на базар, где торговали всяким хламом, и купил там за три рубля старый неуклюжий тульский револьвер. В ржавом барабане торчало пять круглых, как орех, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью. Потом он пошел за город, выбрал место на высоком берегу реки за оградою монастыря. Там под гору сваливали снег. Он рассчитал, что если он станет спиной к обрыву и выстрелит себе в грудь, то скатится вниз, и его засыплет снегом. Он подошел к самому краю, осторожно ощупывая ногой снег, боясь оступиться и упасть под гору раньше времени. Найдя твердое место, прочно стал на нем, снял шапку, бросил ее к ногам; вынул револьвер, расстегнул не торопясь куртку, потом выпрямился, взвел тугой курок, нащупал сердце и. приставив дуло вплоть к телу, нажал большим пальцем собачку — щелкнуло, он вздрогнул, закрыл глаза. Ничего не произошло. Он поднял револьвер к лицу, с испугом глядя в барабан, на тусклые пульки, кукишами сидевшие в нем. — Неужто не стреляет? Незаметно для себя, он снова дернул собачку — бухнул выстрел, больно дернув за волосы, мимо уха свистнула пуля — он тотчас же опустил руку и еще раз выстрелил — в грудь. Этот выстрел был громче, от него все вздрогнуло — подпрыгнули дома окраины перед глазами Алеши и поплыли на него; тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно тихо… Ему показалось, что он долго лежал ничего не видя и не слыша, как будто его не было, потом он услыхал, как что-то шипит в груди, почувствовал, что рубаха становится влажной и в нос бьет какой-то особенный, неприятно-сладковатый, жирный запах. Тотчас же в голове стало ясно, — он понял, что ему не удалось скатиться вниз и что он не убил себя. Он вытянулся, слушая шипенье крови, и вдруг ощутил ясный, хорошо знакомый запах горящей тряпки. В кости рук и ног, в голову проникал мучительный холод, судорожно сжимая тело, как бы связывая его узлом. Этот холод заставил его подняться и сесть, опираясь руками о снег; тогда он увидел, что по его рубахе бегают красные и золотые змейки, толстая рубаха из мешка горела на нем, как трут, и по всему телурастекалась острая, жгучая боль. Он встал на колени, поднялся на ноги и стал срывать с себя горящие лохмотья рубахи; потом, задыхаясь, хрипя и кашляя, он пошел на темную полосу впереди себя, пока не упал на дороге… Очнулся Алеша в больнице. В теплой тишине он шагал вверх по широкой лестнице, — идти было больно, и казалось, что он идет вниз. Его поддерживал под руку человек в белом, с рыжими усами и большим красным лицом, оно кружилось точно колесо, усы лезли к ушам, а нос все время двигался. — Позовите ординатора Плюшкова. — Смешная фамилия, — сказал Алеша; ему казалось, что с этим рыжим необходимо было говорить о чем-нибудь. — Не твое дело, — ответил рыжий, вводя его в маленькую комнату, где сверкало много стекла, усадил на стул и, стаскивая одежду, потянув большим носом, спросил: — Пьяный? — Что? — Стрелялся — пьяный? — Трезвый. — Значит — дурак. Он сказал это до такой степени просто и уверенно, что Алеша не только не обиделся, а засмеялся, но — смеяться нельзя было: хлынула горлом кровь и обрызгала белый халат рыжего. — О, чёрт! — вскричал он, отскочив и отряхивая полу. Ведя сам себя за бороду, в комнату вошел человек с веселым и приятным лицом. — Ну-те-с? — Огнестрельная рана в область сердца. — Самоубийство? — Да. — Ясно. На стол! И, пока рыжий помогал Алеше укладываться на длинном столе, веселый человек, надевая халат, спрашивал: — Это вы зачем же, юноша? — Так. — Однако? Лежать на столе голому было и холодно и больно, но Алеше не хотелось, чтобы эти люди знали его боль, он сдержал стон, закрыл глаза и сказал: — Жить стало трудно. — Ерунда! Это выдумано лентяями и бездельниками. Алеша рассердился и стал спускать ноги со стола, рыжий строго сказал: — Куда это? И схватил его за ноги. Ординатор наклонился над ним, разглядывая грудь. — Ожог! и здоровый… — Рубаха горела… — Вижу. Экая глупость! Алеша посмотрел на его большое красное ухо, думая: «Укусить бы…» Но ординатор воткнул в него зонд и, пригвоздив к столу, на минуту задавил все мысли. — Здорово просажено! Сквозная, что ли? Ну-те-с, перевернем его! Перевернули, внушив Алеше желание лягнуть их хорошенько, но он не мог поднять тяжелые ноги. А ординатор весело бормотал: — Во-от она: тут, под кожей… Сейчас, немножко, чуточку… готово! Укол в спину заставил Алешу вздрогнуть. — Ничего! И, сунув к носу ему измятый кусок свинца, ординатор спросил: — Сохранить на память, а? — Не надо. Пуля упала во что-то металлическое. — Такой здоровенный парень и такую глупость содеять! Не стыдно, ну-те-с? — Не балагурьте, — проворчал Алеша. Он сам уже давно догадался, что сделал глупость, — это злило и угнетало его. После, лежа в больнице, Алеша все больше проникался презрением к себе за свою глупую выходку. Куда же он годен после этого? Вот когда обнаружилось, что он действительно ни на что и никому не нужен. Снова поднимались мысли о смерти. Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей — веселый черный пекарь Пашка Цыган и еще двое: кособокий подросток с лицом хорька и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень. Виновато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотою больницы, они остановились у двери, оглядывая койки. — Вот он! — тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Алешу и оскалив белые зубы. Точно боясь проломить пол, они на цыпочках, гуськом подошли к нему, пряча за спиною темные руки с какими-то узелками. Двое улыбались ласково, третий — сумрачно и как бы враждебно. — Во-он он, — повторил пекарь, по-бабьи поджимая губы и дергая себя за черную бородку обожженной рукою в красных шрамах, а подросток уже совал Алеше бумажный пакет и, захлебываясь словами, говорил тихонько, торопливо: — А лимоны, отличные… с чаем будешь… — Здорово! — сказал широкоплечий парень, сердито встряхнув руку Алеши. — Ну как? Похудел… — Не больно! — подхватил пекарь. — Конечно, болезнь не ласкает, а ничего! Мы поправимся, — во еще! На-ко-ся тебе: сушки тут осьмуха, ну, сахар, конечно… — Курить — дают? — спрашивал сердитый парень, опуская руку в карман. — Братцы, как я рад, — бормотал Алеша, сильно взволнованный. — Не дают — курить? — глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядиных штанов. — Ну, пес с ними. Я и табаку припас и леденцов: когда курить охота, ты леденца пососи, все легче будет… хоша и не то! Чистота у тебя тут, ну, ну-у… Алеша видел, что двое отчаянно притворяются веселыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным, и всем не удается игра: три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Алешиных глаз. — Ну, спасибо! — бормотал он, задыхаясь. Они сели, двое на койку, один на табурет, подросток превесело спросил: — Когда на выписку? Пекарь сказал: — Чего спрашивать? Сам видишь — хоть сейчас! А третий деловито посоветовав: — Ты, брат, как снимешься, к нам вались! И заговорили вперебой все трое: — Конечно… — Работу выищем полегче… — Тут — праздники, Рождество… — Скучно лежать? — Конечно, что спрашивать. — Так-то вот… Дрожащими руками Алеша хватал их жесткие руки, смеясь, всхлипывая… — Ах, братцы… чёрт возьми!.. Они вдруг замолчали, и сквозь слезы Алеша видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели, и вдруг за сердце его схватил тихий шепот: — Э-эх, ты! Как же это ты, а? — Уда-арил ты на-ас… Третий голос добавил так же тихо, но внушительно: — А еще говорил, — братцы, говорил, правда, говорил… — Разве этак можно? — Братцы, говорил, а — сам? Алеша смеялся и плакал, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, трудную, но упрямую жизнь…Сельская лавочка
По выходе из больницы Алеше не пришлось вернуться в пекарню. Ему встретился на улице большой широкогрудый человек с густой окладистой бородищей и по-татарски бритой головой. Алеша знал уже раньше, что этот бородатый богатырь (его в городе звали «Хохол») был сослан в Сибирь, в Якутскую область, где провел десять лет, и недавно вернулся. — Вот что, — заговорил Хохол. — Слышал я о вас. Не место вам в пекарне. Трудно будет одному. Не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка. Вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас немного времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться — согласны? — Да. Он протянул Алеше широкую ладонь и сказал: — Ну, вот и договорились Да, мое имя — Михайло Антонов, а фамилия — Ромась. Так. Он ушел, не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело. Для Алеши многое здесь было загадочно. Что этот великан не простой торговец — было ясно. Но что же у него за лавка? Впрочем, он обещал помочь учиться — и это было самое главное.Через два дня Алеша с Ромасем и двумя крестьянами плыл на лодке в село Красновидово. Ромась рассказал Алеше, что завел он лавку для революционной пропаганды среди крестьян. Потом объяснил: — Надо же учить людей уму-разуму — так? Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, — конечно, это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Да и мужики меня не любят, которые побогаче. Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе. — Особо тебя, Антоныч, поп не любит… — сказал один из крестьян, Кукушкин, растрепанный мужичонка в рваном армяке. — Это верно, — подтвердил другой. — Ты ему, псу рябому, кость в горле! — Но есть и друзья у меня — будут и у вас! — слышал Алеша голос Ромася. Ему нравились его спокойствие и ровная речь, простая, ясная. Когда приехали на село, их встретил красивый мужик рыбак Изот, с курчавой бородой, в густой шапке рыжеватых волос. Через полчаса Алеша сидел в своей комнате на чердаке. Позвали обедать. За столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, что-то говорил, но замолчал, увидя Алешу. — Что же ты? — хмуро спросил Ромась. — Говори. — Да уж и нечего, все сказал. Значит, так решили, сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то с палкой потолще. Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков и кулаков. Изот, внимательно выслушав его, сказал: — Окончательно мироеды житья не дадут тебе. — Увидим. — Да, уж так! И прибавил: — Ты, Михайло Антонов, не торопись: хорошо — скоро не бывает. Легонько надо. Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво: — Умный человек и верный. С такими много сделать можно. Потом показывал Алеше свои книги, гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и говорил: — Вы человек способный, по природе — упрямый, и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да так, чтобы книга не закрывала людей. Люди учат больнее, — грубо они учат, — но наука их крепче въедается. Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать Алеша услышал на улице выстрел, — он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, Алеша увидал, что Ромась идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный. — Вы — что? Это я выпалил… — В кого? — А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю: отстаньте, стрелять буду, — не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо, — ему не повредишь… Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь. — А сапоги чёртовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином… Алешу восхищало его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил Алешу: — Вы ходите по селу осторожней, особенно в праздники, вечерами, — вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы — боитесь. А бояться — не надо! Они сами народ трусоватый… Алеша начал жить очень хорошо. Каждый день приносил ему новое и важное. С жадностью стал он читать книги по естествознанию. Ромась учил его: — Это, Максимыч, прежде всего и лучше всего надо знать, в эту науку вложен лучший разум человеческий. Вечерами ставни плотно закрывались, на столе горела лампа, перед нею сидел Ромась, крутолобый, гладко остриженный, с большой бородой. Он говорил медленно и внятно: — Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота… Трое крестьян слушали внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица.
 — Мужику надо внушать, — говорил еще Ромась — ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и не умеешь делать так, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты; зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все: дворянство, духовенство, ученые, цари, — все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну, учись жить, чтоб тебя не мордовали…
Иногда приходил один Изот. Алеша учил его грамоте. Учился Изот усердно, довольно успешно и — очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на Алешу, изумленно говоря:
— Читаю ведь, так его курицу!..
И повторяет, закрыв глаза:
— Мужику надо внушать, — говорил еще Ромась — ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и не умеешь делать так, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты; зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все: дворянство, духовенство, ученые, цари, — все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну, учись жить, чтоб тебя не мордовали…
Иногда приходил один Изот. Алеша учил его грамоте. Учился Изот усердно, довольно успешно и — очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на Алешу, изумленно говоря:
— Читаю ведь, так его курицу!..
И повторяет, закрыв глаза:
Нападение
Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а Алеша был в лавке, — за стеной, в кухне, раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Алеша бросился в кухню, из двери ее в комнаты лезли черные облака дыма, за ними что-то шипело и трещало. Ромась схватил Алешу за плечо: — Стойте!.. В сенях завыла кухарка. — Э, дура! Он сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал: — Перестань! Воды! На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, Алеша залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь. — Осторожней! — закричал Ромась. — Осторожней, Максимыч! Может, еще взорвет… — И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые еловые поленья. — Что вы делаете? — А — вот! Он протянул Алеше странно разорванный кругляш, и Алеша увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела. — Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну что можно сделать фунтом пороха? И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки. За это время вокруг избы собралась толпа. В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал: — Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи? Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе: — Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло… Пьяный солдат Костин закричал: — Выгнать его, изувера!.. Под суд… Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова. — Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй, — пуд! Ну, идите же… Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то. Сели пить чай. — Не се́рдит вас это? — спросил Алеша. — Времени нехватает сердиться на каждую глупость. Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил: — Удумали, черти! Вошь свою перевести — не могут, а человека извести — пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше поменьше, да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, — жди беды. «Эта штука», очень неприятная богатеям села, — придуманная Ромасем крестьянская артель. Крестьяне должны были сообща продавать яблоки со своих садов, а не поддаваться кулакам, скупавшим товар за бесценок. Разумные мужики села объединились вокруг Ромася, помогая ему, кто чем мог. Больше всех работал красавец Изот. А в середине лета Изот пропал. Стали говорить, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие объяснили тем, что Изот, ловя рыбу, вероятно, заснул на реке, и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях верстах в пяти ниже села. Ромась был в городе, когда случилось это. Вечером к Алеше в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил: — Когда Хохол воротится? — Не знаю. Он начал крепко растирать ладонью лицо, тихонько ругаясь и рыча, как подавившийся костью. — Что ты? Он взглянул на Алешу, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала, наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь: — Ездил я — с ребятами. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено — понял? Значит, убит Изотушка! Не иначе… Встряхивая головою, он снова стал тихо ругаться, всхлипывая сухим, горячим звуком, а потом замолчал, крепко стиснув зубы. Нестерпимо было Алеше видеть, как этот мужик хочет заплакать и — не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головой. На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидели Изота под разбитой баржею, на берегу. Половина днища баржи была на камнях берега, половина — в воде, и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, — вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака. Казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег. Угрюмо, загадочно стояли на берегу десятка два мужиков-богачей, бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя по очереди на Алешу и Кукушкина. — Ой, озорство! — причитал староста, семеня кривыми ногами. — Ох, мужики, нехорошо! С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. А в кучке богатеев осторожно и негромко говорили: — Занозистый был мужик. — Чем это? — Это, вон, Кукушкин занозист… — Зря извели человека… — Изот — смирно жил… — Смирно-о? — завыл Кукушкин, бросаясь к ним. — Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А? Кулаки заорали, налезая, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаху ударил его ладонью по шероховатой щеке: — На, животный! Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из толпы и почти весело крикнул Алеше: — Уходи, драться будут! Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием… — Видал, как я Кузьмина шарахнул? Потом уходили от тесной кучи людей, стоявшей у баржи, и Кукушкин говорил сердито: — Всех нас вот эдак… Господи, глупость какая! Ромась приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Увидев осунувшегося Алешу, он хлопнул его по плечу. — Мало спите, Максимыч? — Изота убили. — Что-о? Скулы у него вздулись желваками, и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражки, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой. — Так. Неизвестно — кто? Ну, да… Медленно подошел к окну и сел там, вытянув ноги. — Я же говорил ему… Начальство было? — Вчера. Становой. — Ну, что же? — спросил он и сам себе ответил: — Конечно, ничего! Алеша рассказал, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику. — Так. Ну, что же тут скажешь? Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал: — Как жалко Изота… Долго молчал, потом ушел, наклоняя голову в двери ниже, чем это было необходимо.Не падая духом
Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Работы организатору артели предстояло много. Однажды рано утром Ромась приплыл из города с новым товаром. Переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил: — А хорошо плыть ночью по реке… И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно: — Как будто гарью пахнет? В ту же минуту на дворе раздался вопль кухарки: — Горим! Бросились на двор, — горела стена сарая со стороны огорода. В сарае держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд Алеша и Ромась оторопело смотрели, как желтые языки огня лижут стену и загибаются на крышу. Кухарка притащила ведро воды, Ромась выплеснул его на полыхающую огнями стену и, бросив ведро, сказал: — К чёрту! Бесполезно! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья, — в лавку! Алеша быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтю и взялся за бочку керосина, но когда он повернул ее, — оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока он искал втулку, огонь не ждал, сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, Алеша увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Ромась и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная, седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно: — Л-а-а-а, дьяволы!.. Снова вбежав в сарай, Алеша нашел его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил и ослеплял, у Алеши едва хватило сил подкатить еще бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на него сыпались искры, жаля кожу. Он закричал о помощи, прибежал Ромась, схватил его за руку и вытолкнул на двор. — Бегите прочь!.. Сейчас взорвет… Ромась бросился в сени, Алеша за ним — и на чердак, там лежало много книг. Выбросив их в окно, он захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для этого, тогда он начал выбивать косяки полупудовой гирей, но — глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло. Это взорвалась бочка керосина. Крыша, над Алешей запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня. Алеше стало нестерпимо жарко. Он бросился к лестнице, — густые облака дыма поднимались ему навстречу, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Алеша растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, он стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая, желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени. Ему показалось, что волосы на голове его трещат, и, кроме этого, он не слышал иных звуков. Понимал, что погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя он и закрыл их руками. Вдруг он опомнился — мгновенно сообразил, что нужно делать, — схватил в охапку свой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно. Очнулся он на краю оврага, перед ним сидел на корточках Ромась и кричал: — Что-о? Алеша встал на ноги, очумело глядя, как таяла их изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали алые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы. — Ну, что? — кричал Ромась. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Алеша почувствовал огромную радость при виде его, потом ожгла боль в левой ноге, он лег и сказал Ромасю: — Ногу вывихнул. Ощупав ногу, Ромась вдруг дернул ее, Алешу хлестнуло острой болью, но через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, он сносил к бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил: — Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб, и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч! Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье: — Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить… В дыму над оврагом летали белые куски бумаги. — Эх, — сказал Ромась, — жалко книг! Родные книжки были… Горело уже четыре избы. Бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик: — Воды-ы! Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Алеша был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы он заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе; они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивали руками и палками. С поля верхами скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки. Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи. — Не трусь! — кричал Ромась. Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее Алеше на голову и закричал: — Рубите с того конца, а я здесь! Алеша подрубил один, два кола, — стена закачалась; тогда он влез на нее, ухватился за верх, а Ромась потянул его за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв Алешу почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу. — Обожглись? — спросил Ромась. Его заботливость увеличивала силы и ловкость Алеши. Радостно работал он, не помня себя, и наконец выбился из сил. Очнулся он, сидя на земле, прислонясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал его водой из ведра, а мужики, окружив их, почтительно бормотали: — Силёнка у робёнка! — Этот — не выдаст… Два крестьянина, Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели Алешу в овраг, ободряя: — Ну вот, брат, все и кончилось. — Устал, поди? Алеша не успел еще отлежаться и прийти в себя, когда увидал, что в овраг, к их бане, спускается человек десять богачей, впереди их — староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Ромась без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орал: — В огонь еретицкую душу! — Отпирай баню!.. — Ломайте замок — ключ потерян, — громко сказал Ромась. Алеша быстро вскочил на ноги, схватил с земли кол и стал рядом с Ромасем. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал: — Православные, — ломать замки не позволено! Указывая на Алешу, Кузьмин кричал: — Вот этот еще… кто таков? — Спокойно, Максимыч, — говорил Ромась. — Они говорят, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку. — Оба вы! — Ломай! — Православные… — Отвечаем! — Наш ответ… Ромась шепнул: — Станьте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили… Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а Алеша тем временем незаметно сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой. — Ничего нет… — Ничего? — Ах, дьяволы! Кто-то робко сказал: — Напрасно, мужики… И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные, заорали: — Чего — напрасно? — В огонь! — Смутьяны… — Артели затевают! — Воры! И компания у них — воры! — Цыц! — громко крикнул Ромась. — Ну, видели вы, что в бане у меня товар не спрятан, — чего еще надо вам? Все сгорело, осталось — вот. Видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро? — Застраховано! И снова десять глоток яростно заорали: — Чего глядеть на них? — Будет! Натерпелись… У Алеши ноги тряслись, и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман он видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг: — Ага-а, колья взяли! — С кольями!? Оторвут они бороду мне, — говорил Ромась, и Алеша чувствовал, что он усмехается. — И вам попадет, Максимыч, — эх! Но — спокойно, спокойно… — Глядите, у молодого топор! У Алеши за поясом штанов действительно торчал плотничий топор. Алеша забыл о нем. — Как будто трусят, — шепнул Ромась Алеше. — Однако вы топором не действуйте, если что… Но толпа заметно откатилась, а какой-то маленький и хромой мужичонка, приплясывая, неистово визжал: — Кирпичами их издаля! Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его Алеше в живот, но раньше, чем Алеша успел ответить, сверху ястребом свалился на мужичонку Кукушкин, и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежали Панков, Баринов и другие сторонники Ромася из бедняков, и тотчас же вожак богатеев Кузьмин солидно заговорил: — Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит… — Пошел прочь, дурак, — ответил Ромась, не взглянув на него. И, обращаясь к Алеше, сказал: — Идемте, Максимыч, на берег, в трактир. Вынул трубку изо рта, резким движением сунул ее в карман штанов и, подпираясь колом, устало полез из оврага. Сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу. — А с яблоками мироеды проиграли дело, — сказал Ромась. Пришли крестьяне, друзья Ромася. Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг к другу щупающими глазами. — Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч? — Подумаю. — Уехать надо тебе отсюда. — Посмотрю. — А не робок ты! — сказал Алеше Панков. — Тебе здесь можно жить, тебя бояться будут… Вечером Ромась сказал Алеше хмуро и тихо: — Я вот что, Максимыч, надумал. Продаю здесь все, что осталось, и еду в Вятскую губернию, поселюсь там и поработаю. Приезжайте и вы. Идет? — Подумаю. — Думайте. Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, Алеша смотрел на Волгу. — Сердитесь на мужиков? — сонно спросил Ромась. — Не надо. Они только глупы. Но станут умнее. Поймут — кто им враг, и тогда мироедам конец! Ромась восхищал Алешу своей непоколебимой уверенностью, но слова его не успокаивали, не могли смягчить горечи пережитого. Огромной казалась ему сила темной деревни и трудна еще здесь борьба. В день прощания с Ромасем рассказал он ему свои горькие думы. — Не годится падать духом, Максимыч, — сказал ему с упреком Ромась. — Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато — прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, все надо знать, все надо понять. До свидания, дружище!Странствия
Когда Ромась уехал из Красновидова, Алеша затосковал и заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина. Они ходили с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жили в бане. Однажды дождливой ночью Баринов сказал Алеше: — Лексей Максимыч, воевода без народа! Едем-ка на море, а? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще — того, как-нибудь, под пьяную руку… Поехали по Волге, сперва ехали на пассажирском, потом на барже с матросами, и через семь дней были на Каспии в небольшой артели рыболовов, на калмыцком промысле. Что наработали, то и проели, а наступили меж тем холода. Разойдясь с товарищем, стал Алеша пробираться на север. Где пешком шел, где в телегу подсаживался к крепким и широким мужикам, продававшим арбузы. А раз забрался в теплушку к быкам. Надышали быки тепло, соблазнительно показалось Алеше. И верно — отогрелся. Но в дороге оказалось, что быки были крайне плохо воспитаны, вели себя неприлично, свирепо толкали пассажира, кто как мог, и вообще всю дорогу старались причинить ему всевозможные неприятности. Когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали. Алеша, улучив момент, вскарабкался на одного из них и, несмотря на недовольство быка, он так и ехал верхом всю дорогу не слезая. На станции Добринка Алеше посчастливилось: дали ему место ночного сторожа погрузочного двора. Дежурить он должен был с шести часов вечера до шести часов утра — охранять мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения. Пришлось как-то раз караулить темной осенней ночью груду мешков с мукой. Погода стояла отвратительная, дул холодный ветер, шел проливной дождь. В степи тьма непроглядная, точно чернила. Вдруг ветром сорвало брезент с груды мешков. Делать нечего, пришлось лезть на груду, закрывать мешки. И вот наверху-то горы закрутило его порывом ветра, завернуло в брезент и бросило на полотно. Ударился он о рельсы до того сильно, что и себя не помнил, а потом вся шея так распухла, что едва его не задушило. После операции первое время и говорить-то ничего не мог. Говорить начал недели три спустя после этого, да и то шёпотом. Думал, что навсегда голос потерял, но месяца через четыре заговорил, да только не прежним тенором, а басом. Но хоть и без голоса, а дежурить надо. Ходи с палкой в руке вокруг пакгаузов. Со степи дует ветер, несутся тучи снега, ползут, точно вздыхая и лязгая, поезда в белую холодную даль. А когда Алеша после бессонной ночи сменялся с дежурства, кухарка начальника станции заставляла его выносить помои, колоть и таскать дрова, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью и делать еще многое, что поглощало почти половину дня, не оставляя времени для чтения и сна. Кухарка Маремьяна сильно не взлюбила за что-то сторожа и откровенно грозила ему: — Затираню до того, что на Кавказ сбежишь… Но он и сам ждал только весны. В зимние ночи во время дежурства все сильнее разгоралось желание заглянуть всюду, побродяжить по дорогам и полям родины, посмотреть, как люди живут и чем живут. Тянуло странствовать по земле. «Все надо знать, все надо понять», вспоминал он слова своего учителя, Ромася. Как только стаял снег, Алеша ушел со станции и стал бродить по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Волгу, Дон, Украину, побывал и в родном городе Нижнем, на призыве. В солдаты его не взяли; толстый веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев его: — Дырявый, пробито легкое насквозь. Не годен! В следующую весну Алеша пробирался уже через Украину в Бессарабию. Работал, где придется. Подработает и — дальше. Выйдет весь запас — опять становись на работу.За счастье всех людей
В Бессарабию Алеша попал к сбору винограда. Работа была славная, народ чудесный. Молдаване — бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч, женщины — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Однажды вечером после дневного сбора все ушли с песнями и смехом на берег моря. Алеша остался под густой тенью виноградных лоз. К нему подошла старая молдаванка Изергиль. — Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила она. — Не хочу, — ответил Алеша. — У!.. Стариками родитесь вы, русские, Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши девушки… А ведь ты молодой и сильный… С моря доносились голоса, чистые, сильные и звонкие. — Слышал ли ты, чтобы где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом. — Не слыхал. Никогда не слыхал… — пробормотал Алеша в восхищении. — И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют… Вот как нужно жить… Алеша вспомнил свое детство, свои горькие скитания по чужим людям. Вспомнил все, что увидел в странствиях, вспомнил задавленную, тяжелую жизнь русских сёл и городов и от души порадовался за этих веселых и сильных людей. Когда он рассказал о своих думах Изергиль, она ответила: — Не должно быть горя. Людям нужно хорошо жить, хорошо любить и смеяться. Богатырь Данко показал людям дорогу к счастью, и не должны люди забывать его. — Какой Данко? — спросил Алеша. — Я расскажу тебе про него. Это старая сказка… И она рассказала Алеше: «— Жил на земле в старину один народ; непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этого народа, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и затосковали. Нужно было уйти из этого леса, и для того было две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги; другая — вперед, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. И страшно было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Люди сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота… И ослабли люди от тоскливых дум… Страх покорил их, сковал им крепкие руки, женщины в ужасе плакали над трупами умерших от смрада и над судьбой живых, и вот трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче… Уж хотели идти к врагу и покориться… Но тут явился смелый Данко и спас всех. Он сказал своим товарищам: — Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу и тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь — ведь имеет же он конец. Идемте! Ну! Гей! Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. — Веди ты нас! — сказали они. Тогда он повел. Дружно все пошли за ним, — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветви между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови. Долго шли они… Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди, между больших деревьев и в грозном шуме молний шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, упали духом. В злобе и гневе обрушились они на Данко, который шел впереди всех. — Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь! — Вы сказали: „веди“ — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец! Но эти слова разъярили их еще более. — Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они. Данко смотрел на тех, ради которых он понес столько труда, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, и по лицам их видел Данко, что не будет ему от них пощады. В его сердце вскипело негодование, но Данко подавил его в себе. Он любил людей и даже в эту минуту не мог их оставить на гибель. Вспыхнуло его сердце огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А люди, увидя, как ярко разгорелись. его очи, насторожились, как волки, думая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. Еще ярче загорелось в нем сердце. А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. — Что сделаю я для людей?.. — сильнее грома крикнул Данко. И вдруг он разорвал руками себе грудь, вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, ярче солнца. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви. Люди же, изумленные, стали как камни. — Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные, бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало! И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река… А из разорванной груди Данко горячей струей била кровь. Кинул он взор вперед себя на ширь степи, кинул радостный взор на свободную и счастливую землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце…» Кончив сказку, старуха задремала, а Алеша в радостном возбуждении думал о правде смелых и сильных, отдающих свою жизнь за счастье других. И так ли уж плохо кругом, если не только в сказке, но и в жизни есть — и будут — такие люди?
В степи было тихо и темно, море глухо шумело. Алеша лег на землю, прикрылся и крепко заснул, словно омытый и ободренный хорошею сказкой.
Кончилась работа, и нашему путнику предстоял дальнейший путь. Пересекая Бессарабию, добрался он и до Дуная, границы России. Однажды заночевал он на берегу, Черного моря, близ цыганского табора.
С моря дул влажный и холодный ветер, раздувая костер. Слева лежала безграничная степь, справа простиралось бесконечное море, а у костра сидел старый цыган, Макар Чудра. Он сторожил лошадей своего табора и тихо беседовал с Алешей. То, что егособеседник пришел из далекой России, его нимало не удивило.
— Так ты ходишь? — говорил он. — Это хорошо… Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и — смотри, насмотрелся — ляг и умирай. Вот и все! Я вот, смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут.
И старый цыган, страстный бродяга, долго рассказывал Алеше разные истории с наказом помнить о том, что век свой нужно жить свободною птицей.
Потом Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев сидящих у костра большими и умными глазами, неподвижно останавливались, окружая их плотным кольцом.
— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь к Алеше:
— Спать пора!
Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.
Кончив сказку, старуха задремала, а Алеша в радостном возбуждении думал о правде смелых и сильных, отдающих свою жизнь за счастье других. И так ли уж плохо кругом, если не только в сказке, но и в жизни есть — и будут — такие люди?
В степи было тихо и темно, море глухо шумело. Алеша лег на землю, прикрылся и крепко заснул, словно омытый и ободренный хорошею сказкой.
Кончилась работа, и нашему путнику предстоял дальнейший путь. Пересекая Бессарабию, добрался он и до Дуная, границы России. Однажды заночевал он на берегу, Черного моря, близ цыганского табора.
С моря дул влажный и холодный ветер, раздувая костер. Слева лежала безграничная степь, справа простиралось бесконечное море, а у костра сидел старый цыган, Макар Чудра. Он сторожил лошадей своего табора и тихо беседовал с Алешей. То, что егособеседник пришел из далекой России, его нимало не удивило.
— Так ты ходишь? — говорил он. — Это хорошо… Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и — смотри, насмотрелся — ляг и умирай. Вот и все! Я вот, смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут.
И старый цыган, страстный бродяга, долго рассказывал Алеше разные истории с наказом помнить о том, что век свой нужно жить свободною птицей.
Потом Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев сидящих у костра большими и умными глазами, неподвижно останавливались, окружая их плотным кольцом.
— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь к Алеше:
— Спать пора!
Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.
Два путешественника
Близилась осень, и Алеша, полный впечатлений, напитавшись ими, как пчела медом, стал подумывать о предстоящей зиме. Забрел он за весну и лето далеко. Пора было держать обратный путь. На обратном пути он не отходил от моря. Жил с рыбаками на курене, работал на соляных промыслах, но все тяжелее доставался заработок. По всему югу бродили безработные люди, босяки, пришедшие из северных деревень и городов для трудной, но вольной, скитальческой жизни. Их нанимали на все работы, но побаивались, зная их беспокойный нрав. Придя в Одессу, Алеша с партией босяков нанялся на разгрузку пароходов в порту. Звон якорных цепей, грохот вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падавших на камень мостовой, дребезжание телег, свистки пароходов, крики грузчиков и матросов — все сливалось в оглушительную музыку трудового дня. Люди, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегали то туда, то сюда в тучах пыли. Шум подавлял; пыль, раздражая ноздри, слепила глаза; зной пек тело и изнурял его. И среди этой сутолоки и гомона Алеша заметил человека, с которым ему суждено было довольно близко познакомиться. С виду это был молодой барчук. На нем был модный клетчатый костюм и черная шляпа, в руках палка с набалдашником. Что он делал в порту, Алеше было непонятно. Он даже положительно необъясним был там, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей и криков рабочих. Все были озабочены, утомлены, все бегали в пыли и поту, кричали, ругались, а эта фигура тут же медленно расхаживала с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая. Алеше незнакомец был любопытен, но ему, в костюме босяка, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вызвать такого франта на разговор. Знакомство завязалось неожиданно. Расположившись недалеко от него с арбузом и хлебом, Алеша с удивлением заметил, что незнакомец не отрывает от него глаз, с жадностью глядя на его неприхотливый обед. Быстро оглянувшись вокруг, Алеша спросил его тихонько: — Хотите есть? Тот вздрогнул, алчно оскалил два ряда плотных здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся. Тогда Алеша сунул ему пол-арбуза и кусок пшеничного хлеба. Тот схватил все это и исчез, присев за груду товара. Иногда оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал Алеше, ни на секунду не переставая жевать. — Благодару! Очэн благодару! — Он потряс Алешу за плечо, потом схватил его руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти. Через пять минут он уже рассказывал о себе. Князь Шакро Птадзе, сын богатого помещика на Кавказе, служил конторщиком на Закавказской железной дороге. Товарищ, с которым он вместе жил, исчез, обокрав его. Шакро пустился его догонять. Узнав, что он уехал в Батум, Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Товарища он не нашел, деньги все проел и вот уже вторые сутки не ел ни крошки. Алеша слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и ему стало жалко незнакомца. Тот часто и с глубоким негодованием упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро «зарэжэт» сына кинжалом, если сын не найдет их. Алеша подумал, что если не помочь этому человеку, то он пропадет, и он решил помочь. Он предложил сперва сходить в полицию, просить билет на пароход. Шакро замялся и сказал, что не пойдет. Почему? Оказалось, что он не заплатил денег хозяину гостиницы, а когда с него потребовали денег, ударил кого-то, да, кстати, он и не твердо помнит — один или два раза ударил он, три или четыре, а может быть, и того больше. Положение осложнялось. Алеша решил, что будет работать, пока не заработает ему на билет до Батума… Но, увы… оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо Шакро ел за троих и даже больше. Из восьмидесяти копеек заработка они вдвоем проедали шестьдесят. К тому же надо было думать о приближавшейся зиме. Тогда он предложил князю Шакро пойти пешком на таких условиях: если Алеша не найдет ему попутчика до Тифлиса, то сам доведет его, а если найдет, то пойдет своей дорогой. Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и наконец согласился. И вот два путешественника отправились из Одессы в Тифлис.Две тысячи верст
Из Одессы пошли в Николаев. Шли семь дней, тратя последние деньги, заработанные в Одессе. В Николаеве Алеша надеялся достать работу, но обманулся в своих ожиданиях. Работы не было. Пошли на Херсон. Пока Алеша кормил своего спутника, тот был очень весел и болтал без умолку. Вышли деньги — и Шакро впал в уныние. Теперь все рассказы его были о том, как он ел на Кавказе. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленьким барашкэм» с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилии съедать за обедом три тарелки какой-то «чахохбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур[1] шашлыка, «сколки хочэшь толмы» и еще много разных кавказских яств, и при этом выпивал вина — «сколки хотэл». Он рассказывал, чмокая, с горящими глазами, оскалив зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая голодную слюну. Алеше становилось противно. Он спорил с голодным обжорой, а тот кричал ему: — Молчи! Ты ничего не панымаишь! Когда Алеше удавалось кое-что заработать и он делился с товарищем, Шакро бывал очень доволен. Князь говорил, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, они поедут морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет Алеше место дворника или сторожа. Он хлопал Алешу по плечу и покровительственно говорил, сладко прищелкивая языком: — Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино будэшь пить — сколки хочэшь, баранины — сколки хочэшь! Женишься на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!.. Она тэбэ будэт лаваш пэчь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце! Это «цце, цце!» сначала удивляло Алешу, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, Шакро выражал им восхищение, сожаление, удовольствие, горе. Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу путники продали в Херсоне. Вместо шляпы Шакро купил себе старую фуражку железнодорожного чиновника. Когда он в первый раз надел ее на голову, — надел сильно набекрень, — то серьезно спросил Алешу: — Идэт на мэна? Красыво? Снова вышли все деньги, и заработать было негде. Нужно было идти в Феодосию, там в то время начинались работы по устройству гавани. Но до Феодосии было дьявольски далеко. Алеша мечтал о южном береге Крыма, князь что-то напевал сквозь зубы и был хмур. Но вот путники прошли Перекоп, Симферополь и направились к Ялте. Алеша шел в немом восхищении перед красотой этого куска земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягодами. Знакомство с их питательными свойствами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он свирепо говорил Алеше: — Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду далшэ? А? Скажи — как? Возможности что-либо заработать не представлялось, и путники, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее. А Шакро начинал уже упрекать Алешу в лени и в — «роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжел, но больше всего угнетал Алешу рассказами о своем баснословном аппетите. Как-то раз, около Ялты, Алеша нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда он принес купленное, его позвал садовник, и Алеша ушел, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли. Возвратившись через час, Алеша убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите, говорил правду: от купленного не осталось ни крошки. Это был не товарищеский поступок, но Алеша смолчал, и напрасно, как оказалось впоследствии. Шакро, заметив молчание товарища, воспользовался им по-своему. С этого дня началось нечто удивительно нелепое. Один работал, а другой, под разными предлогами отказываясь от работы, ел, спал и понукал того, кто работал. Алеше было смешно и грустно смотреть на этого здорового парня. Когда он, усталый, возвращался, кончив работу, Шакро, дожидавшийся где-нибудь в тенистом уголке, жадно щупал его глазами. Но еще грустнее и обиднее было видеть, что тот смеется над ним за то, что он работает. Шакро выучился просить Христа ради. Когда он начал сбирать милостыню, то сперва стеснялся Алеши. Но потом, когда им случалось подходить к татарской деревушке, Шакро начинал на его глазах подготовляться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела. Он знал, что скупые татары не подадут здоровому парню. Алеша спорил с ним, доказывая ему постыдность такого занятия. — Я нэ умею работать! — кратко возражал Шакро. Ему подавали скудно. Алеша в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, а Шакро все несносней. Он теперь уж настоятельно требовал, чтобы Алеша его кормил. — Ты мэна вэдешь? Вэди! Развэ можна так далэко мнэ идти пэшком. Я нэ привык. Я умэрэть могу от этого! Что ты мэна мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будыт всэ? Мать будыт плакать, отэц будыт плакать, товарищи будут плакать! Сколки это слез? Иногда они расходились дня на два, на три в разные стороны; Алеша снабжал товарища хлебом и деньгами, если они были, и уславливался, где встретиться. Когда они сходились, то Шакро, проводивший Алешу подозрительно и с грустной злобой, встречал радостно, торжествующе и всегда, смеясь, говорил: — Я думал, ты убэжал адын, бросил мэна! Ха, ха, ха!.. Однако после каждого возвращения к нему Алеша все больше и ниже падал в его мнении, и Шакро не умел скрывать этого. Дела путников шли нехорошо. Алеша еле находил возможность заработать рубль-полтора в неделю, и, разумеется, этого было слишком мало двоим. Сборы Шакро не делали экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей все без разбора, — виноград, дыни, соленую рыбу, хлеб, сушеные фрукты, — и от времени пропасть эта как бы все увеличивалась в объеме и все больше требовала жертв. Шакро стал торопить Алешу уходить из Крыма, резонно заявляя, что уже осень, а путь еще далек… Алеша согласился с ним. К тому же он успел посмотреть эту часть Крыма, и они пошли на Феодосию в чаянии хорошо там заработать. Пошли берегом, хотя это был длиннейший путь: Алеше хотелось надышаться морем. Феодосия обманула ожидания путников. Там было около четырехсот человек, чаявших, как и они, работы и тоже вынужденных праздно околачиваться у строившегося мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. В России был голодный год, и бедняки партиями тянулись на юг. Всюду — и в городе, и вокруг него — бродили группами серые, удрученные фигуры голодающих, и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки. На Керчь пошли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у путников была всего только одна ячменная лепешка фунта в три, купленная у татарина на последний пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это была великая истина: действительно, до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжелый год. Шакро терпеть не мог «голодающих» — конкурентов ему в сборе милостыни. Еще издали видя их, он говорил: — Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ паиымаю! Очэн глупый народ в Россыи! И когда Алеша объяснял ему, что ходить по Крыму глупый русский народ заставляет неурожай, он, недоверчиво качая головой, возражал: — Нэ панымаю! Какы можна!.. У нас в Грузии нэ бываит таких глупостэй! Пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками пароходной пристани. Спрятаться не мешало: из Керчи незадолго до того был вывезен лишний народ — босяки. Паши путники побаивались, что попадут в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьезным осложнениям. Волны прилива всю ночь щедро осыпали их брызгами, на рассвете они вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили по берегу, и все, что удалось заработать, — это гривенник, полученный Алешею от какой-то попадьи, которой он отнес мешок дынь с базара. Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять их гребцами на тот берег, как Алеша ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков. А наших путников не без основания причисляли к той же категории.Шторм
Когда настал вечер, Алеша, со зла на свои неудачи, решился на рискованную штуку. Ночью он и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели… И было удобно в общем шуме раскачать кольцо и выдернуть его из камня. Над ними, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к ним, Алеша прекращал работу, но это, пожалуй, было излишней предосторожностью. Мог ли солдат предположить, что внизу человек сидит по горло в воде? К тому же цепи и без того звучали непрерывно. Кольцо выдернуто… Волна подхватила лодку и отбросила ее от берега. Алеша держался за цепь и плыл рядом с лодкой, потом влез в нее. После этого сняли две настовые доски и, укрепив их в уключинах вместо весел, поплыли… Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал во тьме, проваливаясь вместе с кормой, то высоко подымался и, крича, почти падал на Алешу. Тот посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услыхал его крик. Тогда Шакро замолчал. Алеша видел белое пятно на месте его лица. Шакро все время держал руль. Перемениться ролями было некогда, и переходить по лодке с места на место опасно. Алеша кричал ему, как ставить лодку, и Шакро, сразу понимая, делал все так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали нашим путешественникам, Но ветер дул в корму, и Алеша, не заботился о том, куда несет лодку, стараясь только, чтобы нос стоял поперек пролива. Это было легко установить, так как еще видны были огни Керчи. Волны заглядывали через борт и сердито шумели; чем дальше выносило лодку в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рев, дикий, грозный… А лодка все неслась — быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Она то и дело проваливалась в глубокие ямы и взлетала на водяные бугры, а ночь становилась все темней, тучи опускались ниже. Потом огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака. Они вышибли у Алеши из рук одну доску, он сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Потеряв надежду, охваченный злым отчаянием, Алеша видел вокруг только громадные волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи над собой, густые, лохматые, тоже похожие на волны… — Поставим парус! — крикнул Шакро. — Где он? — Из моего чэкмяня… — Бросай его сюда! Не выпускай руля!.. Шакро молча завозился на корме. — Дэржы!.. Он бросил свой чекмень. Кое-как, ползая по дну лодки, Алеша оторвал от наста еще доску, надел на нее рукав плотной одежды, поставил ее к скамье лодки, припер ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное… Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и Алеша очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за веревку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через его голову, он глотал солено-горькую воду. Она наполняла уши, рот, нос… Крепко вцепившись руками в веревку, он поднимался и опускался на воде, стукаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на киль лодки, старался вспрыгнуть на него сам. После десятка тщетных усилий, это ему наконец удалось, он оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же веревку, которую Алеша только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов. — Жив! — крикнул Алеша. Шакро высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на перевернутую лодку. Алеша подхватил его, и они очутились лицом к лицу. Алеша сидел на лодке точно на коне, всунув ноги в бечевки, как в стремена, — но это было ненадежно: любая волна легко могла выбить его из седла. Шакро уцепился руками за его колени и ткнулся головой ему в грудь. Он весь дрожал, и Алеша чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользкое, точно смазанное маслом. Алеша сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за веревки с одного борта, а сам он так же устроится на другом. Вместо ответа, Шакро стал толкать его головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через них, и они еле держались; одну ногу Алеше страшно резало веревкой. Со всех сторон вздымались высокие бугры воды и с — шумом исчезали. Алеша повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро еще сильнее стал толкать его головой в грудь. Медлить было нельзя. Алеша оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел руками за веревки. И тут произошло нечто, испугавшее Алешу больше всего в эту ночь. — Топишь мэна? — прошептал Шакро и взглянул Алеше в лицо. Это было действительно страшно. Страшен был его вопрос, еще страшнее тон вопроса, в котором звучали и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но еще страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!.. Алеша крикнул ему: «Держись крепче!» и спустился в воду сам, держась за веревку. Он ударился о что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. В нем вспыхнуло что-то горячее, он опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда… — Земля! — крикнул он. Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с большим чувством, чем Алеша, но вряд ли они могли кричать громче. Шакро завыл и тоже бросился в воду. Но оба быстро охладели; воды было еще по грудь, и нигде не виднелось каких-либо существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекатывались через их головы. К счастью, Алеша не выпустил из рук шлюпки. Они стали по ее бортам и, держась за спасительные веревки, осторожно двинулись, ведя за собой лодку. Шакро бормотал что-то и смеялся. Алеша озабоченно поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа шум воды был сильнее, впереди и влево тише. Они пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в ямах. Иногда они не доставали дна и работали ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено. На глубоких местах Шакро выл, а Алеша дрожал в страхе. И вдруг — спасение! — впереди засверкал огонь… Шакро заорал что есть мочи. Но Алеша твердо помнил, что лодка казенная и что вести себя следует тихо. Он тотчас же заставил и Шакро вспомнить-об этом. Тот замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Алеша не мог успокоить его — нечем было. Воды становилось все меньше… по колено… по щиколотки… Тащить лодку больше не стало сил, бросили ее. На пути виднелась черная коряга. Перепрыгнули через нее — и оба босыми ногами попали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли — негостеприимно. Однако, что было делать? Они побежали на огонь, который в версте от них весело пылал и, казалось, смеялся им навстречу.Чудесное спасение
Три громадные кудлатые собаки, выскочив откуда-то из тьмы навстречу бегущим, бросились на них. Шакро, все время судорожно рыдавший от боли, взвыл и упал на землю. Алеша швырнул в собак мокрым чекменем и наклонился, ища рукой камень или палку. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскакивали. Алеша засвистал что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отскочили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей. Через несколько минут оба были у костра в кругу четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх. Двое чабанов сидели на земле и курили, третий — высокий, с густой черной бородой и в казацкой папахе — стоял сзади, опершись на палку, четвертый, молодой русый парень, помогал плачущему Шакро раздеваться. Саженях в пяти от костра вся земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч — теплый и толстый пласт, покрывавший степь… Иногда они блеяли жалобно и пугливо.
Алеша сушил чекмень над огнем и говорил чабанам все по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.
— Где же она, та лодка? — спросил Алешу суровый седой старик, не сводивший с него глаз.
Алеша сказал.
— Пойди, Михал, взглянь!..
Чернобородый Михал вскинул палку на плечо и отправился к берегу.
Шакро, дрожавший от холода, попросил Алешу дать ему теплый, хотя еще мокрый чекмень, но старик сказал:
— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!
Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками.
Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во все горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить.
Он присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивал густым басом:
— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!
Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, которые казались красными как кровь.
Теперь уже все трое чабанов били в ладоши, а Алеша, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что такие приключения сделали бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра…
Но как еще обернется дело? Алеша чувствовал себя в совершенной зависимости от этих непонятно еще для него настроенных людей.
Шакро уже сидел на земле, закутанный в чекмень, и поглядывал на Алешу черными глазами, в которых искрилось что-то странное и неприятное. Его одежда сушилась на палках около костра.
Пришел Михал и молча сел рядом со стариком.
— Ну? — спросил старик.
— Есть лодка! — кратко сказал Михал.
— Ее не смоет?
— Нет!
И они все замолчали, разглядывая Алешу.
— Что ж? — спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь. — Свести их в станицу к атаману? А, может, прямо к таможенным?
На сердце у Алеши заскребли кошки. Посмотрел на Шакро. Шакро спокойно что-то ел.
— Можно к атаману свести… и к таможенным тоже… И то гарно, и другое, — сказал, помолчав, старик.
— Погоди, дед… — начал было Алеша.
Но он не обратил на него никакого внимания.
— Вот так-то! Михал! Лодка там?
— Эге, там…
— Что ж… ее не смоет вода?
— Ни… не смоет.
— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж им не захватить пустую лодку? Э? Ну, вот… А теперь вы… хлопцы-рванцы… того… як его? Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба?.. Утонули бы, и — всё тут.
Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на Алешу.
— Что ж ты молчишь, парнюга?
Алешу вывели из себя рассуждения старика, которые весьма похожи были на издевательство.
— Да вот слушаю тебя! — сердито ответил он.
— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.
— Ну, и ничего.
— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?
Алеша промолчал.
— А есть ты не хочешь? — продолжал старик.
— Не хочу.
— Ну, не ешь. Не хочешь — не ешь. А, может, на дорогу взял бы хлеба?
Алеша вздрогнул от радости, но не выдал себя.
— На дорогу взял бы… — спокойно сказал он.
— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала, там… А, может, еще что есть? То и этого дайте.
— А разве ж они пойдут? — спросил Михал.
Остальные двое подняли глаза на старика.
— А чего ж бы им здесь с нами делать?
— Да ведь к атаману мы их хотели… а то — к таможенным… — разочарованно заявил Михал.
Шакро завозился около костра и с любопытством высунул голову из чекменя. Он был спокоен.
— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему… коли захотят.
— А лодка как же? — не уступал Михал.
— Лодка? — переспросил старик. — Что ж лодка? Стоит она там?
— Стоит… — ответил Михал.
— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани… там ее возьмут, до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.
— А не вышло бы греха какого, часом… — начал сдаваться Михал.
— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам, и им. Нам надо свое дело делать, им — идти. Эй! далеко еще вам идти? — спросил старик, хотя Алеша уже говорил ему, как далеко.
— До Тифлиса…
— Много пути! Вот видишь, а атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?
— А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи старика.
— Ну, так идите же к богу, ребята! — махнул рукой старик.
— Спасибо тебе, дед! — скинул Алеша шапку.
— Да за что ж спасибо? Вот чудно! Я говорю: идите к богу, а он мне — спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?
— Был грех, боялся!.. — сказал Алеша.
— О!.. — И старик поднял брови. — Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж — знакомы будем. Часом помочь друг другу придется… До свидки…
Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился. Поклонились и его товарищи.
Путники спросили дорогу и пошли.
Шакро смеялся над чем-то…
— Ты что смеешься? — спросил Алеша.
Шакро хитро подмигнул ему глазом и расхохотался еще сильней.
Алеша тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смех. Отдых у костра, вкусный хлеб с салом, чудесный рассвет — все это заслонило собой воспоминания о страшной ночи.
От этих происшествий осталась теперь только легонькая ломота в костях.
— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив, да еще и сыт?
Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул Алешу локтем в бок, сделал гримасу, снова расхохотался и наконец заговорил:
— Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас павэли к этому атаману-таможану? Не знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэна утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэна стали жалэть и не посадили б в турму! Панымаишь?
Алеша хотел сначала понять это как шутку, но Шакро основательно и ясно стал убеждать его в серьезности своего намерения.
Тогда Алеша с жаром пустился было доказывать ему всю чудовищность такого намерения. Шакро очень просто возражал, что тот не понимает его выгод, забывает о проживании по чужому билету и о том, что за это — не хвалят…
Вдруг у Алеши блеснула одна догадка.
— Погоди, — закричал он, — да ты веришь в то, что я действительно хотел утопить тебя?
— Нэт!.. Когда ты мэна в воду толкал — вэрил, когда сам ты пошел — нэ вэрил!..
— Слава богу! — облегченно воскликнул Алеша. — Ну, и за это спасибо!..
— Нэт, нэ говори спасыбо! Я тэбэ скажу спасибо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было… Чэкмэнь был — ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, отдал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасибо! Ты очэн хароший человэк — я нанимаю. Придем в Тифлис, — за все получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу отцу: вот человэк! Корми его, пои его, а мэна — к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах! Очэн харашо будэт тэбэ жить! Очэн просто… Пей, ешь из адной чашка с мной!..
Алеша смотрел ему в лицо, разйнув рот от изумления.
А Шакро, довольный собой, долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить Алеше.
Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.
— Я спать хочу! — сказал Шакро.
Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, закутался в чекмень и скоро заснул.
Алеша сидел рядом с ним и смотрел на него.
Саженях в пяти от костра вся земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч — теплый и толстый пласт, покрывавший степь… Иногда они блеяли жалобно и пугливо.
Алеша сушил чекмень над огнем и говорил чабанам все по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.
— Где же она, та лодка? — спросил Алешу суровый седой старик, не сводивший с него глаз.
Алеша сказал.
— Пойди, Михал, взглянь!..
Чернобородый Михал вскинул палку на плечо и отправился к берегу.
Шакро, дрожавший от холода, попросил Алешу дать ему теплый, хотя еще мокрый чекмень, но старик сказал:
— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!
Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками.
Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во все горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить.
Он присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивал густым басом:
— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!
Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, которые казались красными как кровь.
Теперь уже все трое чабанов били в ладоши, а Алеша, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что такие приключения сделали бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра…
Но как еще обернется дело? Алеша чувствовал себя в совершенной зависимости от этих непонятно еще для него настроенных людей.
Шакро уже сидел на земле, закутанный в чекмень, и поглядывал на Алешу черными глазами, в которых искрилось что-то странное и неприятное. Его одежда сушилась на палках около костра.
Пришел Михал и молча сел рядом со стариком.
— Ну? — спросил старик.
— Есть лодка! — кратко сказал Михал.
— Ее не смоет?
— Нет!
И они все замолчали, разглядывая Алешу.
— Что ж? — спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь. — Свести их в станицу к атаману? А, может, прямо к таможенным?
На сердце у Алеши заскребли кошки. Посмотрел на Шакро. Шакро спокойно что-то ел.
— Можно к атаману свести… и к таможенным тоже… И то гарно, и другое, — сказал, помолчав, старик.
— Погоди, дед… — начал было Алеша.
Но он не обратил на него никакого внимания.
— Вот так-то! Михал! Лодка там?
— Эге, там…
— Что ж… ее не смоет вода?
— Ни… не смоет.
— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж им не захватить пустую лодку? Э? Ну, вот… А теперь вы… хлопцы-рванцы… того… як его? Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба?.. Утонули бы, и — всё тут.
Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на Алешу.
— Что ж ты молчишь, парнюга?
Алешу вывели из себя рассуждения старика, которые весьма похожи были на издевательство.
— Да вот слушаю тебя! — сердито ответил он.
— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.
— Ну, и ничего.
— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?
Алеша промолчал.
— А есть ты не хочешь? — продолжал старик.
— Не хочу.
— Ну, не ешь. Не хочешь — не ешь. А, может, на дорогу взял бы хлеба?
Алеша вздрогнул от радости, но не выдал себя.
— На дорогу взял бы… — спокойно сказал он.
— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала, там… А, может, еще что есть? То и этого дайте.
— А разве ж они пойдут? — спросил Михал.
Остальные двое подняли глаза на старика.
— А чего ж бы им здесь с нами делать?
— Да ведь к атаману мы их хотели… а то — к таможенным… — разочарованно заявил Михал.
Шакро завозился около костра и с любопытством высунул голову из чекменя. Он был спокоен.
— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему… коли захотят.
— А лодка как же? — не уступал Михал.
— Лодка? — переспросил старик. — Что ж лодка? Стоит она там?
— Стоит… — ответил Михал.
— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани… там ее возьмут, до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.
— А не вышло бы греха какого, часом… — начал сдаваться Михал.
— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам, и им. Нам надо свое дело делать, им — идти. Эй! далеко еще вам идти? — спросил старик, хотя Алеша уже говорил ему, как далеко.
— До Тифлиса…
— Много пути! Вот видишь, а атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?
— А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи старика.
— Ну, так идите же к богу, ребята! — махнул рукой старик.
— Спасибо тебе, дед! — скинул Алеша шапку.
— Да за что ж спасибо? Вот чудно! Я говорю: идите к богу, а он мне — спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?
— Был грех, боялся!.. — сказал Алеша.
— О!.. — И старик поднял брови. — Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж — знакомы будем. Часом помочь друг другу придется… До свидки…
Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился. Поклонились и его товарищи.
Путники спросили дорогу и пошли.
Шакро смеялся над чем-то…
— Ты что смеешься? — спросил Алеша.
Шакро хитро подмигнул ему глазом и расхохотался еще сильней.
Алеша тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смех. Отдых у костра, вкусный хлеб с салом, чудесный рассвет — все это заслонило собой воспоминания о страшной ночи.
От этих происшествий осталась теперь только легонькая ломота в костях.
— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив, да еще и сыт?
Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул Алешу локтем в бок, сделал гримасу, снова расхохотался и наконец заговорил:
— Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас павэли к этому атаману-таможану? Не знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэна утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэна стали жалэть и не посадили б в турму! Панымаишь?
Алеша хотел сначала понять это как шутку, но Шакро основательно и ясно стал убеждать его в серьезности своего намерения.
Тогда Алеша с жаром пустился было доказывать ему всю чудовищность такого намерения. Шакро очень просто возражал, что тот не понимает его выгод, забывает о проживании по чужому билету и о том, что за это — не хвалят…
Вдруг у Алеши блеснула одна догадка.
— Погоди, — закричал он, — да ты веришь в то, что я действительно хотел утопить тебя?
— Нэт!.. Когда ты мэна в воду толкал — вэрил, когда сам ты пошел — нэ вэрил!..
— Слава богу! — облегченно воскликнул Алеша. — Ну, и за это спасибо!..
— Нэт, нэ говори спасыбо! Я тэбэ скажу спасибо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было… Чэкмэнь был — ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, отдал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасибо! Ты очэн хароший человэк — я нанимаю. Придем в Тифлис, — за все получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу отцу: вот человэк! Корми его, пои его, а мэна — к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах! Очэн харашо будэт тэбэ жить! Очэн просто… Пей, ешь из адной чашка с мной!..
Алеша смотрел ему в лицо, разйнув рот от изумления.
А Шакро, довольный собой, долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить Алеше.
Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.
— Я спать хочу! — сказал Шакро.
Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, закутался в чекмень и скоро заснул.
Алеша сидел рядом с ним и смотрел на него.
Конец пути!
Впереди был Кавказ. Прошли Кубань, шли по Терской области. Шакро был растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался действительно неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгребать солому и через полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держи-дерево, и Шакро сорвал себе мотыгой кожу с шеи. Шли довольно медленно — два дня работы, день пути. Ел Шакро крайне несдержанно, и по милости его чревоугодия Алеша никак не мог скопить столько денег, чтоб подправить хотя бы его костюм. А костюм у Шакро был сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами. Чем ближе подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа путники зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу. Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над ними и ругали их на своем языке, Алеша решил уйти из аула, испуганный все возраставшим среди аульников враждебным отношением. Когда путники отошли верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и, с торжеством показав Алеше, воскликнул: — Волыни нэ надо работать! Продадим — купим всего! Хватит до Тыфлыса! Панымаишь? Алеша был возмущен до бешенства. Вырвал кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго перед этим он слышал от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули ее глубоко в рану, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер по дороге в станицу. Казаки не однажды предостерегали от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе. Алеша напомнил Шакро об этом. Тот стоял перед ним, слушал и вдруг, молча оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на него. Минут пять они основательно колотили друг друга, и наконец Шакро с гневом крикнул: — Будэт!.. Измученные, оба долго молчали, сидя друг против друга… Шакро жалко посмотрел туда, куда Алеша швырнул красную кисею, и заговорил: — За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэн глупо. Развэ я у тэбэ украл? Алеша пытался объяснить ему, что есть кража… — Пажалуста, ма-алчи! У тэбэ галава как дэрэво… — презрительно сказал он и объяснил — Умирать будэшь — воровать будэшь? Ну! А развэ это жизнь? Малчи! Боясь снова раздражить его, Алеша молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда они были в Черноморье, Шакро стащил у греков-рыбаков карманные часы. Тогда они тоже едва не подрались. — Ну, — идем далшэ? — сказал Шакро, когда оба несколько успокоились, примирились и отдохнули. Пошли дальше. Шакро с каждым днем становился все мрачней и смотрел на Алешу странно, исподлобья. Как-то раз. когда уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаура, он заговорил: — Дэнь-два пройдет — в Тыфлыс придем. Цце, цце! — почмокал он языком и расцвел весь. — Приду домой, — гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду… ага! Есть буду много… ах, много! Скажу матэри: очэн хачу есть! Скажу отцу: просты мэнэ! Я видэл мыного горя, жизнь видэл — разный! Босяки очэн хароший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу: пэй вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ… Вот человек, был мэнэ как старший брат… Учил мэнэ, бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэпэрь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми — вот сколько! Алеша любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие минуты что-то простое и детское. Такие речи были еще и потому интересны, что в Тифлисе он не имел ни одного человека знакомого, а близилась зима — на Гудауре их уже встретила вьюга. Алеша надеялся немного на Шакро. Шли быстро. Вот и Мцхет — древняя столица Иберии. Завтра — Тифлис. Еще издали, верст за пять, Алеша увидал столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Алеша был рад, Шакро — как будто равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот… Это он неосторожно поел сырой моркови, которую нарвал по дороге. Вдруг он заговорил: — Ты думаишь, я — грузинский дыварянин — пайду в мой город днем такой, рваный, гразный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчэра. Стой! Сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-Грузинской дороги дул резкий, сильный ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню.. Алеша думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни пред жизнью кочевой. — Идем! — поднялся Шакро с решительным лицом. Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво; огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город. — Слушай! — сказал Шакро. — Ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо… а то узнают мэиэ знакомые, может быть… Алеша дал башлык. Они шли по Ольгинской улице. Шакро насвистывал нечто решительное. — Алэксэй! Видишь станцию конки — Верийский мост? Сыди тут, жди! Пажалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать… — Ты недолго?! — Сэйчас! Адын момэнт!.. Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем — навсегда. Алеша никогда больше не встречал этого человека — своего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но он часто вспоминал о нем с добрым чувством и веселым смехом. Алеше перешло уже за двадцать лет. Много прочел он книг, много видел людей, но встреча с Шакро была, пожалуй, самой замечательной. Она научила Алешу многому, чего не найдешь и в книгах.Первый рассказ
Оставшись один в чужом городе, Алеша промышлял, как мог. Носил тяжести, работал на железной дороге. Пришлось бы ему и совсем плохо, если бы не счастливая встреча. Александр Мефодиевич Калюжный, революционер, бывший на каторге и сосланный на Кавказ, служил в железнодорожном правлении. Все чаще его глаза останавливались на молодом грузчике с упрямым, скуластым лицом и ясными живыми глазами. Одетый куда как плохо, совсем не по сезону, грузчик не унывал и то веселил товарищей, рассказывая разные случаи из своей жизни, то говорил о том, как рабочие должны бороться за разумную жизнь и не уступать хозяевам. Калюжный предложил ему поселиться у себя, и вот Алеша долгими вечерами рассказывает своему новому знакомому все свои приключения во время странствий. Калюжный смотрит на него из-под мохнатых бровей насмешливо и ласково. А когда Алеша как-то рассказал о своей встрече с цыганом на берегу Дуная, Калюжный встал, взял его за плечо и вывел в другую комнату. — Там на столе есть бумага, — сказал он через дверь изумленному Алеше. — Запишите-ка то, что мне рассказывали. А до тех пор, пока не напишете, не выпущу! Трудно было Алеше с непривычки. Но Калюжный и слушать ничего не хотел, пока рассказ не был готов.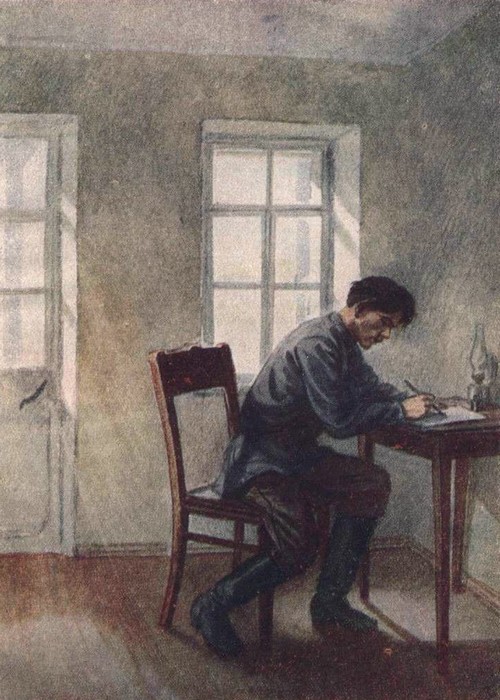 На другой день Алеша был в редакции тифлисской газеты «Кавказ».
Перед ним, за столом, сидел редактор, худощавый старик в золотых очках. Он внимательно читал только что принесенный рассказ «Макар Чудра».
Так… — сказал редактор, кончив чтение, и с удивлением оглядел несколько нескладную фигуру автора. — Так, — повторил он, задумавшись. — Однако тут нет подписи. Нужно подписаться. Как подписать? Кто вы?
Кто он? Алеша подумал, хотел что-то сказать, потом поколебался и наконец, махнув рукой, сказал с решительным видом:
Хорошо, подпишите так: Горький… Максим Горький…
Редактор подписал. Потом в левом верхнем углу рукописи пометил для типографии: «В набор».
На другой день Алеша был в редакции тифлисской газеты «Кавказ».
Перед ним, за столом, сидел редактор, худощавый старик в золотых очках. Он внимательно читал только что принесенный рассказ «Макар Чудра».
Так… — сказал редактор, кончив чтение, и с удивлением оглядел несколько нескладную фигуру автора. — Так, — повторил он, задумавшись. — Однако тут нет подписи. Нужно подписаться. Как подписать? Кто вы?
Кто он? Алеша подумал, хотел что-то сказать, потом поколебался и наконец, махнув рукой, сказал с решительным видом:
Хорошо, подпишите так: Горький… Максим Горький…
Редактор подписал. Потом в левом верхнем углу рукописи пометил для типографии: «В набор».

Последние комментарии
14 часов 18 минут назад
18 часов 32 минут назад
20 часов 51 минут назад
22 часов 40 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 4 часов назад