Я много жил… [Джек Лондон] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

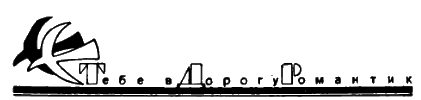
ДЖЕК ЛОНДОН
Я много жил…

*
Составитель В. М. Быков Художник Андрей Голицын
На фронтисписе: Джек Лондон. 1899 г.
М., «Молодая гвардия», 1973.
Произведения известного американского писателя Джека Лондона полны жизненной правды и очарования, присущих только творениям большого искусства. В содержании произведений этого писателя нет сверхъестественного, они глубоко реалистичны и вместе с тем овеяны романтикой. Лондон умеет показать те поразительные высоты, на которые способен подняться человек. В борьбе с силами природы и социальными условиями герои его проявляют бесстрашие, огромную волю, присутствие духа. Сборник «Я много жил…» включает не только самые известные рассказы выдающегося американского писателя, но и некоторые его малоизвестные и даже впервые переведенные на русский язык произведения. В сборник также впервые включены отрывки из переписки Дж. Лондона. Книга завершается рассказом литературоведа Виля Быкова о посещении им тех мест, где родился, вырос и провел почти всю жизнь Джек Лондон, о встречах с людьми, знавшими писателя, о поисках неизвестных его произведений.
РАССКАЗЫ

ОТСТУПНИК
Перевод З. Александровой
Вот я на работу дневную иду. Господь, укрепи мои мышцы к труду. А если мне смерть суждена, я творца Молю дать работу свершить до конца.Аминь.
— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам! Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо. — Н-ну тебя!.. Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки. Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне, постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода истопленной комнаты. Он повис на краю кровати и, казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие; потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его — он проснулся. — Ладно, — пробормотал он. Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте. — Вычтут, будешь знать! бросила она, уходя. Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул. — Джонни! — резко окликнула его мать. Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то; что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов. — Хоть бы раз в день сам догадался помыться, — упрекнула его мать. Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна. — Уж очень мы далеко живем, — сказала мать, когда Джонни сел к столу. — Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь. Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики. — Доллар — это, значит, еды прибавится, — заметил он рассудительно. — Лучше пройтись, да зато поесть побольше. Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни. В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд. — Не будь обжорой, — сказала она. — Ты свою долю получил. А что младшим останется? Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула. — Погоди-ка, — поспешно сказала мать. — Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи. Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, ему же подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест. Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки. — Что-то мутит меня сегодня от него, — пояснила она. Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку. — Придется бегом, — сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь. Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице. День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле. Минут через пятнадцать мать свернула вправо. — Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение. Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми. Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним, над ящиком с мелкими шпульками, быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда. Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов. Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину. — Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь как он? — грозно спросил мастер. Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время… но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похвала стала привычкой и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась — это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка не точно штамповать гвозди. И не удивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цехе этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день. Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше, — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цехе. Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Так же и мастер. Но в одиннадцать часов в цехе началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка, работающий рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которой придерживался Джонни, а кроме того — инспектор. Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием. — Худощав немного, — тревожно хихикнул управляющий. — Одни кости! — последовал ответ. — А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез. Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное. — Ну, мальчик, отвечай правду, — сказал, вернее прокричал, инспектор, наклоняясь к его уху. — Сколько тебе лет? — Четырнадцать, — солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро. — На вид все шестнадцать, — сказал управляющий. — Или все шестьдесят, — отрезал инспектор. — Он всегда был такой. — С каких пор? — быстро спросил инспектор. — Да уж сколько дет. И все не взрослеет. — Не молодеет, я бы сказал» И все эти годы он проработал здесь? — С перерывами. Но это было до введения нового закона, — поспешил добавить управляющий. — Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки. — Похоже на то, — управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок. — Пустует, — доложил он инспектору. Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство. — Я знаю этого мальчика, — сказал инспектор. — Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая. Он обернулся к одноногому: — Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово! Мальчик залился слезами. — Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда. — А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении. И, точно оправдываясь, одноногий ответил: — Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего. Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш. Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой. За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался — лечь ли ему спать или выйти на улицу — и, наконец, выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони. Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание. Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него большую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери. И то, что Джонни уступал и отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии. Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом. Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева. — А чего он пристает! — отвечал Джонни. — Не видит разве, что я устал? — Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью. — Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется! — А ты бы шел работать, раз вырос такой большой, — огрызнулся Джонни. — Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу. — Да ведь он еще мал, — запротестовала она. — Куда ему работать, такому малышу. — Я был меньше, когда начинал. Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями. — Не пойму, что делается с Джонни, — слышал он. — Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший, — поспешила она оправдать его. — От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше. Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза: — Вот именно, не отлынивал. На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дому в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые. Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма. На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием. Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось уменье. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником. Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день. Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе. Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличивать производительность. За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как, бывало, в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали, и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее, — он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб. Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта Клауса; он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань. Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он получил первое жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком. В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема», — сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний. Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть — домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням. Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха. Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие как на единственное свое преступление и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее. Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание действительного события — нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит к временам, когда предки его жили на деревьях. Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги. Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины — да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее. Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до», или «после того, как я перешел в крахмальный» — вот слова, которые не сходили у него с уст. Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех. После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах. Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх. В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию: что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов — и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок. Однажды поздней весной Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивали губами. Но Джонни был глух ко всему. — Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать. Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать. — «Плавучий остров», — объявила она с торжеством. — А-а, — сказал Джонни. — «Плавучий остров»! — хором подхватили дети. — А-а, — повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть. Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся. — Я, пожалуй, лягу. Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начались стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход, челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков. На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», — сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача. Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало. — Лучший ткач в цехе, — сказал он матери. — Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник. — Ты бы хоть поблагодарил, Джонни, — озабоченно сказала мать. — Он так был плох, до сих пор в себя не пришел, — виновато объяснила она гостю. Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления. На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него были карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то. — Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы. — И как их считают? К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына. На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и спокойно заговорил: — Ни к чему это, мама. — Опоздаешь, — сказала она, думая, что он еще не проснулся. — Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану. — Да ведь работу потеряешь! — вскричала она. — Сказал, не встану, — повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом. В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс. — Ничего особенного, — сказал доктор, — очень ослабел, конечно. Кожа да кости! — Да он всегда был такой, — сказала мать. — Теперь уйди, мама, дай мне поспать. Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул. В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него. — Я ухожу, мама, — объявил он. — Давай простимся. Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал. — Вот, дожила! — проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства. — Да куда же ты пойдешь? — Не знаю… куда-нибудь. Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту. — А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать. — Не буду я больше работать. — Господь с тобой, Джонни! — заголосила она. — Что ты говоришь! Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать. — Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость. — Цифры, — ответил он. — Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился. — Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она. Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность? — Сейчас объясню, — сказал он. — Я вымотался. А от чего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч, — он сказал это с великодушием щедрого филантропа, — отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю. А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать… а потом опять отдыхать. — А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать. — Ну конечно, Вилли и ребятишки… — повторил он. Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это. — Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли: чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать. — А я-то тебя растила, — заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица. — Ты меня не растила, — сказал он кротко и грустно. — Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу…
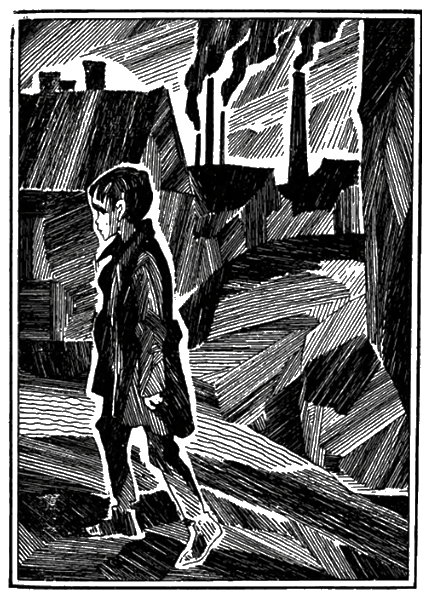
Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях. — Я ведь делала все, что могла, — всхлипывала мать. Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево. — Теперь я ничего не буду делать, — сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его. Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя. Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — заморенное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная. Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины. Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.
ПРИЗНАНИЕ
Перевод Р. Гальпериной
В штате Невада есть женщина, которой я однажды на протяжении нескольких часов врал нагло, безбожно, самозабвенно. Я не каюсь, об этом не может быть и речи. Но объяснить кое-что мне бы хотелось. К сожалению, я не знаю ни имени ее, ни теперешнего адреса. Может быть, ей случайно попадутся эти строки, и она не откажется черкнуть мне несколько слов. Это было в городе Рено, штат Невада. Была ярмарка — достаточное основание для того, чтобы город наводнили банды жулья и всякого продувного народа, не говоря уж о толпах бродяг, налетевших на него голодной саранчой. Собственно, голодные бродяги и делали город «голодным». Они так настойчиво толкались в двери с черного хода, что двери притаились и молчали. «В таком городе не больно разживешься», — говорили бродяги. Мне, во всяком случае, то и дело приходилось «пропускать» обед, даром что я не хуже кого другого умел «извернуться», когда надо было «выйти на промысел», «пострелять», забрести, к кому-нибудь «на дымок», «напроситься в гости» или подцепить на улице «легкую монету». Мне так досталось в этом городе, что в один прекрасный день я, увернувшись от проводника, вторгся очертя голову в железнодорожный вагон — неприкосновенную собственность какого-то проезжего миллионера. Поезд как раз тронулся, когда я вскочил на площадку вагона и устремился к его хозяину, преследуемый по пятам проводником, который уже простирал руки, готовясь меня схватить. Гонка была отчаянная; не успел я настичь миллионера, как мой преследователь настиг меня. Тут уж было не до обмена любезностями. Задыхаясь, я выпалил: «Дайте четвертак на хлеб!» И что вы думаете — миллионер полез в карман и дал мне… ровным счетом двадцать пять центов. Мне думается, он был так ошеломлен, что действовал машинально. Простить себе не могу, что не нагрел его по крайней мере на доллар. Уверен, что он дал бы и доллар. Я тут же соскочил на ходу, увертываясь от проводника, который все норовил залепить мне по физиономии, — без всякого успеха, впрочем. Но незавидное, я вам скажу, положение! Представьте, что вы висите на поручне вагона и прыгаете с нижней подножки, стараясь не разбиться, а в это самое время этакий разъяренный эфиоп тычет вам в лицо сапогом Хе И! Как бы там ни было, деньгами я разжился! Вот они — в кулаке! Однако вернемся к женщине, которую я так бессовестно обманул. В тот день я уже собирался отбыть из Рено. Дело было под вечер. Я задержался на бегах — любопытно было поглядеть на тамошних лошадок — и не успел, что называется, «перекусить», вернее — не ел с утра. Аппетит у меня разыгрался, а между тем мне было известно, что ь городе организована гражданская полиция и что она намеревается избавить горожан от разных голодных проходимцев, вроде меня, грешного. Немало моих бездомных собратьев попало в руки господина Закона, и солнечные долины Калифорнии все неотступнее звали меня перемахнуть через хмурые гребни Сиерры. Но, прежде чем отрясти от ногсвоих пыль города Рено, мне надо было решить две задачи: первая — еще этим вечером забраться в поезд, идущий на запад; вторая — слегка подкрепиться на дорогу. Ибо и вам, даже если вы и молоды, не понравится целую ночь напролет трястись на голодный желудок где-нибудь на крыше вагона, мчащегося во весь опор сквозь туманы и метели, мимо устремленных в небо снеговых вершин. Но подкрепиться было не так-то просто. Меня уже «попросили» из десятка домов. По моему адресу то и дело летели нелестные замечания, вроде того, что по мне давно скучает некий уютный уголок за решеткой и что это, в сущности, самое подходящее для меня место. Увы, все эти замечания были недалеки от истины. Потому-то я и собирался в этот же вечер податься на запад. В городе хозяйничал господин Закон, он охотился за сирыми и голодными, ибо это обычные поселенцы упомянутого уютного места за решеткой. Были и такие дома, где двери захлопывались у меня перед носом, обрывая на полуслове мою учтивую, составленную в смиренных выражениях просьбу пожертвовать что-нибудь на пропитание. В одном доме мне и вовсе не открыли. Я стоял на крыльце и стучался, а обитатели дома глазели на незваного гостя в окно. Кто-то поднял на руки упитанного бутуза, чтобы и он через головы взрослых мог полюбоваться на человека, которого в этом доме не намерены были покормить. Я уже подумывал о том, чтобы перенести свои поиски в кварталы, заселенные беднотой. Бедняк — это последний и верный оплот голодного попрошайки. На бедняка всегда можно положиться: он не прогонит голодного со своего порога. Как часто, странствуя по Штатам, приходилось мне безуспешно стучать в двери роскошных особняков, стоящих на вершине холма; но не было случая, чтобы где-нибудь в речной низине или на гнилом болоте из лачуги с разбитыми окошками, заткнутыми тряпьем, не показалась изнуренная работой женщина и не предложила мне зайти. О вы, лицемеры, проповедующие милосердие! Ступайте к беднякам и поучитесь у них, ибо только бедняк знает, что такое милосердие. Бедняк дает — или отказывает — не от избытков своих. Какие у него избытки! Он дает — и никогда не отказывает — от бедности своей и очень часто делится последним. Кость, брошенная псу, не говорит о милосердии. Милосердие — это кость, которую делишь с голодным псом, когда ты так же голоден, как и он. Особенно запомнился мне разговор в одном доме, где меня в тот вечер выставили за дверь. Окна столовой выходили на террасу, и я увидел человека, который сидел за столом и уписывал пудинг — большущий мясной пудинг. Я стоял на пороге, и, разговаривая со мной, он ни на минуту не отрывался от еды. Это был преуспевающий делец, с вершины успеха презиравший своих менее удачливых собратьев. Он грубо прервал мою просьбу дать мне поесть, прорычав сквозь зубы: — Работать небось не хочешь? Странный ответ! Я ведь и не заикался о работе. Речь шла о еде. Я и в самом деле не хотел работать: я собирался этой же ночью сесть в поезд и ехать на запад. — Дай тебе работу, ты все равно откажешься, — язвительно продолжал он. Я взглянул на его робкую жену и понял, что только присутствие этого цербера мешает мне получить от нее свою долю угощения. А между тем цербер продолжал уписывать пудинг. Обстоятельства требовали уступок, и я сделал вид, что согласен с его тезисом о необходимости работать. — Разумеется, я хочу работать, — солгал я. — Враки! — презрительно фыркнул он. — А вы испытайте меня, — настаивал я с задором. — Ладно! — сказал он. — Приходи завтра туда-то и туда-то (я забыл куда), — ну, где погорелый дом. Я поставлю тебя разбирать кирпич. — Слушаюсь! Приду непременно. Он что-то хрюкнул и опять уткнулся в тарелку. Я не уходил. Прошла минута, другая — и он воззрился на меня: какого, дескать, черта тебе еще надо? — Ну! — властно гаркнул он. — Я… А вы не покормите меня? — спросил я как можно деликатнее. — Так я и знал, что ты не хочешь работать, — заорал он. Положим, он был прав. Но ведь это значит заниматься чтением мыслей. С точки зрения логики его рассуждения никуда не годились. Однако нищему у порога приличествует смирение, и я скрепя сердце принял его логику, как раньше — его мораль. — Видите ли, — продолжал я так же деликатно. — Я уже сейчас голоден. Что же будет со мной завтра! А ведь мне предстоит разбирать кирпич — легко ли целый день работать на голодный желудок! Покормите меня сегодня, и завтра мне будет в самый раз возиться с вашим кирпичом. Не прекращая жевать, он как будто задумался над моими словами. Я видел, что его робкая жена готова за меня заступиться, но она так и не собралась с духом. — Вот что я сделаю, — сказал он, дожевав один кусок и принимаясь за другой. — Выходи утром на работу, а в полдень я, так и быть, дам тебе вперед, чтобы ты мог пойти пообедать. Тогда увидим, хочешь ты работать или нет. — А пока что… — начал, я, он не дал мне договорить. — Нет, голубчик, — сказал он. — Я вашего брата знаю. Вас накорми, а потом ищи ветра в поле. Посмотри на меня: я никому ни гроша не должен; я в жизни ни у кого крошки хлеба не попросил и счел бы это за унижение. Я всегда жил на свой заработок. А твоя беда в том, что ты ведешь беспутную жизнь и бежишь от работы. Это сразу видно, стоит на тебя посмотреть. Я всегда жил честным трудом. Я одному себе обязан тем, что вышел в люди. И ты можешь добиться того же, возьмись только за ум и стань честным тружеником. — Таким, как вы? — спросил я. Увы, заскорузлая душа этого человека, с его брехней о труде, была недоступна юмору. — Да, — буркнул он, — таким, как я. — И вы это каждому посоветуете? — Да, каждому, — сказал он убежденно. — Но если все станут такими, как вы, кто будет разбирать для вас кирпич, позвольте вас спросить? Клянусь, в глазах его жены мелькнуло какое-то подобие улыбки. Что касается его самого, то он был взбешен — то ли этой перспективой жить в новом, преображенном обществе, когда некому будет таскать для него кирпич, то ли моей наглостью, — я и сейчас затрудняюсь сказать. — Довольно! — взревел он. — Я не намерен больше с тобой разговаривать. Вон отсюда, неблагодарный! Я переступил с ноги на ногу, в знак того, что не намерен утруждать его своим присутствием, и только спросил: — Значит, вы меня не покормите? Он вскочил. Это был человек внушительных размеров. Я же чувствовал себя чужаком на чужой стороне, и за мной охотился Закон. «Но почему — неблагодарный?» — спрашивал я себя, с треском захлопывая калитку. «Какого черта должен я его благодарить?» Я оглянулся. Его фигура все еще виднелась. Он вернулся к своему пудингу. Но тут мужество оставило меня. Я проходил мимо десятка дверей, не решаясь постучать. Все дома были на одно лицо, и ни один не внушал доверия. Только пройдя несколько кварталов, я приободрился и взял себя в руки. Попрошайничество было для меня своего рода азартом, а если мне не нравилась моя игра, я всегда мог стасовать карты и пересдать. Я решил сделать новую попытку — постучаться в первый попавшийся дом. Сумерки уже спускались на землю, когда, обойдя вокруг дома, я остановился у черного хода. На мой тихий стук вышла женщина, и при первом же взгляде на ее милое, приветливое лицо на меня словно нашло озарение: я уже знал, что я ей расскажу. Ибо, да будет это известно, успех бродяги зависит от его способности выдумать хорошую «историю». Попрошайка должен прежде всего «прикинуть на глазок», что представляет собой его жертва, и уже сообразно с этим сочинить «историю» применительно к нраву и темпераменту слушателя. Главная же трудность в том, что, еще не раскусив как следует свою жертву, он уже должен начать рассказывать. Ни минуты не дается ему на подготовку. В одно мгновенье изволь разгадать стоящего перед тобой человека и придумать нечто такое, что било бы прямо в цель. Бродяга должен быть одаренной натурой. Он импровизирует по наитию и тему черпает не из сокровищницы своего воображения, — тему подсказывает ему лицо человека, вышедшего на его стук, будь то лицо мужчины, женщины или ребенка, иудея или язычника, человека белой или цветной расы, зараженного расовыми предрассудками или свободного от них, доброе или злое, приятное или неприятное, приветливое или черствое, говорящее о щедрости или о скупости, о широте мировоззрения или о провинциальной ограниченности. Я часто думаю о том, что своим писательским успехом немало обязан этой учебе на большой дороге. Для того чтобы добывать себе дневное пропитание, мне вечно приходилось что-то выдумывать, памятуя, что рассказ мой должен дышать правдой. Та искренность и убедительность, которые, по мнению знатоков, составляют основу искусства короткого рассказа, рождены на черной лестнице и вызваны жестокой необходимостью. Я убежден, что реалистом сделала меня школа бродяжничества. Искусство реализма — это единственный товар, в обмен на который вам отпустят на черной лестнице кусок хлеба. В конце концов искусство — это изощренное надувательство, и только известная ловкость помогает рассказчику свести концы с концами. Помнится, мне пришлось однажды изворачиваться и лгать в полицейском участке в провинции Манитоба. Я направлялся на запад по Канадской Тихоокеанской дороге. Разумеется, полисменам захотелось услышать мою биографию, и я стал врать напропалую. Это были сухопутные крысы, не нюхавшие моря, а в таких случаях нет ничего лучше, как морской рассказ. Тут уж ври как бог на душу положит — никто не придерется. Итак, я рассказал им чувствительную историю о том, как мне пришлось служить на судне «Гленмор» (однажды в заливе Сан-Франциско я видел судно с таким названием). Я отрекомендовался англичанином и сказал, что служил на корабле юнгой. Мне возразили, что говорю я отнюдь не как англичанин. Надо было как-то извернуться, и я сообщил, что родился и вырос в Соединенных Штатах, но после смерти родителей был отослан к дедушке и бабушке в Англию. Они-то и отдали меня в ученье на «Гленмор». И — да простит мне капитан «Гленмора» — ему здорово досталось в этот вечер в полицейском участке города Виннипега. Это был злодей, изверг, мучитель, наделенный совершенно изуверской изобретательностью. Вот почему в Монреале я дезертировал с корабля, предпочтя покинуть это место пыток. Но если дедушка и бабушка у меня живут в Англии, почему же я оказался здесь, в самом сердце Канады, и держу путь на запад? Недолго думая, я вывел на сцену сестру, проживающую в Калифорнии: сестра хочет взять меня к себе. И я вдался в подробное описание этой превосходной, добрейшей женщины. Однако жестокосердые полисмены этим не удовлетворились. Допустим, что я в Англии нанялся на пароход. В каких же морях побывал «Гленмор» и какую он нес службу за истекшие два года? Делать нечего, я отправился с этими сухопутными крысами в дальнее плавание. Вместе со мной их трепало бурями и обдавало пеной разбушевавшихся стихий, вместе со мной они выдержали тайфун у японских берегов. Вместе со мной грузили и разгружали товары во всех портах Семи Морей. Я побывал с ними в Индии, в Рангуне и Китае, вместе со мной они пробивались через ледяные поля у мыса Горн, после чего мы наконец благополучно пришвартовались к причалам Монреаля. Тут они предложили мне минутку подождать, и один полисмен нырнул в темноту ночи, оставив меня греться у огня и безуспешно ломать голову над тем, какую еще ловушку мне готовят. Сердце у меня екнуло, когда полисмен снова появился на пороге, ведя за собой какого-то незнакомца. Нет, не цыганская любовь к побрякушкам продела в эти уши серьги из тончайшей золотой проволоки; не ветры прерий дубили эту кожу, превратив ее в измятый пергамент; не снежные заносы и горные кручи выработали эту характерную, с развальцем, походку. И разве не палящее солнце южных морей выжгло краску этих устремленных на меня глаз? Передо мной — увы — повелительно вставала тема, на которую мне предстояло импровизировать под бдительным оком пяти полисменов, — мне, никогда не бывавшему в Китае, не огибавшему мыса Горн, не видевшему своими глазами ни Индии, ни Рангуна. Отчаяние овладело мной. На лице этого закаленного бурями сына морей с золотыми серьгами в ушах я читал свой приговор. Кто он и что он собой представляет? Я должен был разгадать его до того, как он разгадает меня. Мне надо было взять новый курс, прежде чем эти стервецы-полисмены возьмут курс на то, чтобы переправить меня в тюремную камеру, в полицейский суд, в энное количество тюремных камер. Если он первым начнет задавать вопросы, прежде чем я узнаю, что он знает, — мне крышка. Но выдал ли я свою растерянность блюстителям порядка города Виннипега, сверлившим меня рысьими глазами? Как бы не так! Я встретил моряка восторженно, сияя от радости, с видом величайшего облегчения, какое испытывает тонущий, когда последним судорожным усилием хватается за спасательный круг. Вот кто поймет меня и подтвердит мой правдивый рассказ этим ищейкам, не способным ничего понять, — таков был смысл того, что я всячески старался изобразить. Я буквально вцепился в этого моряка и забросал его вопросами — кто он, откуда? Я старался уверить своих судей в безупречной честности своего спасителя еще до того, как он меня спасет. Это был добродушный человек — его ничего не стоило обвести вокруг пальца. Наконец полисменам надоел учиненный мной допрос, и мне было приказано заткнуться. Я повиновался, а между тем голова моя работала, напряженно работала над следующим актом. Я знал уже достаточно, чтобы дать волю своему творческому воображению. Это был француз. Он плавал на французских кораблях и только однажды нанялся на английское судно. А главное, — вот удача! — он уже лет двадцать не садился на корабль. Полисмен торопил его, предлагая приступить к экзамену. — Ты бывал в Рангуне? — осведомился моряк. Я утвердительно кивнул: — Мы оставили там нашего третьего помощника. Сильнейший приступ горячки. Если бы он спросил, какой горячки, я сказал бы «септической», а сам, хоть убей меня, не знал, что это такое. Но он не спросил. Вместо этого он поинтересовался: — Ну как там, в Рангуне? — Недурно; все время, пока мы стояли у причала, дождь лил как из ведра. — Отпускали тебя на берег? — А то как же! Мы, трое юнг, ездили на берег вместе. — Храм помнишь? — Это который же? — сманеврировал я. — Ну, самый большой, с широкой лестницей. Если бы я помнил этот храм, мне бы предложили описать его. Передо мной разверзлась бездна. Я покачал головой. — Да ведь его же видно с любого места в гавани, — разъяснил он мне. — Не нужно даже спускаться на берег. Я всегда был равнодушен к храмам. Но этот рангунский храм я просто возненавидел. И я расправился с ним без всякого сожаления. — Вы ошибаетесь, — сказал я. — Его не видно из гавани. Его не видно из города. Его не видно даже с вершины лестницы. Потому что, — я остановился, чтобы усилить впечатление, — потому что там нет никакого храма. — Но я видел его собственными глазами! — воскликнул моряк. — Это в котором же году? — допрашивал я. — В семьдесят первом. — Храм был уничтожен великим землетрясением тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, — объявил я. — Он был очень уж старый. Наступило молчание. Перед потускневшим взором моего собеседника оживало видение юношеских лет: прекрасный храм на берегу далекого моря. — Лестница сохранилась, — поспешил я утешить его. — Ее видно из любой точки гавани. А помните небольшой остров направо, у самого входа в порт? — Очевидно, там был такой остров (я уже приготовился перенести его налево), потому что он кивнул в ответ. — Ну, так его точно языком слизало! Там теперь серок с лишним футов глубины. Я перевел дыхание и, пока он размышлял о разрушительном действии времени, придумывал для своей повести заключительные штрихи. — А помните таможню в Бомбее? Да, он ее помнил. — Сгорела дотла, — объявил я. — А ты помнишь Джима Уона? — спросил он, в свою очередь. — Помер, — сказал я, хотя и понятия не имел, кто такой Джим Уон. Опять подо мной ломался лед. — А вы помните в Шанхае Билли Харпера? — поторопился я спросить. Старый моряк тщетно ворошил свои выцветшие воспоминания — ничто не напоминало ему о мифическом Билли Харпере. — Ну ясно, вы помните Билли Харпера, — настаивал я. — Его же все знают. Он уже сорок лет как там безвыездно. Ну, так представьте, он и сейчас там — ничего ему не делается. И тут случилось чудо. Старый моряк вспомнил Билли Харпера! Может быть, и вправду был такой Билли Харпер, может, он и вправду сорок лет назад приехал в Шанхай и живет там и поныне. Для меня, во всяком случае, это была новость. Еще битых полчаса толковали мы с ним, и все в таком же духе. Наконец он сказал полисменам, что я, безусловно, тот, за кого себя выдаю; и я переночевал в участке и даже получил утром завтрак, а затем был отпущен на все четыре стороны и мог без помехи продолжать свое путешествие к сестре в Сан-Франциско. Но вернемся к женщине в городе Рено, открывшей мне дверь в этот тихий вечерний час, когда на землю ложились сумерки. Достаточно было взглянуть на ее милое, приветливое лицо, и я уже знал, какую роль придется мне играть перед ней. Я почувствовал себя славным, простодушным малым, которому не повезло в жизни. Я открывал и снова закрывал рот, показывая, как трудно мне говорить, — ведь еще никогда в жизни не приходилось мне обращаться к кому-нибудь за куском хлеба. Я испытывал крайнюю, мучительную растерянность. Мне было стыдно, бесконечно стыдно. Я, смотревший на попрошайничество как на забавное озорство, вдруг обернулся этаким сынком миссис Грэнди[1], зараженным всеми ее буржуазными предрассудками. Только пытки голода могли толкнуть меня на такое постыдное и унизительное дело, как попрошайничество. И я старался изобразить на лице тоску и смятение бесхитростного юноши, доведенного до отчаяния длительной голодовкой и впервые протягивающего руку за подаянием. — Бедный мальчик, вы голодны, — сказала она. Я так-таки заставил ее говорить первой. Я кивнул и проглотил непрошеные слезы. — Мне еще никогда, никогда не приходилось… просить, — невнятно пробормотал я. — Да заходите же! — Она широко распахнула дверь. — Мы, правда, отужинали, но плита еще не остыла, и я приготовлю вам что-нибудь на скорую Руку. Когда я вступил в полосу света, она пристально поглядела на меня. — Экий вы статный и крепкий, — сказала она. — Не то что мой сынок. Он у меня не может похвалиться здоровьем. Иной раз он даже падает. Вот и сегодня — упал, бедняжка, и разбился. В ее голосе было столько материнской ласки, что все мое существо потянулось к ней. Я взглянул на ее сына. Он сидел против меня за столом, худой и бледный, голова в бинтах. Он не шевелился, и только его глаза, в которых отражался свет лампы, удивленно и внимательно смотрели на меня. — Точь-в-точь как мой несчастный отец, — сказал я. — Он то и дело падал. Это болезнь такая — кружится голова. Доктора не знали, что и думать. — Ваш отец умер? — осторожно спросила она, ставя передо мной тарелку, на которой лежал пяток сваренных всмятку яиц. — Умер. — Я снова проглотил воображаемые слезы. — Две недели назад. Внезапно, у меня на глазах. Мы переходили улицу — он упал на мостовую… и так и не пришел в сознание. Его отнесли в аптеку; там он и скончался. И я стал рассказывать ей грустную повесть о моем отце, о том, как после смерти матушки мы уехали с ним из деревни и поселились в Сан-Франциско. Как его пенсии (он был старый солдат) и небольших сбережений нам не хватало, и он сделался агентом по распространению печатных изданий. Я рассказал также о собственных злоключениях, о том, как после смерти отца очутился на улице и несколько дней, одинокий и потерянный, бродил по городу. Пока эта добрая женщина разогревала мне бисквиты, жарила ломтики грудинки и варила новую партию яиц, я, расправляясь со всем этим, продолжал набрасывать портрет бедного, осиротевшего юноши и вписывать в него все новые детали. Я и в самом деле превратился в этого бедного юношу. Он был для меня такой же действительностью, как яйца, которые я уплетал. Я готов был плакать над собственными горестями, и раза два голос мой даже прерывался от слез. Это было здорово, я вам скажу! И положительно каждый мазок, которым я оживлял этот портрет, находил отзвук в ее чуткой душе, и она удесятеряла свои милости. Она собрала мне еды в дорогу, завернула крутые яйца, перец, соль и всякую другую снедь да еще большое яблоко в придачу. Потом преподнесла мне три пары теплых носков из красного шерстяного гаруса, снабдила меня носовыми платками и надавала еще всякой всячины — не упомню чего. При этом она готовила мне все новые и новые блюда, которые я исправно уничтожал. Я обжирался, как дикарь. Перевалить через Сиерру на положении бесплатного груза было весьма серьезным предприятием, и я понятия не имел, когда и где придется мне в следующий раз обедать. И все время, подобно черепу, который должен напоминать пирующим о смерти, ее собственный злосчастный сын тихо, не шелохнувшись, сидел против меня и не сводил с меня немигающих глаз. Должно быть, я был для него воплощенной загадкой, романтическим приключением — всем тем, на что не мог его подвинуть слабый огонек жизни, чуть теплившийся в этом тщедушном теле. И все же на меня нет-нет да и нападало сомнение: а не видят ли эти глаза насквозь все мое фальшивое, изолгавшееся существо? — Куда же вы едете? — спросила женщина. — В Солт-Лейк-сити, — ответил я. — Там у меня сестра. Она замужем. (У меня был минутный соблазн объявить сестру мормонкой, но я вовремя одумался…) У моего зятя водопроводная контора, он берет подряды. Я тут же спохватился, сообразив, что водопроводчики, берущие подряды, как будто недурно зарабатывают, но слово уже сорвалось с языка — пришлось пуститься в объяснения. — Если б я написал им, они, конечно, выслали бы мне на дорогу, Но они все болеют, а теперь и дела у них пошатнулись. Зятя обобрал его компаньон. Мне не хотелось вводить их в лишние расходы. Я знал, что как-нибудь доберусь, и написал им, что у меня хватит на проезд до Солт-Лейк-сити. Сестра у меня красавица, редкой доброты женщина. И очень ко мне привязана. Очевидно, я начну работать у шурина и со временем изучу дело. У сестры две девочки, обе моложе меня. Младшая совсем еще ребенок. Из всех моих замужних сестер, которых я рассеял по разным городам Соединенных Штатов, более всего близка моему сердцу сестра в Солт-Лейк-сити. Это, можно сказать, вполне реальная личность. Рассказывая о ней, я воочию вижу ее, ее мужа водопроводчика и их маленьких девочек. Сестра — видная, рослая женщина с добрым лицом и заметной склонностью к полноте, — ну, знаете, одна из тех милых женщин, которых невозможно вывести из себя и которые славятся своим умением печь всякие необыкновенно вкусные штуки. Она брюнетка. Муж ее — тихий, покладистый человек. Иногда мне кажется, что мы с ним старинные приятели. Как знать, быть может, когда-нибудь я повстречаюсь с ним. Ведь мог же тот старый моряк припомнить Билли Харпера! Так и я не теряю надежды когда-нибудь встретиться с мужем моей сестры, живущей в Солт-Лейк-сити. Зато я совершенно уверен, что никогда не увижу во плоти моих многочисленных родителей, а также бабушек и дедушек, — да и не мудрено, ведь я неизменно спроваживал их на тот свет. Мать моя преимущественно умирала от сердца, хотя иной раз я отделывался от нее при помощи таких болезней, к^к чахотка, воспаление легких или тиф. А если бы полицейские чиновники в Виннипете вздумали утверждать, будто у меня в Лондоне есть бабушка и дедушка и будто они благополучно здравствуют, так ведь это бог весть когда было, — сейчас можно уже с полной уверенностью сказать, что они давно умерли. Во всяком случае, писем от них я не получаю. Надеюсь, моя добрая покровительница из города Рено, прочтя эти строки, простит мне некоторые уклонения от истины и добропорядочности. Я не каюсь — и не вижу для этого никаких оснований. Юность, жизнерадостность и жажда приключений привели меня к ее порогу. Встреча с ней очень много дала мне. Она показала мне естественную доброту человеческого сердца. Надеюсь, что и ей эта встреча пошла на пользу. Во всяком случае теперь, когда эпизод этот встанет перед ней в новом, истинном свете, она, быть может, посмеется от души. Но тогда мой рассказ не вызвал у нее никаких сомнений. Она уверовала в меня и в мое семейство, и ее крайне заботила предстоявшая мне нелегкая поездка в Солт-Лейк-сити. Эта ее забота чуть не наделала мне беды. Когда я собрался уходить, нагрузившись припасами и рассовав носки по карманам, отчего последние заметно оттопырились, она вспомнила о племяннике или дальнем родственнике, возившем почту: он должен был этой ночью проследовать через Рено в том самом поезде, в котором мне предстояло путешествовать зайцем. Как это кстати! Она проводит меня на станцию, расскажет ему мою историю, и он заберет меня к себе в почтовый вагон. Таким образом, я в полной безопасности и без особых затруднений доеду до Огдена, а оттуда рукой подать до Солт-Лейк-сити. Сердце у меня упало. Она со все возрастающим увлечением развивала мне свой план, а я слушал ее со стесненной душой и делал вид, что в восторге от этой удачи, разрешающей все мои затруднения. Нечего сказать, удача! Мне надо было в этот же вечер сматываться на запад, а тут ни с того ни с сего отправляйся на восток! Это была форменная ловушка, а между тем у меня не хватало мужества сказать своей покровительнице, что я самым бессовестным образом надул ее. И вот, прикидываясь, что я счастлив и доволен, я тщетно ломал голову в поисках выхода. Но положение было самое безвыходное: она вознамерилась самолично посадить меня в почтовый вагон, а там этот ее родственник железнодорожник должен будет доставить меня в Огден. Вот и изволь потом всеми правдами и неправдами пробираться назад через пустыню, которая тянется в этих местах на сотни миль. Однако счастье благоприятствовало мне в этот вечер. Добрая женщина уже собиралась надеть шляпу, чтобы отвести меня на станцию, но вдруг спохватилась, что все перепутала. У ее родственника железнодорожника недавно изменилось расписание, и его не ждали в Рено этой ночью — он должен был приехать лишь через двое суток. Итак, я был спасен, ибо какой же нетерпеливый юнец согласится отложить выполнение своих планов на целых двое суток! С самонадеянностью молодости я заверил свою добрую покровительницу, что доберусь до Солт-Лейк-сити скорее, если выеду сегодня же, и расстался с ней, провожаемый ее благословениями и сердечными пожеланиями, которые еще долго отдавались в моих ушах. Но каким сокровищем оказались ее гарусные носки! Я убедился в этом той же ночью, путешествуя зайцем в поезде дальнего следования, державшем путь на запад!
РАССКАЗ СТАРОГО СОЛДАТА
(Подлинное происшествие из жизни отца писателя)
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Времена тогда были необычные, и приключения случались не только на фронте. Во время войны кое-какие из наиболее поразительных происшествий произошли со мной дома. Видишь старый кольт, который висит возле моей сабли? Он был при мне все пять лет, пока я служил в армии, не раз помогал мне благополучно выбраться из скверной переделки. В 1863 году мне дали тридцать дней отпуска, чтобы я повидался с родными и заодно навербовал солдат. Это мне удалось, и к концу отпуска я подобрал человек тридцать таких, кто не прочь был вступить в армию. Очень мне хотелось завербовать одного молодого парня — он-то был не против, да только отец никак не желал его отпустить. Он твердил одно: надо убирать кукурузу, и без Хайрема он тут не обойдется. В конце концов он все-таки уступил, когда Хайрем обещал отдать ему ту тысячу долларов, которую выплачивали новобранцам. Но и тут старик Зек сказал, что согласится, если я помогу им управиться с кукурузой. Мои тридцать дней истекли, но я в ту пору был молод, беззаботен, и это меня не беспокоило. Я знал, что и другие новобранцы хотят задержаться до конца уборки, и, кроме того, думал, что ничего со мной не сделают, когда я явлюсь в свой полк с тридцатью дюжими молодцами. А потому я взялся за дело, и через две недели вся кукуруза старого Зека была убрана, и я мог отправиться в путь. Мы купили билеты и на следующее утро должны были сесть в Рок-Айленде на поезд в Куинси. Там моим ребятам предстояло дать присягу, получить свою тысячу долларов и прославить родные места таким большим числом новобранцев. Однако, самовольно продлив свой отпуск, я забыл об одном — о начальнике военной полиции. Этих начальников все презирали даже больше, чем собачников. Они были обязаны ловить дезертиров, а так как за каждого арестованного дезертира им платили по 25 долларов, они, понятно, старались своего не упустить. Если бы они хватали только настоящих дезертиров, к ним бы не относились с такой неприязнью, но они постоянно портили жизнь честным солдатам, которые были виноваты только в том, что по легкомыслию слишком загостились дома. Начальник военной полиции в нашем графстве был хитрый человек, смелый как лев и уж такой подлец, какого не сыщешь. Незадолго перед тем из нашего полка уезжал в отпуск Томми Джинглс и тоже задержался дома дольше, чем следовало бы. На третий день, когда он в Рок-Айленде садился в поезд, Дэви Мак-Грегор схватил его и отправил в полк под арест. Вознаграждение в 25 долларов и все расходы, разумеется, вычли из жалованья бедняги Томми, который вовсе и не помышлял о дезертирстве. И это был далеко не единственный случай, когда Дэви Мак-Грегор поступил подло. Но я отвлекся. Ночью, накануне моего отъезда, я крепко спал, и мне снились война и сражения. Мы пошли в атаку. Трещали выстрелы, пули стучали вокруг, точно град, и мы уже взбирались на бруствер, когда я услышал громкий стук в дверь и тотчас проснулся. — Выходи, Саймон, ты мне нужен. Это был голос Дэви, и я прекрасно знал, зачем я ему нужен. Ничего не ответив, я принялся тихо одеваться. Его стук разбудил всех домашних, и едва я успел одеться, как ко мне прибежала сестра. Шепотом я объяснил ей, что нужно сделать. Она подошла к двери и заговорила с Дэви, но не стала ему открывать. Он заподозрил неладное, и я услышал, как он прокрался за угол к черному ходу. Понимаешь, он был уверен, что я дома, и полагал, что я попробую ускользнуть от него через кухню. Поцеловав отца, мать и сестру, я сказал, чтобы они попрощались за меня с ребятами, и осторожно отпер парадную дверь. Ночь была лунная, а Дэви, как я и думал, поджидал меня за домом. Укрываясь в тени, почти не дыша, с башмаками в руках я прокрался в конюшню, оседлал большого черного жеребца, на котором ездил отец, и вылетел из конюшни, точно ядро из пушки. Дэви побежал к дороге и окликнул меня. Я несся галопом, держа кольт наготове. Он встал посреди дороги и приказал мне остановиться, размахивая пистолетом. Я направил коня прямо на него и сбил бы его с ног, но он отпрыгнул в сторону и принялся палить в меня, когда я мчался мимо. Я это предвидел и свесился с седла, так чтобы лошадь была между нами, но опоздал, и острая боль обожгла мне голову — его первая пуля задела макушку. Вперед, вперед! До Рок-Айленда было 28 миль. Я мчался как вихрь. Дэви, у которого всегда были отличные лошади, несся за мной по пятам. Но мой конь не уступал его лошади. Сначала Дэви стрелял в меня на поворотах, но вскоре перестал. Миля за милей оставались позади, и я уже начал думать, что все будет в порядке, когда произошло непредвиденное. Я въехал в густой лес, где, несмотря на занимавшийся рассвет, было еще темно, совершенно темно. Дорога там была мягкая и заглушала стук копыт. Внезапно из темноты прямо передо мной возник всадник. Свернуть ни он, ни я уже не могли, и наши лошади сшиблись грудью. Незнакомый всадник вместе с конем покатились по земле, а я едва не вылетел из седла. Позже я узнал, что это был шериф и что он расшибся не очень сильно. А жеребец отца был крепок. Он встряхнулся, глубоко вздохнул и снова пустился галопом. Но столкновение не прошло ему даром, и я заметил, что он замедляет шаг. Дэви настигал меня. Вскоре он уже скакал рядом, пытаясь схватить моего коня за узду. Его пистолет был пуст, и потому он не стрелял. Несколько раз я навел на него свой заряженный кольт, но он был смелым человеком, и мне не удалось его запугать. Я не хотел стрелять в него, но мне кажется, что я все-таки выстрелил бы, если бы другого выхода у меня не осталось: я не мог допустить, чтобы меня опозорили, объявив дезертиром. Ведь я не бежал из армии, а всеми силами старался вернуться в свой полк — странное поведение для настоящего дезертира. Однако стрелять я не стал, решив прибегнуть к револьверу только как к последнему средству. Вот так бок о бок мы проскакали миль десять-двенадцать. Мой конь все больше сдавал, и последнюю милю Дэви вынужден был сдерживать свою лошадь, чтобы не ускакать вперед. Всякий раз, когда он пытался схватить моего коня под уздцы, я бил его по руке тяжелым револьвером, и вскоре он прекратил свои попытки. Я чувствовал, что силы моего жеребца иссякают, и понимал, что должен что-то придумать, если хочу избежать незаслуженного позора. Я человек мягкий и всегда жалел бессловесных животных, только необходимость вынудила меня сделать то, что я сделал. Я сыграл с Дэви шутку, которой научился на западе. Там, когда ловят диких лошадей, в них стреляют, но так, что пуля только слегка задевает холку. Лошади от этого вреда не бывает. Такой выстрел оглушает ее на несколько минут, и все. Я стремительно приподнялся в седле, приставил дуло своего револьвера к холке лошади Дэви и спустил курок. Она рухнула, Дэви полетел через ее голову. Но через мгновение Дэви снова был на ногах и кинулся за мной. А мой бедный конь уже настолько изнемог, что был не в состоянии оставить его позади. Я взглянул на часы. Я мог успеть на первый поезд — до Рок-Айленда оставалось всего пять миль. Однако мой конь вряд ли мог их осилить, и я не знал, как поступить. Но тут Дэви подсказал мне, что следует сделать. За поворотом дороги я почти наскочил на фермерский фургон, направлявшийся в город. Впереди футах в двадцати в том же направлении ехал другой. Дэви задержал первый и начал перерезать постромки. Последовав его примеру, я остановил второй фургон. На козлах сидела женщина, которая охотно позволила мне взять ее лошадь, едва я объяснил ей, в чем дело, — начальник военной полиции был ей хорошо известен. Мы перерезали постромки и вскочили на лошадей одновременно с Дэви, но я был на двадцать футов ближе к городу. Однако судьба, казалось, была на его стороне: его лошадь была как будто порезвее. Но он перерезал постромки слишком близко к фургону, и, наступив на длинный ремень, лошадь упала. Это позволило мне выиграть несколько сот футов, и, когда мы въехали в Рок-Айленд, я все еще был впереди. Наше появление там вызвало общий переполох. Мы мчались по главной улице, и прохожие, которые все ненавидели начальника военной полиции, подбадривали меня как могли. Только чудом не столкнувшись со встречными повозками, мы прискакали на станцию, где поезд должен был вот-вот тронуться. Я ехал сквозь толпу, пока мог, потом спрыгнул с лошади и бросился к ступенькам платформы. Конечно, все расступались перед солдатом, который бежал без шляпы, отчаянно размахивая большим револьвером. Упрямый Дэви почти настиг меня, и мне пришлось обернуться и погрозить ему кольтом, в котором не было патронов, но ведь он-то об этом не знал. Я пятился, угрожая, что выстрелю, если он попробует до меня дотронуться. Толпа встала на мою сторону, на начальника военной полиции посыпались насмешки и оскорбления. «Ура, солдат! — кричали вокруг. — Долой начальника полиции!», «Стреляй в него, солдат, стреляй!» «Кто арестовал беднягу Томми Джингла?», «Это Дэви Мак-Грегор, полицейская шкура», «Ура солдату!» Они не давали ему пройти, отталкивали, хватали за плечи. Потом они совсем разошлись, и, когда я поднимался в вагон, они уже наступали ему на ноги, тянули за фалды мундира и уже откидывали друг на друга точно футбольный мяч. Начальник станции дал сигнал, и под крики толпы поезд покатил в Куинси. Там к вечеру я встретил своих рекрутов. И когда я привел этих крепких ребят в полк и рассказал обо всем, полковник сказал: — Отличная работа, молодец, Саймон, вы, как погляжу, вполне заслужили еще один отпуск.
МЕРТВЫЕ НЕ ВОСКРЕСАЮТ
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
В тот месяц, когда мне исполнилось семнадцать лет, я нанялся на трехмачтовую шхуну «Софи Сазерленд», отправлявшуюся в семимесячное плавание для охоты за котиками у берегов Японии. Едва мы отплыли из Сан-Франциско, как я столкнулся с весьма нелегкой задачей. В кубрике нас было двенадцать матросов, и десять из них были просоленными морскими волками. И я не только был единственным мальчишкой и впервые вышел в море, но, кроме того, они все прошли тяжелую школу службы в европейском торговом флоте. Когда они были юнгами, им не только приходилось выполнять свои собственные обязанности, но, по неписаным морским законам, матросы и старшие матросы помыкали ими как хотели. Когда же они сами становились матросами, они оставались рабами старших матросов. Например, сменившийся с вахты старший матрос мог в кубрике улечься на койку и приказать простому матросу подать ему башмаки или кружку с водой. И пусть второй матрос тоже уже лежал на койке, и пусть устал он не меньше, ему все же приходилось вскакивать и подавать требуемое. Если он отказывался, его избивали. Если же ослушник был так силен, что- мог бы справиться со старшим матросом, тогда на беднягу набрасывались все старшие матросы или то их число, которого было достаточно, чтобы с ним справиться. Теперь вы понимаете, какая стояла передо мной задача. Эти закаленные скандинавские моряки прошли тяжелую школу. В юности они прислуживали своим старшим товарищам, а сделавшись старшими матросами, ждали, что теперь младшие будут прислуживать им. Я же был мальчишкой, хотя обладал силой мужчины. Я впервые ушел в дальнее плавание, хотя был хорошим моряком и свое дело знал. Либо я дам им отпор, либо должен буду им подчиниться. Я нанялся на шхуну на равных с ними правах и должен был отстоять это равенство, иначе они превратят эти семь месяцев в ад для меня. А их злило именно это равенство. С какой стати должны они видеть во мне равного? Я ничем не заслужил столь высокой привилегии. Мне ведь не пришлось терпеть того, что вытерпели они в молодости, когда были забитыми юнгами и младшими матросами, которыми помыкали все, кому не лень. Хуже того: я был «сухопутной крысой», прежде не нюхавшей море. Но из-за несправедливости судьбы в списке команды я значился как равный им. Мой метод был простым, рассчитанным и решительным. Во-первых, я намеревался выполнять свою работу, какой бы трудной и опасной она ни была, настолько безупречно, что никому не пришлось бы доделывать ее за меня. Далее, я все время был начеку. Выбирая снасти, я ни разу не позволил себе замешкаться, так как знал, что остальные матросы то и дело зорко поглядывают на меня, надеясь заметить как раз такое доказательство моей неумелости. Я всегда одним из первых выходил на палубу при смене вахт, а в кубрик спускался последним, никогда не оставлял незакрепленного шкота или незастопоренной тали. В любую минуту я был готов взбежать по вантам, чтобы обтянуть шкоты топселя, чтобы поставить его или убрать, и при этом делал больше, чем от меня требовалось. Далее, я в любую минуту был готов к отпору. Я хорошо знал, что никому не должен спускать ни ругани, ни оскорблений, ни покровительственного пренебрежения. При первом же намеке на нечто подобное я буквально взрывался. Из следовавшей затем драки я вовсе не обязательно выходил победителем, однако мой противник убеждался, что характер у меня бешеной кошки и в следующий раз я снова на него наброшусь. Я хотел показать им всем, что не потерплю никаких покушений на мои права. И они поняли, что тому, кто попробует мной помыкать, не избежать драки. А так как свою работу я делал хорошо, то врожденная справедливость вкупе с благоразумным желанием не ввязываться в драку с дикой кошкой вскоре заставила моих товарищей отказаться от покушения на мою независимость. После некоторых трений со мной примирились, и я гордился тем, что меня признали равным не только формально, но и по духу. После этого все пошло прекрасно и плавание обещало быть приятным. Но в кубрике был еще один человек. Десять скандинавов, я — одиннадцатый, и этот человек — двенадцатый и последний. Мы не знали его имени и называли его Каменщиком. Он был из Миссури — во всяком случае, так он сообщил нам в самом начале плавания, когда почти разоткровенничался. Тогда же мы узнали и еще кое-что. По профессии он был каменщиком. И впервые в жизни увидел соленую воду всего за неделю до появления на шхуне — когда приехал в Сан-Франциско и поглядел на залив. Почему ему в сорок лет вдруг вздумалось пойти в море, было выше нашего понимания, так как, по нашему единодушному мнению, в моряки он никак не годился. И все-таки он отправился в море. Он неделю прожил в матросской ночлежке, а потом его водворили к нам в качестве старшего матроса. Работать за него приходилось всей команде. Он не только ничего не умел, но и был совершенно не способен чему-нибудь выучиться. Несмотря на все наши старания, он так и не освоил обязанностей рулевого. Вероятно, компас для него был непостижимой, устрашающей вертушкой. Он даже никак не мог понять обозначения на нем сторон света, не говоря уже о том, чтобы определять и выправлять курс. Он так и не постиг, следует ли укладывать канат в бухту слева направо или справа налево. Он был не в состоянии выучиться простейшему приему — помогать себе весом «собственного тела, когда выбираешь снасть. Простейшие узлы и шлаги были выше его понимания, а необходимость лезть на мачту внушала ему смертельный ужас. Однажды капитан и помощник все же заставили его полезть на мачту. Он кое-как вскарабкался до салинга, но там он вцепился в выбленку и замер без движения. Двум матросам пришлось влезть к нему и помочь ему спуститься. Все это уже было достаточно скверно, но дело тем не ограничивалось. Он был злобным, подлым, двоедушнымчеловеком, лишенным элементарной порядочности. Он постоянно затевал драки, потому что был дюжим силачом. И дрался он по-подлому. В первый раз на борту он подрался со мной в тот день, когда мы вышли в море: ему понадобилось отрезать жевательного табаку, и он взял для этой цели мой столовый нож, а я, решив отстаивать свое достоинство любой ценой, тут же взорвался. Потом он по очереди затевал драку чуть ли не со всеми членами команды. Когда его одежда до того засаливалась, что нам становилось невтерпеж, мы бросали ее в лохань с водой и стояли рядом с ним, пока он ее стирал. Короче говоря, Каменщик был одним из тех гнусных существ, которых нужно увидеть собственными глазами, чтобы поверить. Я могу сказать только, что он был животным, и мы обходились с ним как с животным. Только теперь, много лет спустя оглядываясь назад, я понимаю, насколько мы были бессердечны. Ведь он был не виноват. Он по самой природе вещей не мог не быть тем, чем был. Он себя не создавал и не мог отвечать за то, каким его создали. Мы же обходились с ним так, словно у него был свободный выбор, и считали его ответственным за то, чем он был и чем ему быть не следовало бы. В результате наше поведение по отношению к нему было столь же гнусным, как он сам. В конце концов мы перестали с ним разговаривать, и последние недели перед его смертью никто из нас не сказал ему ни слова. Он тоже молчал. Эти несколько недель он ходил между нами или лежал на койке в нашем тесном кубрике, скаля зубы в злобной, полной ненависти усмешке. Он умирал и знал это, как знали и мы. Кроме того, он знал, что мы хотим, чтобы он умер. Его присутствие портило нам жизнь, а наша жизнь была сурова и сделала суровыми и нас. И он умер в тесном кубрике, рядом с одиннадцатью людьми, но в таком одиночестве, словно смерть застигла его на дикой горной вершине. Ни одного доброго слова, вообще ни одного слова не было произнесено ни им, ни нами. Он умер животным, как и жил, ненавидя нас и ненавидимый нами. А затем произошел самый поразительный случай в моей жизни. Его тело вскоре выбросили за борт. Умер он в штормовую ночь, испустив последний вздох, когда мы поспешно натягивали куртки, услышав команду: «Все наверх!» И он был брошен за борт через несколько часов спустя в штормовое утро. Его бренные останки не удостоились ни парусины, ни брусков железа, которые в море принято привязывать к ногам покойника. Мы зашили его в одеяла, на которых он умер, и положили на левый носовой люк борта. К его ногам привязали мешок с углем из камбуза. Было очень холодно. Наветренная сторона каждой мачты, каждого каната обледенела, а такелаж превратился в арфу, которая пела и стонала под яростными пальцами ветра. Лежащая в дрейфе шхуна кренилась на волнах, и они захлестывали шпигаты и заливали палубу ледяной соленой водой. Мы, матросы, стояли в сапогах и куртках. На руках у нас были рукавицы, но головы мы обнажили из-за присутствия покойника, которого не уважали. Уши у нас мерзли, немели, белели, и мы с нетерпением ждали той минуты, когда тело можно будет сбросить за борт. Но капитан все читал и читал заупокойную службу. Он открыл молитвенник не на той странице и читал без всякого толку, а мы обмораживали уши и злились на это последнее испытание, которому мы подвергались из-за беспомощного трупа. Как и в начале, так и в конце у Каменщика все шло не так. В конце концов сын капитана, не выдержав, вырвал книгу из трясущихся рук старика и нашел нужное место. И снова зазвучал дрожащий голос капитана. И раздалась заключительная фраза: «И тело будет предано морю». Мы приподняли крышку люка, Каменщик скользнул за борт и исчез. Вернувшись в кубрик, мы произвели генеральную уборку, вымыли койку покойника и уничтожили все его следы. По морским законам и обычаям нам следовало собрать его вещи и передать их капитану, который потом продал бы их нам же с аукциона. Ни одна его вещь никого из нас не прельстила — мы выбросили их на палубу, а потом за борт, вслед за трупом, в последний раз скверно обойдясь с тем, кого мы так ненавидели. Да, это бегло грубо, согласен, но жизнь, которую мы вели, тоже была грубой, и мы были такими же грубыми, как она. Койка Каменщика была удобней моей. На нее просачивалось меньше воды с палубы, а свет фонаря падал так, что можно было читать лежа. Это было одной из причин, почему я перебрался на его койку. Другой причиной была гордость. Я видел, что остальные матросы суеверны, и хотел показать им, что я смелее их. Добившись, что они признали меня равным, я таким способом доказал бы свое превосходство над ними. О, юношеская надменность! Но довольно об этом. Мое намерение привело остальных в ужас. Они по очереди предупреждали меня, что за всю историю мореплавания не было случая, чтобы матрос занял койку покойника и дожил до конца плавания. Они приводили пример за примером из собственного опыта. Я упрямо стоял на своем. Тогда они принялись упрашивать и уговаривать меня, что очень льстило моей гордости — значит, я им нравился и моя судьба их заботила. Все это только утвердило меня в моем безумии. Я перебрался на койку покойника и, лежа на ней, всю вторую половину дня и весь вечер слушал пророчества о том, какое жуткое меня ждет будущее. Заодно рассказывались истории об ужасных смертях и зловещих призраках, наводившие на нас страх, хотя мы это не показывали. Наслушавшись этих рассказов, я назвал их чепухой, повернулся на бок и заснул. Без десяти двенадцать меня разбудили, и в двенадцать, одевшись, я уже вышел на палубу, чтобы сменить разбудившего меня матроса. Когда корабль дрейфует возле лежбищ, на вахте ночью стоит только один человек, а смена происходит каждый час. Ночь была темной, хотя непроглядной я бы ее не назвал. Шторм утихал, и тучи редели. Было полнолуние, и хотя луна оставалась невидимой, ее смутное сияние проникало сквозь их покров. Я расхаживал взад и вперед по палубе, все еще находясь под впечатлением событий этого дня и жутких матросских историй, и все же могу утверждать, что никакого страха я тогда не испытывал. Я был крепким молодым животным, а к тому же вполне соглашался с Суинберном в том, что мертвые не воскресают. Каменщик был мертв, и на этом все кончалось. Он никогда не восстанет из мертвых — во всяком случае, на палубе «Софи Сазерленд». Ведь он находился в океанской пучине далеко от того места, где сейчас дрейфовала наша шхуна, а скорее всего он уже покоился в желудках полдесятка акул. Но у меня из головы не выходили рассказы о привидениях, и я начал размышлять о мире духов. Я пришел к выводу, что души умерших, если они действительно бродят по земле, должны сохранять ту доброту или злобу, которая отличала их при жизни. Согласно этой гипотезе (только я-то с ней не был согласен) дух Каменщика не мог не быть таким же гнусным и подлым, каким при жизни был он сам. Впрочем, убежденно подумал я, его духа не существует. Несколько минут я расхаживал, занятый этими мыслями, как вдруг, посмотрев от левого борта на нос, я подскочил как ужаленный и в ужасе бросился на корму к капитанской каюте. От моей юной надменности и холодной логики не осталось и следа. Я увидел привидение! В смутном свете на том самом месте, где мы сбросили покойника в море, я увидел неясную трепещущую фигуру. Она была шести футов в высоту, узкая и столь разреженной субстанции, что я различал сквозь нее паутину снастей фок-мачты. Я обезумел от страха, как испуганная лошадь. Я как «я» перестал существовать. Мной овладел инстинктивный ужас десяти тысяч поколений суеверных предков, смертельно боявшихся мрака и того, что таится во мраке. Я перестал быть собой и превратился во всех этих далеких моих прародителей. Я воплощал все человечество в дни его суеверного младенчества. Опомнился я только, когда уже начал спускаться по трапу. Я остановился, держась за поручень. Я задыхался, дрожал, голова у меня шла кругом. Ни раньше, ни после мне не довелось пережить подобного потрясения. Все еще цепляясь за поручень, я попытался собраться с мыслями. Я знал, что могу положиться на мои пять чувств. Я бесспорно что-то увидел. Но что? Либо это призрак, либо надо мной подшутили. Иного объяснения я не находил. Если это привидение, то появится ли оно вновь? Если оно не появится, а я разбужу капитана и помощника, то стану посмешищем всей команды. Если же это чья-то шутка, мое положение станет еще более смешным. Следовательно, если я хочу сохранить с таким трудом завоеванное мною равенство, мне не следует никого будить, пока я не удостоверюсь, что это явление собой представляет. Я смелый человек. У меня есть основания так говорить: весь дрожа от страха, я тихо поднялся по трапу и направился к тому месту, откуда увидел это нечто. Оно исчезло. Однако и моя смелость имела пределы. Хотя я и ничего не увидел, у меня не хватило духу подойти к месту, где мне почудился призрак. Я снова принялся шагать взад и вперед, тревожно поглядывая на страшное место, но там по-прежнему ничего не было. Ко мне вернулось самообладание, и я решил, что все случившееся было игрой воображения и что я сам виноват: нечего было думать о подобных вещах. Все же время от времени я поглядывал на нос, но без малейшей тревоги, как вдруг, словно обезумев, опрометью бросился на корму. Я снова увидел его — длинную, колышущуюся, разреженную субстанцию, сквозь которую виднелись снасти. На этот раз я взял себя в руки раньше, чем успел добежать до кормового трапа. Я снова начал думать, что мне делать, и верх взяла гордость. Я не мог стать мишенью для насмешек. Что бы это ни было, я должен разобраться во всем один. И сам найти выход. Я вновь взглянул на то место, откуда мы сбросили Каменщика в море. Там было пусто. Ничто не двигалось. И в третий раз я начал прохаживаться по палубе. Мой страх вновь исчез, и я прислушался к голосу рассудка. Разумеется, это не привидение. Мертвые не воскресают. Это была шутка, жестокая шутка. Мои товарищи каким-то неведомым способом пугают меня. И уже дважды видели, как я удирал на корму. Мои щеки горели от стыда. В воображении я слышал смешки и сдавленный хохот в кубрике — конечно, они там сейчас веселятся! Я начинал злиться. Шутки шутками, но надо знать меру. Я был самым молодым на шхуне, зеленым юнцом, и они не имели права шутить такими вещами — мне было хорошо известно, что от таких розыгрышей в прошлом люди не раз сходили с ума. Злясь все больше, я решил показать им, что меня напугать не так-то просто, а заодно и свести с ними счеты. Если призрак появится снова, я подойду к нему, и подойду с ножом в руке. И когда буду близко, ударю его этим ножом. Если это человек, то поделом ему, а если привидение, то ему нож не причинит никакого вреда, а я по крайней мере узнаю, что мертвецы все-таки воскресают. Я был очень зол и уже нисколько не сомневался, что надо мной подшутили; однако, когда это неведомое нечто в третий раз появилось на том же самом месте — длинное, полупрозрачное и колышущееся, — меня снова охватил страх, а злость почти исчезла. Но я не бросился бежать и не отвел глаз от смутной фигуры. Оба предыдущих раза она исчезала, пока я убегал, и я не видел, как это происходило. Я вытащил нож из ножен на поясе и двинулся вперед. С каждым шагом мне было все труднее сохранять власть над собой. Борьба шла между моей волей, моей личностью, тем, что было мной, и десятью тысячами моих предков, таившихся где-то в глубинах моего существа, чьи призрачные голоса шептали про мрак и страх перед мраком, терзавший их в те дни, когда мир был тайным и полным ужаса. Я замедлил шаги, а фигура по-прежнему колыхалась, странно и жутко подергивалась. А потом прямо у меня на глазах исчезла. Я видел, как она исчезла. Она не двинулась ни влево, ни вправо, ни назад. Я видел, как она мгновенно растаяла и пропала. Я не умер, но, клянусь, следующие несколько мгновений показали мне, что человек действительно может умереть от страха. Я стоял с ножом в руке, покачиваясь в такт качке, парализованный страхом. Если бы Каменщик неожиданно схватил меня за горло телесными пальцами и начал душить, я не удивился бы. Раз уж мертвые воскресают, от подлого Каменщика ничего другого ожидать было нельзя. Но он не схватил меня за горло. Ничего не произошло. И поскольку природе противна неподвижность, я не мог долго оставаться парализованным. Я повернулся и пошел на корму. Я не побежал. Какой смысл? Разве я мог противостоять злобному миру привидений? Я убегал бы с той быстротой, на какую способны мои ноги, но призрак гнался бы за мной с быстротой мысли. Ведь призраки существуют. Я же собственными глазами видел одного из них. Но пока я плелся на корму, я вдруг понял, чем было таинственное явление. Я увидел, как стеньга бизань-мачты качнулась на фоне тусклого сияния скрытой тучами луны. Меня осенило. Я мысленно провел линию от светлого пятна через стеньгу бизань-мачты к полу и убедился, что она упирается в левые ванты фок-мачты. Пока я это проделывал, сияние исчезло. Штормовые тучи то сгущались, то редели перед диском луны, так его и не открывая. Когда тучи становились совсем тонкими, их пронизывало тусклое сияние. Я смотрел и ждал. Едва тучи поредели, я посмотрел на нос и увидел, что тень стеньги, длинная и прозрачная, дрожит на палубе и парусах. Таким было мое первое привидение. Позже мне довелось встретиться еще с одним призраком. Он оказался ньюфаундлендом, и не знаю, кто из нас больше перепугался, потому что я с размаху съездил его по оскаленным зубам. О призраке Каменщика я никому на шхуне рассказывать не стал. Но должен прибавить, что за всю свою жизнь мне больше не приходилось переживать таких мучений и душевных терзаний, как в ту одинокую ночь на палубе «Софи Сазерленд».
РАЗВЕСТИ КОСТЕР
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Повсюду в мире тому, кто путешествует по суше или по морю, обычно бывает полезно найти себе спутника. В Клондайке же, как убедился Том Винсент, спутник просто необходим. И убедился он в этом не теоретически, а на горьком опыте. «Ни в коем случае не пускайся в путь без товарища» — такова одна из заповедей Севера. Том слышал ее множество раз, но только посмеивался, потому что был он широкоплечим молодым силачом, верившим в себя, привыкшим во всем полагаться на свою смекалку и свои руки. Но однажды в холодный январский день с ним произошел случай, который научил его уважать мороз и мудрость тех, кому довелось с ним сразиться. Он вышел с легким рюкзаком из лагеря Калюме на Юконе, намереваясь подняться по речке Пол до водораздела к истокам речки Черри, где его партия искала золото и охотилась на лосей. Мороз был пятьдесят пять градусов, а ему предстояло пройти в одиночку тридцать миль. Однако это его не беспокоило. Наоборот, ему было приятно шагать в тишине — кровь жарко струилась по его жилам, на душе было легко и весело. Ведь он и его товарищи не сомневались, что наткнулись у истоков Черри на жилу, к тому же он возвращался к ним из Доусона с праздничными письмами от родных из Штатов. В семь часов, когда он повернул носки своих мокасин от лагеря Калюме, было еще совсем темно. А когда в половине десятого занялся день, он уже прошел четыре мили напрямую через равнину и вышел к речке Пол милях в шести от ее устья. Дальше тропа вела по руслу речки и, хотя она была почти нехоженой, заблудиться было невозможно. В Доусон Том пришел по Черри и Индейской реке, и путь по речке Пол был ему незнаком. В половине двенадцатого он добрался до места, где речка разделялась на рукава, — про это место ему говорили: оно находилось в пятнадцати милях от Доусона, и, значит, половина дороги осталась позади. Он знал, что дальше тропа станет хуже, и, прикинув, как мало времени он пока потратил, решил сделать привал и перекусить. Сбросив рюкзак, он сел на упавшее дерево, стянул рукавицу с правой руки, залез к себе за пазуху и достал носовой платок, в который были завернуты две лепешки с куском грудинки между ними — только таким способом можно было предохранить еду от превращения в кусок льда. Не успел Том прожевать и первый кусок, как пальцы на правой руке онемели, и он поспешил надеть рукавицу. Его удивило, что рука закоченела так быстро. Пожалуй, подумал он, мороз крепче обычного. Он сплюнул в снег и растерялся, услышав сухой щелчок мгновенно замерзшего плевка. Когда он выходил из Калюме, спиртовой термометр показывал пятьдесят пять градусов ниже нуля, но он был уверен, что теперь еще похолодало — и очень сильно. Он не съел и половины первой лепешки, когда почувствовал, что мерзнет, чего с ним прежде никогда не случалось. Так не пойдет, решил он, вскинул на плечи рюкзак, вскочил и побежал вверх по тропе. Через несколько минут он согрелся и перешел на широкий шаг, грызя лепешку на ходу. Пар от дыхания оседал сосульками на его губах и усах и образовал миниатюрный ледник на подбородке. Щеки и нос поминутно немели, и он оттирал их, пока они не начинали гореть от прилившей крови. Большинство старожилов носило наносники, в том числе и его компаньоны, но он пренебрегал этим «дамским приспособлением» и до этого дня ни разу не испытывал в нем нужды. А вот сейчас наносник очень пригодился бы — ему не пришлось бы непрерывно тереть лицо. И тем не менее он испытывал радостное ликование. Он ведь доказывал, чего он стоит, побеждая стихии. Один раз от полноты жизненных сил он даже громко засмеялся и погрозил морозу сжатым кулаком, он торжествовал победу над ним. Мороз не смог ему помешать, не остановил его. И он дойдет до истоков Черри. Стихии сильны, но он сильнее. Даже звери в такую пору забрались в свои убежища и боялись высунуть нос наружу. А он не прячется. Он встречает мороз лицом к лицу, вступает с ним в борьбу. Он — человек, хозяин природы. Так, охваченный гордой радостью, он шел вперед. Час спустя он обогнул излучину, где речка у гор вплотную приближалась к крутому обрыву, и там столкнулся с самой коварной и самой страшной опасностью, какая подстерегает путника на Севере. Речка промерзла до самого своего каменистого дна, но под обрывом били ключи. Они не замерзали даже в самый свирепый мороз — он лишь ослаблял их, но не мог сковать. Под защитой снежного покрова вода из ключей стекала на лед речки и образовывала на нем неглубокие озерца. Сверху эти озерца покрывались ледяной коркой, которая нарастала до тех пор, пока поверх нее вновь не разливалась вода, образуя над первым озерцом второе с новой коркой льда. Внизу был сплошной лед речки, затем дюймов шесть-восемь воды, потом тонкая ледяная корка, затем еще шесть дюймов воды и вторая ледяная корка. А эта последняя корка была на дюйм запорошена свежим снегом, маскировавшим западню. Нетронутый снежный покров не предостерег Тома Винсента о таящейся под ним опасности. По краям ледяная корка была толще, и он провалился, когда дошел почти до середины. Само по себе это происшествие могло бы и не показаться серьезным: человек не способен утонуть в луже глубиной в двенадцать дюймов, однако его последствия были крайне опасны. Пожалуй, ничего страшнее с ним приключиться не могло. Как только он провалился, его ступни и лодыжки обожгла холодная вода. В несколько прыжков он достиг берега. Он сохранял полное хладнокровие. Ему оставалось одно и только одно: развести костер. Ибо еще одна заповедь Севера гласит: «До минус двадцати градусов можешь идти в мокрых носках, если температура падает ниже — разводи костер»[2]. А сейчас, как он знал, было раза в три холоднее, уж никак не меньше. Кроме того, он знал, что костер следует разводить с большими предосторожностями, так как после первой неудачной попытки вторая также скорее всего окажется неудачной. Короче говоря, он знал, что неудачи не должно быть. Лишь несколько мгновений назад он был сильным, ликующим человеком, гордым своей властью над стихиями, а теперь ему приходилось бороться за жизнь с теми же самыми стихиями — вот какие изменения вносит литр воды в расчеты тех, кто путешествует в северном краю. На берегу у сосен весеннее половодье нагромоздило кучу сучьев и веток. Высушенные летним солнцем, они ждали теперь только спички. В толстых аляскинских рукавицах разжечь костер невозможно, и потому Винсент снял их, собрал тонкие ветки, отряхнув с них снег, опустился на колени, готовясь их зажечь. Из внутреннего кармана он вытащил спички и полоску бересты. Спички были серные, клондайкские, сотня в пачке. Пока он вынимал спичку из пачки и тер ее о штаны, его пальцы успели совсем онеметь. Береста вспыхнула ярким пламенем, как сухая бумага. С величайшей осторожностью он начал подкладывать в огонь веточки и маленькие кучки, заботливо лелея крохотный костер. Он знал, что торопиться не следует, и он не торопился, хотя пальцы у него уже почти не гнулись. После того как холод обжег его, ступни непрерывно мучительно ныли, а теперь они начали быстро неметь. Однако костер, хотя еще и очень маленький, был уже разведен, и он знал, что ступни скоро отойдут, если их хорошенько растереть пригоршней снега. Но в тот момент, когда он начал подкладывать в огонь толстые сучья, произошла катастрофа. Ветки сосен над его головой были обременены грузом снега, скопившегося за четыре месяца снегопадов. Бремя это было так велико, что его осторожных движений, пока он собирал сучья, оказалось достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие. С верхней ветки сорвался ком и увлек за собой снег с нижних веток. И эта нарастающая снежная лавина обрушилась на голову и плечи Тома Винсента и погребла его костер. Тем не менее он сохранил присутствие духа, потому что знал, как велика грозящая ему опасность. И сразу же принялся снова разводить костер. Но пальцы у него совсем не гнулись, и он вынужден был поднимать веточки по одной, зажимая их между кончиками пальцев обеих рук. Когда дело дошло до спичек, ему стоило невероятных усилий извлечь спичку из пачки. В конце концов, опять же с большим трудом, он зажал спичку между большим и указательным пальцами. Но, чиркая, он уронил ее в снег и не смог поднять. Он в отчаянии выпрямился. Ступней он больше не чувствовал вовсе, но лодыжки еще болезненно ныли. Натянув рукавицы, он отошел в сторону так, чтобы снег не засыпал новый костер, который он собирался разжечь, и принялся ожесточенно колотить руками по сосновому стволу. После этого он сумел отделить от пачки еще одну спичку, чиркнуть ею и поджечь вторую, последнюю полоску бересты. Но он дрожал от холода и, когда попытался положить на бересту первую веточку, его рука дрогнула и погасила слабое пламя. Мороз взял над ним верх. От его рук не было никакого толку. Однако, прежде чем в отчаянии вновь натянуть рукавицы и пуститься бегом по тропе, он предусмотрительно опустил спички в оттопыренный наружный карман. Вскоре он убедился, что в шестидесятиградусный мороз никаким бегом согреть мокрые ноги не удается. Он обогнул крутую излучину — с этого места он мог оглядеть русло на милю вперед. Но помощи ждать было неоткуда — вокруг только белые деревья и белые холмы, тихий холод и глухое безмолвие! Если бы только рядом был товарищ, не отморозивший ноги, подумал он, чтобы развести костер, который бы спас его! Тут он заметил еще одну кучу хвороста, оставленную разливом. Если бы только ему удалось зажечь спичку, все бы еще могло кончиться хорошо. Окоченевшими негнущимися пальцами он вытащил пачку спичек, но вынуть одну спичку не сумел. Он сел и неуклюже стал поворачивать всю пачку на коленях до тех пор, пока она не легла на ладонь так, что серные концы торчали наружу, словно лезвие зажатого в кулаке ножа. Но его пальцы оставались прямыми. Они не могли согнуться и прижать спички к ладони. Однако он их все-таки согнул с помощью запястья другой руки. Вот так, удерживая спички с помощью обеих рук, он тер ими о штаны, пока они не вспыхнули. Но пламя опалило ладонь, и он невольно раздвинул руки — спички упали в снег, и пока он безуспешно пытался поднять их, зашипели и погасли. Он снова побежал, теперь ему стало по-настоящему страшно. Его ступни окончательно утратили всякую чувствительность. Один раз он споткнулся о занесенное снегом бревно, но заметил это только потому, что упал и ушиб спину — нога даже не ощутила удара. Пальцы отнялись вовсе, а теперь начинали коченеть и запястья. Он знал, что отморозил нос и щеки, но это его не тревожило. Только руки и ноги могли его спасти, если ему все-таки удастся спастись. Он вспомнил про лагерь охотников на лосей, который, как ему говорили, был расположен над тем местом, где речка разбивалась на рукава. Лагерь должен быть где-то неподалеку, решил он. Если разыскать лагерь, все будет в порядке. Пять минут спустя он наткнулся на этот лагерь — пустой и давно покинутый. В шалаши из сосновых сучьев, в которых ночевали охотники, намело снега. Том опустился на снег и заплакал. Все было кончено: при такой страшной температуре самое большее через час он превратится в обледеневший труп. Однако любовь к жизни была в нем сильна, и он вновь поднялся. Мозг лихорадочно работал. Ну и что, если спички обожгут ему руки? Обожженные руки лучше, чем мертвые. Лучше совсем остаться без рук, чем умереть. Он поплелся дальше по тропе, пока не нашел новую груду хвороста, оставленную половодьем. Сухие ветки, сучья, листья и трава словно просились в огонь.

Снова он сел и снова начал двигать пачку спичек по колену, затолкнул ее на ладонь, запястьем другой руки пригнул бесчувственные пальцы к пачке и прижал их к ней. Спички вспыхнули со второго раза, и он понял, что спасен — если сумеет вытерпеть. От серного дыма запершило в горле, синее пламя лизало его ладонь. Сначала он ничего не ощущал, но жар быстро проник сквозь замерзшую кожу. Он почувствовал острый запах горящего мяса, его мяса, и заерзал от мучительной боли, но не разнял рук. Стиснув зубы, он раскачивался взад-вперед, но тут пламя спичек стало ярким и белым, и он поднес это пламя к травинкам и листьям. Прошло пять мучительных минут, но вот костер разгорелся. И тогда он занялся своим спасением. Положение было критическим и требовало героических мер — и он принял эти меры. Попеременно, то натирая руки снегом, то опуская их в пламя, а иногда стуча ими о древесный ствол, он восстановил в них кровообращение настолько, что они начали его слушаться. Охотничьим ножом он рассек ремни своего рюкзака, раскатал одеяло и вынул сухие носки и обувь. Затем он разрезал мокасины на ногах и остался босым. Но если рук он не щадил, то с ногами обошелся бережней, он не совал их в пламя, а только растирал снегом. Он тер их до тех пор, пока руки не отнимались, а тогда обматывал ноги одеялом, согревал руки у огня и снова принимался за растирание. Так он работал часа три, и только тогда худшие последствия обморожения были предотвращены. Он просидел у костра всю ночь, а когда, тяжело хромая, он добрался до лагеря у истоков Черри, уже начинало смеркаться. Через месяц он смог ходить, но пальцы на ногах навсегда остались болезненно чувствительными к холоду. И он знал, что шрамы на руках он унесет с собой в могилу. И — «ни в коем случае не пускайтесь в путь без товарища» — эту заповедь Севера он теперь чтит свято.
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Перевод Н. Дарузес
Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз. — Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, — сказал один. Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил. Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная как лед — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова — он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и поглядел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь. Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул: — Слушай, Билл, я вывихнул ногу! Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка. — Билл! — крикнул он. Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла. Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том ясе направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива. Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха. — Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл! Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайная пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли. Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз. Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху, как островки. Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы. Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды. Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но, как ни трудно ему было идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше — оставалось только лечь на землю и умереть. И в то время как тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту — оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом. В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Он лежал на боку довольно долго, не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой. Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно: он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь. Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом. Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке — вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами. В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень был от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням. Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку. Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим холмом. Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной. Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо. Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр… Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и, наконец, это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик. Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — ив руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину. К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать, — так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи. Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерках, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек. Он заглядывал в каждую лужу и, наконец, с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно. Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и рыба досталась бы ему. В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий. Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой. Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и, наконец, весь собранный им мох отсырел и костер погас. Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже недумал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом. В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз. Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его. Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить страны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь. Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока. Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых. Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу. Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны. День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал, и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми; они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал. Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком. Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы. Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра. Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что если… если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье. Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, — ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон. Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством. Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая; тук, тук, тук, потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело. Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями. Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох. Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он не вольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки. Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось. К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может ли быть, что к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать? Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотал с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов. Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны. Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их. Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели, — он не знал. Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день», — подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно, — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье. Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял. «Вот это, по крайней мере, не кажется», — подумал он и спять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Это широкая медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно. Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их. Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел. Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью. Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк. И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили. Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота. Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра. После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз. Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него, — разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла? Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше. Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили: теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств; и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга. Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже. Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней. Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность. Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было. Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык. Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул. На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час. Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсинных деревьев. Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами. Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе. Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы. Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.
МУЖЕСТВО ЖЕНЩИНЫ
Перевод Н. Емельяниковой
Волчья морда с грустными глазами, вся в инее, раздвинув края палатки, просунулась внутрь. — Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье! — закричали в один голос обитатели палатки. Беттлз стукнул собаку по морде оловянной тарелкой, и голова мгновенно исчезла. Луи Савой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки. Стоял лютый мороз. Двое суток назад спиртовой термометр, показав шестьдесят градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее; трудно было сказать, сколько еще продержатся такие сильные морозы. Врагу не пожелаешь в этакую стужу находиться далеко от печки и вдыхать ледяной воздух! Бывают смельчаки, которые отваживаются в всходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких; человека начинает душить сухой, раздражающий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А там, весной или летом, взорвав мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу. В нее опускают труп и, прикрыв его сверху мхом, оставляют так свято веря, что в день страшного суда сохраненный морозом покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые не верят в физическое воскресение в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке так же хорошо и жить. В палатке было не так холодно, как снаружи, но тоже не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Часть земли была устлана сосновыми ветками; под ними был снег, а поверх их лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утоптан мокасинами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочая утварь полярного лагеря. В раскаленной докрасна печке громко трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала глыба льда, такого крепкого, словно его только что вырубили на речке. От притока холодного воздуха все тепло палатки поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кружок сухого брезента, дальше был круг сырого брезента, от которого шел пар, а за ним — круг мокрого брезента, с которого капала вода; и, наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиною в полдюйма слоем кристаллов инея. — О-о-о! О-ох! О-ох! — застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стенал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судорожно вздрагивало и сжималось, как будто оно лежало на ложе из крапивы. — Ну-ка переверните парня! — приказал Беттлз. — У него опять судороги. И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок. — Черт бы побрал эту снежную тропу! — пробормотал юноша, сбрасывая с себя одеяла и садясь на постели. — Я рыскал по всей стране три зимы подряд — мог бы уж, кажется, закалиться! А вот попал в этот проклятый край и оказался неприспособленным неженкой, точно какой-то женоподобный афинянин, лишенный и крупицы мужественности! Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать папиросу. — Не подумайте, что я люблю скулить! Нет, я все могу вынести! Но мне просто стыдно за себя, вот и все… Прошел каких-нибудь несчастных тридцать миль — и чувствую себя таким разбитым и больным, словно рахиточный молокосос после пятимильной прогулки за город! Противно!.. Спички у кого-нибудь есть? — Не горячись, мальчик! — Беттлз протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном: — Тебе это простительно — все проходят через это. Устал, измучен! А разве я не помню свое первое путешествие? Не разогнуться? Еще бы, и со мной бывало так, что, когда напьешься из проруби, потом целых десять минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят так, что с ума можно сойти. А судороги? Бывало, так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить! Хоть ты и новичок, а молодец, с характером парень! Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное, сложение у тебя подходящее: нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени. — Жира? — Да, да. У кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу. — Вот уж не знал! — Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этакий великан может сделать что-нибудь только с наскока, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ! Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка — во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость! Нет, нет, толстяки для этого не годятся. — Верно ты говоришь, — вмешался в разговор Луи Савой. — Я знал одного здорового, как буйвол, детину. Так вот, когда столбили участки у Северного ручья, он туда отправился с Лоном Мак-Фэйном. Помните Лона? Маленький рыжий ирландец, всегда ухмылялся. Ну, шли они, шли — весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал ложиться на снег. Щупленький ирландец толкает его, тормошит, а тот ревет, как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока не дотащил до моей стоянки. Три дня он провалялся у меня под одеялом. Я никогда не думал, что мужчина может оказаться такой бабой. Вот что делает с человеком жирок! — А как же Аксель Гундерсон? — спросил Принс. На молодого инженера великан скандинав и его трагическая смерть произвели сильное впечатление. — Он лежит где-то там… — И Принс неопределенно повел рукой в сторону таинственного востока. — Крупный был человек, самый крупный из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов Соленой Воды и охотился на лосей, — согласился Беттлз. — Но он то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу? Одни мускулы, ни унции лишнего жира! А мужества у нее было еще больше, чем у него. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Не было ничего на свете, чего бы она не сделала для него. — Ну что ж, она любила его, — возразил инженер. — Да разве в этом дело! Она… — Послушайте, братья, — вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами. — Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших, здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви; и ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых знавал в те времена, когда этот край был молод, а костры, разведенные людьми, редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но, должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой Воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью — только так можно назвать такую любовь. Ситка замолчал. Отколов топором несколько кусков льда от глыбы, лежавшей рядом, он бросил их в стоявший на печке лоток для промывки золота — так они получали питьевую воду. Мужчины придвинулись ближе, а больной юноша тщетно пытался сесть поудобнее, чтобы не ныло сведенное судорогами тело. — Братья, — продолжал Ситка, — в моих жилах течет красная кровь сивашей, но сердце у меня белое. Первое — вина моих отцов, а второе — заслуга моих друзей. Когда я был еще мальчиком, печальная истина открылась мне. Я узнал, что вся земля принадлежит вам, что сиваши не в силах бороться с белыми и должны погибнуть в снегах, как гибнут медведи и олени. Да, и вот я пришел к теплу, сел среди вас, у вашего очага, и стал одним из вас. За свою жизнь я видел многое. Я узнал странные вещи и много дорог исходил с людьми разных племен. Я стал судить о людях и о делах их так, как вы, и думать по-вашему. Поэтому, если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю — вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете: «Ситка Чарли — сиваш, его глаза видят криво, а язык нечестен». Не так ли? Слушатели глухим бормотаньем подтвердили, что они согласны с ним. — Имя этой женщины было Пассук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье, у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее; ее взгляд всегда был опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятья чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже сказал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать мне грести во время долгих поездок по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих — и я выбрал Пассук. Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии: со мной была и Пассук. Мы поплыли на север, к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили — меня, Пассук и собак. Как слуга правительства я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды, я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли, затертые льдами, около великой Маккензи. Другой такой большой реки нет на свете, если не считать наш родной Юкон, мать всех рек. Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее, после оттепели, мы с Пассук отправились на юг, к берегам Юкона. Это было тяжелое, утомительное путешествие, но солнце указывало нам путь. Край этот, как я уже сказал, был тогда еще совсем пустынный, и мы плыли вверх по течению, работая то багром, — то веслами, пока не добрались до Сороковой Мили. Приятно было снова увидеть белые лица, и мы высадились на берег. Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент компании выдал всего по сорок фунтов муки и двадцать фунтов бекона на человека. Бобов не было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга. Однажды вечером мы пришли в магазин и при виде пустых полок еще сильнее почувствовали пустоту в желудке; мы тихо беседовали при свете очага, потому что свечи были припрятаны для тех, кто дотянет до весны. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к Соленой Воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой: все знали, что я опытный путешественник. — До миссии Хейнса на берегу моря семьсот миль, — сказал я, — и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пассук. Люди согласились. Но тут встал Длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный ходок, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мною, и если я погибну в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи — первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами? И вот мы взяли лучших собак и запас еды и отправились в путь втроем: Пассук, Длинный Джефф и я. Всем вам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, сдвигать с места примерзшие нарты и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать вам о трудностях пути. Скажу только, что иногда мы проходили десять миль в день, а иногда тридцать, но чаще все-таки десять. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша, и, кроме того, нам пришлось экономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тянуть нарты. Когда мы достигли Белой реки, у нас из трех упряжек осталось уже только две — а ведь мы прошли всего двести миль! Правда, нам не пришлось ничего потерять: издохшие собаки попали в желудки тех, которые еще были живы. Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде — до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты; агент компании сильно кашлял и задыхался, глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уже не было ни детей, ни стариков; и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны. Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось идти еще пятьсот миль среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, и мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, Длинный Джефф заплакал, как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для меньших нарт, но он, чтобы было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась, его мокасины делали большие углубления в снегу, собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой, им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбранил Джеффа, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уж после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя, как ребенок — мучения в пути, и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком. Но Пассук! В то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером распрягать их. Это Пассук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пассук… что вам сказать! Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена. Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пассук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли — он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках — и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил, хромая, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен — он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь Пассук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу — он же не работал. Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлз; а ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды.

Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди Белого Безмолвия, — мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Ле-Барж начался ледоход, и все их имущество утонуло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они смешивали ее с теплой водой и пили. Мужчина показал мне восемь чашек муки — все, что у них осталось, а до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще двести миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец, и они честно делились с ним; но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем, — почему же он тогда от них отстал? Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку (которая тоже была очень худа), но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, — ушли в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли. Теперь у меня осталось только три собаки и одни нарты; и собаки были — кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно, — так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас; лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик, такую боль причиняли лыжи. Пассук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А янки все хныкал и выл по-прежнему. В Тридцатимильной реке течение быстрое, оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много разводий и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом, по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пассук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пассук весила мало, лыжи у нее были широкие, и она благополучно перешла, затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж, они провалились, и течение сейчас же подхватило их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их, но постромки оборвались, и собаки ушли под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них как на недельный запас еды — и вот их не стало! На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал Длинному Джеффу: пустьон идет с нами или остается, как хочет, мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пассук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам; и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пассук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять столько еды этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пассук напомнила мне о людях на Сороковой Миле — там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и Длинный Джефф отправился к праотцам задолго до положенного ему срока, как тут говорил брат Беттлз. Я бранил Пассук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права. Ситка Чарли замолчал и снова бросил несколько кусков льда в стоявший на печке лоток. Мужчины молчали, по их спинам пробегал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз. — Каждый день нам по пути попадались места, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до Соленой Воды. Затем мы встретили третий призрак — индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик нечестно поступили с ним, обделив его едой, и вот уже три дня как у него нет муки. Каждую ночь он варил куски своих мокасин и ел их. Теперь от мокасин уже ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через Пассук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги к нему, но все же шел туда. Как далеко это? Два сна? Десять? Сто? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед. Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пассук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться, — словно мать-куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал: — С этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов? Я видел, что в глазах ее блеснула радость, но она долго смотре \а на него и на меня, ее рот сурово и решительно сжался, и, наконец, она сказала: — Нет. До Соленой Воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли. И вот индеец ушел в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли. А ночью Пассук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество. Жизнь — странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить — это значит тяжко трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, — и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно! Мы разговаривали мало, Пассук и я. Ночью мы лежали в снегу как мертвые, а по утрам продолжали свой путь — все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев — ничего. Река была безмолвна под своим белым покрывалом. Все замерзло в лесу. И мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими, они прыгали и танцевали; днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц; воздух сверкал и искрился, а снег был как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука — только холод и Белое Безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Только наши глаза были устремлены в сторону Соленой Воды, наши мысли были прикованы к Соленой Воде, а ноги сами несли нас к Соленой Воде. Мы остановились у самой Тахкины — и не узнали ее. Наши ноги ступали по земле Каньоона — и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали, но, даже падая, смотрели в сторону Соленой Воды. Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну, — но Пассук падала чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука об руку с Пассук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще восемьдесят миль, но вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину. И вот Пассук заговорила со мной — тихо, касаясь губами моего уха» чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она изливала передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал. Она сказала: — Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я всегда разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, гребла, прокладывала путь — и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что на Чилкате было больше еды. Когда ты говорил, я слушала, когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли? И я ответил: — Да, это так. Она продолжала: — Когда ты впервые пришел к нам на Чилкат и купил меня, даже не взглянув, как человек покупает собаку, и увел с собой, — сердце мое восстало против тебя и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет свою собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня; но ты всегда был справедлив ко мне и поступал как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям, я сравнивала тебя с другими мужчинами — и видела, что ты лучше многих из них. что ты умеешь беречь свою честь и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце, и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает неба. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоем сердце, Чарли, был холод, в нем не было места для меня. И я ответил: — Да. это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропаток, пение зорянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пассук, и я узнал любовь женщины. Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне. А затем сказала: — Я рада. После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала: — Мой путь кончается здесь, я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно, когда я была девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкате, потому что мужчины уходили на охоту, а женщины и мальчики возили из лесу убитую дичь. И вот однажды весной я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отощавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «У-ух!» Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горящие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки, прямо в упряжи, волоча нарты за собой, повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам. В конце концов медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти, и следы медвежьих лап остались на лице мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца? Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в Белое Безмолвие без еды. Вот, братья мои, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь! Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она не пожалела даже себя. Прежде чем в последний раз закрылись ее глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек — и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня. Пассук сказала: — Вот и конец пути для Пассук; твой же путь, Чарли, не кончен, он ведет дальше, через великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды; и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук. И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала: — Среди людей Ситка Чарли всегда считался честным, и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на Сороковой Миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться. Когда ее тело стало холодным в моих объятьях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на пиршестве потлача, я пел песни и плясал под пение мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи, а Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я блуждал в глубоких снегах, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря. Ситка Чарли встал и вышел, откинув полы палатки. Был полдень. На юге, над гребнем гряды Гендерсона, висел холодный диск солнца. Воздух был подобен паутине из сверкающего инея. А впереди, около дороги, сидел похожий на волка пес с заиндевевшей шерстью и, подняв морду вверх, жалобно выл.
КОНЕЦ СКАЗКИ
Перевод Н. Аверьяновой
I
Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной, — это замерзала влага от человеческого дыхания. Роббер был решающим: проигравшей паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в семифутовой толще льда и снега, покрывавших Юкон. — Такая вспышка мороза в марте — это редкость! — заметил человек, тасовавший карты. — Сколько, по-вашему, градусов, Боб? — Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док? Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда. — Никак не больше пятидесяти. Или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки «пятьдесят», но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семй-десяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше. Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в. ответ на раздавшийся стук в дверь: — Войдите! Вошедший был рослый, плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стало возможно только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг. — Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор появился, — вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжких испытаниях. — Я приехал издалека. С северной развилины Вайо. — Я доктор. А что? Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто, бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда. — Дайте погляжу, — нетерпеливо прервал его доктор. — Положите руку на стол. Сюда, вот так! Швед осторожно, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели. — Гм, — буркнул доктор, — растяжение сухожилия. Из-за этого вы тащились сюда за сто миль! Да ведь вправить его — дело одной секунды. Следите за мной — в другой раз вы сумеете проделать это сами. Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаха опустил ее нижний край на распухший, скрюченный палец. Человек взревел от ужаса и боли. Крик был какой-то звериный, да и лицо у него было как у дикого зверя; казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую штуку. — Тише! Все в порядке! — резко и властно остановил его доктор. — Ну как? Полегчало, правда? В следующий раз вы сами это проделаете… Строзере, вам сдавать! Кажется, мы вас обставили. На туповатом, бычьем лице шведа выражалось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом. — Сколько? Доктор нетерпеливо мотнул головой. — Ничего. Я не практикую. Ваш ход, Боб. Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора. — Вы хороший человек. Звать-то вас как? — Линдей, доктор Линдей, — поторопился ответить за доктора Строзере, словно боялся, как бы тот не рассердился. — День кончается, — сказал Линдей шведу, тасуя карты для нового круга. — Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка. Доктор Линдей был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, но в этой бледности не было ничего болезненного. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы, не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально, — казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные, нервные, были как бы созданы для тонкой работы, и с первого же взгляда в них угадывалась сила. — Опять наша! — объявил он, забирая последнюю взятку. — Теперь только доиграть роббер, и посмотрим, кому придется делать прорубь! Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул: — Войдите! Кажется, нам так и не дадут докончить этот роббер, — проворчал он, когда дверь отворилась. — А с вами что случилось? — Это относилось уже к вошедшему. Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах, должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед — в нем виднелось лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замерз янтарной сосулькой, заостренной книзу, как вандейковская бородка. Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отдирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку. — Со мной-то все в порядке, — произнес он наконец. — Но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литтл Пеко человек схватился с пантерой, и она его черт знает как изувечила. — А далеко это? — осведомился доктор Линдей. — Миль сто будет. — И давно это с ним случилось? — Я три дня сюда добирался. — Плох? — Плечо вывихнуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками. — Удружили человеку! — усмехнулся доктор. — А в каких местах эти раны? — На животе. — Ну, так теперь ему конец. — Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим, и только потом зашили — на время, конечно. Надергали ниток из белья — другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли. — Можете уже считать его мертвецом, — дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты. — Ну нет, он не умрет! Не такой человек! Он знает, что я поехал за врачом, и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет. Я его знаю. — Христианская наука — как способ лечить гангрену? — фыркнул доктор. — Впрочем, какое мне дело. Я ведь не практикую. И не подумаю ради покойника ехать за сто миль в пятидесятиградусный мороз. — А я уверен, что поедете! Говорю вам, он не собирается помирать! Линдей покачал головой. — Жаль, что вы напрасно ездили в такую даль. Заночуйте-ка лучше здесь. — Никак нельзя! Мы двинемся отсюда через десять минут. — Почему вы так в этом уверены? — запальчиво спросил доктор. Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни: — А потому, что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю, прежде чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она — молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. Если он сдаст, она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной» что он будет живехонек, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут. Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел. — Черт его побери! — крикнул Линдей, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь.II
В ту же ночь, когда было пройдено двадцать пять миль и давно наступила темнота, Линдей и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело бы нехитрое, хорошо им знакомое: развести костер на снегу, а рядом, настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линдей, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины, потом, завернувшись в одеяла, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей. Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линдея, была примерно пятнадцать ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что, если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высотой где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени. В тот вечер, удобно расположившись в темном, мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля. — Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантеру, — говорил Доу. — Рокки называет ее «кугуар». Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон, — я ведь тамошний уроженец, — и там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище! И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу. Линдей не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину. Линдей вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный, тревожный гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несся через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселинах каменных склонов, и путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахами весны, промчался мимо, взметнув из костра целый дождь искр. Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по-волчьи: долго, протяжно. — Это Чинук, — сказал Доу. — Значит, двинемся по реке? — Конечно. Десять миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге. — Доу долго и внимательно всматривался в Линдея. — А ведь мы уже идем пятнадцать часов! — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линдея, и опять помолчал. — Док, — сказал он наконец, — вы не из трусливых? Вместо ответа Линдей выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке, вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел Чинук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцатисемичасового пути. — Часок можно соснуть, — сказал Доу после того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом. Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком, оседающем снегу. Снег оседал на глазах: за два часа его уровень понизился па три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое вешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литтл Пеко, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы. Доу тронул Линдея за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его. — Ну и спите же вы! — восхищенно шепнул он. — И можете проспать еще сколько угодно! Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент. — Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док! — снова встряхнул он Линдея, у которого смыкались глаза. — Послушайте, док! Я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного? Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег. — Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья, — подбодрял спутника Доу. — А там хоть провались этот лед, нам все равно: мы двинемся берегом. И всего-то нам остается пройти миль десять до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за один день доплыть в лодке к себе. Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литтл Пеко сердито урчала. На каждом шагу, по мере того как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила десяти пройденных верхней дорогой, появлялись все новые трещины и полыньи. — Садитесь на нарты, док, и вздремните немного, — предложил Доу. Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение. Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу. — Значит, выше река вскрылась, — объяснил Доу. — Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться. Ну, пошли, док! Гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не одну неделю! Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье: словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Зги три собаки, уносимые течением под лед, тянули за собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду. Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линдея возмутило, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем. — Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли! Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче. — Железный вы человек, Доу! — восхитился он. — Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала. Я горец, но куда мне до него! Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я, грешным делом, думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу! А он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам! Меня даже обида взяла. «Может, — говорю, — тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят?» — «Ясно!» — говорит. И ведь показал! Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя. Этот человек ни в чем удержу не знает! Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую — фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли! «Не делай этого! — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье. — У тебя единственный патрон, а темень такая — не видать, в кого целишься». «Полезай, — говорит, — на дерево». На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом, — скажу честно, пожалел я, что его не послушался. Ну и попали в переделку! Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, фута в четыре высотой. С одного краю собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь: собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона! Что же делает Рокки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии: жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут как понесется вся честная компания — медведь, собаки и Рокки! Промчались футов двадцать, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь и бултых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки! Уж если он на что решился, ничто его не остановит. На следующем привале Линдей услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье. — Пошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад — слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. «Кто ж это, — думаю, — возится?» Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву! Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу — Гарри ударяет ее; потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть. Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка делалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось: дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим», — говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется», — говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере. Не хотел бы я опять увидеть такое! Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя шесть футов своей длины. А палочка-ка у Рокки всего в четыре дюйма! Кошка и сгребла его. Схватились они — не видать, где он, где она! Стрелять нельзя! Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. — Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал! — сказал Линдей. Доу кивнул в знак согласия: — Она так и говорила. И просила меня, чтоб я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось. — Он что, сумасшедший? — сердито спросил Линдей. — Оба они шальные какие-то — и он и брат его, — все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже «сало» пошло. Это они об заклад бились. Что бы ни взбрело в голову, за все берутся! И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей Рокки — на все пойдет! Но он очень бережет ее. Обращается, как с королевой, никакой тяжелой работы делать не дает. Для того и наняли меня да еще одного человека за хорошее жалованье. Денег у них уйма. А уж любят друг друга как сумасшедшие! «Похоже, здесь будет недурная охота», — сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся», — говорит Гарри. Я-то все время думал, что они золото ищут, а они за всю зиму и таза песку не промыли на пробу. Раздражение Линдея еще усилилось. — Терпеть не могу сумасбродов! Я, кажется, способен повернуть обратно! — Нет, этого вы не сделаете! — уверенно возразил Доу. — И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз, к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад! Как ни был Линдей измучен, огонь сверкнул в его черных глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку. — Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки.III
He день, а три спустя, после того как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линдей и Том Доу добрели наконец до хижины в плодородной долине, на берегу бурной Литтл Пеко. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линдей сперва не разглядел как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линдей заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны резцом. — Чем промывали? — спросил Линдей у женщины. — Сулемой, обычным раствором. Линдей быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь это скрыть. Линдей повернулся к мужчинам. — Уходите отсюда! Займитесь колкой дров, чем угодно, только отсюда уходите! Один из них стоял в нерешимости. — Случай очень серьезный. Мне надо поговорить с его женой, — продолжал Линдей. — Но я его брат, — возразил тот. Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери. — И мне вон идти? — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел. — И вам. Линдей принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет. — Так это и есть твой Рекс Стрэнг? Женщина бросила взгляд на лежащего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он, потом молча посмотрела в глаза Линдею. — Что же ты молчишь?
Она пожала плечами. — К чему говорить? Ты ведь знаешь, что это Рекс Стрэнг. — Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись. — Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью. — Я отчаянно устал. Шоссейной дороги от Юкона сюда еще не провели. Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца. — Что ты думаешь делать? — спросила она, подождав минуту. — Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь. — Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь? — Женщина движением головы указала на человека, лежащего без сознания. — Ничего. Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос. — Ты хочешь сказать, что убьешь его? — медленно проговорила она. — Дашь ему умереть без помощи? А ведь, если ты захочешь, ты можешь спасти его. — Понимай как знаешь. — Линдей подумал и сказал с хриплым смешком: — С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен. — Ты несправедлив, Грант, — возразила она тихо. — Ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе. — Удобная точка зрения! — сказал Линдей. — Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло? — Мыслящий человек способен и сильно любить… — И в то же время действовать разумно, — вставил Линдей. — Значит, ты признаёшь, что я поступила разумно? Он поднял руки к небу. — Черт возьми, вот что значит говорить с умной женщиной! Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом. Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излучало женскую гордость. — Нет, нет, беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила бы его и кого угодно — лицом, фигурой, всем!.. Кому, как не мне, знать это! Черт возьми, я все еще не покончил с этим. Он говорил быстро, нервно, раздраженно и, как всегда (Медж это знала), искренне. Она ответила только на его последние слова: — Ты еще помнишь Женевское озеро? — Еще бы! Я был там до нелепости счастлив. Она кивнула головой, и глаза ее засветились. — От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни… на одну только минуту… вспомни, чем мы были друг для друга… И тогда… — Вот чем ты хочешь меня подкупить, — улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал: — Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина. — Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека, — настаивала она. Линдея наконец прорвало: — Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены? — Но ты уже здесь… Посмотри, в каком он состоянии! Что ты сделаешь? — Ничего. С какой стати? Он ограбил меня. Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали. — Убирайтесь вон! — закричал Линдей. — Может, вам нужно помочь? — Уходите, говорю! Принесите только ведро воды и поставьте его у двери. — Ты хочешь… — начала она, вся дрожа. — Умыться. Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью, и губы ее плотно сжались. — Слушай, Грант, — сказала она твердо. — Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую Дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя. Да что! Даже Том Доу сделает это, если я попрошу. — Мало же ты меня знаешь, что угрожаешь мне! — серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил: — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Странгу? Она судорожно вздохнула, но тут же крепко- стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бивший ее озноб….. — Это не истерика, Грант! — торопливо воскликнула она, стуча зубами. — Ты знаешь, что со мной никогда не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу: и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант! И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей! О Грант, умоляю… умоляю тебя… — Просто нервы! — сухо заметил Линдей. — Перестань! Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была мужчиной, я рекомендовал бы тебе покурить. Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, силясь овладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линдея сложились в улыбку, не предвещавшую ничего хорошего. — Ты сильно его любишь? — спросил он. Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко заблестели. Она глядела йа него гордо, не тая страсти. Линдей кивнул в знак того, что ответ ему ясен. — Давай потолкуем еще немного. — Он помолчал, словно обдумывая, с чего начать. — Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка. Написал, ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать… Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек, этот был художник, по натуре цыган, бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня… там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя: оно нарушает обмен веществ.

Потом случилось так, что человек этот ослеп и через десять лет, приведенный за руку, как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. А она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. (Вспомни, он поклонялся красоте.) Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее. Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать: «Конец!» — и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир: стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью. Линдей передернул плечами. — Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала? Прозрев, он напишет пять картин, но ее он тогда покинет, ведь красота — его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром… Линдей замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков. — Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно? — А если да? — Действительно любишь? — Да. — И ты способна ради него нажертву? Можешь от него отказаться? Медленно, с усилием она ответила: — Да. — И ты уйдешь со мной? На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот: — Когда он поправится, да. — Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой. Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой. — Очень хорошо! — Линдей быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни. — Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех… Нужен будет кипяток, как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайтесь кипятить воду — всю, сколько ее есть под рукой. А вы, — обратился он к Гарри, — вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи! Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простынь, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще по мере надобности. Теперь слушайте: я научу вас, что надо делать. Прежде всего — умеете вы следить за пульсом?
IV
Линдей славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя. Потому ли, что Стрэнг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость. Были дни очень высокой температуры и бреда; дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно; дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу: сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде. — Он останется калекой? — спрашивала Медж. — Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга, нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами — словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю: он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна? Не забывай: тебя-то с ним не будет. — Продолжай, продолжай свое дело, — отвечала она беззвучно. — Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был. Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции: он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины. Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм. — Вы убьете его! — запротестовал Гарри. — Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой калека, чем полностью починенный труп. Линдей вспыхнул от гнева. — Убирайтесь вон! Вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь! Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске. Понятно? Дуньте на нее — и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалять дурака. Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Медж, как бы спрашивая совета. — Уйди, пожалуйста, уйди! — взмолилась она. — Доктор прав. Я знаю, что он прав. В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал: — Док, вы чудодей! А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия. — Не ваше дело! Уходите, не мешайте! Процесс заживления истерзанной правой руки неожиданно приостановился, страшная рана опять вскрылась. — Наркоз, — сказал Линдей. — Теперь ему конец! — простонал брат. — Замолчите! — прикрикнул на него Линдей. — Ступайте вместе с Доу, возьмите и Билла — добудьте мне зайцев… живых и здоровых! Наловите их силками. Повсюду расставьте силки. — Сколько зайцев вам надо? — Сорок… четыре тысячи… сорок тысяч… сколько сможете добыть! А вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело. А вы, ребята, ступайте за зайцами. Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание. — Этого, конечно, никогда бы не случилось, — объяснил он Медж, — если б у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать… Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была. Из сотни принесенных зайцев Линдей отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой. И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдеем и Медж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости. — Это хлопотливое дело! — говорил он. — Но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро? — Как хочешь! — отвечала она. А в другой раз он сказал: — Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, знаю. Но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год, я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов. — А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне. — Вот как! — насмешливо буркнул Линдей. — А может, твой Рекс тоже слишком поглощен пантерами и короткими палочками? Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил. — Этого не объяснишь, — всегда отвечала она. И наконец однажды ответ ее прозвучал резко: — Никто не может объяснить, что такое любовь, и я — меньше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую, — вот и все. В Форте Ванкувер какой-то магнат из Компании Гудзонова залива был недоволен местным священником английской церкви. Последний в письмах домой, в Англию, жаловался, что служащие компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы растет книзу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет книзу. Я только констатирую факт». — К черту умных женщин! — закричал Линдей. Глазй его сверкали гневом. — Что тебя привело на Клондайк? — спросила Медж. — У меня было слишком много денег и не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть — должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл — та же история. Ренсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить! Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И во г когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу… Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух. — Разреши мне теперь сказать ему, — попросила Медж. — Нет, подожди еще, — ответил Линдей. Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемый с обеих сторон. — Пора сказать ему, — твердила Медж. — Нет. Я хочу прежде довести работу до конца. Чтобы не было никаких недоделок! Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на десятерых хватит. Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах Скалистых гор, на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом. Линдей не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движения тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая, розовая поверхность, к которой он посадил живую ткань. — Позволь мне наконец сказать ему! — умоляла Медж. — Еще не время, — был ответ. — Скажешь ему, когда лечение будет закончено. Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость — такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий — казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху. — Хватит! — крикнул он Стрэнгу. — Не могу угнаться за вами! Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам. — Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль? — спросил Линдей. Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом. — Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет. — Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить… Я до сих пор даже не знаю вашего имени! — Это неважно. Помог вам выпутаться — вот что главное. — Но ваше имя должно быть известно многим! — настаивал Стрэнг. — Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете. — Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание — и я вас оставлю в покое. За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток Биг Винди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так что заночуйте здесь, а я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание: дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.V
— Ну, — сказал Линдей, обращаясь к Медж, — даю тебе час времени на сборы, а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется дотемна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю — в Доусоне. — А я надеялась… — Медж из гордости не договорила. — Что я откажусь от платы? — Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким: зачем ты отослал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно! — Оставь ему письмо. — Да, я все ему напишу. — Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем троим, — сказал Линдей. Когда он вернулся с лодкой, вещи Медж были уже сложены, письмо написано. — Если ты не возражаешь, я прочту его. После минутного колебания она протянула ему письмо. — Достаточно прямо и откровенно, — сказал Линдей, прочтя его. — Ну, ты готова? Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживал челнок на месте, другую протянул Медж, помогая ей войти. Линдей внимательно следил за ней, но Медж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт. — Постой! — сказал он. — Одну минуту! Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я тебе рассказывал? Я ведь тогда ее недосказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях… Медж ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение. — Ты очень красива, Медж… — Линдей сделал паузу, потом сухо добавил: — Остальное ясно. Думаю, что объятия Стрэнга недолго останутся пустыми. Прощай. — Грант! — промолвила она почти шепотом, и голос ее сказал ему все то, что понятно и без слов. Линдей рассмеялся коротким, неприятным смехом. — Я только хотел тебе доказать, что я не так уж плох, — как видишь, плачу добром за зло. — Грант! — Прощай! — Он вошел в лодку и протянул Медж свою гибкую, нервную руку. Медж сжала ее в своих. — Дорогая, мужественная рука! — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее. Линдей резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил туда, где зеркальная вода уже вскипала белой клокочущей пеной.МЕЧЕНЫЙ
Перевод Т. Озерской
Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене Маккэе, а ведь когда-то клялся его именем. Да, было время, когда я любил его, как родного брата. А попадись мне теперь этот Стивен Маккэй — я не отвечаю за себя! Просто не верится, чтобы человек, деливший со мной пищу и одеяло, человек, с которым мы перемахнули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым товарищем; злобы или мстительности у него в натуре и в помине не было. Нет у меня теперь веры в людей! Еще бы! Я выходил этого человека, когда он помирал от тифа, мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта; и кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе! А теперь, после стольких лет, проведенных вместе, я могу сказать про Стивена Маккэя только одно: в жизни еще не встречал такого негодяя! Мы собрались с ним на Клондайк в самый разгар золотой горячки, осенью 1897 года, но тронулись с места слишком поздно и не успели перевалить через Чилкут до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на спинах часть пути, как вдруг пошел снег. Пришлось купить собак и продолжать путь на нартах. Вот тут и попал к нам этот Меченый. Собаки были в цене, и мы уплатили за него сто десять долларов. Он стоил этого — с виду. Я говорю «с виду», потому что более красивого пса мне в жизни не доводилось встречать. Он весил шестьдесят фунтов и был словно создан для упряжки. Эскимосская собака? Нет. И не мэлмут, и не канадская лайка. В нем было что-то от всех этих пород, а вдобавок и от европейской собаки, так как на одном боку, посреди желто-рыжих и грязновато-белых разводов, составлявших преобладающую окраску этого пса, у него красовалось угольно-черное пятно величиной со сковородку. Потому мы и прозвали его «Меченый». Ничего не скажешь, на первый взгляд пес был что надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатывались у него под кожей. Во всей Аляске я не встречал пса более сильного с виду. И более умного — тоже с виду. Попадись этот Меченый вам на глаза, вы бы сказали, что в любой упряжке он перетянет трех собак одного с ним веса. Может, и так, только видеть этого мне не приходилось. Его ум не на то был направлен. Вот воровать и таскать что ни попало — это он умел в совершенстве. Кое на что у него был особый, прямо-таки необъяснимый нюх: он всегда знал заранее, когда предстояла работа, и всегда успевал от нее улизнуть. Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись, у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испарялся и вместо собаки перед вами была жалкая тварь, дрожащая, как кусок студня, — просто сердце обливалось кровью, на него глядя. Иной раз мне кажется, что не в глупости тут дело. Быть может, подобно некоторым, хорошо мне известным людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать. Не удивлюсь, если при своей необыкновенной смекалке он просто-напросто нас дурачил. Может, он прикинул все «за» и «против» и решил, что лучше уж трепка раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи, хоть и без трепки. На это у него ума хватило бы. Говорю вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу — и такой в них светится ум, что, бывало, мурашки по спине побегут и дрожь проберет до самых костей. Не могу даже объяснить, что это такое, словами не передашь. Я видел это — вот и все. Да, посмотреть ему в глаза было все равно как заглянуть в человеческую душу. И от того, что я там видел, на меня нападал страх и всякие мысли начинали лезть в голову — о переселении душ и прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень значительное в глазах у этого пса; они говорили со мной, но во мне самом не хватало чего-то, чтобы их понять. Как бы там ни было (знаю сам, что кажусь дураком), но, как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку. Не могу, ну вот никак не могу объяснить, что я в них видел. Не то чтобы глаза у Меченого как-то особенно светились: нет, в них словно появлялось что-то и уходило в глубину, а глаза-то сами оставались неподвижными. По правде сказать, я не видел даже, как там что-нибудь появлялось, а только чувствовал, что появляется. Говорящие глаза — вот как это надо назвать. И они действовали на меня… Нет, не то, не могу я этого выразить. Одним словом, у меня возникало чувство сродства с ним. Нет, нет, дело тут не в сантиментах. Скорее это было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не молили, как, например, у оленя. В них был вызов. Да нет, не вызов. Просто спокойное утверждение равенства. И вряд ли он сам это сознавал. А все же факт остается фактом: было что-то в его взгляде, что-то там светилось. Нет, не светилось, а появлялось. Сам знаю, что несу чепуху, но если бы вы посмотрели ему в глаза, как это случалось делать мне, вы бы меня поняли. Со Стивом происходило то же, что со мной. Короче, я пытался однажды убить Меченого — он никуда не был годен — и провалился с этим делом. Завел я его в чащу, — он шел медленно и неохотно, знал, верно, какая участь его ждет. Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел и стал на меня смотреть. Говорю вам, он не просил пощады, — он просто смотрел. И я увидел, как нечто непостижимое появилось — да, да, появилось — в глазах у этого пса. Не то чтобы я в самом деле что-нибудь видел, — должно быть, просто у меня было такое ощущение. И скажу вам напрямик: я спасовал. Это было все равно как убить человека — храброго, сознающего свою участь человека, который спокойно смотрит в дуло твоего револьвера и словно хочет сказать: «Ну, кто из нас струсит?» И потом — мне все казалось: вот-вот я уловлю то, что было в его взгляде. Надо бы поскорее спустить курок, а я медлил. Вот, вот оно — прямо передо мной, светится и мелькает в его глазах. А потом было уже поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до пят, под ложечкой засосало, и тошнота подступила к горлу. Тогда я сел и стал смотреть на Меченого, и он тоже на. меня смотрит. Чувствую — еще немного, и я свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револьвер и со всех ног помчался в лагерь, — такого страху нагнал на меня этот пес. Стив поднял меня на смех. Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Меченого в лес — как видно, с той же целью — и вернулся назад один, а немного погодя приплелся домой и Меченый. Как бы там ни было, а только Меченый не желал работать. Мы заплатили за него сто десять долларов, последние деньги наскребли, а он не желал работать, даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уговорить Меченого, когда мы первый раз надели на него упряжь, но пес только задрожал слегка, — тем дело и кончилось. Хоть бы постромки натянул! Нет! Стоит себе как вкопанный и трясется, точно кусок студня. Стив стегнул его бичом. Он взвизгнул — и ни с места. Стив хлестнул еще раз, посильнее. И Меченый завыл — долго, протяжно, словно волк. Тут уж Стив взбесился и всыпал ему еще с полдюжины, а я выскочил из палатки и со всех ног бросился к ним. Я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться с животными, и мы немного повздорили, первый раз за всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел, злой, как черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый задрожал, затрясся весь и припал к земле, прежде даже чем я взмахнул бичом. А когда я огрел его разочек, он взвыл, словно грешная душа в аду, и потом лег на снег. Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой, а я продолжал лупить его. Он перекатился на спину и волочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами и воя так, словно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и давай хохотать надо мной; пришлось мне попросить у него прощения за свои слова. Никакими силами нельзя было заставить Меченого работать, но зато я еще сроду не видал более прожорливой свиньи в собачьей шкуре. И в довершение всего это был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно. Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак, потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас. По его вине мы чуть не подохли с голода в верховьях Стюарта: он ухитрился добраться до наших мясных запасов, и чего не смог сожрать сам, прикончила сообща вся упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в пристрастии — он крал у всех. Это была беспокойная собака, вечно рыскавшая вокруг да около или спешившая куда-то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на пять миль в окружности, который не подвергся бы его набегам. Хуже всего было то, что к нам поступали счета за его стол, которые, по справедливости, приходилось оплачивать, ибо таков был закон страны. И нас это прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на Чилкуте, — мы тогда сразу вылетели в трубу, оплачивая все свиные окорока и копченую грудинку, которые никто из нас не ел. Драться этот Меченый тоже умел неплохо. Он умел делать все, что угодно, только не работать. Сроду не натянул постромок, но верховодил всей упряжкой. А как он заставлял собак держаться от него на почтительном расстоянии! На это стоило посмотреть — поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них страху, и одна-две собаки всегда носили свежие отметины его клыков. Но Меченый был не просто задира. Никакое четвероногое существо не могло внушить ему страха. Я видел, как он один-одинешенек ринулся на чужую упряжку, без малейшего повода с ее стороны, и расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется, говорил вам, какой он был обжора? Так вот, как-то раз я поймал его, когда он жрал бич. Да, да, именно так. Начал с самого кончика и, когда я застал его за этим занятием, добрался уже до рукоятки и продолжал ее обрабатывать. Но с виду Меченый был хорош. В конце первой недели мы продали его отряду конной полиции за семьдесят пять долларов. У них были опытные погонщики, и мы думали, что к тому времени, когда Меченый покроет шестьсот миль до Доусона, из него выйдет приличная упряжная собака. Я говорю «мы думали», потому что в то время наше знакомство с Меченым только еще начиналось. Потом уже у нас не хватало наглости что-нибудь «думать», если дело касалось этого пса. Через неделю мы проснулись утром от самой неистовой собачьей грызни, какую мне когда-либо приходилось слышать. Это Меченый возвратился домой и наводил порядок в своей упряжке. Могу вас уверить, что мы позавтракали без особого аппетита, но часа через два снова воспрянули духом, продав Меченого правительственному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с депешами. На сей раз пес пробыл в отлучке всего трое суток и, как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей собачьей свалкой.

Переправив наше снаряжение через перевал, мы всю зиму и весну занимались тем, что помогали переправляться всем желающим, и здорово на этом заработали. Кроме того, неплохой доход приносил нам Меченый: мы продавали его не раз и не два, а все двадцать. Он всегда возвращался к нам обратно, и ни один покупатель не потребовал назад своих денег. Да нам эти деньги тоже были не нужны, — мы бы сами хорошо заплатили всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть Меченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но ведь даром собаку не отдашь — сразу покажется подозрительным. Впрочем, Меченый был такой красавец, что продавать его не составляло никакого труда. — Не обломался еще, — говорили мы, и нам платили за него не торгуясь. Иной раз мы продавали его всего за двадцать пять долларов, а однажды выручили целых сто пятьдесят. Так вот этот самый покупатель возвратил нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять назад. И уж как он нас поносил — страшно вспомнить! Это совсем недорогая плата, сказал он, за то, чтобы выложить нам все, что он о нас думает. Да мы и сами понимали, что он прав, и крыть нам было нечем. Но только с того дня, выслушав все, что говорил этот человек, я навсегда потерял уважение к самому себе. Когда с реки и озер сошел лед, мы погрузили наше снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, и ее погрузили в лодку. Меченый был тут же, отделаться от него не представлялось никакой возможности. В первый же день он раз десять сбрасывал в воду всех собак по очереди, затевая с ними драку, — в лодке было тесновато, а он не любил, когда его толкают. — Этой собаке необходим простор, — сказал Стив на следующий день. — Давай-ка высадим его на берег. Так мы и сделали, причалив ради него к берегу у Оленьего перевала. Еще две собаки — очень хорошие собаки — последовали за ним, и мы потеряли целых два дня на их розыски. Так мы этих собак больше и не видели. Но у нас словно гора с плеч свалилась: мы наслаждались покоем и, как тот человек, который отказался взять обратно свои сто пятьдесят долларов, считали, что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели. Мы были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни остались позади. Кошмар рассеялся. Меченого больше не было. Три недели спустя, как-то утром, мы со Стивом стояли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лодка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел, как Стив вздрогнул, и услышал, как он произнес нечто не вполне цензурное и притом отнюдь не вполголоса. Смотрю на лодку и вижу: на корме, навострив уши, сидит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу — как трусы, как побитые дворняжки, как преступники, скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее пришло в голову и полицейскому сержанту, который видел, как мы улепетывали. Он решил, что в лодке прибыли представители закона и что они охотятся за нами. Не теряя ни минуты на выяснения, сержант погнался за преступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказались спуститься к лодке и встретиться с Меченым. В конце концов сержант приставил к нам другого полисмена, а сам пошел к лодке. Отделавшись, наконец, от полиции, мы направились к своей хижине. Подошли — и видим: Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке. Ну как он узнал, что мы тут живем? В то лето в Доусоне было около сорока тысяч жителей, — как же ухитрился он среди всех других хижин разыскать именно нашу? И откуда, черт возьми, мог он знать, что мы вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам решить это самим. Не забудьте только то, что я говорил о его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно этот пес был наделен бессмертной душой. Теперь уж мы потеряли всякую надежду избавиться от Меченого: в Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкуте, и молва о нем быстро распространилась повсюду. Раз шесть мы сажали его на пароход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напросто сходил на берег на первом же причале и не спеша трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить (оба пробовали, да ничего не вышло). Убить Меченого никому не удавалось, он был точно заколдован. Я видел как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей свалки. На него налетело штук пятьдесят разъяренных псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны, Меченый стоял на всех четырех лапах, целый и невредимый, а две собаки из своры валялись на земле без всяких признаков жизни. Я видел, как Меченый стащил из погреба у майора Динвидди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей кухарки, гнавшейся за похитителем с топором в руке. Когда он взобрался на холм (после того как кухарка отказалась от преследования), сам майор Динвидди вышел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавшийся перед ним пейзаж. Он дважды заряжал ружье, расстрелял все патроны — и ни разу не задел Меченого. А потом прибежал полисмен и арестовал майора за стрельбу из огнестрельного оружия в черте города. Майор Динвидди уплатил положенный штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину по одному доллару за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой цене, — мясо в тот год было дорогое. Я рассказываю только то, что видел собственными глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел, как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной в три с половиной фута, и его, как соломинку, сразу затянуло течением вниз. Ярдов на триста ниже была другая прорубь, из которой брали воду для больницы. Меченый вылез из этой больничной проруби, облизал с себя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался на берег и задал трепку большому ньюфаундленду, принадлежавшему приисковому комиссару. Осенью 1898 года, перед тем как стать рекам, Стив и я поднимались на баграх вверх по Юкону, направляясь к реке Стюарт. Собаки были с нами — все, кроме Меченого. Мы решили: хватит кормить его! У нас с ним было столько хлопот, мы столько потратили на него времени, денег, корма… Особенно корма, а ведь этого ничем не окупишь, хоть мы и немало выручили, продавая этого пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Меченого в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаряжение. В эту ночь мы сделали привал в устье Индейской реки и вдоволь повеселились на радостях, что наконец-то избавились от Меченого. Стив был мастер на всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и так и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган. Волосы вставали дыбом при виде того, как Меченый налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну как, скажите на милость, удалось ему освободиться? Догадайтесь сами; у меня нет никаких соображений на этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать, что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли по воде, значит, нас нельзя было найти по следу. Мы со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого пса. К тому же он действовал нам на нервы, и, признаться вам по секрету, мы его немножко побаивались. Когда мы прибыли в устье ручья Гендерсона, реки стали, и нам удалось продать Меченого за два мешка муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Белой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула бесследно: никто больше не видел ни людей, ни собак, ни нарт — ничего. Все они словно сквозь землю провалились. Это было одно из самых таинственных происшествий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше, вверх по реке Стюарт, а шесть недель спустя Меченый притащился к нам в лагерь. Пес был похож на живой скелет, он еле волочил ноги, а все же добрался до нас. А теперь пусть мне скажут: кто это сообщил ему, что мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Ну, что вы на это скажете? Нет, потерять Меченого было невозможно. В Мэйо он затеял драку с одной собакой. Ее хозяин-индеец бросился на него с топором, промахнулся и убил свою собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии и колдовстве, которыми можно отводить в сторону пули! На мой взгляд, куда трудней отвести в сторону топор, в особенности если за его рукоятку уцепился здоровенный индеец. И вот я видел, своими глазами видел, как Меченый это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать собственную собаку, можете мне поверить. Я рассказывал вам, как Меченый добрался до наших мясных запасов? Вот тут уж нам прямо конец пришел. Охота кончилась; кроме этого мяса, у нас ничего не было. Лоси ушли за сотни миль, индейцы со всеми припасами — следом за ними. Прямо хоть ложись и помирай. Приближалась весна. Оставалось только ждать, когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде чем решились съесть собак, и в первую очередь решено было съесть Меченого. Так что же вы думаете, как поступил этот пес? Он улизнул. Ну как он мог знать, что было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет, подстерегая его, но он не вернулся; и мы съели остальных собак, съели всю упряжку. Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели вы когда-нибудь, как вскрывается большая река и миллионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, перемалываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река Стюарт с ревом и грохотом ломала лед, в самой гуще ледяного месива мы углядели Меченого. Он, должно быть, пытался переправиться через реку где-нибудь выше по течению, и в эту минуту лед тронулся. Мы со Стивом носились по берегу взад и вперед, вопя и улюлюкая что было мочи и размахивая шапками. Потом останавливались и душили друг друга в объятиях; мы бесновались от радости, видя, что Меченому пришел конец. У него не было ни единого шанса выбраться оттуда! Как только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, остановившись всего лишь раз — в поселке у устья ручья Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив уши и приветливо помахивая хвостом, сидел Меченый и скалил зубы, словно говоря нам: «Добро пожаловать!» Ну как он выбрался? И как мог он знать, когда мы приплывем в Доусон, чтобы встретить нас на пристани минута в минуту? Чем больше я думаю об этом Меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в силах объяснить Меченого. Это совсем особое физическое явление, или даже мистическое, или «еще что-нибудь в этом роде, и, насколько я понимаю, с прибавлением солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна. Я мог бы и сейчас жить там и стал бы миллионером, если б не этот пес. Он действовал мне на нервы. Я терпел эту собаку целых два года, а потом, как видно, силы мои пришли к концу. Летом 1899 года мне пришлось выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву. Я просто удрал, оставив ему записку и приложив к ней пакетик «Смерть крысам» с объяснением, что с этим надо делать. Я совсем отощал из-за этого Меченого и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался по сторонам, когда кругом не было ни души. И просто удивительно, как быстро я пришел в себя, стоило мне только избавиться от этого пса. Двадцать фунтов прибавил, прежде чем добрался до Сан-Франциско, а когда сел на паром, чтобы переправиться в Окленд, то уже настолько оправился, что даже моя жена тщетно старалась найти во мне хоть какую-нибудь перемену. Как-то раз я получил письмо от Стива, и в этом письме сквозило некоторое раздражение: Стив принял довольно близко к сердцу то, что я оставил его с Меченым. Между прочим, он писал, что использовал «Смерть крысам» согласно инструкции, но ничего путного из этого не вышло. Прошел год. Я опять вернулся в свою контору и преуспевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со мной. Я прочел его имя в списке пассажиров, прибывших с пароходом, и был удивлен, почему он не показывается. Но мне не пришлось долго удивляться. Как-то утром я вышел из дому и увидел Меченого: он был привязан к столбу калитки и держал молочника на почтительном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что Стив уехал на север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Моя жена заставила меня купить Меченому ошейник с номерком, и не прошло и часа, как он выразил ей свою признательность, придушив ее любимую персидскую кошку. Никакие силы уже не освободят меня от Меченого. Этот пес будет со мной до самой моей смерти, ибо он-то никогда не издохнет. С тех пор как он объявился, у меня испортился аппетит, и жена говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью Меченый забрался в курятник к мистеру Харвею (Харвей — это мой сосед) и задушил у него девятнадцать самых породистых кур. Мне придется заплатить за них. Другие наши соседи поссорились с моей женой и съехали с квартиры: причиной ссоры был Меченый. Вот почему я разочаровался в Стивене Маккэе. Никак не думал, что он окажется таким подлецом.
МЕКСИКАНЕЦ
Перевод Н. Ман
I
Никто не знал его прошлого, а люди из хунты[3] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали. На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы. Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание. — Отлично, — холодно произнес он, — ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами. — Это для революции? — спросил мальчик. — Да, для революции, — отвечал Паулино. Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку. — Хорошо, — сказал он. И ничего больше. День за днем он являлся на работу, — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку. — Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды. Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал: — Я работаю для революции. Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы В эры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби.Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок. — Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам. Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его. — Возможно, великий и одинокий дух… не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками. — В нем есть что-то нечеловеческое, — заметил Рамос. — В его душе все притупилось, — сказала Мэй Сэт-би. — Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу. — Ривера прошел через ад, — сказал Паулино. — Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик. И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, — покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили. — Он не шпион, — заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби. — Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю. — У него дурной характер, — сказала Мэй Сэтби. — Да, — ответил Вэра и вздрогнул. — Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти. И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анжелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анжелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками. Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли. — Я говорил вам, — сказал Вэра. — Больше, чем кого-либо, Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он — карающая десница. Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль. — Бродяга. — говорил Ареллано. — Завсегдатай злачных мест, — говорил Рамос. — Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра. — Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов. — Это результат его отлучек, — заметила Мэй Сэтби. — Он никогда не рассказывает о них. — Надо его выследить, — предложил Рамос. — Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит, — сказал Вэра. — Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу. — Перед ним я кажусь себе ребенком, — признался Рамос. — Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано. — Он сама революция, ее дух, ее пламя, — подхватил Вэра, — он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши. — Я готова плакать, когда думаю о нем, — сказала Мэй Сэтби. — У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок… — Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились. Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.II
Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от хунты, а хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней. Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Нркий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все — социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д’Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты, — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране. Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса. Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпнут до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди хунты в свое время были экономнее. — Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра. Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них. Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой. — Пять тысяч помогут делу? — спросил он. На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда. — Так заказывайте винтовки, — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу. Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить. — Ты сошел с ума! — сказал он. — Через три недели, — отвечал Ривера. — Заказывайте винтовки. Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку. — Заказывайте винтовки, — повторил он. — Я ухожу.III
После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая. — Ну, ты, видно, не робкого десятка, — едва взглянув на Риверу, сказал Келли. Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным. — Я побью Уорда. — Это было все, что он сказал. — Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется? Ривера молчал. — Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами! Ривера пожал плечами. — Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы. — Я побью его. — А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли. Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Йеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах. Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом. Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул. — Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание. — Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов. Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью. Келли без обиняков приступил к делу. — Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете? — Все в порядке, Келли, — последовал неторопливый ответ. — Он может драться. — Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли. Робертс немного поразмыслил. — Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции. — Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить? — Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда! — Отлично. — Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Йеллоустоуне»; щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность. — Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить? Робертс отхлебнул виски и разговорился. — Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд. — Я его знаю, — заметил секретарь. — Он немало для вас поработал. — Все наши знаменитости пробовали себя на нем, — подтвердил Робертс. — И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется. — Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам, — сказал Келли. — Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего ему нужны деньги; и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор. В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка. Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все. — Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. — Добрый день, старина! Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью. — Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру. — Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анжелес здорово обеднел, если это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли? — Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс. — И с ним не так легко справиться, как ты думаешь. — Кроме того, половина билетов уже распродана, — жалобно протянул Келли. — Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли. Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул. — Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил. Робертс фыркнул. — Потише, потише, — осадил Дэнни менеджер. — С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность. — Ладно, ладно, я это учту, — улыбнулся Дэнни. — Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут! — Идет, — последовал ответ. — Только чтобы публика приняла это за чистую монету. — Тогда перейдем к делу. — Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет. — Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят. — Он обратился к менеджеру: — Подходяще? Тот одобрительно кивнул. — Ты понял? — обратился Келли к Ривере. Ривера покачал головой. — Так вот слушай, — сказал Келли. — Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс? — Вполне справедливо, Ривера, — подтвердил Робертс. — Ты же еще не составил себе имени. — Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера. — Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь, — поспешил пояснить Дэнни. — Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это? Тогда Ривера их ошарашил. — Победитель получит все, — решительно сказал он. Воцарилась мертвая тишина. — Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда. Дэнни покачал головой. — Я стреляный воробей, — сказал он. — Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову. — Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец? Ривера покачал головой. Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому: — Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку. Робертс медленно поднялся и стал между ними. — Победитель получит все, — угрюмо повторил Ривера. — Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни. — Я побью вас. Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве. — Послушай, дуралей, — начал доказывать Келли. — Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анжелеса никто и не слыхал о тебе. — Еще услышат, — пожав плечами, отвечал Ривера, — после этой встречи. — Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной? — не выдержав, заорал Дэнни. Ривера кивнул. — Да ты рассуди, — убеждал Келли. — Подумай, какая это для тебя реклама! — Мне нужны деньги, — отвечал Ривера. — Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь, — заверил его Дэнни. — Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера. — Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?
— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. — Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют! Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его. — Стой! — Он повернулся к Ривере. — Когда взвешиваться? — Перед выходом, — последовал ответ. — Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять. — Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера. Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме. — Взвешиваться здесь, в десять, — продиктовал Ривера. Перо секретаря снова заскрипело. — Это, значит, лишних пять фунтов, — недовольно заметил Робертс Ривере. — Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось. Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.
IV
Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключились два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики. Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение. — Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спайдер был главным секундантом. — Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анжелес, что это опять фальшивая игра. Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой. Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами. Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц», — год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио[4] и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо[5], игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам. Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке. Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти: — Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги! Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка. Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее — локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучились резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть… Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот. Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели Тюдальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут. На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним. — Не поддаваться сразу, — предупредил Спайдер. — Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка! Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом. — Ну ты, мексиканский крысенок, — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться, — сейчас я вышибу из тебя дух! Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде. — Встань, собака! — крикнул кто-то с места. Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, — когда тот шел обратно. Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями. Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи. Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее. — Не робей, Ривера, — тянул Робертс. — Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал. Ривера и виду не подал, что расслышал его слова. — Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу. — Какой был, такой и остался. Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия. Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова. Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, — этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю, — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу. Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором. Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину: — Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками. На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше, чем будет произнесено десять. Если при счете «десять» колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья. При счете «девять» судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение. — А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась. — Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним. Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призывал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары. В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды. В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга. Вдруг раздался крик: — Прикончи его, Дэнни, прикончи! Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль. Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете «восемь», а не «девять» неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный, судья. Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику! Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту. Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял не вмешиваясь. В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу» от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме. Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу. Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалосьподозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами. — Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул. — Дэнни должен победить… не то я теряю огромную сумму… я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал… Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять. С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал. — Ну, готов, — сказал он. — Ступай в свой угол. Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы. — Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он. — Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.
Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа. — Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли. — Так или иначе — ты проиграешь, — поддал жару Спайдер Хэгерти. — Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись. — Ложись, мальчик, — настаивал Келли, — и я сделаю из тебя чемпиона. Ривера не отвечал. — Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня. Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В' отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки: — Грубая работа! Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную. Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть гибельного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает! — Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере. — Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное! Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады. На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным. — Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье. — Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья. — Мне не к чему придраться. Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенце. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся. — Считай! — хрипло крикнул Ривера. Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол. — За кем победа? — спросил Ривера. Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее. Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!
КУСОК МЯСА
Перевод Н. Аверьяновой
Последним кусочком хлеба Том Кинг подобрал последнюю каплю мучного соуса, начисто вытер им тарелку и долго, сосредоточенно жевал его. Из-за стола он встал с гнетущим ощущением голода. А ведь только он один и поел. Обоих ребятишек уложили спать пораньше в соседней комнате, в надежде, что во сне они забудут о пустых желудках. Жена не притронулась к еде и сидела молча, озабоченно наблюдая за мужем. Это была худая, изможденная женщина из рабочего класса, сохранившая еще остатки былой привлекательности. Муку для соуса она заняла у соседей. Последние два полпенни ушли на покупку хлеба. Том Кинг уселся у окна на расшатанный стул, затрещавший под ею тяжестью, и машинально, сунув в рот трубку, полез в боковой карман. Отсутствие табака вернуло его к действительности, и, обругав себя за беспамятность, он отложил трубку в сторону. Движения его были медленны, почти неуклюжи, — казалось; он изнемогает под тяжестью собственных мускулов. Это был человек весьма внушительного вида и внушительного сложения; наружность его не слишком располагала к себе. Грубая поношенная одежда висела на нем мешком. Ветхие башмаки были подбиты слишком тяжелыми подметками, тоже отслужившими свой век. Ворот дешевой, двухшиллинговой рубашки давно обтрепался, а покрывавшие ее пятна уже не поддавались чистке. Профессию Тома Кинга можно было безошибочно определить по его лицу — типичному лицу боксера. Долгие годы работы на ринге наложили на него свой отпечаток, придав ему какую-то настороженность зверя, готового к борьбе. Это угрюмое лицо было чисто выбрито, словно для того, чтобы все его черты выступили как можно резче. Бесформенные губы складывались в крайне жесткую линию, и рот был похож на шрам. Тяжелая массивная нижняя челюсть выдавалась вперед. Глаза под набрякшими веками и кустистыми бровями двигались медленно и казались почти лишенными выражения. Да, в наружности Кинга несомненно было что-то звериное и особенно в его глазах — сонных с виду глазах льва, готового к схватке. Низкий лоб был покат, а под коротко остриженными волосами отчетливо проступал каждый бугор на обезображенной голове. Нос, дважды сломанный, исковерканный бессчетными ударами на все лады, и оттопыренное, всегда распухшее ухо, изуродованное так, что оно стало вдвое больше своей нормальной величины, тоже отнюдь его не красили, а уже проступавшая на недавно выбритых щеках борода придавала коже синеватый оттенок. Словом, у Тома Кинга была внешность человека, которого можно испугаться где-нибудь в темном переулке или в каком-либо уединенном месте. А между тем он вовсе не был преступником и никогда ничего преступного не совершал. Не считая потасовок, обычных для человека его занятий, он никому не делал вреда. Никто никогда не видел, чтобы он затеял ссору. Том Кинг был боксер-профессионал и всю свою боевую свирепость сохранял для профессиональных выступлений. Вне ринга он был флегматичен, покладист, а в молодые годы, когда у него водились деньги, раздавал их щедрой рукой, не заботясь о себе. Он не страдал злопамятностью и имел мало врагов. Бой на арене являлся для него средством к жизни. На ринге он наносил удары, чтобы причинить повреждения, чтоб изувечить противника, уничтожить его, но делал это без злобы. Для него это было обыкновенным деловым занятием. Зрители собирались и платили деньги, чтобы посмотреть, как противники нокаутируют друг друга. Победителю доставалась большая часть денежного приза. Когда Том Кинг встретился двадцать лет назад с Улумулу Гуджером, он знал, что нижняя челюсть Гуджера, сломанная в ньюкаслском состязании, всего месяца четыре как зажила. И он метил именно в эту челюсть, и опять сломал ее на девятом раунде, но не потому, что питал к Гуджеру вражду, а потому, что это был наиболее верный способ вывести Гуджера из строя и получить большую часть приза. И Гуджер не обозлился на него. Таков был закон игры, оба они знали его и следовали ему. Том Кинг был несловоохотлив. Сидя у окошка, он молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной стороне кистей выступали толстые, вздутые вены, а расплющенные и изуродованные суставы пальцев свидетельствовали о службе, которую они несли. Том Кинг никогда не слыхал, что жизнь человека — это жизнь его сосудов, но что значат эти толстые набухшие вены — было ему очень хорошо известно. Его сердце гнало по ним слишком много крови под слишком высоким давлением. Они уже не справлялись со своей работой. Задавая им непосильную задачу, он заставил их потерять эластичность, а вместе с этим утратил и свою былую выносливость. Теперь он легко уставал и уже не мог двадцать бешеных раундов подряд биться, биться, биться, как одержимый, от гонга до гонга, то прижавшись к канатам, то сам отбрасывая к канатам противника и с каждым раундом усиливая ярость своих атак, чтобы в двадцатом, последнем, раунде, когда весь зал, вскочив, ревет, собрать воедино всю свою стремительность и всю мощь и нападать, бить, увертываться, снова и снова обрушивая на противника град ударов и получая такой же град ударов в ответ, в то время как сердце безотказно гонит по упругим жилам бурно приливающую кровь. Вздувавшиеся во время боя вены потом всегда опадали, хотя и не совсем, — каждый раз, незаметно для глаза, они становились чуточку шире прежнего. Том Кинг смотрел на свои вены и на искалеченные суставы пальцев, и на мгновение ему припомнилось, какой юношески-безупречной формой обладали эти руки до того, как он впервые размозжил одну из костяшек о голову Бенни Джонса, известного под кличкой «Валлийское Страшилище». Голод снова заговорил в нем. — Эх! Неужели нельзя достать кусок мяса! — пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки, и тихонько выругался. — Я пробовала, просила и у Берке и у Соулея». — виновато сказала жена. — Не дали? — спросил он. — Ни на полпенни. Берке сказал… — Она запнулась. — Договаривай! Что он сказал? — Да что мы и так уж много забрали у него продуктов в долг и что Сэндл, наверное, задаст тебе нынче трепку.

Том Кинг хмыкнул, но промолчал. Ему вспомнился вдруг булль-террьер, которого он держал, когда был помоложе, и закармливал до отвала мясом. Тогда Берке поверил бы ему, Кингу, тысячу бифштексов в долг. Но времена изменились. Том Кинг старел, а старые боксеры, выступающие в состязаниях во второразрядных клубах, не могут рассчитывать на сколько-нибудь порядочный кредит у лавочников. Том Кинг встал в это утро с тоской по куску говядины, и тоска эта не утихала. К тому же он знал, что недостаточно натренирован для предстоящей борьбы. Этот год в Австралии выдался засушливый, дела у всех шли туго, и даже случайную работу нелегко было подыскать. Партнера для тренировки у Тома не было, питался он плохо, редко ел досыта. Иногда он по нескольку дней работал чернорабочим, если удавалось устроиться, а по утрам обегал кругом весь парк Домен для тренировки ног. Но трудно тренироваться без партнера, да еще когда у тебя жена и ребятишки, которых надо прокормить. Предстоящее состязание с Сэндлом не слишком-то подняло его кредит у лавочников. Секретарь Гейети-клуба выдал ему вперед три фунта — ту часть приза, которая причитается побежденному, — но дать что-либо сверх этого отказался. Время от времени Кингу удавалось перехватить несколько шиллингов у старых приятелей; они одолжили бы ему и больше, если бы не засуха, из-за которой им самим приходилось туго. Нет, что уж правду таить, — он плохо подготовлен к состязанию. Следовало бы лучше питаться и не иметь столько забот. К тому же в сорок лет труднее входить в форму, чем в двадцать. — Который час, Лиззи? Жена побежала к соседям через площадку узнать время и тотчас вернулась. — Без четверти восемь. — Первый бой начнется через несколько минут, — сказал он. — Это только пробный. Потом пойдет бой в четыре раунда между Диллером Уэллсом и Гридли, потом в десять раундов — между Скайлайтом и каким-то матросом. Мне выступать не раньше чем через час. Посидев молча еще минут десять, он поднялся. — Правду сказать, Лиззи, у меня не было настоящей тренировки. Взяв шляпу, Кинг направился к двери. Он не поцеловал жену, — он никогда не целовал ее на прощанье, — но в этот вечер она сама решилась его поцеловать и, обхватив руками за шею, заставила нагнуться к ней; она выглядела совсем маленькой рядом со своим громадиной мужем. — Ни пуха ни пера, Том, — шепнула она. — Ты должен его одолеть. — Да, я должен его одолеть, — повторил он. — Тут и говорить не о чем. Я должен его одолеть, вот и все. Он засмеялся с притворной веселостью, а жена еще теснее прижалась к нему. Поверх ее плеча он окинул взглядом убогую комнату. Здесь было все, чем он обладал в этом мире: комната, за которую давно не плачено, жена и ребятишки. И он уходил в ночь, покидал их, чтобы добыть пропитание для своей подруги и детенышей, но не так, как добывает его современный рабочий, направляясь на однообразную, изнурительную работу к своему станку, а древним, царственно-первобытным, звериным способом — в бою. — Я должен его одолеть, — повторил он, на этот раз с ноткой отчаяния в голосе. — Если побью, получу тридцать фунтов, расплачусь со всеми долгами, и еще куча денег останется. Не побью — не получу ничего, ни единого пенни, даже на трамвай до дому не получу. Ну, прощай, старуха. Если побью — вернусь прямо домой. — Я не лягу, буду дожидаться! — крикнула она ему вдогонку, выглянув на лестницу. До Гейети-клуба было добрых две мили, и, шагая по улице, Том Кинг вспомнил, как в былые, счастливые дни он, чемпион тяжелого веса Нового Южного Уэльса, ездил на состязания в кебе, и кто-нибудь из тех, кто ставил на него тогда большие суммы, сопровождал его и платил за кеб. И вот теперь Томми Бернс и этот янки Джек Джонсон катаются в автомобилях, а он тащится пешком! А ведь отмахать добрых две мили — неважная подготовка к бою, кто ж этого не знает. Он стар, а жизнь не милует стариков. Ни на что он больше не годен, разве только на черную работу, да и тут сломанный нос и изуродованное ухо оказывают ему плохую услугу. Жаль, что он не выучился какому-нибудь ремеслу. Да, как видно, так было бы лучше. Но никто в свое время не дал ему такого совета, да и в глубине души он знал, что все равно не стал бы никого слушать. Ведь жизнь давалась ему тогда так легко. Уйма денег, жаркие, славные бои, а в промежутках — долгие периоды отдыха, безделья… целая свита услужливых льстецов… похлопывания по спине, рукопожатия… светские щеголи, наперебой угощавшие его виски, добивавшиеся, как высокой чести, пятиминутного разговора с ним… И венец всего — неистовствующая публика, бурный финал, судья, объявляющий: «Победил Кинг!», и его имя на столбцах спортивной хроники в газетах на следующий день. Да, славное было времечко! Но сейчас, после того как он, по своему обыкновению, медленно и долго размышлял над этим, ему стало ясно, что он в ту пору сталкивал с дороги стариков. Он был тогда восходящей звездой, Молодостью, а они — близившейся к закату Старостью. Не мудрено, что победа над ними давалась ему легко: у них были вздувшиеся жилы, искалеченные суставы, крепко засевшая в теле усталость от бесчисленных проведенных ими боев. Ему вспомнилось, как в Раш-Каттере Бэй он побил старого Стоушер а Билла на восемнадцатом раунде и как тот, словно ребенок, плакал потом у себя в раздевалке. Быть может, Билл просрочил плату за квартиру? Может, дома его ждали жена, ребятишки? И, может, Билл в день состязания был голоден и тосковал по куску мяса? Старик не хотел сдаваться, и он страшно его разделал. Теперь, сам находясь в его шкуре, Том Кинг понимал, что в тот вечер, двадцать лет назад, Стоушер Билл ставил на кон куда больше, чем юный Том, сражавшийся ради славы, ради легко достававшихся ему денег. Что ж мудреного, если Стоушер Билл плакал потом в раздевалке! Да, каждому, как видно, отпущено сил на определенное число схваток, не больше. Таков железный закон боя. Один может выдержать сотню тяжелых боев, другой — только двадцать; каждого, в соответствии с его сложением и темпераментом, хватает на определенное время, а потом он — конченый человек. Что ж, его, Тома Кинга, хватило на большее, чем многих других, и на его долю выпало больше жестоких, изнурительных боев, которые задавали такую работу легким и сердцу, что они, казалось, готовы были лопнуть, и артерии лишались эластичности, мягкая гибкость гладких юношеских мышц превращалась в жесткие узлы мускулов, нервы изматывались, выносливость подрывалась, тело и мозг утомлялись от непосильного напряжения. Да он еще дольше продержался, чем другие! Все его старые товарищи уже сошли с ринга. Он был последним из старой гвардии. Они выбывали из строя у него на глазах, и подчас он сам прикладывал к этому руку. Его выпускали против стариков, и он сметал их с дороги одного за другим, смеясь, когда они, как старый Стоушер Билл, плакали в раздевалке. А теперь он сам стар, и юнцы пробуют на нем свои силы. Вот, к примеру, хоть этот малый, Сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где поставил рекорд. Но здесь, в Австралии, о нем никто ничего не знает, и его выпускают против старого Тома Кинга. Если Сэндл себя покажет, ему дадут противников посильнее и увеличат приз, так что он, без сомнения, будет сегодня биться до последнего. Ведь в этом бою он может выиграть все — деньги, славу, карьеру. И преградой на этом широком пути к славе и богатству стоит старый, седой Кинг. А Том Кинг ничего уже больше не может выиграть — только тридцать фунтов, чтобы расплатиться с домохозяином и с лавочниками. И когда он подумал об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ сияющей Молодости, ликующей и непобедимой, с гибкими мышцами, шелковистой кожей и здоровыми, не знающими усталости легкими и сердцем, — Молодости, которая смеется над тем, кто бережет силы. Да, Молодость — это Возмездие! Она уничтожает стариков, не задумываясь над тем, что, поступая так, уничтожит и саму себя. Ее артерии вздуются, суставы на пальцах расплющатся, и ее в свой черед уничтожит победоносная Молодость. Ибо Молодость всегда юна. Стареют только поколения. На Кеслри-стрит он свернул налево и, пройдя три квартала, подошел к Гейети-клубу. Толпа молодых сорванцов, торчавших у входа, почтительно расступилась перед ним, и он услышал за своей спиной: — Это он! Это Том Кинг! Направляясь в раздевалку, он встретил секретаря — востроглазого молодого человека с лисьей мордочкой; тот пожал ему руку. — Как вы себя чувствуете, Том? — спросил он. — Превосходно! Свеж, как огурчик! — ответил Кинг, хотя знал, что лжет и что, будь у него сейчас в кармане фунт стерлингов, он отдал бы его, не задумываясь, за кусок мяса. Когда он вышел из раздевалки и в сопровождении своих секундантов двинулся по проходу между скамьями к квадратной, огороженной канатами площадке в центре зала, томящиеся в ожидании зрители встретили его бурными аплодисментами и приветствиями. Том Кинг раскланивался направо и налево, но замечал мало знакомых лиц. Большинство зрителей составляли зеленые юнцы, которых еще на свете не было, когда он пожинал первые лавры на ринге. Нырнув под канат, Кинг легко вскочил на площадку, прошел в свой угол и опустился на складной стул. Судья Джек Болл направился к нему — пожать ему руку. Болл, сошедший с ринга боксер, не выступал уже свыше десяти лет. Кинга обрадовало, что судьей назначен Болл. Оба они были старики. Том знал — на Болла можно положиться. Если он обойдется с Сэндлом не совсем по правилам, Болл с него не взыщет. Молодые претенденты на звание боксера тяжелого веса один за другим поднимались на площадку, судья представлял их публике и тут же объявлял их ставки. — Молодой Пронто из Северного Сиднея, — выкликал он, — вызывает победителя! Ставит пятьдесят фунтов! Публика аплодировала. Когда Сэндл, перескочив через канат, уселся в своем углу, его тоже встретили аплодисментами. Том Кинг с любопытством поглядел на противника. Еще несколько минут — и они сойдутся в беспощадном бою, в котором каждый из них приложит все силы, чтобы измолотить другого до бесчувствия. Но рассмотреть Сэндла хорошенько он не мог, потому что тот, как и он сам, был в длинных брюках и свитере, надетых поверх спортивного трико. Лицо Сэндла было мужественно и красиво, над лбом вились золотистые кудри, крепкая, мускулистая шея говорила о большой физической мощи. Юный Пронто прошел из угла в угол, чтобы обменяться рукопожатиями с противниками, и спрыгнул с ринга. Вызовы продолжались. Юнцы один за другим проскакивали под канат — еще безвестные, но полные задора, спеша объявить на весь мир о своей готовности помериться с победителем силой и ловкостью. Несколько лет назад непобедимому Тому Кингу, достигшему апогея славы, все предшествующие бою церемонии казались смешными и скучными. Но теперь он сидел как зачарованный, не в силах оторвать глаз от этого парада Молодости. Так было всегда — все новые и новые юнцы проскакивали под канат и бросали свой вызов всем. И старики неизменно склонялись перед ними, побежденные. Молодые карабкались к успеху по телам стариков. Их прибывало все больше и больше. То была Молодость — ненасытная, непобедимая. И всегда они сметали с дороги стариков, а потом сами старели и катились вниз, следом за стариками, а за ними, неустанно напирая на них, бесконечной чередой шли новые и новые поколения. И так будет до скончания веков, ибо Молодость идет своим путем и никогда не умирает. Кинг бросил взгляд на ложу журналистов и кивнул Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Рефери». Потом протянул руки своим секундантам, Сиду Сэлливену и Чарли Бейтсу. Они надели на него перчатки и туго затянули их под внимательным взором одного из секундантов Сэндла, который сначала придирчиво проверил обмотки на суставах Кинга. Секундант Кинга выполнил ту же обязанность по отношению к Сэндлу. С Сэндла стянули брюки, он встал, и с него стащили через голову свитер, и Том Кинг увидел перед собой воплощение Молодости — с могучей грудью и крепкими мускулами, которые играли, перекатываясь, как живые, под атласистой кожей. Жизнь била ключом в этом теле, и Том Кинг знал, что оно не растратило еще своей свежести, что жизнь еще не истекала из него по капле через все поры в долгих изнурительных боях, в которых Молодость платит свою дань, выходя из них всякий раз уже не столь юной. Противники двинулись навстречу друг другу; прозвучал гонг, секунданты спрыгнули вниз, унося складные стулья. Том Кинг и Сэндл обменялись рукопожатиями и встали в стойку. И сразу же Сэндл, действуя подобно хорошо слаженному механизму из стали и пружин, сделал выпад, отступил, повторил выпад, левой ударил Тома в глаза, правой под ребра, нырнул, чтобы избежать ответного удара, легко, словно танцуя, отскочил назад и так же легко сделал угрожающий бросок вперед. Он был стремителен и ловок. Зрелище оказалось увлекательным. Зал огласился восторженными криками. Но Кинг не был ослеплен этим зрелищем. Он провел уже столько боев, с таким множеством молодых боксеров, что знал цену подобным ударам, чересчур быстрым и чересчур ловким, чтобы быть опасными. По-видимому, Сэндл намеревался развязать бой сразу. Этого следовало ожидать. Так действует Молодость, щедро расточая свое несравненное превосходство, свою дивную красу в бешеных натисках и яростных схватках и подавляя противника великолепием своей силы и жажды победы. Сэндл — легконогий, горячий, живое чудо сверкающего белизной тела и разящих мускулов — наступал и отступал, мелькая то тут, то там, повсюду, скользя и ныряя, как снующий челнок, сплетая тысячу движений в ослепительный натиск, устремленный к одной цели — уничтожить Тома Кинга, стоящего на его пути к славе. И Том Кинг терпеливо это сносил. Он знал свое дело и теперь, когда сам уже не был молод, понял, что такое Молодость. Сейчас оставалось только выжидать, пока противник не выдохнется. И, порешив так, он ухмыльнулся, пригибаясь, умышленно подставляя свое темя под тяжелый удар. Это был предательский прием, но разрешенный правилами бокса. Каждый должен сам беречь свои суставы, а если противник упорно старается треснуть тебя по макушке, пусть пеняет на себя. Кинг мог избежать удара, нагнувшись ниже, но ему припомнились его первые бои и то, как он впервые расплющил сустав пальца о голову Валлийского Страшилища. Теперь он платил той же монетой. Этот маневр был рассчитан на то, что Сэндл разобьет себе костяшку о его голову. Пусть даже Сэндл и не заметит этого сгоряча, — с той же великолепной беззаботностью он будет снова и снова наносить такие же тяжелые удары до конца боя. Но когда-нибудь впоследствии, когда долгие бои начнут сказываться на нем, Сэндл оглянется назад и пожалеет о том, что раздробил этот сустав о голову Тома Кинга. Весь первый раунд нападал один Сэндл, и зрительный зал гудел, восхищаясь молниеносностью его ураганных атак. Он обрушивал на Кинга лавину ударов, а Кинг не отвечал. Он не нанес ни одного удара, только прикрывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь от нападения. Он двигался неторопливо, временами делал ложный выпад, тряс головой, получив увесистый удар, и ни разу не сделал ни одного прыжка, ни одного отскока, не потратил ни капли сил. Пусть в Сэндле осядет пена Молодости, прежде чем осторожная Старость решится отплатить ей. Все движения Кинга были размеренны, неспешны, а прикрытые тяжелыми веками глаза и застывший взгляд придавали ему вид человека, который оглушен или движется в полусне. Но глаза его видели все — за двадцать с лишним лет работы на ринге они приучились ничего не упускать. Они не жмурились, встречая удар, в них не мелькало боязни, они смотрели холодно, измеряя дистанцию. В минутный перерыв по окончании раунда Том Кинг отдыхал в своем углу. Вытянув ноги, широко раскинув руки и положив их на канаты, он глубоко дышал всей грудью и животом, в то время как секунданты обмахивали его полотенцами. Закрыв глаза, он прислушивался к голосам в публике. — Почему ты не дерешься, Том? — кричали некоторые из зрителей. — Боишься ты его, что ли? — Скованность мускулов! — заявил кто-то в первом ряду. — Он не может двигаться быстрее. Два фунта против одного за Сэндла! Прозвучал гонг, и противники двинулись из своих углов. Сэндл прошел три четверти разделявшего их расстояния — ему не терпелось начать, а Кинг был доволен, что на его долю осталось меньше. Это отвечало его тактике экономии сил. Он не получил хорошей тренировки, скудно питался, и каждый шаг надо было беречь. К тому же он уже отмахал две мили пешком до ринга! Этот раунд был повторением предыдущего: Сэндл налетал на противника, как вихрь, и зрители орали, возмущаясь, почему Кинг не дерется. Кроме нескольких вялых, безрезультатных ударов и ложных выпадов, Кинг ничего не предпринимал, только увертывался, блокировал и входил в клинч. Сэндл стремился навязать бой в бешеном темпе, но Кинг, умудренный опытом, не шел на это. Он продолжал беречь силы, ревниво, как бережет только Старость, и усмехался с выражением какого-то грустного торжества на изуродованном в схватках лице. А Сэндл был сама Молодость и расточал силы с великолепной беспечностью Молодости. Кинг — мастер ринга — обладал мудростью, выработанной в многочисленных тяжелых боях на ринге. Движения его были неторопливы. Ни на секунду не теряя головы, он холодным взглядом следил за Сэндлом, дожидаясь, когда у него остынет боевой задор. Большинству зрителей казалось, что Кинг безнадежно слаб, потерял класс, и они громко выражали свое мнение, ставя три против одного за Сэндла. Но кое-кто поопытней, знавший прежнего Кинга, — таких нашлось немного, — принимал пари, считая, что выигрыш ему обеспечен. Третий раунд начался так же, как и предыдущие, — активность принадлежала Сэндлу, он все время шел в нападение. Раунд длился уже с полминуты, когда Сэндл в пылу самонадеянности раскрылся. Глаза Кинга сверкнули, и в то же мгновение его правая рука взметнулась кверху. Это был его первый настоящий удар — «хук», нанесенный полусогнутой в локте рукой для придания ей жесткости, усиленный всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Словно притворяющийся спящим лев молниеносно выбросил разящую лапу. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку и повалил его на пол, как вола на бойне. Зрители ахнули, и по залу прошел благоговейный шепот одобрения. Оказывается, этот старик вовсе не страдает скованностью мускулов, его правая бьет как кузнечный молот! Сэндл был ошеломлен. Он перевернулся, намереваясь встать, но секунданты закричали, чтобы он выждал счет, и остановили его. Привстав на одно колено, он ждал, готовый подняться, пока судья, стоя над ним, громко отсчитывал секунды у него над ухом. На девятой секунде он уже стоял, готовый к бою, и Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что удар не пришелся дюймом ниже — точно в подбородок. Тогда это был бы нокаут, и он пошел бы домой, к жене и ребятишкам, с тридцатью фунтами в кармане. Раунд продолжался, пока не истекли положенные три минуты. Сэндл, казалось, впервые почувствовал уважение к своему противнику, а Кинг был все так же нетороплив, и его глаза снова приобрели прежнее сонное выражение. Когда секунданты уже присели на корточки у ринга, готовясь проскочить под канат, Кинг, поняв, что раунд близится к концу, стал направлять бой к своему углу. С ударом гонга он уже опускался на стул, в то время как Сэндлу нужно было еще пересечь по диагонали всю площадку, чтобы добраться до своего угла. Это была мелочь, но мелочи, складываясь вместе, приобретают немалое значение. Сэндлу пришлось сделать несколько лишних шагов, потратить на это какую-то энергию и потерять частицу драгоценного отдыха. В начале каждого раунда Кинг медленно подвигался вперед из своего угла и тем самым заставлял противника пройти большую часть расстояния. А к концу раунда он маневрировал так, чтобы перенести бой поближе к своему углу, где он мог сразу опуститься на стул. В последующих двух раундах Кинг расходовал силы все так же бережливо, Сэндл — все так же расточительно. Сэндл сделал попытку форсировать бой, и Кингу пришлось довольно туго, ибо немалая часть обрушившихся на него бессчетных ударов попала в цель. И все же Кинг упорно оставался пассивен, хотя молодежь в зале шумела и кое-какие горячие головы требовали, чтобы он принял бой. В шестом раунде Сэндл опять допустил промах, и снова страшная правая рука Кинга мелькнула в воздухе, и снова Сэндлу, получившему удар в челюсть, были отсчитаны девять секунд. В седьмом раунде Сэндл чувствовал себя уже не столь блестяще; он понял, что ввязался в тяжелый, беспримерный бой. Том Кинг был старик, но с таким стариком ему ни разу еще не приходилось мериться силами; он никогда не терял головы, был поразительно искусен в защите, а удар его обладал силой тяжелой дубинки, и, казалось, в каждом кулаке у него скрыто по нокауту. Тем не менее Кинг не отваживался часто наносить удары. Он ни на минуту не забывал о своих искалеченных суставах, зная, что каждый удар должен быть на счету, чтобы костяшки пальцев выдержали до конца боя. Сидя в своем углу и поглядывая через площадку на противника, он подумал вдруг, что молодость Сэндла в соединении с его собственным опытом могла бы дать мирового чемпиона тяжелого веса. Но в том-то и вся суть. Сэндлу никогда не стать чемпионом мира. Сейчас ему не хватает опыта, а приобрести его он может только ценой своей молодости, но, когда он его приобретет, молодость уже будет позади. Кинг пользовался всеми преимуществами, какие давал ему опыт. Он ни разу не упустил случая перейти в клинч, и при этом почти всегда его плечо основательно надавливало противнику на ребра. Философия ринга гласит, что плечо и кулак одинаково хороши, когда надо нанести повреждение, но в смысле экономии сил первое имеет несомненные преимущества. К тому же в клинчах Кинг отдыхал, наваливаясь всей тяжестью на противника, и весьма неохотно расставался с ним. Всякий раз требовалось вмешательство судьи, разъединявшего их с помощью самого Сэндла, еще не научившегося отдыхать. Сэндл же не мог удержаться, чтобы не пускать в ход своих стремительно взлетающих рук и играющих мускулов. Когда Кинг входил в клинч, с силой заезжая Сэндлу плечом в ребра и пряча голову под его левую руку, тот почти неизменно заносил правую руку за спину и бил в торчащее из-под его подмышки лицо. Это был ловкий прием, чрезвычайно восхищавший публику, но не опасный и, следовательно, приводивший лишь к бесполезной трате сил. И Кинг только ухмылялся, стойко снося удары. Сэндл правой нанес Кингу яростный удар в корпус. Со стороны могло показаться, что Кингу на этот раз здорово досталось, но кое-кто из завсегдатаев ринга сумел оценить ловкое прикосновение левой перчатки Кинга к бицепсу противника перед самым ударом. Правда, каждый удар Сэндла попадал в цель, но всякий раз прикосновение Кинга к его бицепсу лишало удар силы. В девятом раунде согнутая в локте правая рука Кинга трижды на протяжении одной минуты наносила Сэндлу удар в челюсть, и трижды Сэндл всей своей тяжестью грохался на пол. И всякий раз он, использовав положенные девять секунд, поднимался на ноги — оглушенный, но все еще сильный. Однако он заметно утратил свою стремительность и действовал осмотрительнее. Лицо его стало угрюмо, но он по-прежнему делал ставку на свой главный капитал — Молодость. Главным же капиталом Кинга был опыт. С тех нор как силы его стали сдавать и боевой дух слабеть, Кинг заменил их мудростью и хитростью, приобретенными в многолетних боях, и расчетливой экономией сил. Он научился не только избегать лишних движений, но и выматывать вместе с тем силы противника. Снова и снова обманными движениями ноги, руки, корпуса он принуждал Сэндла отскакивать назад, увертываться, наносить контрудары. Кинг отдыхал, но ни на минуту не давал отдохнуть Сэндлу. Такова была стратегия Старости. В начале десятого раунда Кинг начал парировать атаки Сэндла прямыми ударами левой в лицо, и Сэндл, став осторожнее, прикрывался левой, а затем отвечал длинным боковым ударом правой в голову. Удар этот приходился слишком высоко, чтобы иметь роковые последствия, но, когда он впервые был нанесен, Кинг испытал давнишнее, знакомое ощущение, — словно какая-то черная пелена заволокла его мозг. На мгновение — вернее, на какую-то долю мгновения — Кинга словно не стало. Противник исчез из глаз, исчезли и белые выжидающие лица на заднем плане; но тут же он снова увидел и противника и зрительный зал. Словно он на миг заснул и тотчас открыл глаза. Миг этот был так короток, что Кинг не успел упасть. Зрители видели, как он пошатнулся, колени у него подогнулись, но он тут же оправился и уткнул подбородок поглубже, прикрываясь левой. Сэндл повторял этот удар несколько раз подряд, держа Кинга в полуоглушенном состоянии, а затем тот выработал особый способ защиты, служивший одновременно и контратакой. Сосредоточив внимание противника на своей левой, он отступил на полшага назад и в то же мгновение нанес ему что было сил апперкот правой. Удар был так точно рассчитан, что угодил Сэндлу прямо в лицо в ту самую минуту, когда он наклонился, и Сэндл, подброшенный кверху, упал, стукнувшись головой и плечами об пол. Кинг повторил этот прием дважды, затем перестал беречь силы и, обрушив на противника град ударов, прижал его к канату. Он не давал Сэндлу опомниться, не давал ему передохнуть, бил и бил его под рев зрителей, вскочивших с мест, и несмолкающий гром аплодисментов. Но сила и выносливость Сэндла были великолепны, и он все еще держался. Нокаут казался неизбежным, и полисмен, увидев, что это может кончиться плохо, появился возле площадки, намереваясь прекратить бой. Гонг возвестил об окончании раунда, и Сэндл, шатаясь, добрался до своего угла, заверив полисмена, что он в полном порядке. В доказательство он дважды подпрыгнул, и тот сдался. Кинг сидел в своем углу, откинувшись назад, тяжело дыша. Он был разочарован. Если бы бой прекратили, судье пришлось бы вынести решение в его пользу, и приз достался бы ему. Он, не в пример Сэндлу, дрался не ради славы или карьеры, ради тридцати фунтов. А теперь Сэндл оправится за эту минуту отдыха. «Молодость свое возьмет!» — промелькнуло у Кинга в уме, и он вспомнил, что услышал впервые эти слова в ту ночь, когда убрал с дороги Стоушера Билла. Это сказал какой-то франт, угощая его после боя виски и похлопывая по плечу: «Молодость свое возьмет!» Франт оказался прав. В тот вечер — как он далек! — Кинг был молод. А сегодня Молодость сидит напротив него, вон в том углу. И он ведет с ней бой уже целых полчаса, а ведь он старик. Если б он бился как Сэндл, ему бы и пятнадцати минут не выдержать. Все дело в том, что у него не восстанавливаются силы. Эти вот вздувшиеся артерии и усталое, измотанное сердце не дают ему набраться сил в перерывах между раундами. Да по правде сказать, у него и перед состязанием сил было уже маловато. Он чувствовал, как отяжелели ноги и как по ним пробегает судорога. Да, нельзя было идти пешком целых две мили перед самым боем! И еще с утра он тосковал по куску мяса! Великая, лютая ненависть поднялась в нем против лавочников, отказавшихся отпустить ему мяса в долг. Трудно старику выходить на ринг, не поев досыта. И что такое кусок говядины? Мелочь, и цена-то ему несколько пенни. А вот для него этот кусок мог бы превратиться в тридцать фунтов стерлингов. Едва гонг возвестил о начале одиннадцатого раунда, как Сэндл ринулся в атаку, демонстрируя бодрость, которой у него уже и в помине не было. Кинг понимал, что это блеф, старый, как самый бокс. Сначала, спасаясь от противника, он ушел в клинч, затем, оторвавшись, дал возможность Сэндлу сделать стойку. Это было Кингу на руку. Притворно угрожая противнику левой, он заставил его нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх и, отступив на полшага назад, сокрушительным апперкотом опрокинул Сэндла на пол. С этой минуты Кинг не давал Сэндлу передохнуть. Он сам получал удары, но наносил их неизмеримо больше, отбрасывая Сэндла к канатам, осыпая его прямыми и боковыми, короткими и длинными ударами, вырываясь из его клинчей или своевременно отражая попытки войти в клинч, подхватывая его одной рукой всякий раз, когда он готов был упасть, а другой отбивая к канатам, которые удерживали его от падения. Зрители обезумели; теперь они все были на стороне Тома, и чуть ли не каждый вопил: — Давай, Том! Жарь! Наддай, Том! Всыпь ему! Твоя взяла, Том! Финал обещал быть очень бурным, а ведь за это публика и платит деньги. И Том Кинг, в течение получаса сберегавший силы, теперь расточительно расходовал их в едином мощном натиске, на который, он знал, его еще могло хватить. Это был его единственный шанс — теперь или никогда! Силы его быстро убывали, и он надеялся лишь на то, что успеет свалить противника прежде, чем они иссякнут. Но, продолжая нападать и бить, бить, холодно оценивая силу ударов и размеры наносимых повреждений, он начинал понимать, как трудно нокаутировать такого малого, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости был в нем неисчерпаем — нерастраченных жизненных сил и юношеской выносливости. Да, Сэндл, несомненно, далеко пойдет. Это прирожденный боксер. Только из такого крепкого материала и формируются чемпионы. Сэндла кружило и шатало, но и у Тома Кинга ноги сводило судорогой, а суставы пальцев отказывались служить. И все же он заставлял себя наносить яростные удары, из которых каждый отзывался мучительной болью в его искалеченных руках. Но хотя на его долю сейчас почти не доставалось ударов, он слабел так же быстро, как противник. Его удары попадали в цель, но в них уже не было силы, и каждый стоил ему огромного напряжения воли. Ноги словно налились свинцом, и стало заметно, что он с трудом волочит их. Обрадованные этим симптомом, сторонники Сэндла начали криками подбадривать своего фаворита. Это подхлестнуло Кинга, заставило его собраться с силами. Он нанес Сэндлу один за другим два удара: левой — в солнечное сплетение, чуть повыше, чем следовало, и правой — в челюсть. Удары были не тяжелы, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что они свалили его. Он лежал, и по телу его пробегала дрожь. Судья стал над ним, громко отсчитывая роковые секунды. Сэндл проиграл бой, если не встанет прежде, чем будет отсчитана десятая. Зрители затаили дыхание. Кинг едва держался на ногах; он испытывал смертельную слабость и головокружение; море лиц колыхалось у него перед глазами, а голос судьи, отсчитывавшего секунды, долетал откуда-то издалека. Но он был уверен, что выиграл бой. Не может быть, чтобы человек, избитый подобным образом, поднялся. Только Молодость могла подняться — и Сэндл поднялся. На четвертой секунде он перевернулся лицом вниз и ощупью, как слепой, ухватился за канат. На седьмой он привстал на одно колено и отдыхал; голова унего моталась из стороны в сторону, как у пьяного. Когда судья крикнул: «Девять!» — Сэндл уже стоял на ногах, в защитной позиции, прикрывая левой лицо, правой — живот. Охранив таким образом наиболее уязвимые места, он качнулся вперед, к Кингу, в надежде на клинч, чтобы выиграть время. Едва Сэндл встал, как Кинг ринулся к нему, но два нанесенных им удара были ослаблены подставленными руками Сэндла. В следующее мгновение Сэндл был в клинче и прилип к противнику, отчаянно противясь попыткам судьи разнять их. Кинг старался освободиться. Он знал, как быстро восстанавливает силы Молодость и что, только помешав Сэндлу восстановить силы, он может его побить. Один хороший удар довершит дело. Сэндл побежден, несомненно побежден. Он побил его, превзошел его боевым уменьем, набрал больше очков. Выйдя из клинча, Сэндл пошатнулся, — судьба его висела на волоске. Опрокинуть его одним хорошим ударом, и ему конец! И снова Том Кинг с горечью подумал о куске мяса и пожалел, что не пришлось ему подкрепиться для последнего решающего натиска. Собравшись с силами, он нанес этот удар, но он оказался недостаточно сильным и недостаточно быстрым. Сэндл покачнулся, но не упал и, привалившись к канатам, ухватился за них. Кинг, шатаясь, бросился к противнику и, преодолевая нестерпимую боль, нанес еще один удар. Но силы изменили ему. В нем уже не оставалось ничего, кроме борющегося сознания, тускнеющего, гаснущего от изнеможения. Удар, направленный в челюсть, пришелся в плечо. Кинг метил выше, но усталые мускулы не повиновались, и он сам едва устоял на ногах. Кинг повторил удар. На этот раз он и вовсе промахнулся и, совершенно обессилев, привалился к Сэндлу, обхватив его руками, чтобы не упасть. Кинг уже не пытался оторваться. Он сделал все, что мог, и для него все было кончено. А Молодость взяла свое. Привалившись к Сэндлу в клинче, он почувствовал, что тот крепнет. Когда судья развел их, Кинг увидел, как Молодость восстанавливает силы у него на глазах. Сэндл набирался сил с каждым мгновением; его удары, сперва слабые, не достигавшие цели, становились жесткими и точными. Том Кинг, как в тумане, заметил кулак в перчатке, нацеленный ему в челюсть, и хотел защититься, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но рука его была слишком тяжела. Казалось, в ней тонны свинца, она не могла подняться, и Кинг напряг всю волю, чтобы поднять ее. Но в это мгновение кулак в перчатке попал в цель. Острая боль пронизала Кинга, как электрическим током, и он провалился в темноту. Открыв глаза, он увидел, что сидит на стуле в своем углу, и услышал рев публики, доносившийся до него, словно шум морского прибоя у Бонди-Бич. Кто-то прикладывал влажную губку к его затылку, а Сид Сэлливен поливал ему лицо и грудь живительной струей холодной воды. Перчатки были уже сняты, и Сэндл, нагнувшись над ним, пожимал ему руку. Кинг не испытывал недоброжелательства к этому человеку, который убрал его с дороги, и ответил таким сердечным рукопожатием, что его искалеченные суставы напомнили о себе. Потом Сэндл вышел на середину ринга, и адский шум на мгновение стих, когда он заявил, что принимает вызов юного Пронто и предлагает поднять ставки до ста фунтов. Кинг безучастно глядел, как секунданты вытирают его тело, залитое водой, прикладывают ему полотенце к лицу, готовят его к уходу с ринга. Кинг чувствовал голод. Не тот обычный грызущий голод, который он часто испытывал, а какую-то огромную слабость, болезненную мелкую дрожь под ложечкой, передававшуюся всему телу. Его мысли снова вернулись к бою, к той секунде, когда Сэндл едва держался на ногах и был на волосок от поражения. Да, кусок мяса довершил бы дело! Вот чего не хватало ему, когда он наносил свой решающий удар, вот из-за чего он потерял бой! Все из-за этого куска мяса! Секунданты поддерживали его, помогая пролезть под канат. Но он отстранил их, пригнувшись, проскочил между канатами без их помощи и тяжело спрыгнул вниз. Он шел по центральному проходу, запруженному толпой, следом за секундантами, прокладывавшими ему дорогу. Когда он вышел из раздевалки и, пройдя через вестибюль, отворил наружную дверь, какой-то молодой парень остановил его. — Почему ты не уложил Сэндла, когда он был у тебя в руках? — спросил парень. — А поди ты к черту! — сказал Том Кинг и сошел по ступенькам на тротуар. Двери пивной на углу широко распахнулись, и он увидел огни и улыбающихся девушек за столиками, услышал голоса, судившие и рядившие о бое, и вожделенный звон монет, ударявшихся о стойку. Кто-то окликнул его, предлагая выпить. Поколебавшись, он отказался и побрел своей дорогой. У него не было и медяка в кармане, и две мили до дому показались ему бесконечными. Да, он стареет! Пересекая парк Домен, он внезапно присел на скамейку, сразу утратив присутствие духа при мысли о своей женушке, которая не спит, дожидается его, чтобы узнать исход боя. Это было тяжелее любого нокаута, и ему показалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу. Он ощутил невероятную слабость, а боль в искалеченных суставах напомнила ему, что, если и отыщется какая-нибудь работа, пройдет не меньше недели, прежде чем он сможет взять в руки кирку или лопату. Голодная судорога под ложечкой вызывала тошноту. Несчастье сломило его, и на глазах выступили непривычные слезы. Он закрыл лицо руками и, плача, вспомнил про Стоушера Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке.
СЭМЮЭЛ
Перевод М. Абкиной
Маргарет Хэнен при любых обстоятельствах нельзя было не заметить, но особенно поразила она меня, когда я увидел ее в первый раз: взвалив на плечи мешок зерна в добрый центнер весом, она нетвердыми, но решительными шагами шла от телеги к амбару и лишь на минутку остановилась передохнуть у крутой лесенки, по которой нужно было подниматься к закромам. Ступенек было четыре, и Маргарет поднималась по ним шаг за шагом, медленно, но уверенно и с такой упрямой настойчивостью, что мне и в голову не пришло опасаться, как бы силы ей не изменили и не свалился с плеч этот мешок, под тяжестью которого чуть не пополам согнулось ее тощее и дряхлое тело. Сразу было видно, что эта женщина очень стара, и оттого-то я и задержался у телеги, наблюдая за нею. Шесть раз прошла она от телеги к сараю, перетаскивая на спине полные мешки, и, поздоровавшись, не обращала на меня больше никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла в карман за спичками и закурила коротенькую глиняную трубку, уминая горящий табак заскорузлым и, видимо, онемелым большим пальцем. Я смотрел на ее руки, жилистые, распухшие в суставах, с обломанными ногтями, обезображенные черной работой, покрытые мозолями, шрамами, а кое-где свежими и заживающими царапинами, — такие руки бывают обычно у мужчин, занятых тяжелым физическим трудом. Сильно вздутые вены красноречиво говорили о возрасте, о годах непосильной работы. Глядя на них, трудно было поверить, что это руки женщины, которая когда-то считалась первой красавицей острова Мак-Гилл. Впрочем, это я узнал позднее. А в тот день мне были совершенно незнакомы ни эта женщина, ни ее история. На ней были тяжелые мужские башмаки из грубой покоробившейся кожи, надетые на босу ногу, и я еще раньше заметил, что эти твердые, как железо, башмаки, в которых ее голые ноги болтались свободно, при ходьбе натирали ей лодыжки. Плоскогрудая, худая, она была одета в грубую мужскую рубаху и рваную юбку из некогда красной фланели. Но меня больше всего заинтересовало ее лицо, обветренное, морщинистое, обрамленное нечесаными космами седых волос, и я не мог уже от него оторваться. Ни растрепанные волосы, ни сеть морщин не могли скрыть красоту ее чудесного высокого лба, линии которого были безупречны. Ввалившиеся щеки и острый нос мало вязались с огнем, тлевшим в глубине ярко-голубых глаз. Окруженные сетью мелких морщинок, которые их почему-то не старили, глаза Маргарет были ясны, как у молодой девушки, — ясны, широко раскрыты и зорки, а их прямой, немигающий, пристальный взгляд вызывал во мне какое-то замешательство. Любопытной особенностью этого лица было расстояние между глазами. Мало у кого это расстояние достигает длины глаза, а у Маргарет Хэнен оно составляло не меньше чем полторы длины. Но лицо ее было настолько симметрично, что эта особенность ничуть его не портила, и не очень внимательный наблюдатель, пожалуй, даже не заметил бы ее. Утративший четкость линий беззубый рот с опущенными углами сухих пергаментных губ не обнаруживал еще, однако, той вялости мускулов, которая является обычным признаком старости. Такие губы могли быть у мумии, если бы не присущее им выражение непреклонного упорства. Они вовсе не казались безжизненными, — напротив, в их решительной складке чувствовалась большая душевная сила. В выражении губ и глаз крылась разгадка той уверенности, с какой эта женщина, ни разу не оступившись и не теряя равновесия, таскала тяжелые мешки наверх по крутой лестнице и высыпала зерно в ларь. — Вы старая женщина, а взялись за такую работу! — решился я сказать. Она поглядела на меня своим странным неподвижным взглядом, подумала и заговорила с характерной для нее неторопливостью, словно знала, что перед нею — вечность и спешить не к чему. И опять поразила меня ее безмерная уверенность в себе. Несомненно, в ней сильно было ощущение вечности, и отсюда — эта твердая поступь и спокойствие, с которым сна таскала по лестнице тяжелые мешки, — словом, отсюда была ее уверенность в себе. В своей духовной жизни она, вероятно, точно так же не боялась оступиться или потерять равновесие. Странное чувство вызывала она во мне. Я встретил существо, которое во всем, не считая самых элементарных точек соприкосновения, оказывалось вне моего человеческого понимания. И чем ближе узнавал я Маргарет Хэнен в следующие несколько недель, тем сильнее ощущал эту ее непонятную отчужденность. Маргарет казалась гостьей с какой-то другой планеты, и ни сама она, ни ее односельчане не могли помочь мне хоть сколько-нибудь понять, какого рода душевные переживания, какой накал чувств или философское мировоззрение двигали ею в прошлом и настоящем. — Мне через две недели после страстной пятницы минет семьдесят два, — сказала она, отвечая на мое замечание. — Ну, вот видите, я же говорю, что вы стары для такой работы. Это работа для мужчины, и притом сильного мужчины, — настаивал я. Она опять задумалась, словно созерцая вечность, — и это производило такое странное впечатление, что я бы нисколько не удивился, если бы, уснув и проснувшись через столетие, увидел, что она только еще собирается ответить мне. — Работу кому-то делать надо, а я не люблю кланяться людям. — Неужели у вас нет ни родных, ни детей? — У меня их много, но они не помогают мне. Она на минуту вынула изо рта трубку и прибавила, кивком головы указывая на дом: — Я живу одна. Я посмотрел на крытый соломой поместительный дом, на большой амбар, на поля, широко раскинувшиеся вокруг и, очевидно, принадлежавшие хозяину этой фермы. — Как же вы одна обрабатываете такой большой участок? — Да. участок большой. Семьдесят акров. Хватало дела и моему старику, и сыну, да еще работник у нас жил, и служанка для домашней работы, а во время уборки приходилось нанимать поденщиков. Она взобралась на телегу и, беря в руки вожжи, пытливо посмотрела на меня своими живыми и умными глазами. — Вы, должно быть, из-за моря — из Америки то есть? — Да, я американец. — В Америке, наверное, не много встретишь людей с нашего острова Мак-Гилл? — Не припомню, чтобы я встретил в Штатах хоть одного. Она кивнула. — Да, народ у нас такой — домоседы. Правда, нельзя сказать, чтобы они не ездили по свету, но в конце концов все возвращаются домой — все, кто не погиб в море и не умер на чужбине от лихорадки или других напастей. — А ваши сыновья тоже были в плавании и вернулись домой? — спросил я. — Да, все, кроме Сэмюэла: Сэмюэл утонул. Я готов был поклясться, что, когда она упомянула это имя, в глазах ее зажегся какой-то странный свет. И, словно под влиянием внезапно возникшей между нами телепатической связи, я угадал в ней огромную печаль, неизбывную тоску. Мне показалось, что вот он — ключ к тайнам этой души, путеводная нить, которая, если упорно ее держаться, приведет к разъяснению всего непонятного. Я почувствовал, что точка соприкосновения найдена и что в эту минуту я заглянул в душу Маргарет. У меня уже вертелся на языке второй вопрос, но она причмокнула губами, понукая лошадь, крикнула мне: «Будьте здоровы, сэр!» — и уехала.
Жители острова Мак-Гилл — простой, бесхитростный народ. Я думаю, во всем мире вы не найдете таких трудолюбивых, степенных и бережливых людей. Встретив их на чужбине (а вне родины их можно встретить только в море, ибо каждый уроженец МакГилла представляет собой помесь моряка с фермером), никак не примешь их за ирландцев. Сами они считают себя ирландцами, с гордостью говорят о Северной Ирландии и насмехаются над своими братьями — шотландцами. Между тем они, несомненно, шотландцы, — правда, давно переселенные сюда, но все же настоящие шотландцы, сохранившие тысячу характерных черт, не говоря уж об особенностях речи и мягком произношении, которое только благодаря чисто шотландской обособленности и замкнутости внутри своего клана могло сохраниться до сих пор. Лишь узкий морской залив в каких-нибудь полмили шириной отделяет остров Мак-Гилл от материка Ирландии. Но, переехав эту полосу воды, вы оказываетесь в совершенно иной стране. Здесь уже сильно чувствуется Шотландия. Начать хотя бы с того, что все жители острова — пресвитериане. Затем, если я вам скажу, что на всем острове нет ни одного трактира, а живет здесь семь тысяч человек, это даст вам некоторое представление об их воздержанности. Жители Мак-Гилла преданы старым обычаям, общественное мнение здесь — закон, священники пользуются большим влиянием. В наше время мало найдется мест, где так почитают родителей и слушаются их. Молодежь гуляет только до десяти часов вечера, и ни одна девушка не пойдет никуда со своим кавалером без ведома и согласия родителей. Молодые люди отправляются в плавание, и разгульная жизнь портов дает им возможность «перебеситься», но в промежутках между рейсами они, возвратившись домой, ведут прежний, строго нравственный образ жизни, ухаживают за девушками только до десяти часов вечера, по воскресеньям ходят в церковь слушать проповедь, а дома слушают все те же, знакомые с детства, суровые наставления старших. Сколько бы женщин ни знавали во всех концах света эти сыновья-моряки, они из мудрой осторожности никогда не привозят себе оттуда жен. Единственным исключением на всем острове был школьный учитель: он провинился в том, что взял себе жену с другого берега залива, за полмили от родной деревни. Ему этого не простили, и он до конца дней своих так и оставался у всех в немилости. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, и это пятно было смыто с герба Мак-Гилла. Обычно все моряки кончали тем, что женились на местных девушках, обзаводились семьей и являли собой образец всех тех добродетелей, которыми гордится остров. Остров Мак-Гилл не имеет славного прошлого. Он не может похвастать ни одним из тех событий, которые входят в историю. Никогда здесь не замечалось пристрастия к зеленому цвету, не бывало фенианских заговоров, аграрных беспорядков. За все время произошел только один случай выселения, и то чисто формальный, — это был пробный опыт, проделанный по совету адвоката самого арендатора. Таким образом, у острова Мак-Гилл нет летописи. История его обошла. Он платил положенные налоги, признавал своих коронованных правителей и ничем не беспокоил мир. Взамен он просил только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Для жителей острова вселенная делилась на две части: остров Мак-Гилл и остальная поверхность земного шара. И все, что не было островом Мак Гилл, рассматривалось его жителями как чуждый, далекий и варварский мир. Уж им ли было не знать этого, — ведь их земляки-мореходы, вернувшись домой, могли кое-что порассказать о том, другом мире и его богопротивных обычаях.
О существовании острова Мак-Гилл я узнал впервые от шкипера торгового парохода из Глазго, на котором я в качестве пассажира плыл от Коломбо до Рангуна. Он снабдил меня рекомендательным письмом, и оно открыло мне двери дома миссис Росс, вдовы шкипера. Миссис Росс жила с дочерью, а ее два сына, тоже уже шкиперы, находились в плавании. Она не сдавала комнат, и мне удалось у нее поселиться только благодаря письму ее сына, шкипера Росса. Вечером, после моей встречи с Маргарет Хэнен, я стал расспрашивать о ней миссис Росс, — и сразу понял, что в самом деле натолкнулся на какую-то загадку. Миссис Росс, как и все другие жители острова (в чем я скоро убедился), сначала очень неохотно отвечала на мои расспросы о Маргарет Хэнен. Все же в тот вечер я узнал от нее, что Маргарет была когда-то одной из первых здешних красавиц. Дочь зажиточного фермера, она и замуж вышла за человека состоятельного, Томаса Хэнена. Она никогда ничем не занималась, кроме домашнего хозяйства, и не работала в поле, как большинство женщин на острове. — А где ее дети? — Два сына, Джэми и Тимоти, женаты и ушли в плавание. Видали рядом с почтой большой дом? Это дом Джэми. А ее незамужние дочери живут у своих замужних сестер. Остальные все умерли. — Умерли все Сэмюэлы, — вставила Клара, как мне показалось, со смешком. Клара — это дочь миссис Росс, высокая красивая девушка с чудесными черными глазами. — Тут не над чем зубы скалить! — упрекнула ее мать. — Сэмюэлы? Какие Сэмюэлы? — вмешался я. — Это ее четыре сына — те, что умерли. — И все четыре носили имя Сэмюэл? — Да. — Как странно! — заметил я, нарушая затянувшееся молчание. — Да, очень странно, — согласилась миссис Росс, невозмутимо продолжая вязать лежавшую у нее на коленях шерстяную фуфайку, одну из тех частей туалета, которые она постоянно вязала для своих сыновей. — И умерли только Сэмюэлы? — допытывался я, стараясь узнать что-нибудь еще. — Да, остальные живы, — был ответ, — Семья почтенная, другой такси семьи нет на острове. Из всех мужчин, что когда-либо уходили отсюда в море, ее сыновья — самые лучшие. Пастор всегда ставит их другим в пример. И о дочках никто никогда дурного слова не сказал. — Но почему же они бросили ее на старости лет? — настойчиво допытывался я. — Почему родные дети не заботятся о ней? Почему она живет одна? Неужели они никогда ее не навещают и не помогают ей? — Нет, никогда, — вот уже больше двадцати лет. Она сама в этом виновата, она их выжила из дому, а мужа своего, старого Тома Хэнена, вогнала в гроб. — Пьет? — рискнул я спросить. Миссис Росс покачала головой с таким презрительным видом, как будто пьянство — слабость, до которой не унизится самый последний человек на острове Мак-Гилл. Наступило долгое молчание. Миссис Росс упорно вязала и оторвалась от работы только для того, чтобы кивком головы разрешить Кларе пойти погулять с ее женихом, молодым штурманом парусной шхуны. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие на стене в углу подобно гроздьям каких-то гигантских плодов. На каждом яйце было грубо намалевано фантастическое море, по которому, вздымая волны, плыли на всех парусах суда. Рисунки эти отличались полным отсутствием перспективы, искупавшимся разве только точностью и обилием технических деталей. На каминной полке стояли две большие раковины (явно парные) с затейливой резьбой, сделанной терпеливыми руками новокаледонских каторжников. Между ними красовалось чучело райской птицы. Великолепные раковины южных морей были расставлены в комнате повсюду. Из раковин моллюсков в стеклянных ящиках выглядывали тонкие веточки кораллов. Были тут дротики из Южной Африки, каменные топоры с Новой Гвинеи, большущие табачные кисеты с Аляски, на которых были вышиты бусами тотемы племен, австралийский бумеранг, модели различных судов под стеклянными колпаками, чаша каннибалов кайкай с Маркизских островов и хрупкие шкатулочки Вест-Индии и Китая с инкрустациями из перламутра и драгоценных сортов дерева. Я смотрел на эти трофеи, привезенные домой моряками, но думал не о них, а о загадочной Маргарет Хэнен, которая «вогнала в гроб» мужа и от которой отвернулась вся ее семья. Она не пьет. В чем же тут дело? Может быть, причиной этому какая-нибудь ужасающая жестокость? Или неслыханная измена мужу? Или страшное преступление — из тех, что в старые времена случались в деревнях? Я высказал вслух свои догадки, но миссис Росс на все только отрицательно качала головой. — Нет, ничего подобного, — сказала она. — Маргарет была примерной женой и доброй матерью, и я уверена, что она во всю свою жизнь мухи не обидела. Она и детей воспитала в страхе божьем и всех вывела в люди. Беда в том, что она свихнулась, стала настоящей идиоткой. И миссис Росс выразительно постучала пальцем по лбу, чтобы наглядно показать, что у Маргарет голова не в порядке. — Но я разговаривал с нею сегодня, и, по-моему, она разумная женщина и удивительно бодра для своих лет. — Да, все эго верно, — спокойно подтвердила миссис Росс. — Я не про это говорю, а про ее неслыханное, безбожное упрямство. Такой упрямой женщины, как Маргарет, во всем свете не сыщете. И все из-за имени Сэмюэл. Так звали ее младшего и, говорят, самого любимого брата — того, что наложил на себя руки из-за ошибки пастора, потому что пастор не зарегистрировал в Дублине нашу новую церковь. Кажется, ясно было, что имя Сэмюэл несчастливое. Так нет же, Маргарет не хотела с этим согласиться. Сколько было разговоров еще тогда, когда она окрестила Сэмюэлом своего первого ребенка, того, что умер от крупа! И можете себе представить — после этого она взяла да и назвала следующего сына тоже Сэмюэлом! Этот второй прожил только три года — упал в котел с кипятком и сварился насмерть, а все ведь из-за ее проклятого, дурацкого упрямства! Непременно ей надо было иметь Сэмюэла. Вот и схоронила четверых сыновей! После смерти первого мальчика родная мать в ногах у нее валялась, просила, заклинала ее не называть следующего этим именем. Но ее никак нельзя было уломать. Маргарет Хэнен всегда ставила на своем, а в особенности когда дело касалось имени Сэмюэл. Она была просто помешана на этом имени. Ведь когда крестили ее второго мальчика — того, что потом сварился, то все соседи и родня, все, кроме тех, кто жил в доме, встали и ушли, ушли в ту самую минуту, когда священник спросил у нее, какое имя дать ребенку, а она ответила: «Сэмюэл». Да, все встали и ушли. А тетка Фанни, сестра ее матери, на пороге обернулась и сказала громко, так, что все слышали: «И зачем она хочет загубить младенца?» Священник тоже слышал, и ему стало неприятно (он потом говорил это моему Лерри), но что поделаешь, раз так хотела мать? Нет такого закона, который запрещал бы матери назвать своего ребенка как ей хочется. А третьего сына она разве не назвала Сэмюэл? А когда он погиб в море около мыса Доброй Надежды, разве она не пошла против природы и не родила четвертого? Вы подумайте, ей было сорок семь лет, и в сорок семь лет она родила! В сорок семь лет! Срам, да и только! На другое утро я уже от Клары услышал рассказ о смерти любимого брата Маргарет Хэнен. И в течение недели, расспрашивая то того, то другого, я постепенно узнал эту трагическую историю. Сэмюэл Данди был самым младшим из четырех братьев Маргарет, и, по словам Клары, Маргарет души в нем не чаяла. Он был шкипером каботажного парусника и перед уходом в плавание женился на Агнес Хьюит По описанию Клары, Агнес была маленькая женщина с тонким личиком, очень хрупкая, нервная и болезненно впечатлительная. Они с Сэмюэлом первые венчались в новой церкви, и после двухнедельного медового месяца Сэмюэл, поцеловав жену, ушел в море на большом четырехмачтовом барке «Лохбэнк». Из-за этой самой новой церкви и вышла ошибка у пастора. Как потом объяснял один из старост, виноват был не только он, но и Кафлинская пресвитерия, в которую входили все пятнадцать церквей на острове Мак-Гилл и материке. Дело было так: старая церковь совсем развалилась, и ее снесли, а на том же фундаменте построили новую. Ни священник, ни пресвитерия никак не могли предположить, что новая церковь с точки зрения закона представляет собой нечто другое, чем старая. — И в первую же неделю в новой церкви были обвенчаны три пары, — рассказывала Клара. — Первыми — Сэмюэл Данди и Агнес Хьюит, на другой день после них — Альберт Махан с Минни Дункан, а в конце недели — Эдди Трой с Фло Мэкинтош. Молодые мужья были моряки, и не прошло и двух месяцев, как они все трое вернулись на свои суда и ушли в плавание, и никто из них не подозревал, в какую беду они попали. Должно быть, сам дьявол устроил себе из этого потеху. Все складывалось как назло. Свадьбы были отпразднованы на первой неделе мая, и только через три месяца священник, как полагается, представил дублинским властям отчет за четверть года. В ответ немедленно пришло извещение, что церковь его незаконная, так как она не зарегистрирована законным порядком. Ее спешно зарегистрировали, и дело уладилось. Но не так легко было узаконить браки: все три мужа были в плавании. Одним словом, выходило, что их жены — им вовсе не жены. — Но пастор не хотел их пугать, — продолжала Клара. — Он хранил все в секрете и выжидал, пока моряки вернутся из плавания. И вот, как на грех, когда он уехал на дальний конец острова крестить, неожиданно вернулся домой Альберт Махан, — его судно только что прибыло в Дублин. Пастор узнал эту новость в девять часов вечера, когда был уже в халате и ночных туфлях. Он сразу велел оседлать лошадь и вихрем помчался к Альберту Махану. Альберт как раз ложился спать и стащил уже один сапог, а тут входит пастор. — Едемте со мною оба! — говорит пастор, еле переводя дух. — Это еще зачем? Я устал до смерти и хочу спать, — отвечает Альберт. — Вам надо законно обвенчаться, — объясняет пастор. Альберт посмотрел на него, нахмурился и говорит: — Что это вы, пастор, шутить вздумали? А про себя (я не раз слыхала, как Альберт это рассказывал) удивляется: неужто пастор в его годы пристрастился к виски? — Разве мы не венчаны? — спрашивает Минни. Пастор покачал головой. — Так, значит, я не миссис Махан? — Нет, — отвечает пастор, — вы не миссис Махан. Вы всего-навсего мисс Дункан. — Да вы же сами нас обвенчали! — И да и нет, — говорит пастор. И тут он им все рассказал. Альберт надел второй сапог, и они пошли за пастором и обвенчались законным порядком, как полагается, и Альберт Махан потом часто говаривал: «Не каждому на нашем острове доводилось венчаться дважды». Через полгода вернулся домой и Эдди Трой, и его тоже обвенчали вторично. Но Сэмюэл Данди отправился в плавание на три года, и его судно не вернулось в срок. К тому же Агнес ждала его не одна, а с двухлетним сыном на руках, и это еще больше осложняло дело. Шли месяцы, и жена Сэмюэла просто чахла от тревоги. — Не о себе я думаю, — говорила она не раз, — а о бедном малыше, который растет без отца. Если с Сэмюэлом что случится, что будет с ребенком? Компания «Лойд» занесла «Лохбэнк» в список судов, пропавших без вести, и владельцы перестали выплачивать жене Сэмюэла половину его жалованья. Но Агнес больше всего мучило то, что сын ее оказался незаконнорожденным. И когда на возвращение Сэмюэла уже не оставалось никакой надежды, Агнес вместе с ребенком утопилась в заливе. Дальше эта история становится еще трагичнее. «Лохбэнк» вовсе не погиб. Из-за ряда всяких бедствий и нескончаемых задержек в пути, о которых слишком долго рассказывать, судну пришлось проделать такой длительный и непредвиденный рейс, какой случается раз или два в столетие. То-то, должно быть, тешился дьявол! В конце концов Сэмюэл вернулся из плавания, и, когда ему сообщили страшную весть, у него словно что-то оборвалось в голове и сердце. На другое утро его нашли на могиле жены и ребенка, где он наложил на себя руки. С тех пор как стоит остров Мак-Гилл, никто так страшно не умирал здесь! Сэмюэл плевал в лицо священнику, осыпал его ругательствами и так ужасно богохульствовал перед смертью, что у тех, кто ходил за ним, тряслись руки, и они боялись взглянуть на него. И после всего этого Маргарет Хэнен назвала своего первенца Сэмюэлом! Чем объяснить упрямство этой женщины? Или это было не упрямство, а одержимость навязчивой идеей, желание, чтобы один из ее сыновей непременно носил имя Сэмюэл? Третий ребенок была девочка, и ее назвали именем матери. Четвертый — опять мальчик. Несмотря на постигшие ее удары судьбы, несмотря на то, что от нее отшатнулись все родные и знакомые, Маргарет упорствовала в своем решении дать и этому ребенку имя любимого брата. С ней перестали здороваться в церкви даже друзья детства, с которыми она росла вместе. Мать Маргарет после новых тщетных уговоров покинула ее дом, объявив, что, если ребенка назовут этим именем, она до конца жизни не будет говорить с дочерью. Старуха прожила после этого еще тридцать с лишним лет и сдержала слово. Пастор соглашался окрестить ребенка любым именем, только не Сэмюэлом, и все остальные священники на острове тоже отказывались назвать его так, как хотела мать. Маргарет сначала грозила, что подаст на них в суд, но в конце концов повезла малыша в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом. И ничего худого не случилось. Вопреки ожиданиям всего острова ребенок рос и хорошо развивался. Школьный учитель постоянно твердил всем, что он не видывал мальчика смышленее и способнее. У Сэмюэла был замечательно крепкий организм и огромная жизненная энергия. К удивлению всех, он не хворал ни одной из обычных детских болезней: ни корью, ни коклюшем, ни свинкой. Он был словно забронирован от микробов, абсолютно невосприимчив ко всем болезням. Он не знал, что такое головная боль или боль в ухе. «Хоть бы у него когда прыщик или чирей вскочил!» — говорил мне кто-то из стариков. В школе Сэмюэл побивал рекорды в учении и спорте и опередил всех мальчиков своего возраста. Маргарет Хэнен торжествовала. Этот чудо-мальчик был ее сын и носил дорогое ей имя! Все друзья и родные, кроме матери, вернулись к ней, признав свою ошибку. Правда, были такие старые карги, которые упорно держались прежнего мнения и, зловеще покачивая головами, за чашкой чая шептались о том, что мальчик слишком хорош и, значит, недолговечен, что ему не уйти от проклятия, которое навлекла на него бессовестная мать, дав ему это имя. Молодежь вместе с Маргарет высмеивала их, но старухи продолжали качать головами. У Маргарет родились еще дети. Пятым был мальчик, она назвала его Джэми, а за ним, одна за другой, родились три девочки — Элис, Сара и Нора, потом сын Тимоти и снова две дочки — Флоренс и Кэти. Кэти была одиннадцатой по счету и последней: в тридцать пять лет Маргарет Хэнен почила от трудов. Она и так уж постаралась для острова Мак-Гилл и королевы: вырастила девять здоровых детей. С ними все было благополучно. Казалось, что смертью двух первых сыновей кончились все ее злоключения. Девять остальных выжили, и один из них носил имя Сэмюэл. Джэми решил стать моряком, — впрочем, решение это было до некоторой степени вынужденное, ибо на острове Мак-Гилл так уж принято, чтобы старшие сыновья оставались дома и владели землей, а младшие отправлялись бороздить моря. Тимоти последовал примеру брата, и к тому времени, когда Джэми в первый раз принял командование торговым судном, отплывшим из Кардиффа, Тимоти уже был помощником капитана на большом паруснике. Сэмюэл остался дома, но он не имел ни малейшей склонности к сельскому хозяйству. Жизнь фермера ему не нравилась. Братья его стали моряками не из любви к морю, а потому, что для них это был единственный способ прокормить себя. Он же, которому в этом не было надобности, завидовал братьям, когда те, возвратясь из дальнего плавания и сидя на кухне у очага, рассказывали всякие чудеса о заморских странах. Сэмюэл, к великому разочарованию отца, стал учителем и даже получил аттестат в Белфасте, куда ездил сдавать экзамены. Когда старый учитель ушел в отставку, Сэмюэл занял его место. Но он тайком изучал навигацию, и Маргарет очень любила слушать, как ее старший сын, сидя с братьями у огня, побивал их в теоретических вопросах, несмотря на то, что они оба уже были капитанами. Когда Сэмюэл, школьный учитель, сын почтенных родителей и наследник фермы Хэнен, неожиданно отправился в плавание простым матросом, негодовал только один Том. Маргарет твердо верила в счастливую звезду сына и была убеждена, что все, что бы он ни делал, — к лучшему. В самом деле, Сэмюэл и тут проявил свои замечательные способности. Моряки не помнят такого быстрого повышения. Он не пробыл и двух лет матросом, как его забрали с бака и назначили штурманом. Было это во время стоянки в одном из тех портов Западного побережья, где свирепствует лихорадка, — и экзаменовавшая Сэмюэла комиссия шкиперов убедилась, что он знает больше, чем когда-либо знали они. Прошло еще два года, и он отплыл из Ливерпуля на судне «Стэрри Грэйс» с дипломом капитана дальнего плавания в кармане. Но тут свершилось то, о чем все годы каркали старухи. Мне рассказывал об этом Гэвин Мак-Нэб, тоже уроженец Мак-Гилла, служивший тогда боцманом на «Стэрри Грэйс». — Да, я очень хорошо все помню, — говорил он. — Мы шли, как нам полагалось по рейсу, на восток, и погода вдруг сильно испортилась. Сэмюэл Хэнен был отличный моряк, другого такого моряка свет не знал. Как сейчас его вижу, когда он стоял на вахте в то последнее утро и громадные волны бушевали за кормой, а он один смотрел, как «Стэрри Грэйс» выдерживает их удары, — наш капитан уже несколько дней пьянствовал внизу в каюте. В семь часов Хэнен поставил шхуну по ветру, не рискуя больше идти вперед в такой страшный шторм. В восемь он позавтракал и ушел к себе в каюту, а через полчаса на мостик вылез капитан. Глаза мутные, трясется весь и держится за перила. Буря была страшная, можете мне поверить, кругом света божьего не видно, а он стоит и только глазами хлопает да сам с собой разговаривает. Наконец как крикнет рулевому: «Отойди назад!» Младший помощник, который стоял около него, так и ахнул: «Господи помилуй, что это вы!» Но капитан наш и не взглянул на него, а все что-то бурчит и бурчит себе под нос. Потом вдруг выпрямился, приосанился и опять крикнул: «Меняй галс, кому я говорю! Оглох ты, что ли, черт тебя побери!» Недаром говорят, что пьяным везет, — ведь «Стэрри Грэйс» шла, не зачерпнув и ведра воды, при таком-то шторме! Это был не ветер, а настоящее наказание господне. Второй помощник выкрикивал распоряжения, и все матросы носились как сумасшедшие. А капитан кивнул головой и, довольный, ушел вниз допивать виски. Это было все равно что послать на верную смерть всех людей на судне, потому что даже самый большой корабль не может плыть в такую погоду. Да какое там плыть! И вообразить себе нельзя, что творилось на море, в жизни не видел ничего подобного! А я ведь сорок лет плаваю, начал еще мальчишкой. Ужас что было! Помощник капитана стоял бледный, как смерть. Он пробыл на мостике полчаса, потом не выдержал, сошел вниз и позвал на помощь Сэмюэла и третьего помощника. Да, уж на что хороший моряк был Сэмюэл, а тут и он спасовал. Все смотрел и раскидывал умом так и этак, но не знал, что делать. Остановить судно он не решался, потому что, пока будешь останавливать, с него снесет и команду и все остальное. Ничего больше не оставалось, как идти дальше. Если бы буря усилилась, нас все равно ждала смерть. Рано или поздно разбушевавшиеся волны непременно смыли бы нас всех с кормы в море. Я вам сказал, что это был не шторм, а чистое наказание господне. Где там! Не бог, а сам дьявол, должно быть, наслал его! Я на своем веку видал виды, но такое не дай бог еще пережить! Внизу, в кубрике, никто не рискнул остаться. На палубах тоже не было ни единой души. Матросы все толпились наверху, цеплялись за что придется. Все три помощника были на корме, два человека — у штурвала, и только этот пьяница капитан, нализавшись, храпел внизу, в каюте. И вдруг я вижу, что примерно в миле от нас поднимается волна выше всех других, как остров из моря. Я таких в жизни не видал. Три помощника стояли рядом и тоже смотрели, как она надвигается, и все мы молили бога, чтобы она прошла мимо и не обрушилась на нас. Но молитва не помогла. Волна встала, как гора, захлестнула корму и закрыла нам небо. Три помощника кинулись в разные стороны: второй и третий побежали к вантам и полезли на бизань-мачту, а Хэнен бросился помогать штурвальным. Он был храбрый человек, этот Сэмюэл Хэнен! Пошел навстречу такой волне, не думая о себе, думая только о спасении судна. Оба матроса были привязаны к штурвалу, но Сэмюэл хотел быть наготове, на случай, если кто из них погибнет и нужно будет его заменить. И вот в этот миг волна и обрушилась на судно. С мостика нам не видно было кормы, на нее хлынула тысяча тонн воды. Волна смыла всех, всех унесла — двух помощников, забравшихся на бизань, Сэмюэла Хэнена, бежавшего к штурвалу, обоих штурвальных да и самый штурвал тоже. Так мы их больше и не видели. Судно вышло из ветра и потеряло управление. Двоих из нас смыло с мостика в море, а нашего плотника мы нашли потом на корме, у него не осталось ни одной целой косточки, и тело превратилось в какой-то кисель…
Тут-то и начинается самое необычайное во всей этой истории — чудо, свидетельствующее о героической душе Маргарет. Этой женщине было сорок семь лет, когда пришла весть о гибели Сэмюэла. Через некоторое время по всему острову пошли невероятные слухи. Да, поистине невероятные! Никто им не верил. Доктор Холл пренебрежительно фыркал и отмахивался от такого вздора. Все смеялись, как смеются забавной шутке. Выяснилось, что слух исходит от Сары Дэк, единственной служанки Хэненов. Сара Дэк уверяла, что это правда, но ее называли бессовестной лгуньей. Кое-кто из соседей даже решился спросить об этом самого Тома Хэнена, но от него ничего не добились. Том в ответ только хмурился и бранился. Молва заглохла, и Мак-Гилл. уже занялся было обсуждением гибели в Китайском море «Гренобля», все офицеры которого и половина экипажа родились и выросли на острове. Однако сплетня не хотела умирать. Сара Дэк все громче твердила свое. Том Хэнен бросал вокруг все более угрюмые взгляды, а доктор Холл, побывав в доме у Хэненов, перестал недоверчиво фыркать. Наступил день, когда весь остров встрепенулся, и языки заработали вовсю. То, о чем говорила Сара Дэк, казалось всем неестественным, неслыханным. И когда через некоторое время факт стал для всех очевидным, жители Мак-Гилла, подобно боцману «Стэрри Грэйс», решили, что тут дело не обошлось без дьявола. По словам Сары, эта одержимая, Маргарет, была уверена, что у нее будет мальчик. «Я родила одиннадцать, — говорила она. — Шестерых девочек и пятерых мальчиков. И как во всем, так и тут должен быть ровный счет. Шесть тех и шесть других — вот и выйдет поровну. Я рожу мальчика — это так же верно, как то, что солнце восходит каждое утро». У нее и в самом деле родился мальчик, и притом прекрасный. Доктор Холл восторгался его безупречным и крепким сложением и даже написал доклад для Дублинского медицинского общества, в котором указывал, что это самый интересный случай в его многолетней практике. Когда Сара Дэк сообщила, сколько весит новорожденный, ей отказались верить и опять назвали ее лгуньей. Но доктор Холл подтвердил, что он сам взвешивал малыша, и тот весит именно столько, сколько сказала Сара, — и после этого остров МакГилл, затаив дыхание, слушал без недоверия все, что ни сообщала Сара о росте или аппетите ребенка. И снова Маргарет Хэнен повезла сына в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом.
— Это был не ребенок, а золото, — рассказывала мне Сара Дэк. Когда я познакомился с Сарой, она была уже шестидесятилетней старой девой, полной и флегматичной. Память этой женщины хранила события столь трагические и необычные, что, если бы она болтала еще десятки лет, рассказы ее все равно не могли бы утратить интереса для ее приятельниц. — Да, не ребенок, а золото, — повторила Сара. — И никогда он не капризничал. Посадишь его, бывало, на солнышке, и он сидит часами — пока не проголодается, его не слышно. А какой сильный! Сожмет что-нибудь в руках, так не вырвешь у него, как у взрослого мужчины. Помню, когда ему было от роду всего несколько часов, он так вцепился в меня ручонками, что я вскрикнула от испуга. На редкость здоровый был ребенок. Спал, ел, рос и никогда никого не беспокоил. Ни разу не бывало, чтобы он хоть одну минуту мешал нам спать по ночам, — даже когда у него резались зубы. Маргарет все качала его на коленях и спрашивала, был ли когда-нибудь другой такой красавчик во всех трех королевствах. А как быстро он рос! Это, наверное, оттого, что он так много ел. К году Сэмми был уже ростом с двухлетнего. Только ходить и говорить долго не начинал. Издавал горлом какие-то звуки и ползал на четвереньках, — больше ничего. Но при таком быстром росте этого можно было ожидать. Он становился все здоровее и крепче. Даже старый Том Хэнен и тот веселел, глядя на него, и твердил, что другого такого мальчонки не сыщешь во всем Соединенном королевстве. Доктор Холл первый заподозрил неладное. Я отлично это помню, хотя, правда, тогда мне и в голову не приходило, что у доктора такие подозрения. Как-то раз я заметила, что он держит у Сэмми перед глазами разные вещи и кричит ему в уши то громче, то тише, то отойдет от него подальше, то ближе подойдет. Потом, уходя, наморщил брови и покачал головой, как будто ребенок болен. Но я готова была поклясться, что Сэмми вполне здоров, ведь я же видела, как он ест и как быстро растет. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, чем он так озабочен. Помню, как маленький Сэмми в первый раз заговорил. Ему было уже два года, а по росту он сошел бы за пятилетнего. Только с ходьбой у него дело не ладилось, все еще ползал на четвереньках. Всегда он был веселый и довольный, никому не надоедал, если его вовремя кормили. А ел он очень уж часто. Помню, я развешивала во дворе белье, а Сэмми вылез из дому на четвереньках, мотает своей большой головой и жмурится на солнце. И вдруг заговорил. Я чуть не умерла со страху — и тут только поняла, почемудоктор Холл ушел тогда такой расстроенный. Да, Сэмми заговорил! Никогда еще ни у одного ребенка на острове не было такого громкого голоса. Я вся дрожала. Сэмми ревел по-ослиному! Понимаете, сэр, ревел совершенно так, как осел, громко и протяжно, так что, казалось, у него того и гляди лопнут легкие. Сэмми был идиот, страшный, здоровенный идиот, настоящее чудовище. После того как он заговорил, доктор Холл сказал об этом Маргарет, но она не хотела верить и твердила, что это пройдет, что это от слишком быстрого роста. «Погодите, дайте срок, — говорила она. — Погодите, увидите!» Но старый Том Хэнен понял, что доктор прав, и с тех пор уже не поднимал головы. Он не выносил идиота и не мог заставить себя хотя бы прикоснуться к нему. Но при этом, надо вам сказать, его словно притягивала к Сэмми какая-то таинственная сила. Я не раз видела, как он наблюдал за ним из-за угла, — смотрит, смотрит, и глаза у него чуть на лоб не лезут от ужаса. Когда идиот начинал реветь по-ослиному, старый Том затыкал уши, и такой у него был несчастный вид, что просто жалко было смотреть. А ревел Сэмми здорово! Он только это и умел — реветь и есть, да рос как на дрожжах. Бывало, проголодается и начнет орать, и унять его можно было только кормежкой. По утрам он всегда выползал за порог кухни, смотрел, жмурясь, на солнце и ревел. Из-за этого рева ему и конец пришел. Я очень хорошо помню, как все это случилось. Сэмми было уже три года, а на вид ему можно было дать десять. С Томом творилось что-то неладное, и чем дальше, тем хуже. Ходит, бывало, в поле и все что-то бормочет, разговаривает сам с собой. В то утро он сидел на скамейке у дверей кухни и прилаживал ручку к мотыге. А идиот незаметно вылез во двор и, по обыкновению, заревел, глядя на солнце. Вижу, старый Том вздрогнул и уставился на него. А тот мотает себе большой башкой, жмурится и ревет, как осел. Тут Том не выдержал. На него вдруг что-то нашло: как вскочит да как треснет идиота рукояткой мотыги по голове, и еще раз, и еще — все бил, бил, будто перед ним бешеная собака. Потом пошел на конюшню и повесился на балке. После этого я не хотела оставаться у них в доме и перебралась к своей сестре, той, которая замужем за Джоном Мартином. Они хорошо живут.
Я сидел на скамейке перед кухонной дверью и смотрел на Маргарет Хэнен, а она мозолистым пальцем уминала горящий табак в трубке и смотрела на окутанные сумраком поля. Это была та самая скамейка, на которой сидел Том в последний, страшный день своей жизни. А Маргарет сидела на пороге, где рожденное ею чудовище так часто грелось на солнце и, мотая головой, ревело по-ослиному. Мы беседовали вот уже около часа. Маргарет отвечала мне все с тем же неторопливым спокойствием человека, уверенного, что у него впереди вечность, — спокойствием, которое так шло к ней. Но я, хоть убейте, не мог угадать, какие побуждения скрывались в темной глубине этой души. Была ли она мученицей за правду, могла ли она поклоняться столь абстрактной святыне? Может быть, в тот далекий день, когда. эта женщина назвала своего первенца Сэмюэлом, она служила абстрактной истине, которая представлялась ей высшей целью человеческих стремлений? Или в ней попросту говорило слепое животное упорство, упорство заартачившейся лошади? Тупое своеволие крестьянки? Что это было — каприз, фантазия? Единственный заскок ума, во всем остальном очень здравого и трезвого? Или, напротив, в ней жил дух Джордано Бруно? Может быть, она упорствовала потому, что была убеждена в своей правоте? Может быть, с ее стороны это была стойкая и сознательная борьба против суеверия? Или, мелькнула у меня более хитроумная догадка, быть может, она сама была во власти какого-то глубокого и сильного суеверия, особого рода фетишизма, альфой и омегой которого было это загадочное пристрастие к имени Сэмюэл? — Вот вы сами скажите, — говорила мне Маргарет. — Неужели, если бы я своего второго Сэмюэла назвала Лэрри, так он не упал бы в кипяток и не захлебнулся бы? Между нами говоря, сэр (вы, я вижу, человек умный и образованный), разве имя может иметь какое-нибудь значение? Разве, если бы его звали Лэрри или Майкл, у нас в тот день не было бы стирки и он не мог бы упасть в котел? Неужели кипяток не был бы кипятком и не ошпарил бы ребенка, если бы ребенок назывался не Сэмюэл, а как-нибудь иначе? Я согласился, что она рассуждает правильно, и Маргарет продолжала: — Неужели такой пустяк, как имя, может изменить волю господа? Выходит, что миром правит случай, а бог — слабое, капризное существо, которое может изменить человеческую судьбу только из-за того, что какой-то червь земной, Маргарет Хэнен, вздумала назвать своего ребенка Сэмюэлом? Вот, например, мой сын Джэми не хотел принять на свое судно одного матроса, финна, — и знаете почему? Он верит, что финны могут накликать дурную погоду. Как будто они распоряжаются ветрами! Что вы на это скажете? Вы тоже думаете, что господь, посылающий ветер, склонит голову сверху и станет слушать какого-то вонючего финна, который сидит на баке грязной шхуны? Я сказал: — Ну, конечно, нет. Но Маргарет непременно хотела развить свою мысль до конца. — Неужели вы думаете, что бог, который управляет движением звезд, которому весь наш мир — только скамеечка для ног, пошлет назло какой-то Маргарет Хэнен большую волну у мыса Доброй Надежды, чтобы смыть ее сына на тот свет, — и все только за то, что она окрестила его Сэмюэлом? — А почему непременно Сэмюэлом? — спросил я. — Не знаю. Так мне хотелось. — Но отчего? — Ну, как я могу объяснить вам это? Может ли хоть один человек из, всех, кто живет или жил на земле, ответить на такой вопрос? Кто знает, почему нам одно любо, а другое — нет? Мой Джэми, например, большой охотник до сливок. Он сам говорит, что готов их пить, пока не лопнет. А Тимоти с детства терпеть не может сливки. Я вот люблю грозу, люблю слушать, как гремит, а моя Кэти при каждом ударе грома вскрикивает, и вся трясется, и залезает с головой под перину. Никогда я не слыхала ответа на такие «почему». Один бог мог бы ответить на них. А нам с вами, простым смертным, знать это не дано. Мы знаем только, что нам нравится, а что — нет. Нравится — и все. А объяснить почему ни один человек не может. Мне вот нравится имя Сэмюэл, очень нравится. Это красивое имя и звучит чудесно. В нем есть какая-то удивительная прелесть. Сумерки сгущались. Мы оба молчали, и я смотрел на этот прекрасный лоб, красоту которого даже время не могло испортить, на широко расставленные глаза, ясные, зоркие, словно вбиравшие в себя весь мир. Маргарет встала, давая мне понять, что пора уходить. — Вам темно будет возвращаться. Да и дождик вот-вот хлынет, — небо все в тучах. — А скажите, Маргарет, — спросил я вдруг, неожиданно для самого себя, — вы ни о чем не жалеете? С минуту она внимательно смотрела на меня. — Жалею, что не родила еще одного сына. — И вы бы его… — начал я и запнулся. — Да, конечно, — ответила она. — Я бы дала ему то же имя. Я шагал в темноте по дороге, обсаженной кустами боярышника, думал обо всех этих «почему» и то про себя, то вслух повторял имя Сэмюэл, вслушиваясь в это сочетание звуков, ища в нем «удивительную прелесть», которая пленила Маргарет и сделала жизнь ее такой трагической. Сэмюэл. Да, в звуке этого имени было что-то чарующее. Несомненно, было!
ДОМ МАПУИ
Перевод М. Лорие
Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна «Аораи» двигалась на легком ветру послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь, чуть не доводя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэру, ярдов сто в диаметре и окружностью в двадцать миль, представлял собою кольцо измельченного кораллового песка, поднимавшееся всего на четыре-пять футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной гладкой, как зеркало, лагуны было много жемчужных раковин, и с палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим гребным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу, шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки. С «Аораи» проворно спустили шлюпку, и в нее спрыгнуло несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем: золотистый отлив его светлой кожи и золотые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль, Александр Рауль, младший сын Мари Рауль, богатой квартеронки, владелицы шести торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов, побелевшей от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой, после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем. — Ты слышал, Алек? — были его первые слова. — Мапуи нашел жемчужину. Да какую жемчужину! Такой еще не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Купи ее, она еще у него. Он дурак и много не запросит. И помни: я тебе первый сказал. Табак есть? Рауль сразу же зашагал вверх по берегу, к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери в качестве агента, и в задачу его входило объезжать все острова Паумоту и скупать копру, раковины и жемчуг. Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. А между тем жемчужина поразила его. Она была величиною с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что, казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес. — Что же ты хочешь за эту жемчужину? — спросил он с ловко разыгранным равнодушием. — Я хочу… — начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки; они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая волнение, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи. — Мне нужен дом, — продолжал Мапуи. — С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене. Чтобы он был длиной в сорок футов и, чтобы вокруг шла веранда. В середине чтобы была большая комната, и в ней круглый стол, а на стене часы с гирями. И чтобы было четыре спальни, по две с каждой стороны от большой комнаты; и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня — хорошая кухня, с кастрюльками и сковородками и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове, на Факарава. — Это все? — недоверчиво спросил Рауль. — И чтобы была швейная машина, — заговорила Тэфара, жена Мапуи. — И обязательно стенные часы с гирями, — добавила Наури, мать Мапуи. — Да, это все, — сказал Мапуи. Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но, смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу: ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это, круглым счетом, потребуется четыре тысячи французских долларов, иными словами — двадцать тысяч франков. Это немыслимо. Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? Двадцать тысяч франков — огромные деньги, да к тому же это деньги его матери… — Many и, — сказал он, — ты дурак. Назначь цену деньгами. Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались. — Мне нужен дом, — сказал он, — длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда… — Да, да, — перебил его Рауль. — Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов… Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа. — И кредит на сто чилийских долларов. — Мне нужен дом… — начал Мапуи. — Какая тебе польза от дома? — спросил Рауль. — Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь. Капитан Раффи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана. — Только не на Факарава, — сказал Мапуи, — там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет; на Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом на Факарава, чтобы был длиною в сорок футов и вокруг веранда… И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца, но жена Мапуи, и его мать, и дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в двадцатый раз подробное описание вожделенного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу пристала вторая шлюпка с «Аораи». Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно спеша отчалить. Помощник капитана шхуны выскочил на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно — грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лачугой по морю быстро приближается зловещая линия ветра. — Капитан Раффи говорит, надо убираться отсюда, — сразу же начал помощник. — Он велел передать, что, если есть жемчуг, все равно надо уходить, авось успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти. Порыв ветра тряхнул пандановое дерево над головой у Рауля и пронесся дальше; несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь — сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги. — Тысячу чилийских долларов наличными, Мапуи, — сказал он, — и кредит на двести. — Мне нужен дом… — затянул Мапуи. — Мапуи! — прокричал Рауль сквозь шум ветра. — Ты дурак! Он выскочил из лачуги и вместе с помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру. — Получил жемчужину? — прокричал он в ухо Раулю. — Мапуи дурак! — крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя. Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну и «Аораи» повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и бросила якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была «Орохена», принадлежавшая метису Торики, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг, и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Торики за товары, купленные в кредит еще в прошлом году. Гроза пронеслась. Солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание. — Ты слышал новость, Торики? — спросил Хуру-Хуру. — Мапуи нашел жемчужину. Такой никогда не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Мапуи дурак. К тому же он у тебя в долгу. Помни: я тебе первый сказал. Табак есть? И вот к соломенной лачуге Мапуи зашагал Торики. Это был властный человек, но не очень умный. Он небрежно взглянул на чудесную жемчужину — взглянул только мельком и преспокойно опустил ее себе в карман. — Тебе повезло, — сказал он. — Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары. — Мне нужен дом… — в ужасе залепетал Мапуи. — Чтобы длиной был сорок футов… — А, поди ты со своим домом! — оборвал его торговец. — Тебе нужно расплатиться с долгами, вот что тебе нужно. Ты был мне должен тысячу двести чилийских долларов. Прекрасно! Теперь ты мне ничего не должен. А кроме того, я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню — всего, значит, будет триста. Но помни: только если я удачно продам ее. Я могу еще потерпеть на ней убыток. Мапуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровище. Нового дома не будет — он попросту отдал долг. Он ничего не получит за жемчужину. — Ты дурак, — сказала Тэфара. — Ты дурак, — сказала старая Наури. — Зачем ты позволил ему взять жемчужину? — Что мне было делать? — оправдывался Мапуи. — Я был ему должен. Он знал, что я нашел жемчужину. Ты сама слышала, как он просил показать ее. Я ему ничего не говорил, он сам узнал. Это кто-то другой сказал ему. А я был ему должен. — Мапуи дурак, — подхватила и Нгакура. Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тэфара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам. Хуру-Хуру, стоя на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. Называлась она «Хира» — и недаром: хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга, а Хира, как известно, — таитянский бог, покровитель воров и рыболовов. — Ты слышал новость? — спросил Хуру-Хуру, как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег. — Мапуи нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще на Хикуэру, и на всех Паумоту, и во всем мире. Мапуи дурак: он продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов — я подслушал их разговор. И Торики тоже дурак. Ты можешь купить у него жемчужину, и дешево. Помни: я первый тебе сказал. Табак есть? — Где Торики? — У капитана Линча, пьет абсент. Он уже час как сидит там. И пока Леви и Торики пили абсент и торговались из-за жемчужины, Хуру-Хуру подслушивал — и услышал, как они сошлись на невероятной цене: двадцать пять тысяч франков! Вот в это-то время «Орохена» и «Хира» подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще успели увидеть, как обе шхуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и кливера и под напором шквала низко кренясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеною дождя. — Они вернутся, когда утихнет, — сказал Торики. — Надо нам выбираться отсюда. — Барометр, верно, еще упал, — сказал капитан Линч. Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом взглянуть на барометр. — Боже ты мой! — услышали они и бросились за ним следом: он стоял, с ужасом глядя на стрелку, которая показывала двадцать девять и двадцать. Снова выйдя на берег, они в тревоге оглядели море и небо. Шквал утих, но небо не прояснилось. Обе шхуны, а с ними и еще одна, на всех парусах шли к острову. Но вот ветер переменился, и они приспустили паруса. А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны, прямо в лоб, и с берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем отдали носовые фоки. Прибой звучал глухо и грозно, началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемневшее небо, и оглушительными раскатами загремел гром. Торики и Леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал вперевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам пронеслась шлюпка с «Аораи». На корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия Мапуи. Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его. — Опоздал! — крикнул Хуру-Хуру. — Мапуи продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, а Торики продал ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч. Табак есть? Рауль облегченно вздохнул. Все его терзания кончились. Можно больше не думать о жемчужине, хоть она и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру: что Мапуи продал жемчужину за тысячу четыреста чилийских долларов, вполне возможно, но чтобы Леви, опытный торговец, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков — это едва ли. Рауль решил переспросить капитана Линча, но, добравшись до жилища старого моряка, он застал его перед барометром в полном недоумении. — Сколько, по-твоему, показывает? — тревожно спросил капитан, протер очки и снова посмотрел на барометр. — Двадцать девять и десять; — сказал Рауль. — Я никогда не видел, чтобы он стоял так низко. — Не удивительно, — проворчал капитан. — Я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного. Слышишь? Они прислушались к реву прибоя, сотрясавшего дом, потом вышли. Шквал утих. За милю от берега «Аораи», попавшую в штиль, кренило и швыряло на высоких волнах, которые величественно, одна за другой, катились с северо-востока и с яростью кидались на коралловый берег. Один из гребцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены. — Я, пожалуй, переночую у вас, капитан, — сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и остальных гребцов. — Ровно двадцать девять, — сообщил капитан Линч, уходивший в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр. Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка. Волнение на море усиливалось. — И откуда такие волны, не могу понять, — нервничал Рауль. — Ветра нет… А вы посмотрите… нет, вы только посмотрите вон на ту! Волна, протянувшаяся на несколько миль, обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий атолл, и он задрожал, как от землетрясения. Капитан Линч был ошеломлен. — О господи! — воскликнул он, привстав со стула, и снова сел. — А ветра нет, — твердил Рауль. — Был бы ветер, я бы еще мог это понять. — Можешь не беспокоиться, будет и ветер, — мрачно ответил капитан. Они замолчали. Пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок, которые сливались в капли и ручейками стекали на землю. Не хватало воздуха, старик мучительно задыхался. Большая волна взбежала на берег, облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана Линча. — Намного выше последней отметки, — сказал он, — а я живу здесь одиннадцать лет. — Он посмотрел на часы. — Ровно три. На берегу появились мужчина и женщина в сопровождении стайки детей и собак. Пройдя дом, они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок. Несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство, нагруженное всяким домашним скарбом. И вскоре вокруг дома капитана Линча собралось несколько сот человек — мужчин и женщин, стариков, детей. Капитан окликнул одну из женщин с грудным младенцем на руках и узнал от нее, что их дом только что смыло водой. Дом капитана стоял на самом высоком месте острова; справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо атолла в лагуну. Двадцать миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже с Таити. — Здесь сейчас тысяча двести человек, — сказал капитан Линч. — Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру. — Непонятно, почему нет ветра? — спросил Рауль. — Не беспокойся, мой милый, не беспокойся, неприятности начнутся очень скоро. Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок трехдюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяжный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заметались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей. Собака-мать, повизгивая и тявкая, скакала в воде вокруг дерева. А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, бросавшие «Аораи» из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом. — Двадцать восемь и шестьдесят, — негромко сказал он, возвращаясь. В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные роздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья. С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как «Аораи», обрасопив шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров… Волна перехлестнула, через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево, потом, вспомнив барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем. — Двадцать восемь и двадцать, — сказал старик. — Ох и заварится тут чертова каша!.. Это что такое? Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали могучий гул. В окнах задребезжали стекла. Одно окно разбилось; в комнату ворвался порыв ветра такой силы, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную стрельбу, — это гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было четыре пополудни. Он надел синий суконный бушлат, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с глухим стуком ударилась о дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в десять градусов. Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и приникнуть к песку. Капитан Линч, которого ветер нес, как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с «Аораи» спрыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на каждом шагу хватаясь за землю. Капитан Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и, наконец, привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такой бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло, наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробинки, лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху; щеки жгло от боли, на глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздья людей. Но он родился на Таити и знал, что делать: он согнулся, схватил руками дерево и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину; одна из девочек крепко прижимала к груди кошку. С своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба: оно словно нависло совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Странный звук долетел до слуха Рауля — ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка; он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом. А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить, — этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре, но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево, висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полосу песка — и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички, Рауль не уставал поражаться силе ветра; пальма, на которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку. Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле: одни — неподвижно, другие — извиваясь и корчась. Они чем-то напоминали Раулю муравьев. Он не ужаснулся — теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув, — ни дать ни взять Ноев ковчег. Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем временем еще усилился, Рауль видел это по своей пальме: она уже не раскачивалась взад и вперед, — теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго не выдержит такого напряжения и переломится. Ага! Одно дерево уже не выдержало! Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок — половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте. Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. jOh увидел, как пальма бесшумно треснула посредине и верхушка ее, с тремя матросами и старым капитаном, понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за ее полетом: она ударилась о воду шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел — он мог бы в том поклясться, — что капитан Линч помахал ему на прощанье рукой. Рауль не стал больше ждать, он тронул туземца за плечо и знаками показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух, потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться; женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом — что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он оказался один. Он поднял голову: верхушка дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину, дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен: корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно, и еще несколько волн догнали его, прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его. Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое — визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом — он стал ощутимым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его кусками, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и приникнуть к нему, как к скале. Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие минуты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил, он изматывал и тело и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать, он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль: «Значит, это ураган». Эта мысль упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший вспышки. Очнувшись от забытья, он вспоминал: «Значит, это ураган», потом снова погружался в забытье. Яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трех часов ночи — и как раз в одиннадцать сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода — летящие брызги и дождь, ливший почти горизонтально. До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь о бешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных, не погибших в водах лагуны. Захлебнувшихся, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапуи повезло; волею судьбы он оказался в числе уцелевших — его выкинуло на песок. Он истекал кровью; у Нгакуры левая рука была сломана, пальцы правой расплющило, щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукою дерево и, держа дочь другою рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие из лагуны волны доставали ему до колен, а то и до пояса. В три часа утра сила урагана пошла на убыль. В пять часов было очень ветрено, но не более того, а к шести стало совсем тихо и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу еще покрытой волнами лагуны Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тэфару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному, ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи вгляделся в нее: она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала! Тэфара тоже оказалась в числе немногих счастливцев. Из тысячи двухсот человек, населявших остров накануне, уцелело всего триста. Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины — не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все до одного. Не было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спасшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползли в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не поспевал опреснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов.
А между тем Наури, разлученная со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана. Вместе с доской, за которую она упорно цеплялась, не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы, ее перекинуло через атолл и унесло в море. Здесь, среди сокрушительных толчков огромных, как горы, волн, она потеряла свою доску. Наури было без малого шестьдесят лет, но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывя в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она почувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их, и получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая, и скоро вся покрылась синяками, но ураганы были ей не внове, и, прося у своего акульего бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась, только когда ее выкинуло на песок, и, хватаясь за него израненными, окровавленными руками, поползла вверх по берегу, чтобы волны не смыли ее обратно в море. Она знала, где находится: ее выбросило на крошечный островок Такокота. Здесь не было лагуны, здесь никто не жил. Островок отстоял от Хикуэру на пятнадцать миль. Хикуэру не было видно, но Наури знала, что он лежит к югу от нее. Десять дней она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть; она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уверена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на маленький необитаемый остров Такокота? С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, и она, пока хватало сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда. На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно, — думала она, — почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем мертвых тел!» Наконец, она отчаялась и в изнеможении вытянулась на песке. Больше надеяться было не на что, оставалось только ждать смерти. Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и, наконец, перевернула навзничь. Наури увидела, что у него нет лица, но в пряди светло-рыжих волос было что-то знакомое. Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца — она ждала смерти, и ее не интересовало, кем было раньше это страшилище. Но через час она с усилием приподнялась и вгляделась в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась: эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту: это был Леви, немецкий еврей, — тот, что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне «Хира». Что ж, ясно одно: «Хира» погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга. Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало, широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть пряжку. Это оказалось совсем нетрудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий — пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее — первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони. Но не красота жемчужины занимала Наури: она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тэфарой так старательно построили в своих мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить. Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею, потом двинулась по берегу, кряхтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орехи, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочиста всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключины на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, колыхавшийся на воде. Когда она тащила его на берег, в нем что-то громыхало. В ящике оказалось десять банок рыбных консервов. Одну из нихона открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину. Еще восемь дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескался, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпывать воду. Она долго думала, как сделать весло; потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала трехфутовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызла зубами. На восемнадцатые сутки, в полночь, Наури спустила челнок на воду и, миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, оставались одна кожа да чуть прикрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных гребцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом; протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такокота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус, — доставать рыбу было некогда. Челнок относило к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала. Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. Пышные купы кокосовых пальм исчезли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относило ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направлять челнок к югу. Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, как приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода: через каждые два часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относило на запад. К закату Хикуэру был в трех милях от нее, на юго-востоке. Взошла полная луна, и в восемь часов остров лежал прямо на восток, до него оставалось две мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась: течение было сильное, челнок велик, никуда не годилось весло и слишком много времени и сил уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад. Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее, челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше чем в двадцати футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, а потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из виду, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась — это было ясно: со времени урагана у нее не было недостатка в пище. Наури знала, что, будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было пятнадцать футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам. Но Наури было некогда заниматься акулой — течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула обнаглела. Видя, что ей ничто не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. Наконец, акула лениво проплыла мимо нее всего в каких-нибудь восьми футах. Наури кинулась вперед, словно нападая. Яростно ударив хвостом, акула пустилась наутек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплывала быстро, по кругу, и, наконец, исчезла.
В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженного железа, лежали Мапуи и Тэфара; они ссорились. — Послушал бы ты моего совета, — в тысячный раз корила его Тэфара, — припрятал жемчужину и никому бы не говорил, она и сейчас была бы у тебя. — Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину, я тебе уже говорил это много-много раз. — А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если бы ты не продал жемчужину Торики… Я не продавал ее. Торики меня ограбил. — …если б ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это все равно что десять тысяч чилийских. — Он посоветовался с матерью, — пояснил Мапуи. — Она-то знает толк в жемчуге. — А теперь нет у нас жемчужины, — простонала Тэфара. — Зато я заплатил долг Торики. Значит, тысячу двести я все-таки заработал. — Торики умер! — крикнула она. — О его шхуне нет никаких известий. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хира». Даст тебе Торики на триста долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торики умер. А не найди ты эту жемчужину, был бы ты ему сейчас должен тысячу двести? Нет! Потому что Торики умер, а мертвым долгов не платят. — А Леви не заплатил Торики, — сказал Мапуи. — Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папеэте; а теперь Леви мертвый и не может заплатить; и Торики мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. Ты права, Тэфара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать. Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи послышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывавшей вход. — Кто здесь? — крикнул Мапуи. — Наури, — раздалось в ответ. — Скажите мне, где Мапуи, мой сын? Тэфара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо. — Это дух! — прошептала она. — Дух! У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене. — Добрая женщина, — сказал он, запинаясь и стараясь изменить голос. — Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны. За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился: ему удалось провести духа. — А откуда ты пришла, добрая женщина? — спросил он. — С моря, — печально раздалось в ответ. — Я так и знала, так и знала! — завопила Тэфара, раскачиваясь взад и вперед. — Давно ли Тэфара ночует в чужом доме? — сказал голос Наури. Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену — ее голос выдал их обоих. — И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери? — продолжал голос. — Нет, нет, я не… Мапуи не отрекается от тебя! — крикнул он. — Я не Мапуи. Говорю тебе, он на восточном берегу. Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась. — Что ты делаешь? — спросил Мапуи. — Вхожу, — ответил голос Наури. Край циновки приподнялся. Тэфара хотела зарыться в одеяло, но Мапуи не отпускал ее — ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой. — Мог бы дать старухе матери напиться, — жалобно сказал дух. — Дай ей напиться, — приказала Тэфара дрожащим голосом. — Дай ей напиться, — приказал Мапуи дочери. И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапуи краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки, и, почувствовав ее тяжесть, Мапуи убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собою жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тэфары, даже та признала, что ее свекровь — человек из плоти и крови. — Завтра утром, — сказала Тэфара, — ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов. — А дом? — возразила Наури. — Он построит дом, — сказала Тэфара. — Он говорит, что это обойдется в четыре тысячи. И кредит он нам даст на тысячу французских долларов — это две тысячи чилийских. — И дом будет сорок футов в длину? — спросила Наури. — Да, — ответил Мапуи, — сорок футов. — И в средней комнате будут стенные часы с гирями? — Да, и круглый стол. — Тогда дайте мне поесть, потому что я проголодалась, — удовлетворенно сказала Наури. — А потом мы будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. Тысячу французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит.
ПРИБОЙ КАНАКА
Перевод М. Лорие
Когда Ли Бартон и его жена Ида вышли из купальни, американки, расположившиеся в тени деревьев хау, что окаймляют пляж отеля Моана, тихо ахнули. И продолжали ахать все время, пока те двое шли мимо них, к морю. Ли Бартон едва ли мог произвести на них столь сильное впечатление. Американки были не из таких, чтобы ахать при виде мужчины в купальном Костюме, даже если судьба наделила его великолепной атлетической фигурой. Правда, у любого тренера такое физическое совершенство исторгло бы вздох глубокого удовлетворения, но он не стал бы ахать, как американки на пляже, — те были оскорблены в своих лучших чувствах. Ида Бартон — вот кто вызывал их осуждение и беспокойство. Они осудили ее, и притом бесповоротно, с первого же взгляда. Сами они — мастерицы себя обманывать — воображали, что их шокирует ее купальный костюм. Но Фрейд недаром утверждает, что там, где затронуты вопросы пола, люди бессознательно склонны подменять действительность вымыслом и мучиться по поводу собственного вымысла не меньше, чем если бы он был реальностью. Купальный костюм Иды Бартон был очень миленький — из тончайшей черной шерсти самой плотной вязки, с белой каймой и белым пояском, с небольшим вырезом, короткими рукавами и очень короткой юбочкой. Как ни коротка была юбочка, трико под ней было еще короче. Однако на соседнем пляже яхт-клуба и у кромки воды можно было увидеть десятка два женщин, не привлекавших к себе настороженного внимания, хоть и одетых более смело. Их костюмы, такие же короткие и облегающие, были совсем без рукавов, как мужские, а глубокий вырез на спине и под мышками указывал на то, что обладательницы их освоились с модами 1916 года. Таким образом, не купальный костюм Иды Бартон смущал женщин, хотя они и убеждали себя, что дело именно в нем. Смущали их, скажем, ее ноги, или, вернее, вся она, нестерпимый блеск ее очаровательной, вызывающей женственности. Этот вызов безошибочно чувствовали и пожилые матроны, и дамы средних лет, и молодые девушки, оберегавшие от солнца свои слабенькие, затянутые жирком мышцы и тепличный цвет лица. Да, в ней были вызов, и угроза, и оскорбительное превосходство над всеми партнершами в той маленькой жизненной игре, которую они сами выдумали и вели с переменным успехом. Но они этого не высказывали. Они не позволяли себе даже мысленно это признать. Они воображали, что все зло в купальном костюме, и осуждали его, словно не видя двух десятков женщин, одетых более смело, но не столь катастрофически красивых. Если б можно было просеять психологию этих блюстительниц нравов сквозь мелкое сито, на дне его осталась бы завистливая, чисто женская мысль: «Нельзя допускать, чтобы такая красивая женщина выставляла напоказ свою красоту». Они ощущали это как несправедливость. Много ли у них остается шансов в борьбе за мужчин с появлением такой опасной соперницы? И они были правы, ибо вот что сказал по этому поводу Стэнли Паттерсон своей жене, когда они, выкупавшись, лежали на песке у ручья, который Бартоны в эту минуту, переходили вброд, чтобы попасть на пляж яхт-клуба. — Господи боже, покровитель искусств и натурщиц! Нет, ты только посмотри, видала ты когда-нибудь женщину с такими изумительными ногами! До чего стройны и пропорциональны! Это ноги юноши. Я видел на ринге боксеров в легком весе с такими ногами. А вместе с тем это чисто женские ноги. Их всегда отличишь. Воя как выгнута передняя линия бедра. И сзади круглится ровно настолько, насколько нужно. А как эти две линии сходятся к колену, и какое колено! Просто руки чешутся, жалко глины нет. — Колено просто замечательное, — подхватила его жена, не менее его увлеченная, ибо она тоже была скульптором. — Ты погляди, как суставы ходят под кожей. Просто счастье, что все это не залито жиром. — Она вздохнула, вспомнив о собственных коленях. — Вот где и пропорции, и красота, и грация. Тут действительно можно говорить об очаровании плоти. Интересно, кто она такая? Стэнли Паттерсон, не сводя глаз с незнакомки, с жаром вел свою партию в семейном дуэте: — Ты заметила, что у нее совсем нет мускульных подушек на внутренней стороне колена, от которых почти все женщины кажутся колченогими? Это ноги юноши, крепкие, уверенные… — И в то же время ноги женщины, округлые и нежные, — поспешила дополнить его жена. — А взгляни, как она идет, Стэнли! Она ступает на носок и от этого кажется легкой, как перышко. С каждым шагом она чуть отделяется от земли, и кажется, что она поднимается все выше и выше и летит, либо сейчас взлетит… Так восторгались Стэнли Паттерсон и его жена. Но они были люди искусства, а потому и глаза у них были непохожи на ту батарею глаз, под огонь которых Ида Бартон попала в следующую минуту, — глаз, нацеленных на нее с веранд яхт-клуба и из-под деревьев хау, осенявших соседний Приморский отель. В яхт-клубе собрались главным образом не приезжие туристы, а спортсмены и гавайские старожилы. Но даже старожилки — и те ахнули. — Это просто неприлично, — заявила своему мужу миссис Хенли Блек, расползшаяся сорокалетняя красавица, которая родилась на Гавайях и даже не слыхала об Остенде. Хенли Блек окинул задумчивым, уничтожающим взором недопустимо бесформенную фигуру жены и ее допотопный купальный костюм, к которому не придрался бы даже пуританин из Новой Англии. Они были женаты так давно, что он уже мог высказываться откровенно. — Сравнить вас, так это не ее, а твой костюм выглядит неприлично. Точно ты кутаешься в эти нелепые тряпки, чтобы скрыть какой-нибудь позорный изъян. — Она несет свое тело как испанская танцовщица, — сказала миссис Паттерсон мужу; в погоне за ускользающим видением они тоже перешли вброд через ручей. — Верно, черт возьми, — подтвердил Стэнли Паттерсон. — Мне тоже вспомнилась Эстреллита. Грудь полная, но не слишком, тонкая талия, живот не чересчур тощий и защищен мускулами, как у мальчишки-боксера. Без этого она не могла бы так держаться, а к тому же они соответствуют мускулам спины. Ты видишь, какой у нее изгиб спины. Совсем как у Эстреллиты. — Как по-твоему, какой у нее рост? — спросила жена. — Он обманчив, — последовал осторожный ответ. — Может быть, пять футов один дюйм, а может, и все четыре дюйма. Сбивает ее походка, вот именно то, что ты сказала, что она как будто летит. — Да, да, — согласилась миссис Паттерсон. — Ее точно все время подымает на цыпочки, так много в ней жизненной энергии. Стэнли Паттерсон отозвался не сразу. — Ты права, — заключил он наконец. Она маленькая. От силы пять футов два дюйма. А вес ее, я считаю, сто десять или восемь, и уж никак не больше ста пятнадцати фунтов. — Ста десяти она не весит, — убежденно возразила его жена. — Но когда она одета, — продолжал Стэнли Паттерсон, — да с ее манерой держаться (результат жизненной энергии и сильной воли), я уверен, что она вовсе не кажется маленькой. — Я знаю этот тип, — кивнула его жена. — Смотришь на нее, и создается впечатление, что она не то чтобы особенно крупная женщина, но, во всяком случае, выше среднего роста. Ну, а сколько ей лет? — Это уж тебе виднее, — уклонился он. — Может, двадцать пять, а может, и тридцать восемь… Но Стэнли Паттерсон, забыв о вежливости, не слушал ее. — Да не только ноги! — воскликнул он упоенно. — Она вся хороша. Ты смотри, какая рука, до локтя тонкая, а к плечу округляется. А бицепсы! Красота! Пари держу, что, когда она их напрягает, они здорово вздуваются…
Любая женщина, а тем более Ида Бартон, неминуемо должна была заметить, какую сенсацию она произвела на пляже Ваикики. Но это не льстило ее тщеславию, а раздражало ее. — Вот мерзавки! — смеясь, сказала она мужу. — И подумать только, что я здесь родилась, да еще чуть ли не треть века назад. Тогда люди были не такие противные. Может быть, потому, что тогда здесь не было туристов. Ведь я и плавать-то научилась как раз здесь, перед яхт-клубом. Мы приезжали сюда с отцом на каникулы и на воскресенье и жили в травяной хижине, — она стояла на том самом месте, где сейчас яхт-клубные дамы распивают чай. По ночам. на нас падали с крыши сороконожки, мы ели пои, моллюсков и сырую рыбу, купались и рыбачили без всяких костюмов, а в город и дороги-то приличной не было. В большие дожди ее так размывало, что приходилось возвращаться на лодках — выгребать за отмель и входить в гавань в самом Гонолулу. — Не забывай, — подхватил Ли Бартон, — что как раз в это время тот юнец, из которого получился я, прожил здесь несколько недель во время своего кругосветного путешествия. Я, наверно, видел тебя среди ребят, которые тут плавали, как рыбы. Я помню, здесь женщины ездили верхом по-мужски, а ведь это было задолго до того, как женская половина рода человеческого в других странах отбросила скромность и решилась свесить ноги по обе стороны лошади. Я тоже выучился плавать на этом самом месте. Вполне возможно, что мы пробовали качаться на одних и тех же волнах, и может, я когда-нибудь плеснул тебе в лицо водой, а ты в благодарность показала мне язык… Тут его прервало довольно громкое негодующее «ах» из уст некой костлявой особы, загоравшей на песке в уродливом купальном костюме, — скорее всего старой девы, и Ли Бартон почувствовал, как его жена невольно вся сжалась. — Я очень доволен, — сказал он. — Ты у меня и так молодец, а тут совсем бесстрашная станешь. Пусть это тебя немножко стесняет, но зато и уверенности придает — только держись!
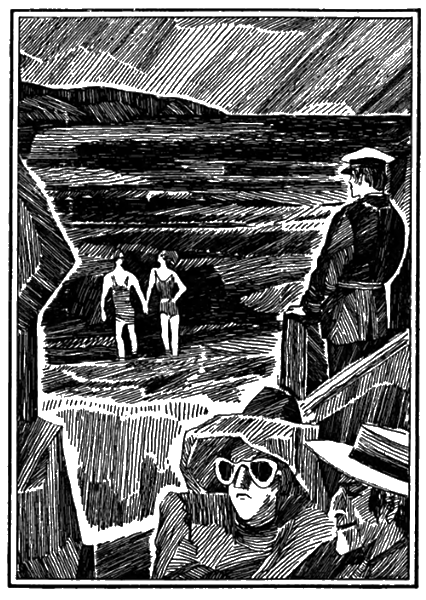
Ибо, да будет вам известно, Ли Бартон был сверхчеловек, и Ида Бартон — тоже, во всяком случае, в эту категорию их зачисляли начинающие репортеры, паркетные шаркуны и ученые критики-кастраты, неспособные разглядеть на горизонте, за однообразной равниной собственного существования, людей более совершенных, чем они сами. Эти унылые создания, отголоски мертвого прошлого и самозванные могильщики настоящего и будущего, живущие чужой жизнью и, подобно евнухам, состоящие при чужой чувственности, утверждают — поскольку сами они, их среда и их мелкие треволнения убоги и пошлы, — что ни один мужчина, ни одна женщина не может подняться над убожеством и пошлостью. В них самих нет красоты и размаха, и они отказывают в этих достоинствах всем; слишком трусливые, чтобы дерзать, они уверяют, что дерзание умерло еще в средние века, если не раньше; сами они — лишь мигающие свечки, и слабые их глаза не видят яркого пламени других душ, что озаряют их небосклон. Сил у них примерно столько, сколько у пигмеев, а что у других может быть больше сил, это им невдомек. Да, в прежние времена бывали на свете великаны; но в старых книгах написано, что великанов давно уже нет, от них остались одни кости. Эти люди никогда не видели гор, значит — гор не существует. Зарывшись в тину своей непросыхающей лужи, они уверяют, что славные витязи с высоким челом и в блестящих доспехах возможны только в сказках, в древней истории да в народных поверьях. Они никогда не видели звезд и отрицают звезды. От их взора скрыты славные пути и те смертные, что идут этими путями, поэтому они отрицают существование и славных путей, и отважных смертных. Считая собственные тусклые зрачки центром вселенной, они воображают, что вселенная создана по их подобию, и собственной жалкой личностью меряют отважные души, приговаривая: «Вот такой величины и все души, не больше. Не может быть, чтобы существовали души крупнее наших, а нашим богам известно, что мы — огромные».
Но когда Ида Бартон входила в воду, все или почти все, кто был на берегу, прощали ей и ее костюм, и ее прекрасное тело. В ее глазах веселый вызов, она чуть коснулась пальцами руки мужа, и вот они бегут несколько шагов в ногу и, разом оттолкнувшись от твердого морского песка, описывают в воздухе невысокую дугу и погружаются в воду. В Ваикики бывает два прибоя: большой, бородатый Канака, ревущий далеко за молом; и меньший, прибой Вахине, то есть женщина, — тот, что разбивается о берег. Вдоль берега тянется широкая полоса мелководья, здесь можно пройти по дну и сто и двести футов не захлебнувшись. Все же, если дальний прибой разбушуется, прибой Вахине тоже достигает трех-четырех футов, так что у самого берега твердое песчаное дно может оказаться и в трех дюймах и в трех футах от кипящей на поверхности пены. Чтобы нырнуть в эту пену — с разбега оторваться от земли, повернуться в воздухе пятками вверх и разрезать воду головой, — требуется хорошее знание волн и умение приспособляться к ним, годами выработанное искусство погружаться в эту непостоянную стихию изящным, решительным броском, да еще не уходя глубоко в воду. Это красивый, грациозный и смелый номер, который дается не сразу, — им не овладеть без долгой тренировки, сопряженной не только с множеством легких ушибов о морское дно, но и с риском раздробить себе череп или сломать шею. На том самом месте, где Бартоны нырнули так благополучно, за два дня до того сломал себе шею известный американский атлет. Он не сумел рассчитать подъем и спад прибоя Вахине. — Профессионалка, — фыркнула миссис Хенли Блек, наблюдавшая за Идой Бартон. — Наверное, какая-нибудь циркачка. — Такими и подобными замечаниями успокаивали друг друга женщины, сидевшие в тени; прибегая к нехитрому методу самообмана, они утешались сознанием великой разницы между теми, кто работает, чтобы есть, и их собственным кругом, где едят не работая. В тот день прибой в Ваикики был особенно сильный. Даже волны Вахине вполне удовлетворяли хороших пловцов. Дальше, в прибой Канака, не заплывал никто. И не потому, что молодые спортсмены, собравшиеся на пляже, боялись заплыть так далеко, — просто они знали, что гигантские гремящие валы, обрываясь вниз, неизбежно затопят даже самый большой из их челнов и перевернут любую доску[6]. Большинство из них могли бы, правда, пуститься вплавь, потому что человек проплывает и сквозь такую волну, на какие не взобраться челнам и доскам; но не это привлекало сюда молодых людей из Гонолулу: они больше всего любили, раскачавшись на волне, на минуту подняться во весь рост в воздухе, а потом стрелою лететь вместе с волной к берегу. Капитан челна номер девять, один из основателей яхт-клуба и сам неоднократный чемпион по плаванию на большую дистанцию, пропустил тот момент, когда Бартоны бросились в воду, и впервые увидел их уже за канатом, намного дальше последней группы купающихся. После этого он, стоя на верхней веранде клуба, уже не спускал с них глаз. Когда они миновали стальной мол, возле которого резвились в воде несколько самых отчаянных ныряльщиков, он с досадой пробормотал: «Вот чертовы малахини!» «Малахини» по-гавайски значит новичок, неженка; а капитан челна номер девять, хоть и видел, как хорошо они плывут, знал, что только малахини отважится выплыть в стремительное и страшно глубокое течение за молом. Это-то и вызвало его досаду. Он спустился на берег, вполголоса дал указания кое-кому из самых сильных своих гребцов и вернулся на веранду, прихватив с собой бинокль. Шестеро гребцов, стараясь не обращать на себя внимания, снесли челн номер девять к самой воде, проверили весла и уключины, а затем небрежно развалились на песке. Глядя на них, никто бы не заподозрил, что творится что-то неладное, но сами они то и дело поглядывали вверх на своего капитана, а он не отнимал от глаз бинокля. Страшная глубина за молом объяснялась тем, что в море вливался ручей, — кораллы не живут в пресной воде. А стремительность течения объяснялась силой рвущегося к берегу прибоя. Вода, которую снова и снова гнал к берегу грозный прибой Канака, спадая, уходила обратно в море с этим течением и вниз, под большие валы. Даже здесь, где было течение, волны вздымались высоко, но все же не на такую великолепную и устрашающую высоту, как справа и слева от него. Таким образом, в самом течении челну или сильному пловцу особая опасность не грозила. Но нужно было быть поистине сильным пловцом, чтобы устоять против его силы. Вот почему капитан номера девятого не покидал своего наблюдательного поста и не переставал бормотать проклятия, уверенный в том, что эти малахини вынудят его спустить челн и отправиться им на подмогу, когда они выбьются из сил. Сам он на их месте повернул бы налево, к мысу Даймонд, и дал бы прибою Канака вынести себя на сушу. Но ведь он — это он, двадцатидвухлетний бронзовый Геркулес, белый человек, обожженный субтропическим солнцем до цвета красного дерева и очень напоминающий фигурой и силой мускулов Дьюка Каханомоку. В заплыве на сто ярдов чемпион мира всегда опережал его на целую секунду, зато на дальних дистанциях он оставлял чемпиона далеко позади. Из сотен людей, находившихся на пляже, никто, кроме капитана и его гребцов, не знал, что Бартоны уплыли за мол. Все, кто видел, как они отплывали от берега, были уверены, что они вместе с другими прыгают с мола. Внезапно капитан вскочил на перила веранды и, держась одной рукой за столбик, снова навел бинокль на две темные точки вдали. Догадка его подтвердилась. Эти дураки, выбравшись из течения, повернули к мысу Даймонд, отгороженные от берега прибоем Канака. Хуже того, они, видимо, решили пересечь прибой. Он быстро глянул вниз, но, когда в ответ на его взгляд притворно дремавшие гребцы не спеша поднялись и заняли свои места, чтобы спустить челн на воду, он передумал. Мужчина и женщина погибнут раньше, чем челн успеет с ними поравняться. А если даже он с ними поравняется, его затопит в ту же секунду, как он свернет из течения в прибой, и даже лучшие пловцы из команды девятого едва ли спасут человека, которого швыряет о дно безжалостными ударами бородатых валов. Капитан увидел, как далеко в море, позади двух крошечных точек — пловцов, поднялась первая волна Канака, большая, но еще не из» самых больших. Потом он увидел, что они плывут кролем, бок о бок, погрузив лицо в воду, вытянувшись во всю длину, работая ногами, как пропеллером, и быстро выбрасывая вперед руки, в попытке набрать ту же скорость, что у настигающей их волны, чтобы, когда она их настигнет, не отстать от нее, а дать ей себя подхватить. Тогда, если у них достанет духа и сноровки, чтобы удержаться на гребне и не упасть с него, — иначе их тут же разобьет или утащит вниз головою на дно, — они понесутся к берегу уже не собственными усилиями, а увлекаемые волной, с которой они слились воедино. И это им удалось. «Пловцы хоть куда!» — вполголоса доложил сам себе капитан девятого. Он все не отнимал от глаз бинокля. Лучшие пловцы могут проплыть на такой волне несколько сот футов. А эти? Если они не сдадут, треть опаснейшего пути, который они сами выбрали, останется позади. Но, как он и предвидел, первой сплоховала женщина — ведь поверхность ее тела меньше. Через каких-нибудь семьдесят футов она не выдержала и скрылась из глаз под многотонной массой воды, перекатившейся через нее. Потом исчез под водой мужчина, и оба снова появились на поверхности далеко позади волны, которую они потеряли. Следующую волну капитан увидел раньше их. «Если они попробуют поймать эту, тогда прощай», — проговорил он сквозь зубы — он знал, что всякий пловец, который решится на такое дело, обречен. Этот вал, в милю длиной, еще без гребня, но страшнее всех своих бородатых собратьев, подымался далеко за ними, все выше и выше, пока не закрыл горизонта плотной стеной, и только тогда на его истонченном, загнутом гребне, наконец, забелела пена. Но мужчина и женщина, видимо, хорошо знали море. Вместо того чтобы убегать от волны, они повернулись к ней лицом и стали ее ждать. Мысленно капитан похвалил их. Он один видел эту картину удивительно ярко и четко благодаря биноклю. Водяная стена все росла и росла, и далеко вверху, где она была тоньше, сине-зеленую воду пронизывали краски заката. Зеленый тон все светлел у него на глазах и переходил в голубой. Но голубизна эта сверкала на солнце бесчисленными искрами, розовыми и золотыми. Выше и выше, до растущего белого гребня, разливалась оргия красок, пока вся волна не стала сплошным калейдоскопом переливающихся радуг. На фоне волны две головы, мужчины и женщины, казались черными точками. Это и были точки, затерявшиеся в слепой стихии, бросавшие вызов титанической силе океана. Тяжесть нависшего над ними высоченного вала могла, обрушившись, насмерть оглушить мужчину, переломать хрупкие кости женщины. Капитан девятого, сам того не замечая, затаил дыхание. О мужчине он забыл. Он видел только женщину. Стоит ей растеряться, или оробеть, или сделать одно неверное движение, и страшной силы удар отшвырнет ее на сто футов, размозжит, беспомощную и бездыханную, о коралловое дно, и глубинное течение потащит ее в открытое море к прожорливым мелким акулам, слишком трусливым, чтобы напасть на живого человека. Почему, спрашивал себя капитан, почему они заранее не нырнут поглубже, а дожидаются, пока последний безопасный миг не превратится в первый миг смертельной опасности? Он увидел, как женщина, смеясь, повернула голову к мужчине, и тот засмеялся в ответ. Волна уже поднимала их, а высоко над ними из молочно-белого гребня брызнули клочья пены, горящей рубинами и золотом. Свежий пассатный ветер, дувший от берега, подхватил эти клочья и понес их назад и вверх. И вот тут-то, держась в шести футах друг от друга, они разом нырнули прямо под волну, и в то же мгновение волна рассыпалась и упала. Как насекомые исчезают в завитках причудливой гигантской орхидеи, так исчезли они, а гребень, и пена, и многоцветные брызги с грохотом обвалились на то самое место, где они только что ушли под воду. Наконец, пловцы показались снова, позади волны, по-прежнему в шести футах друг от друга, — они ровными взмахами плыли к берегу, готовые либо поймать следующую волну, либо повернуться ей навстречу и нырнуть под нее. Капитан девятого помахал своим гребцам в знак того, что они могут разойтись, а сам присел на перила веранды, чувствуя непонятную усталость и все продолжая следить в бинокль за плывущими. — Кто они, не знаю, — пробормотал он, — но только не малахини. За это я ручаюсь.
Прибой у Ваикики достигает большой силы далеко не всегда, вернее очень редко; и хотя Бартоны и в последующие дни возбуждали любопытство и негодование путешествующих дам, капитаны из яхт-клуба больше о них не тревожились. Они видели, как муж и жена, отплыв от берега, растворялись в синей дали, а через несколько часов либо видели, либо не видели, как они приплывали обратно. Капитаны о них не тревожились, они знали, что эти двое вернутся. А все потому, что они оказались не малахини. Они были свои. Другими словами, — или, вернее, одним выразительным гавайским словом, — это были кама-аина. Сорокалетние старожилы помнили Ли Бартона с детства, с тех пор, когда он действительно был малахини, хотя и очень юным. А за это время, приезжая сюда часто и надолго, он успел заслужить почетное звание камааина. Что касается Иды Бартон, то местные дамы одного с ней возраста встречали ее объятиями и сердечными гавайскими поцелуями (втайне удивляясь, как она умудрилась сохранить свою фигуру). Бабушки приглашали ее выпить чаю и поболтать о прошлом в садиках забытых домов, которых не видит ни один турист. Меньше чем через неделю после ее приезда престарелая королева Лилиукалани[7] послала за ней и пожурила за невнимание. А беззубые старики, сидя на прохладных душистых циновках, толковали ей про ее деда, капитана Уилтона, — сами они его уже не застали, но любили воскрешать в памяти его разгульную жизнь и сумасбродные выходки, о которых знали по рассказам отцов. Это был тот самый дед-капитан Уилтон, он же Дэвид Уилтон, он же «на все руки», как любовно окрестили его гавайцы в те далекие дни: сначала — торговец на диком Северо-Западе, потом — беспутный бродяга, капитан без корабля, тот самый, что в 1820 году, стоя на берегу в Каилуа, приветствовал первых миссионеров, прибывших сюда на бриге «Тадеуш», а через несколько лет сманил дочку одного из этих миссионеров, женился на ней, остепенился и долго служил верой и правдой королям Камехамеха в должности министра финансов и начальника таможни, в то же время выступая посредником и миротворцем между миссионерами, с одной стороны, и пестрой, вечно сменяющейся толпой бродяг, торговцев и гавайских вождей — с другой. Ли Бартон тоже не мог пожаловаться на недостаток внимания. Когда в их честь устраивали игры в море и танцы, обеды и завтраки и национальные пиршества «луау», его тащили в свою компанию старые друзья; некогда веселые прожигатели жизни, теперь они обнаружили, что на свете есть пищеварение и прочие функции организма, и соответственно угомонились, меньше кутили, больше играли в бридж и часто ходили на бейсбольные матчи. Такую же эволюцию претерпели и прежние партнеры Ли Бартона по игре в покер — они теперь сильно снизили свои ставки и лимиты, пили минеральную воду и апельсиновый сок, а последнюю партию кончали не позднее полуночи. В самый разгар этих развлечений появился на сцене Санни Грэндисон, уроженец и герой Гавайских островов, уже успевший в свои сорок один год отклонить предложенный ему пост губернатора территории[8]. Четверть века назад он швырял Иду Бартон в прибой у берега Ваикики, а еще раньше, проводя каникулы на огромном скотоводческом ранчо своего отца на острове Лаканаии, торжественно принял ее и нескольких других малышей в возрасте от пяти до семи лет в свою шайку под названием «Охотники за головами», или «Гроза Лаканаии». А еще до этого его дед Грэндисон и ее дед Уилтон вместе орудовали в деловых и политических сферах. По окончании Гарвардского университета он много странствовал, продолжая заниматься наукой и везде приобретая друзей. Служил на Филиппинах, участвовал как энтомолог в ряде научных экспедиций на Малайский архипелаг, в Африку и в Южную Америку. В сорок один год он все еще числился в штатах Смитсоновского института, и приятели его уверяли, что он понимает в сахарном жучке больше, чем специалисты-энтомологи экспериментальной станции, учрежденной им вместе с другими сахарными плантаторами. Он был видной фигурой у себя на родине и самым популярным представителем Гавайев за границей. Гавайцы-путешественники в один голос утверждали, что, в каком бы уголке земного шара им ни пришлось упомянуть, откуда они родом, их первым делом спрашивали: «А Санни Грэндисона вы знаете?» Короче говоря, это был сын богача, достигший блестящего успеха. Миллион долларов, полученный в наследство от отца, он превратил в десять миллионов, в то же время не свернув благотворительную деятельность, начатую отцом, а расширив ее. Но это еще не все, что можно о нем сказать. Десять лет назад он потерял жену, детей не имел, и на всех Гавайях не было человека, за которого столько женщин мечтало бы выйти замуж. Высокий, тонкий, с втянутым животом гимнаста, всегда в форме, брюнет с резкими чертами лица и сединой на висках, эффектно оттенявшей молодую кожу и живые, блестящие глаза, он выделялся в любой компании. Казалось бы, все его время без остатка должны были поглощать светские развлечения, заседания комитетов и правлений и политические совещания; между тем он еще состоял капитаном команды поло, одержавшей немало побед, и на принадлежащем ему острове Лаканаии разводил лошадей для игры в поло не менее успешно, чем Болдуины на острове Мауи.
Когда при наличии двух сильных и самобытных натур — мужчины и женщины — на сцене появляется второй, столь же сильный и самобытный мужчина, почти неизбежно возникновение трагического треугольника. Выражаясь языком паркетных шаркунов, такой треугольник можно назвать «сверхтрагическим» или «потрясающим». Первый, должно быть, уяснил себе положение Санни Грэндисон, поскольку с его дерзкого желания все и началось; вряд ли, впрочем, даже его быстрый ум обогнал интуицию такой женщины, как Ида Бартон. Несомненно одно: Ли Бартон прозрел последним и попробовал обратить в шутку то, что отнюдь не было шуткой. Он быстро убедился, что прозрел с большим запозданием, то есть уже после того, как все стало ясно доброй половине людей, у которых он бывал в гостях. Оглянувшись назад, он сообразил, что уже довольно давно на все светские сборища, куда приглашали его с женой, оказывался приглашенным и Санни Грэндисон. Где бы ни бывали они вдвоем, бывал и он, третий. Куда бы ни отправлялось веселое общество — в Кахуку, Халейва, Ахуиману, или в коралловые сады Канеохе, или купаться на мыс Коко, — неизменно получалось так, что Ида ехала в автомобиле Санни или оба они ехали еще в чьем-нибудь автомобиле. Они встречались на балах, обедах, экскурсиях, «луау» — словом, всюду. Раз прозрев, Ли Бартон уже не мог не заметить, что в присутствии Санни Грэндисона Ида особенно оживлялась, что она охотно ездила с ним в машине, танцевала с ним или пропускала танец, чтобы посидеть с ним. Но убедительнее всего был вид самого Санни Грэндисона. Несмотря на возраст, выдержку и жизненный опыт, его лицо выдавало его чувства так же явно, как лицо двадцатилетнего юноши. В сорок один год, сильный, опытный мужчина, он не научился скрывать свою душу за бесстрастной маской, так что Ли Бартону, его ровеснику, не стоило труда разглядеть ее сквозь такую прозрачную оболочку. И не раз, когда Ида болтала с другими женщинами и речь заходила о Санни, Ли Бартон слышал, как тепло она о нем отзывалась, как красноречиво расписывала его стиль игры в поло, его общественную деятельность и все его многообразные достоинства. Итак, душевное состояние Санни не представляло загадки для Ли Бартона — оно было видно любому. Но Ида, его жена, с которой он двенадцать лет прожил в безоблачно счастливом союзе, что сказать о ней? Он знал, что женщины — этот загадочный пол — многое умеют хранить в тайне. Означают ли ее откровенно дружеские отношения с Грэндисоном всего только возобновление детской дружбы? Или они служат ширмой для тайного сердечного жара, для ответного чувства, быть может даже более сильного, чем то, что так ясно написано на лице Санни? Ли Бартону было невесело. Двенадцать лет безраздельного и узаконенного обладания собственной женой убедили его в том, что она — единственная женщина, которая ему нужна, что нет на свете женщины, которая могла бы посягнуть на ее место в его сердце и сознании. Он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь женщина могла отвлечь его от Иды, а тем более превзойти ее в умении всегда и во всем ему нравиться. Так неужели же, в ужасе спрашивал он себя, уподобляясь всем влюбленным Бенедиктам[9], это будет ее первый «роман»? Вопрос этот мучил его непрестанно, и, к удивлению остепенившихся пожилых юнцов — своих партнеров в покер, а также к великому удовольствию дам, наблюдавших за ним на званых обедах, он стал пить вместо апельсинового сока коньяк, громко ратовать за повышение лимита в покере, вечерами с сумасшедшей скоростью гонять свою машину по дорогам на мыс Даймонд и к пропасти Пали и потреблять — либо до, либо после обеда — больше коктейлей и шотландского виски, чем положено нормальному человеку. Ида всегда относилась к его увлечению картами очень снисходительно. За годы их брака он к этому привык. Но теперь, когда возникло сомнение, ему чудилось, что она только и ждет, чтобы он засел за карты. Кроме того, он заметил, что Санни Грэндисон перестал появляться там, где играли в покер и в бридж. Говорили, что он очень занят. Где же проводит время Санни, когда он, Ли Бартон, играет в карты? Не всегда же на заседаниях комитетов и правлений. Ли Бартон решил это проверить. Он без труда установил, что, как правило, Санни проводит это время там же, где Ида Бартон, — на балах, обедах или на купаньях при луне; а в тот день, когда Санни, сославшись на неотложные дела, отказался составить с Ли, Лэнгхорном Джонсом и Джеком Холстейном партию в бридж в клубе «Пассифик», — в тот самый день он играл в бридж у Доры Найлз с тремя женщинами, и одной из них была Ида. Однажды Ли Бартон, возвращаясь из Пирл-Харбора, где он осматривал строительство сухого дока, и включив третью скорость, чтобы успеть, переодеться к обеду, обогнал машину Санни;, единственным пассажиром в этой машине была Ида. Спустя неделю, в течение которой Ли ни разу не играл в карты, он в одиннадцать часов вечера вернулся домой с холостого обеда в Университетском клубе, а следом за ним вернулась Ида — с ужина и танцев у Алстонов. И домой ее привез Санни Грэндисон. Они упомянули, что сначала отвезли майора Фрэнклина с женой в Форт Шафтер, по ту сторону города, за много миль от Ваикики. Ли Бартон был всего лишь человек и втайне жестоко страдал, хотя на людях отношения его с Санни были самые дружеские. Даже Иде было невдомек, что он страдает, и она жила по-прежнему беззаботно и весело, ничего не подозревая и разве что слегка удивляясь количеству коктейлей, которые ее муж поглощал перед обедом. Казалось, что он, как и прежде, открыт для нее весь, до последних глубин; на самом же деле он скрывал от нее свои муки, так же как и ту бухгалтерскую книгу, которую он мысленно вел, каждую минуту, днем и ночью, пытаясь подвести в ней итог. В одну колонку заносились несомненно искренние проявления ее обычной любви и заботы о нем, многочисленные случаи, когда она успокаивала его, спрашивала или слушалась его совета. В другую — где записи делались все чаще — собирались слова и поступки, которые он волей-неволей относил в разряд подозрительных. Искренни ли они? Или в них таится обман, пусть даже непреднамеренный? Третья колонка, самая длинная и самая важная с точки зрения человеческогосердца, содержала записи, прямо или косвенно касающиеся его жены и Санни Грэндисона. Ли Бартон вел эту бухгалтерию без всякого умысла. Он просто не мог иначе. Он с радостью бросил бы это занятие. Но ум его требовал порядка, и записи сами собой, помимо его воли, располагались каждая в своей колонке. Все теперь представлялось ему в искаженном виде, он из каждой мухи делал слона, хотя часто сам сознавал, что перед ним муха. Наконец, он обратился к Мак-Илвейну, которому когда-то оказал весьма существенную услугу. Мак-Илвейн был начальником сыскной полиции. «Большую ли роль в жизни Санни Грэндисона играют женщины?» — спросил его Бартон. Мак-Илвейн ничего не ответил. «Значит, большую», — заключил Бартон. Начальник полиции опять промолчал. Вскоре после этого Ли Бартон прочел секретную записку за подписью Мак-Илвейна и тут же уничтожил ее, как ядовитую гадину. Общий вывод был: Санни вел себя неплохо, но и не слишком хорошо после того, как десять лет назад у него погибла жена. Их брак был притчей во языцех в высшем обществе Гонолулу, так они были влюблены не только до свадьбы, но и после, вплоть до ее трагической гибели — она вместе с лошадью свалилась с тропы Нахику в бездонную пропасть. И еще долго после этого, утверждал Мак-Илвейн, женщины для Грэндисона словно не существовали. А потом если что и бывало, то все оставалось в рамках приличий. Никаких сплетен, никакой огласки, так что в обществе сложилось мнение, что он — однолюб и никогда больше не женится. Что касается нескольких мимолетных связей, которые Мак-Илвейн перечислил в своем докладе, то, по его словам, Грэндисону и в голову не могло прийти, что о них известно кому-либо, кроме самих участников. Бартон наскоро, словно стыдясь, проглядел короткий список имен и дат и успел искренне удивиться, прежде чем предать бумагу огню. Да, чего другого, а осторожности у Санни хватало. Глядя на пепел, Бартон задумался о том, много ли эпизодов из его собственной молодости хранится в архивах старика Мак-Илвейна. И вдруг почувствовал, что краснеет. Какой же он дурак! Раз Мак-Илвейну столько известно о частной жизни любого члена их общества, не ясно ли, что он сам, муж, защитник и покровитель Иды, дал Мак-Илвейну повод заподозрить ее? — Ничего не случилось? — спросил он жену в тот же вечер, когда она кончала одеваться, а он стоял возле, держа наготове ее пальто. Это вполне соответствовало их давнишнему уговору о взаимной откровенности, и в ожидании ее ответа он даже упрекал себя за то, что не спросил ее много раньше. — Нет, — улыбнулась она. — Ничего особенного… Может быть, после… Она загляделась на себя в зеркало, попудрила нос и снова смахнула пудру пуховкой. Потом добавила: — Ты ведь знаешь меня, Ли. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться… если есть в чем разбираться; а после этого я тебе всегда все говорю. Только часто оказывается, что говорить-то не о чем, так что нечего тебя и беспокоить. Она протянула назад руки, чтобы он подал ей пальто, — храбрые, умные руки, крепкие, как сталь, когда она борется с волнами, и в то же время такие чудесные женские руки, круглые, теплые, белые, ~ как и должны быть у женщины, — с тонкой, гладкой кожей, скрывающей отличные мускулы, покорные ее воле. Он смотрел на нее с восхищением, с тоской и болью, — она казалась такой тоненькой, такой хрупкой, что сильный мужчина мог бы одной рукой переломить ее пополам. — Едем скорее! — воскликнула она, заметив, что он не сразу накинул легкое пальто на ее прелестное, сверхлегкое платье. — Мы опоздаем. Если на Нууану польет дождь, придется поднимать верх, и мы не поспеем ко второму танцу. Он решил непременно посмотреть, с кем она будет танцевать второй танец, и пошел следом за нею к двери, любуясь ее походкой, в которой, как он часто сам себе говорил, горделиво проявлялась вся ее сущность, и духовная и физическая. — Ты не против того, что я так много играю в покер и оставляю тебя одну? — Это была новая уловка. — Да бог с тобой! Ты же знаешь, я приветствую твои картежные оргии. Они тебя так подбадривают. И ты, когда играешь, делаешься такой симпатичный, такой солидный. Я уж не помню, когда ты засиживался за картами позже чем до часу. На улице Нууану дождь не полил, небо, начисто выметенное пассатом, было усеяно звездами. Они поспели ко второму танцу, и Ли Бартон увидел, как его жена пошла танцевать с Грэндисоном. В этом не было ничего удивительного, однако он не преминул отметить это в своей мысленной бухгалтерии. Час спустя, терзаемый тоскливым беспокойством, он отказался от партии в бридж и, улизнув от нескольких молодых дам, вышел побродить по огромному саду. Вдоль дальнего края лужайки тянулась изгородь из ночного цереуса. Каждому цветку суждена была всего одна ночь жизни, — распустившись в сумерках, он к рассвету свернется и погибнет. Огромные — до фута в диаметре — чуть желтоватые цветы, похожие на восковые лилии, мерцая, словно маяки, во мраке, допьяна напоенном их ароматом, торопились насладиться своей прекрасной короткой жизнью. Но на дорожке, бегущей вдоль изгороди, было людно. Гости парами гуляли здесь в перерывах между танцами или во время танцев и тихо переговаривались, жадно наблюдая это чудо — любовную жизнь цветов. С веранды, где расположился хор мальчиков, доносилась ласкающая мелодия «Ханалеи». Ли Бартону смутно вспомнился рассказ — кажется, Мопассана — про аббата, который свято верил, что все на свете сотворено богом для одному его ведомых целей, но, затруднившись осмыслить с этой точки зрения ночь, понял в конце концов, что ночь создана для любви. Оттого, что цветы и люди в один голос славили ночь, 'Бартону стало больно. Он повернул обратно к дому по дорожке, вьющейся в тени акаций и пальм. С того места, где она снова выходила из зарослей, он увидел в нескольких шагах от себя, на другой дорожке, мужчину и женщину, которые стояли в темноте обнявшись. Он обнаружил их, потому что услышал страстный шепот мужчины, но в ту же минуту и его заметили: шепот смолк, и пара замерла в полной неподвижности. Он побрел дальше, удрученный мыслью, что густая тень деревьев — это следующий этап для тех, кто под широким небом восторгается ночными цветами. О, он хорошо помнил то время, когда ради минуты любви он готов был на любой обман, на любую хитрость, и чем гуще была тень, тем лучше. Что люди, что цветы — одно и то же, подумал он. Прежде чем снова включиться в привычную, но сейчас нестерпимую жизнь, он еще немного постоял в саду, рассеянно глядя на куст густо-алых махровых мальв в ярком кругу света, падавшего с веранды. И внезапно все, что он выстрадал, все, что он только видел и слышал, — ночные цветы, и приглушенные голоса влюбленных, и те двое, что обнимались украдкой, как воры, — все слилось в притчу о жизни, воплощенную в цветах мальвы, на которые он глядел. Ему казалось, что жизнь и страсть человека — это те же цветы: они распускаются на рассвете белыми как снег, розовеют под лучами солнца, а к вечеру становятся густо-алыми и уже не доживают до нового рассвета. Какие еще аналогии могли прийти ему в голову, неизвестно, потому что за ним, там, где росли акации и пальмы, послышался знакомый смех — веселый и безмятежный смех Иды. Не оглядываясь, страшась того, что должен был увидеть, он торопливо, чуть не спотыкаясь, поднялся на веранду. Но хотя он знал, что его ждет, все же, когда он, наконец, оглянулся и увидел свою жену и Санни, только что украдкой обнимавшихся в темноте, — у него закружилась голова и он постоял, держась за перила и с тупой улыбкой устремив глаза на группу мальчиков, выводивших в сладострастной ночи свой сладострастный припев «Хони кауа вики-вики». Через секунду он облизал губы, справился с дрожью и успел бросить какую-то шутку хозяйке дома миссис Инчкип. Но нельзя было терять время — те двое уже поднимались по ступенькам веранды. — Пить хочется, будто я пересек пустыню Гоби, — сказал он, — я чувствую, что только коктейль может спасти меня. Миссис Инчкип улыбнулась и жестом направила его на курительную веранду, где его и нашли, когда начался разъезд: он оживленно обсуждал со старичками положение в сахарной промышленности. В Ваикики уехало сразу несколько машин, и на его долю выпа\о отвезти домой Бернстонов и чету Лесли. Ида, как он успел заметить, села в машину Санни, рядом с ним. Она вернулась домой первая — когда он приехал, она уже причесывалась на ночь. Они простились и легли — так же, как обычно, но попытка казаться естественным, помня, чьи губы так недавно прижимались к ее губам, стоила ему такого труда, что он едва не потерял сознание. «Неужто женщина и вправду совершенно аморальное существо, как утверждают немецкие пессимисты?» — спрашивал он себя, ворочаясь с боку на бок, и не мог ни уснуть, ни взяться за книгу. Через час он встал и нашел в аптечке сильнодействующий снотворный порошок. Еще через час, опасаясь провести бессонную ночь наедине со своими мыслями, он принял второй порошок. Он проделал это еще два раза, с часовыми перерывами. Но снотворное действовало так медленно, что, когда он, наконец, уснул, уже светало. В семь часов он опять проснулся. Во рту было сухо, хотелось спать, однако он не мог забыться больше чем на несколько минут кряду. Решив, что уже не заснет, он позавтракал в постели и занялся утренними газетами. Но порошки продолжали действовать, и он то и дело засыпал над газетой. Так же было, пока он принимал душ и одевался, и его радовало, что хотя ночью порошки почти не принесли ему облегчения, они помогли ему провести утро в каком-то полузабытьи. И только когда жена его встала и пришла к нему в очаровательном халатике, с лукавой улыбкой на губах, как всегда веселая и безмятежная, его охватило порожденное опиумом безумие. Просто и ясно она дала понять, что, несмотря на давнишний уговор, ей нечего сказать ему, и тут, послушный голосу опиума, он начал лгать. На вопрос, хорошо ли он спал, он ответил: — Отвратительно! Я два раза просыпался от судороги в ноге. Даже страшно было снова засыпать. Но больше она не повторилась, хотя ноги болят ужасно. — У тебя это и в прошлом году было, — напомнила она. — Сезонная болезнь, — улыбнулся он. — Это не страшно, только очень противно, когда просыпаешься со сведенной ногой. Теперь до вечера ничего не будет, но ощущение такое, точно меня избили палками.
В тот же день, попозже, Ли и Ида Бартон нырнули в мелкую воду у пляжа яхт-клуба и, быстро миновав мол, уплыли вдаль, за прибой Канака. Море было такое тихое, что, когда они часа через два повернули обратно к берегу и не спеша стали пересекать прибой, они были совершенно одни. Слишком маленькие волны не представляли интереса для любителей качаться в челнах и на досках, так что все они уже давно вернулись на берег. Вдруг Ли перевернулся на спину. — Что случилось? — окликнула Ида, плывшая футах в двадцати от него. — Нога… судорога, — ответил он негромко, весь сжавшись от страшного напряжения. Опиум продолжал действовать, и он был словно в полусне. Глядя, как она подплывает к нему ровными, ритмичными взмахами, он полюбовался ее спокойствием, но его тут же кольнуло подозрение, что она спокойна потому, что мало его любит, или, вернее, любит гораздо меньше, чем Грэндисона. — В какой ноге? — спросила она, принимая в воде вертикальное положение. — В левой… ой! А теперь в обеих. Он, словно непроизвольно, подогнул колени, высунул из воды голову и грудь и тут же скрылся из глаз под совсем небольшой волной. Через несколько секунд он всплыл и, отплевываясь, снова лег на спину. Он чуть не улыбнулся, но улыбка превратилась в болезненную гримасу: ему действительно свело ногу, во всяком случае одну, и он почувствовал настоящую боль. — Сейчас больнее в правой, — процедил он, увидев, что она хочет растереть ему ногу. — Но ты лучше держись подальше. У меня это бывало. Если станет хуже, я, чего доброго, могу вцепиться в тебя. Она нашла руками затвердевшие мускулы и стала растирать и разминать так. — Очень прошу тебя, держись подальше, — выдавил он сквозь стиснутые зубы. — Дай мне отлежаться. Я поработаю суставами, и все пройдет. Я знаю, что нужно делать. Она отпустила его, но осталась рядом, по-прежнему держась в воде стоя и стараясь понять по его лицу, помогает ли ему эта гимнастика. Он же нарочно стал сгибать суставы и напрягать мускулы так, чтобы усилить судорогу. Когда это с ним случилось в прошлом году, он научился, лежа в постели с книгой, расслаблять мускулы и успокаивать судорогу, даже не отрываясь от чтения. Теперь он проделывал как раз обратные движения и со страхом и радостью почувствовал, что судорога, усилившись, перекинулась в правую икру. Он громко вскрикнул, сделал вид, что растерялся, попробовал высунуться из воды и исчез под набежавшей волной. Он всплыл, отфыркался и лег на спину, раскинув руки, и туг сильные маленькие пальцы Иды крепко взялись за его икру. — Не беда, — сказала она, энергично работая. — Такие судороги никогда не длятся очень долго. — Я и не знал, что они бывают такие сильные, — простонал он. — Только бы не поднялись выше! Чувствуешь себя таким беспомощным. Вдруг он вцепился ей руками в плечи, как утопающий вцепляется в весло, пытаясь на него взобраться, и под его тяжестью она погрузилась в воду. За то время, что он не давал ей вырваться, с нее смыло резиновый чепчик, шпильки выпали, и когда она, тяжело дыша, всплыла, наконец, на поверхность, мокрые распустившиеся волосы облепили ей все лицо. Он был уверен, что от неожиданности она порядком хлебнула морской воды. — Уходи! — предостерег он ее и снова раскинул руки в притворном отчаянии. Но пальцы ее уже снова нащупали больную икру, и не видно было, чтобы она испытывала колебания или страх. — Выше пошло, — проговорил он с усилием, едва сдерживая стон. Он напряг всю правую ногу, и настоящая судорога в икре усилилась, а мышцы бедра послушно затвердели, как будто их тоже свело. Мозг его еще не освободился от действия опиума, так что он мог одновременно вести свою жестокую игру и с восторгом отмечать и силу воли, написанную на ее сразу осунувшемся лице, и смертельный ужас, затаившийся в глазах, и за всем этим — ее непоколебимый дух и твердую решимость. Она явно не собиралась сдаваться, прячась за дешевую формулу: «Я умру с тобой вместе». Нет, к его великому восхищению, она спокойно приговаривала: — Ничего. Погрузись поглубже, оставь над водой только рот. Голову я тебе поддержу. Это же не может продолжаться без конца. На суше никто еще не умирал от судорог. Значит, и в воде хороший пловец не может от них умереть. Дойдет до высшей точки и отпустит. Мы оба прекрасно плаваем и не из пугливых… Он зажмурился, точно от страшной боли, и утянул ее под воду. Но когда они всплыли, она была по-прежнему рядом с ним и по-прежнему, стоя в воде, поддерживала его голову и твердила: — Успокойся. Расслабь мускулы. Голову я тебе держу. Потерпи. Сейчас пройдет. Не борись. Не напрягай сознание, тогда и тело не будет напряжено. Вспомни, как ты учил меня отдаваться течению. Новая волна, исключительно высокая для такого слабого прибоя, нависла над ними, и Ли Бартон опять схватил жену за плечи и утянул под воду в ту минуту, как гребень волны закудрявился и рухнул. — Прости, — пробормотал он сдавленным от боли голосом, едва сделав первый вдох. — И оставь меня. — Он говорил отрывисто, с мучительными паузами. — Не к чему нам обоим погибать. Мое дело дрянь. Сейчас боль пойдет еще выше, тогда уж у меня не хватит сил тебя отпустить. Прошу тебя, дорогая, оставь меня. Пусть уж я один умру. Тебе есть для чего жить. Она поглядела на него с таким упреком, что в глазах ее не осталось и следа смертельного ужаса. Слова и те не могли бы яснее выразить ее ответ: «Зачем же мне жить, если не для тебя». Так, значит, он ей дороже, чем Санни! Бартон возликовал, но тут же вспомнил, как она обнималась с Санни в тени акаций, и решил, что еще мало помучил ее. Может быть, это выпитый опиум подстрекал его к такой жестокости. Раз уж он затеял это испытание, нашептывал маковый сок, пусть доводит его до конца. Он подтянул колени, ушел под воду, всплыл и сделал вид, что отчаянно старается вытянуть ноги. Она все время держалась с ним рядом. — Нет, не могу! — громко простонал он. — Дело дрянь. Ничего не выйдет. Тебе меня не спасти. Спасайся сама, пока не поздно. Но она не отставала, она поворачивала его голову, чтобы вода не попала в рот, и приговаривала: — Ничего, ничего. Хуже не будет. Потерпи еще чуточку, сейчас начнет проходить. Он вскрикнул, скорчился, схватил ее и увлек под воду. На этот раз он чуть не утопил ее, так хорошо ему удалось разыграть эту сцену. Но она ни на секунду не растерялась, не поддалась страху неминуемой смерти. Едва высунув голову из воды, она старалась поддержать его и, задыхаясь, все шептала ему слова ободрения: — Успокойся… успокойся… расслабь мускулы… Вот увидишь… сейчас станет лучше… Пусть больно… ничего… сейчас пройдет… уже проходит, да? А он снова и снова тянул ее ко дну, все грубее хватал ее, заставляя еще и еще глотать соленую воду, в глубине души уверенный, что это не может серьезно ей повредить. На короткие мгновения они всплывали на залитую солнцем поверхность океана и снова скрывались, и кудрявые гребни волн перекатывались через них. Она упорно боролась, вырываясь из его цепких пальцев, но, когда он отпускал ее, не делала попыток отплыть подальше: силы ее убывали, сознание мутилось, но всякий раз она снова старалась спасти его. Наконец, рассудив, что пора кончать, он стал спокойнее, разжал руки и растянулся на воде. Он испустил долгий блаженный вздох и заговорил, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание: — Проходит. Какое счастье! Ох, дорогая, я здорово наглотался воды, но сейчас, когда нет этой ужасной боли, я чувствую себя как в раю. Она попыталась ответить, но не могла. — Теперь мне хорошо, — повторил он. — Давай отдохнем. Ты тоже ляг, чтобы отдышаться. И, лежа рядом на спине, они полчаса отдыхали на волнах кроткого прибоя Канака. Первой, оправившись, заговорила Ида Бартон. — Ну как ты себя чувствуешь, мой дорогой? — спросила она. — Так, как будто по мне прошел паровой каток, — отвечал он. — А ты, моя бедняжка? — А я чувствую, что я самая счастливая женщина на свете. Я так счастлива, что готова плакать, только не хочется. Ты меня ужасно напугал. Одно время мне казалось, что я могу тебя потерять. У Ли Бартона радостно забилось сердце. Ни слова о том, что она сама могла погибнуть! Так вот она, подлинная, испытанная любовь, великая любовь, когда забываешь себя, помня только о любимом. — А я — самый гордый человек на свете, — сказал он, — потому что моя жена — самая храбрая женщина на свете. — Храбрая! — возмутилась она. — Я же тебя люблю. Я и не знала, как я тебя люблю, пока мне не показалось, что я тебя теряю. А теперь давай двинемся к берегу. Я хочу побыть с тобой вдвоем, чтобы ты обнял меня, а я тебе рассказала, как ты мне дорог и всегда будешь дорог. Еще через полчаса они без единой передышки доплыли до берега и пошли к купальне по твердому мокрому песку, среди публики, бездельничающей на пляже. — Что это вы там делали? — окликнул их один из капитанов яхт-клуба. — Просто дурачились? — Вот именно, — с улыбкой отвечала Ида Бартон. — Вы же знаете, мы типичные деревенские дурачки, — подтвердил ее муж. А вечером, отказавшись от очередного приглашения, они сидели, обнявшись, в большом кресле у себя на балконе. — Санни уезжает завтра в двенадцать часов, — сказала Ида, словно бы без всякой связи с предыдущим разговором. — Он едет в Малайю посмотреть, как там поживает его Каучуковая и Лесная компания. — А я и не слышал, что он покидает нас, — едва выговорил от удивления Ли. — Я первая об этом узнала, — объяснила Ида. — Он сказал мне только вчера вечером. — На балу? Ида кивнула. — Немножко неожиданно это получилось? — Очень неожиданно. — Ида отодвинулась от мужа и выпрямилась в кресле. — Я хочу рассказать тебе про Санни. У меня никогда не было от тебя настоящих тайн. Я не хотела тебе рассказывать. Но сегодня, в прибое Канака, я подумала, что, если мы погибнем, между нами останется что-то недосказанное. Она замолчала, и Ли, предчувствуя, что последует дальше, не стал ей помогать, а только сжал ее пальцы. — Санни… ну, он увлекся мной. — Голос ее дрогнул. — Ты, конечно, это заметил. И… и вчера вечером он просил меня уехать с ним. Но я совсем не в этом хотела покаяться… Ли Бартон молча ждал. — Я хотела покаяться в том, — продолжала она, — что я совсем на него не рассердилась. Мне было только очень грустно и очень жаль его. Все дело в том, что я и сама немножко… вернее, совсем не немножко, увлеклась им. Потому я вчера вечером и была к нему так снисходительна. Я ведь не дура. Я знала, что это случится. И мне — знаю, знаю, я слабая, тщеславная женщина, — мне было приятно, что такой человек из-за меня потерял голову. Я его поощряла. Мне нет оправдания Если б я его не поощряла, того, что было вчера, не случилось бы. Это не он, а я виновата, что он звал меня уехать. А я сказала — нет, это невозможно, а почему — ты сам понимаешь, я и повторять не буду. Я обошлась с ним ласково, очень ласково. Я позволила ему обнять меня, не ушла от него и первый раз — потому что это был и самый, самый последний раз, — позволила ему поцеловать меня, а себе — ответить на его поцелуй. Я знаю, ты поймешь — это было прощание, Я ведь не любила Санни. И не люблю. Я всегда любила тебя, только тебя. Она умолкла и в ту же минуту почувствовала, что рука мужа обхватила ее плечи и мягко притянула ее ближе. — Да, ты доставила мне много тревожных минут, — признался он. — Я уже подумал было, что ты от меня уйдешь. И я… — Он запнулся, явно смущенный, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты же знаешь, что ты для меня — единственная женщина Ну и довольно. Она нащупала у него в кармане спички и дала ему огня — закурить давно потухшую сигару. — Да, — проговорил он сквозь окутавшее их облачко дыма, — зная тебя так, как я тебя знаю — всю до конца, — могу только сказать, что мне жаль Санни, очень жаль, он много потерял, но за себя я рад. И… еще одна вещь: через пять лет я что-то расскажу тебе, что-то очень интересное и смешное, про меня и про то, на какие глупости я способен из-за тебя. Через пять лет. Подождешь? — Подожду и пятьдесят лет, — вздохнула она и крепче прижалась к нему.
ДИТЯ ВОДЫ
Перевод С. Займовского
Я лениво слушал бесконечные песни Кохокуму о подвигах и приключениях полубога Мауи, полинезийского Прометея, выудившего сушу из пучин океана прикрепленной к небу удочкой, поднявшего небо, под которым раньше люди ходили на четвереньках, не имея возможности выпрямиться, остановившего солнце с его шестнадцатью перепутанными ногами и заставившего его медленнее двигаться по небу; очевидно, солнце было членом профессионального союза и признавало шестичасовой рабочий день, тогда как Мауи стоял за открытый цех, за двенадцатичасовой рабочий день. — А вот это, — говорил Кохокуму, — из семейной меле королевы Лилиукалани:
Глен Эллен.2 октября 1916.
МАЛЕНЬКИЙ СЧЕТ СУИЗИНУ ХОЛЛУ
Перевод М. Литвиновой-Белосельской
I
Окинув еще раз долгим взглядом безбрежную синеву моря, Гриф вздохнул, слез с шаткого салинга и стал медленно спускаться по вантам на палубу. — Мистер Сноу, — обратился он к молодому помощнику капитана, встретившему его тревожным взглядом, — атолл Лю-Лю, очевидно, на дне морском. Больше ему быть негде, если есть в навигации хоть капля здравого смысла. Ведь мы второй раз проходим над ним, вернее над тем местом, где ему полагается быть. Либо я совсем забыл, чему меня учили, либо хронометр врет. — Это хронометр, — поспешил уверить капитана Сноу. — Ведь я независимо от вас проводил наблюдения и получил те же результаты. — Да, — уныло кивнул головой Гриф, — и там, где у вас Сомнеровы линии пересекаются и у меня тоже, — должен находиться центр атолла Лю-Лю. Значит, хронометр не в порядке. Зубец сорвался или что-нибудь в этом роде. Он быстро подошел к поручням, взглянул на пенистый след за кормой и вернулся назад. «Дядя Тоби», подгоняемый свежим попутным ветром, шел девять-десять узлов. — Приведите шхуну к ветру, мистер Сноу. Убавьте паруса. Будем лавировать двухчасовыми галсами. Небо заволакивается. Определиться по звездам ночью вряд ли удастся. Определим широту завтра, выйдем на широту атолла Лю-Лю и будем идти по ней, пока не наткнемся на остров. Вот как поступали прежде бывалые моряки. Широкая, как бочка, с тяжелым рангоутом, высокими бортами и тупым, почти голландским, носом, шхуна «Дядя Тоби» была самой тихоходной, но зато и самой надежной и простой в управлении из шхун Дэвида Грифа. Она совершала рейсы между островами Банкса и Санта-Крус, а также ходила к отдаленным атоллам, лежащим к северо-западу, откуда Гриф вывозил копру, черепаху, а случалось и тонну-другую жемчужных раковин, скупаемых для него туземными агентами. Накануне отплытия жестокий приступ лихорадки свалил капитана, и Гриф сам повел шхуну в очередное полугодичное плавание. Он решил начать с наиболее отдаленного атолла Лю-Лю, но сбился с пути и теперь блуждал в открытом море с испорченным хронометром.II
В эту ночь не было видно ни одной звезды. На другой день солнце не появилось совсем. Знойный влажный штиль, порой прерываемый сильными шквалами и ливнями, навис над морем. Чтобы не забираться слишком далеко против ветра, шхуна легла в дрейф. Так прошло четверо суток. Небо все время было затянуто облаками. Солнце исчезло, а звезды если и появлялись, то мерцали так тускло и слабо, что нечего было и думать определиться по ним. Теперь уж было ясно, что стихии готовы разыграться, — самый неопытный новичок понял бы это. Взглянув на барометр, который упорно показывал 29,90, Гриф вышел на палубу и столкнулся с Джеки-Джеки, чье лицо было так же хмуро и пасмурно, как небо и воздух. Джеки-Джеки служил на шхуне в качестве не то боцмана, не то второго помощника, командуя смешанным канакским эки-пажем. — Большой будет буря, — сказал он. — Я пять, шесть раз видел большой буря. Начало всегда такой. Гриф кивнул. — Приближается ураган, Джеки-Джеки. Барометр скоро начнет падать. — Да, — согласился боцман. — Очень сильно дуть будет. Минут через десять на палубу вышел Сноу. — Начинается, — сказал он. — Уже двадцать девять, восемьдесят пять. Барометр колеблется. Чувствуете, жарища какая? — Он отер со лба пот. — Мутиг меня что-то. Завтрак обратно просится. Джеки-Джеки усмехнулся. — Моя тоже, весь нутро ходит. Это к буре. Ничего, «Дядя Тоби» хорош корабль. Выдержит. — Поставьте штормовой трисель на грот-мачте и штормовой кливер, — обратился Гриф к помощнику. — Возьмите все рифы на основных парусах, прежде чем убирать их, и закрепите двойными сезнями. Кто знает, что может случиться! Через час барометр упал до 29,70. Духота стала еще невыносимее, мертвый штиль продолжался. Помощник капитана, совсем молодой человек, не умел терпеливо ждать. До этого он беспокойно шагал по палубе, но тут вдруг остановился и потряс поднятыми кулаками. — Где этот чертов ураган! Чего он медлит! Пусть уж самое худшее, только бы скорее! Веселенькая история! Курса не знаем, хронометр испорчен, да еще нате вам — ураган, а ветра все нету! Загроможденное тучами небо стало медно-красным, как внутренность огромного раскаленного котла. Никто не остался внизу, все вышли на палубу. На корме и на носу толпились туземные матросы, испуганно шептались и с опаской поглядывали на грозное небо и такое же грозное море, катившее длинные низкие маслянистые волны. — Как нефть с касторкой, — буркнул помощник капитана, плюнув с отвращением за борт. — Мать любила пичкать меня такой гадостью в детстве. Господи, темно-то как! Зловещее медное зарево исчезло. Тучи сгустились и медленно поползли вниз, стало темно, как в сумерках. Дэвид Гриф хорошо знал повадки ураганов, однако он достал «Штормовые правила» и снова их перечитал, напрягая глаза в этом призрачном освещении. Нет, делать ничего не полагалось, только лечь в дрейф и ждать ветра, тогда можно будет определить, где находится центр урагана, неотвратимо надвигавшегося откуда-то из мрака. Ураган налетел в три часа дня, когда барометр показывал 29,45. О его приближении можно было судить по волнам. Море вдруг потемнело и зарябило белыми барашками. Сперва это был просто свежий ветер, не набравший еще полной силы. Паруса «Дяди Тоби» наполнились, и он пошел в полветра со скоростью четыре узла. — Не много же после такой подготовки, — иронически заметил Сноу. — Да, — согласился Джеки-Джеки, — этот ветер, он маленький мальчик. Но скоро будет большой мужчина. Гриф приказал поставить фок, не отдавая рифов. И «Дядя Тоби» ускорил ход под напором усиливающегося ветра. Предсказание Джеки-Джеки скоро сбылось. Ветер стал «большим мужчиной». Но на этом он не остановился. Он дул и дул, затихая на миг перед новыми, все более яростными порывами. Наконец поручни «Дяди Тоби» почти совсем скрылись под водой. По палубе заходили пенные волны — вода не успевала уходить через шпигаты. Гриф не спускал глаз с барометра, который продолжал падать. — Центр урагана где-то к югу от нас, — сообщил он помощнику. — Мы идем прямо наперерез ему. Надо лечь на обратный курс. Тогда, если я прав, барометр начнет подниматься. Уберите фок. «Дядя Тоби» не может нести столько парусов. Приготовиться к повороту. Когда все было готово, «Дядя Тоби» повернул и стремительно понесся к северу сквозь мрак и бурю. — Как в кошки-мышки играем, — обратился Гриф к помощнику спустя некоторое время. — Ураган описывает огромную дугу. Вычислить ее невозможно. Успеем проскочить, или центр урагана нас настигнет? Все зависит от размеров кривой. Барометр пока, слава богу, стоит на месте. Но идти нам больше нельзя, волна слишком велика, надо лечь в дрейф. Нас и так будет относить к северу. — Я думал, уж я-то знаю, что такое ветер, — прокричал на другое утро Сноу на ухо капитану. — Но это не ветер. Это черт знает что. Это невообразимо. В порывах — до ста миль в час. Ничего себе, а? И рас-сказать-то никому нельзя, не поверят. А волна! Посмотрите! Не первый год плаваю, а такого не видывал. Наступил день, и солнце, надо думать, взошло в положенное ему время, но и час спустя после восхода шхуну все еще окутывали густые сумерки. По океану ходили исполинские горы. Меж ними разверзались изумрудные долины шириной в треть мили. На их пологих склонах, несколько защищенных от ветра, грядами теснились мелкие волны в белых пенных шапках. Но гребни огромных валов были без белой оторочки — ветер мгновенно срывал с них закипавшую пену и носил ее над морем, забрасывая выше самых высоких мачт. — Худшее позади, — решил Гриф. — Барометр поднимается. Ветер скоро спадет, ну а волна, понятно, станет еще больше. Пойду-ка я теперь вздремну. А вы, Сноу, следите за ветром. Он наверняка будет меняться. Разбудите меня, когда пробьет восемь склянок. После полудня волнение достигло апогея, а ветер, изменив направление, превратился в обыкновенный крепкий бриз. Как раз в это время Джеки-Джеки заметил вдали полузатопленную шхуну. «Дядя Тоби», дрейфуя, прошел наперерез мимо ее носа, так что разглядеть название было трудно. А к вечеру они наткнулись на небольшую, наполовину затонувшую шлюпку. На ее носу белели буквы: «Эмилия Л. № 3» — Сноу разглядел их в бинокль. — Эта шхуна с котиковых промыслов, — объяснил Гриф. — И что ей понадобилось в здешних водах, ума не приложу. — Клад, может быть, искать вздумали? — предположил Сноу. — Помните «Софи Сатерленд» и «Германа»? Тоже были котиковые шхуны. А потом их в Сан-Франциско зафрахтовали какие-то, с картами в кармане, из тех, что всегда точно знают, и куда ехать и где искать, а прибудут на место — и все оказывается чепухой.III
Всю ночь «Дядю Тоби» швыряло, как скорлупку, по уже затихающим, но все еще огромным волнам. Ветра не было, это лишало шхуну устойчивости. Только под утро, когда всем на борту казалось уже, что у них душа с телом расстается, задул небольшой ветерок. Отдали рифы. К полудню волнение улеглось, облака поредели, выглянуло солнце. Наблюдение дало два градуса пятнадцать минут южной широты. Определить долготу испорченным хронометром нечего было и думать. — Мы сейчас где-то в пределах полутора тысяч миль на линии этой широты, — обратился Гриф к помощнику, склонившемуся вместе с ним над картой. — Атолл Лю-Лю где-нибудь к югу. А в этой части океана пусто, хоть шаром покати, ни островка, ни рифа, по которому бы можно отрегулировать хронометр. Единственное, что остается делать… — Земля, капитан! — крикнул боцман, наклоняясь над трапом. Гриф взглянул на сплошное голубое пятно карты, свистнул от удивления и бессильно откинулся на спинку стула. — Ну и ну! — проговорил он наконец. — Здесь не должно быть земли. Вот так плавание! Бред какой-то! Будьте так добры, мистер Сноу, подите узнайте, что там стряслось с Джеки-Джеки, с ума он, что ли, сошел! — А ведь верно, земля, — раздался через минуту голос помощника. — Видно с палубы… Верхушки пальм… Какой-то атолл… Может, это все-таки Лю-Лю? Гриф вышел на палубу, взглянул на резную бахрому пальм, которые, казалось, вставали прямо из воды, и покачал головой. — Приведите шхуну круто к ветру, — сказал он. — Пойдем на юг. Если остров тянется в этом направлении, попадем в его юго-западный угол. Пальмы были, по-видимому, совсем недалеко, раз их было видно даже с низкой палубы «Дяди Тоби». И действительно, скоро из воды вынырнул небольшой плоский островок. Пальмы, росшие на нем в изобилии, ясно обозначали круг атолла. — Красивый остров! — воскликнул Сноу. — Правильный круг, миль восемь-девять в диаметре. Интересно, есть ли вход в лагуну? Как знать, может, мы новый остров открыли. Они пошли короткими галсами вдоль западной стороны острова, то приближаясь к омываемой бурунами коралловой гряде, то отходя от нее. Канак, смотревший с мачты поверх пальмовых крон, закричал, что видит в самой середине лагуны небольшой островок. — Знаю, о чем вы сейчас думаете, — обратился вдруг Гриф к помощнику. Сноу что-то бормотал, покачивая головой; теперь он с сомнением и в то же время вызывающе поглядел на хозяина. — Вы думаете, что вход в лагуну на северо-западе, — продолжал Гриф, словно отвечая выученный урок. — Ширина прохода два кабельтова. На северном берегу три одиночные пальмы, на южном — панданусы. Атолл представляет собой правильный круг диаметром в восемь миль. В центре островок. — Да, вы правы, я именно об этом и думал, — признался Сноу. — А вон и вход в лагуну, как раз там, где ему полагается быть. — И три пальмы, — почти шепотом произнес Сноу, — и панданусы. Если увидим ветряк, значит, это и есть остров Суизина Холла. Но нет, не может быть. Десять лет его ищут, этот остров, и не могут найти. — Говорят, Суизин Холл сыграл с вами скверную шутку. Сноу кивнул. — Да. Поэтому я и служу у вас. Он разорил меня. Это был сущий грабеж. Я получил наследство и на первую же выплату купил в Сиднее на аукционе «Каскад» — судно, потерпевшее кораблекрушение. — Он разбился у острова Рождества? — Да. Ночью налетел на берег и прочно засел на отмели. Пассажиров и почту сняли, а груз остался. На те деньги, что у меня еще были, я купил маленькую шхуну, а уж чтобы снарядить ее, пришлось ждать окончательного расчета с душеприказчиками. Что же, вы думаете, сделал Суизин Холл? Он тогда был в Гонолулу. Взял да и отправился нимало не медля на остров Рождества. У него не было абсолютно никаких прав на «Каскад» и никаких документов. Но когда я прибыл туда, то нашел только остов да машину. А «Каскад» вез партию шелка. И она даже ни капельки не подмокла. Я позже узнал об этом от его второго помощника. Да, Холл здорово поживился на этом деле. Говорят, выручил шестьдесят тысяч долларов. Сноу дернул плечами и мрачно уставился на сияющую гладь лагуны, где в лучах полуденного солнца плясали маленькие веселые волны. — «Каскад» по всем законам принадлежал мне. Я купил его на аукционе. Все поставил на карту и все потерял. Шхуна пошла на расплату с командой и торговцами, предоставившими мне кредит. Я заложил часы и секстант и нанялся кочегаром. Потом получил работу на Новых Гебридах на восемь фунтов в месяц. Попробовал завести собственное дело, прогорел. Поступил на вербовочное судно, ходившее к Танну и дальше, на Фиджи. Последнее время работал надсмотрщиком на немецких плантациях за Апией. Теперь вот плаваю на «Дяде Тоби». — А вы встречались когда-нибудь с Суизином Холлом? Сноу отрицательно покачал головой. — Ну так сегодня встретитесь. Смотрите, вон и мельница. Выйдя из прохода, они увидали поросший лесом островок. Сквозь гущу пальм ясно виднелся высокий голландский ветряк. — Похоже, что на острове никого нет. А то бы вам удалось, наконец, свести с ним счеты. Лицо Сноу приняло злобное выражение, кулаки сжались. — Судом от него ничего не добьешься. Он слишком богат. Но вздуть его я могу на все шестьдесят тысяч. Эх, хотел бы я, чтобы он был дома! — Признаться, и я тоже, — одобрительно усмехнулся Гриф. — Описание острова вам известно от Бау-Оти? — Да, как и всем. Беда только в том, что Бау-Оти не знал ни широты, ни долготы острова. Где-то далеко за островами Гилберта — вот все, что он мог сказать. Интересно, где он теперь? — Последний раз я видел его год назад на Таити. Он собирался наняться на судно, которое шло в рейс к Паумоту. Ну вот мы и подходим. Бросай лот, Джеки-Джеки. Мистер Сноу, приготовьтесь отдать якорь. По словам Бау-Оти, якорное место находится в трехстах ярдах от западного берега, глубина девять сажен, к юго-востоку коралловые отмели. Да вот и они. Джеки-Джеки, сколько там у тебя? — Десять сажен. — Отдайте якорь, Сноу. «Дядя Тоби» развернулся на якоре, паруса поползли вниз, матросы-канаки бросились к фока-фалам и шкотам.IV
Вельбот причалил к небольшой пристани, сложенной из обломков коралла, и Дэвид Гриф с помощником спрыгнули на берег. — Нигде ни души, — сказал Гриф, направляясь по песчаной дорожке к бунгало. — Но я чувствую запах, очень хорошо мне знакомый. Где-то тут идет работа, если мой нос не обманывает меня. Лагуна полна перламутровых раковин, и, поверьте, их мясо гниет не в тысяче миль отсюда. Чувствуете, какая вонь? Жилище Суизина Холла было мало похоже на обычное тропическое бунгало. Это было здание в миссионерском стиле. Решетчатая дверь вела в большую гостиную, соответственно убранную. Пол был устлан искусно сплетенными самоанскими циновками. Был здесь бильярд, несколько кушеток, удобные мягкие сиденья в оконных нишах. Столик для рукоделия и рабочая корзинка с начатой французской вышивкой, из которой торчала иголка, говорили о присутствии женщины. Окружавшая дом веранда и шторы на окнах превращали слепящий блеск тропического солнца в прохладное матовое сияние. Внимание Грифа привлекли переливы перламутровых кнопок. — Ого! Да здесь и скрытое освещение. Аккумуляторы, питаемые ветряным двигателем, — догадался он и нажал одну из кнопок. Вспыхнули невидимые лампы, и рассеянный золотистый свет наполнил комнату. Вдоль стен тянулись полки, уставленные книгами. Гриф просмотрел названия. Для моряка и искателя приключений он был довольно начитанным человеком, но и его удивило многообразие интересов и широта кругозора Суизина Холла. Он увидел на полках многих своих старых друзей, но среди них оказались и такие книги, о которых Гриф знал только понаслышке. Здесь стояли полные собрания сочинений Толстого, Тургенева и Горького, Купера и Марка Твена, Золя и Сю, Флобера, Мопассана и Поль де Кока. С любопытством перелистал он Мечникова, Вейнингера и Шопенгауэра, Эллиса, Лидстона, Крафт-Эббинга и Фореля. Когда Сноу, осмотрев весь дом, вернулся в гостиную, он застал Грифа с «Распространением человеческих рас» Вудрофа в руках. — Эмалированная ванна! Душ! Королевские покои, да и только! Мои денежки тоже небось пошли на эту роскошь. Но в доме кто-то есть. Я нашел в кладовой только что раскрытые банки с молоком и маслом и свежее черепаховое мясо. Пойду-ка еще погляжу. Гриф тоже отправился осматривать дом. Отворив дверь на другом конце гостиной, он попал в комнату, которая, очевидно, служила спальней женщине. В дальнем углу виднелась дверь из проволочной сетки, а за нею веранда, которую затеняли решетчатые жалюзи. Там на кушетке спала женщина: в мягком полусвете она показалась Грифу очень красивой — брюнетка, похожая на испанку. По цвету лица прекрасной незнакомки Гриф решил, что она недавно в тропиках. Бросив один-единственный взгляд на спящую, он поспешил удалиться на цыпочках. В гостиной в эту минуту опять появился Сноу; он тащил за руку старого сморщенного чернокожего, который гримасничал от страха и знаками старался дать понять, что он немой. — Я нашел его спящим в конурке за домом, разбудил и приволок сюда. Кажется, повар, но я не мог добиться от него ни слова. Ну, а вы что нашли? — Спящую царевну! Ш-ш-ш, кто-то идет. — Ну, если это Холл!.. — прорычал Сноу, сжимая кулаки. Гриф покачал головой. — Только без драки. Здесь женщина. Если это Холл, я уж постараюсь доставить вам случай расквитаться с ним прежде, чем мы уедем. Дверь отворилась, и на пороге показался рослый и грузный мужчина. На поясе у него болтался длинный тяжелый кольт. Он бросил на них подозрительный взгляд, но тут же его лицо расплылось в приветливой улыбке. — Милости просим, путешественники! Но скажите на милость, как вам удалось найти мой остров? — А мы, видите ли, сбились с пути, — ответил Гриф, пожимая протянутую руку. — Суизин Холл, — представился хозяин и повернулся, чтобы приветствовать Сноу. — Должен сказать, что вы мои первые гости. — Так это, значит, и есть тот таинственный остров, о котором столько лет идут разговоры во всех портах. Ну ладно, теперь-то я знаю, как вас найти. — Как? — быстро переспросил Холл. — Очень просто. Нужно сломать корабельный хронометр, попасть в ураган, а затем смотреть, где появятся из моря кокосовые пальмы. — Простите, а ваше имя? — спросил, слегка посмеявшись шутке, Холл. — Энстей, Фил Энстей, — без запинки ответил Гриф. — Иду на «Дяде Тоби» с островов Гилберта на Новую Гвинею и пытаюсь поймать свою долготу. А это мой помощник, мистер Грей, куда более опытный мореход, чем я, но на этот раз и он дал маху. Гриф сам не знал, почему ему вздумалось солгать. Какая-то внутренняя сила толкнула его на это, и он поддался внушению. Он смутно чувствовал, что здесь что-то неладно, но что — не мог разобрать. Суизин Холл был круглолицый толстяк с неизменной улыбкой на устах и лукавыми морщинками в уголках глаз. Но Гриф еще в ранней юности познал, как обманчива бывает подобная внешность и что может скрываться под веселым блеском голубых глаз. — Что вы делаете с моим поваром? Своего потеряли и думаете моего похитить? — спросил Холл. — Отпустите беднягу, а не то быть вам без ужина. Жена моя здесь и будет рада с вами познакомиться. Сейчас поужинаем. Жена, правда, зовет это обедом и вечно бранит меня за невежество. Но что поделаешь? Я человек старомодный. Мои всегда обедали в полдень, и я не могу забыть привычек детства. Не хотите ли помыться? Что касается меня, я не прочь. Взгляните, на кого я похож. Весь день работал, как собака, с ловцами, раковины достаем. Да вы и сами, верно, догадались по запаху.V
Сноу ушел, сославшись на дела. Помимо нежелания разделить трапезу с человеком, ограбившим его, он спешил на шхуну предупредить команду о выдумке Грифа. Гриф вернулся на «Дядю Тоби» только в одиннадцать. Помощник ждал его с нетерпением. — Странное что-то творится на острове Суизина Холла, — сказал Гриф, в раздумье покачивая головой. — Не знаю, в чем дело, но чувствую — тут что-то не так. Каков из себя Суизин Холл? Сноу пожал плечами. — Этот тип на берегу в жизни не покупал тех книг, что стоят у него на полках, — убежденно продолжал Гриф. — И придумать такую тонкую штуку, как скрытое освещение, он тоже не способен. Он только разговаривает сладко, а внутри груб, как конская скребница. Плут с елейными манерами. А те молодцы, что при нем состоят, Уотсон и Горман — они пришли тотчас же после вашего ухода, — это уж сущие пираты. Им лет под сорок каждому. Битые-перебитые, колючие, как ржавые гвозди, только вдвое опасней. Настоящие головорезы с кольтами за поясом. Совсем, казалось бы, неподходящая компания для Суизина Холла. Но женщина! Леди с головы до пят, уверяю вас. Хорошо знает Южную Америку и Китай. Уверен, что испанка, хотя по-английски говорит как на родном языке. Много путешествовала. Мы говорили с ней о бое быков. Она его видала в Мексике, Гваякиле и Севилье. Небезызвестен ей, между прочим, и котиковый промысел. И тут есть одна странность, которая меня смущает. Она любительница музыки, а в доме нет инструмента. Почему бы Суизину Холлу не завести для нее рояль? Ведь дом обставлен как дворец. И еще: она живая, разговорчивая. И Холл весь вечер не спускал с нее глаз, сидел как на иголках, вмешивался в разговор, сам старался его направлять. Вы не знаете, Суизин Холл женат? — Убей меня бог, не знаю. Мне и в голову не приходило этим интересоваться. — Он представил ее мне как миссис Холл. Самого его Уотсон и Горман тоже зовут Холлом. Прелюбопытная парочка эти двое. Очень все это странно. Не понимаю. — Ну и что же вы думаете делать? — спросил Сноу. — Да так, пожить здесь немного, почитать кое-что, тут есть интересные книжки. А вы завтра утречком спустите-ка стеньгу, да хорошо бы и все остальное пересмотреть. Как-никак мы выдержали ураган. Займитесь заодно ремонтом всего Такелажа. Разберите все на части, да и возитесь себе на здоровье. Этак, знаете, не спеша.VI
На следующий день подозрения Грифа получили новую пищу. Съехав ранним утром на берег, он побрел наперерез через остров к бараку, где жили ловцы, и подошел как раз в тот момент, когда они садились в лодки. С удивлением отметил он подавленное настроение рабочих; канаки — веселый народ, но эти напоминали партию арестантов. Холл и его помощники тоже были здесь, и Гриф обратил внимание на то, что у каждого за плечами была винтовка. Сам Холл встретил гостя весьма любезно, но Горман и Уотсон смотрели исподлобья и еле поздоровались с ним. Спустя минуту один из канаков, нагнувшись над веслом, многозначительно подмигнул Грифу. Лицо рабочего показалось ему знакомым — как видно, один из тех туземцев, матросов или водолазов, с которыми он встречался во время своих многочисленных разъездов по островам. — Не говори им, кто я, — сказал Гриф по-таитянски. — Ты служил у меня? Канак кивнул головой и открыл было рот, но грозный окрик Уотсона, сидевшего уже на корме, заставил его замолчать. — Простите, пожалуйста, — извинился Гриф. — Мне бы надо знать, что этого делать не полагается. — Ничего, — успокоил его Холл. — Беда с ними, болтают много, а дела не делают. Приходится держать их в ежовых рукавицах. А то и кормежку свою не оправдают. Гриф сочувственно кивнул. — Знаю. У меня у самого команда из канаков. Ленивые свиньи. Палкой их надо подгонять, как негров, иначе и половины работы не сделают. — О чем вы с ним говорили? — бесцеремонно вмешался Горман. — Спросил, много ли тут раковин и глубоко ли приходится нырять. — Раковин довольно, — ответил за канака Холл. — Работаем на глубине десяти сажен, недалеко отсюда. Не хотите ли взглянуть? Полдня провел Гриф на воде. Потом завтракал вместе с хозяевами. После завтрака вздремнул в гостиной на диване, почитал, поболтал полчасика с миссис Холл. После обеда сыграл на бильярде с ее мужем. Грифу не приходилось раньше сталкиваться с Суизином Холлом, но слава последнего как искуснейшего игрока на бильярде облетела все порты от Левуки до Гонолулу. Однако сегодняшний противник Грифа оказался довольно слабым игроком. Его жена гораздо лучше владела кием. Вернувшись на «Дядю Тоби», Гриф растолкал Джеки-Джеки, объяснил, где находятся бараки рабочих, и велел ему незаметно сплавать туда и поговорить с канаками. Джеки-Джеки вернулся через два часа. Весь мокрый стоял он перед Грифом и мотал головой. — Очень странно. Все время там один белый с большим ружьем. Лежит в воде, смотрит. Потом, может быть, полночь, другой белый приходит, берет ружье. Тогда один идет спать, другой караулит с ружьем. Плохо. Нельзя видеть канака, нельзя говорить. Моя вернулся. — Черт возьми, — сказал Гриф, — сдается мне, тут не одними раковинами пахнет. Эти трое все время следят за канаками. Наш хозяин такой же Суизин Холл, как и я. Сноу даже свистнул, так поразила его вдруг пришедшая ему в голову мысль. — Понимаю! — воскликнул он. — Знаете, что я подумал? — Я вам скажу, — ответил Гриф. — Вы подумали, что «Эмилия Л.» их судно. — Вот именно. Они добывают и сушат раковины, а шхуна ушла за рабочими и продовольствием. — Да. так оно, очевидно, и есть. — Гриф взглянул на часы и стал собираться спать. — Он — моряк, вернее, все трое моряки. Но они не с островов. Они чужие в этих водах. Сноу опять свистнул. — А «Эмилия Л.» погибла со всей командой. Кому это и знать, как не нам. Придется, значит, этим молодцам ждать возвращения настоящего Суизина Холла. Тут он их и накроет. — Или они захватят его шхуну. — Дай-то бог! — злорадно проворчал Сноу. — Пусть-ка и его кто-нибудь ограбит. Эх, был бы я на их месте! Сполна бы расчелся.VII
Прошла неделя, за которую «Дядя Тоби» подготовился к отплытию, а Гриф сумел рассеять все подозрения, какие могли возникнуть в душе его гостеприимных хозяев. Даже Горман и Уотсон больше не сомневались, что перед ними доподлинный Фил Энстей. Всю неделю Гриф упрашивал Холла сообщить ему долготу острова. — Как же я уйду отсюда, не зная пути, — взмолился он под конец. — Я не могу отрегулировать хронометр без вашей долготы. Холл, смеясь, отказал. — Такой опытный моряк, как вы, мистер Энстей, уж как-нибудь доберется до Новой Гвинеи или еще какого-нибудь острова. — А такой опытный моряк, как вы, мистер Холл, должен бы знать, что мне нетрудно будет найти ваш остров по его широте, — отпарировал Гриф. В последний вечер Гриф, как обычно, обедал на берегу, и ему впервые удалось посмотреть собранный жемчуг. Миссис Холл в пылу беседы попросила мужа принести «красавиц». Целых полчаса показывала она их Грифу. Он искренне восхищался и так же искренне выражал удивление по поводу такой богатой добычи. — Эта лагуна ведь совершенно нетронутая, — объяснил Холл. — Вы сами видите — почти все раковины большие и старые. Но интереснее всего, что самые ценные раковины мы нашли в одной небольшой заводи и выловили за какую-нибудь неделю. Настоящая сокровищница. Ни одной пустой, мелкого жемчуга целые кварты. Но и самые крупные все оттуда. Гриф оглядел их и определил, что самая мелкая стоит не меньше ста долларов, те, что покрупнее, — до тысячи, а несколько самых крупных — даже гораздо больше. — Ах, красавицы! Ах, милые! — приговаривала миссис Холл, нагибаясь и целуя жемчуг. Немного погодя она поднялась и пожелала Грифу спокойной ночи. — До свиданья! — Не до свиданья, а прощайте, — поправил ее Гриф. — Завтра утром мы отплываем. — Как, уже? — протянула она, но в глазах ее мужа Гриф подметил затаенную радость. — Да, — продолжал Гриф, — ремонт окончен. Вот только никак не добьюсь от вашего мужа, чтобы он сообщил мне долготу острова. Но я еще не теряю надежды, что он сжалится над нами. Холл засмеялся и затряс головой. Когда жена вышла, он предложил выпить напоследки. Выпили и, закурив, продолжали беседу. — Во что вы оцениваете все это? — спросил Гриф, указывая на россыпь жемчуга на столе. — Вернее, сколько вам дадут скупщики? — Тысяч семьдесят пять — восемьдесят, — небрежно бросил Холл. — Ну, это вы мало считаете. Я кое-что смыслю в жемчуге. Взять хоть эту, самую большую. Она великолепна. Пять тысяч долларов, и ни цента меньше. А потом какой-нибудь миллионер заплатит зад нее вдвое, после того как купцы урвут свое. И заметьте, что, не считая мелкого жемчуга, у вас тут много крупных, неправильной формы. Целые кучи! А они начинают входить в моду, цена на них растет и удваивается с каждым годом.
Холл еще раз внимательно осмотрел жемчуг, разобрал по сортам и вслух подсчитал его стоимость. — Да, вы правы, все вместе стоит около ста тысяч. — А во сколько вам обошлась добыча? — продолжал Гриф. — Собственный ваш труд, два помощника, рабочие? — Примерно пять тысяч долларов. — Значит, чистых девяносто пять тысяч? — Да, около того. Но почему это вас так интересует? — Просто пытаюсь найти… — Гриф остановился и допил бокал. — Пытаюсь найти справедливое решение. Допустим, я отвезу вас и ваших товарищей в Сидней и оплачу ваши издержки — пять тысяч долларов или, будем даже считать, семь с половиной тысяч. Как-никак вы основательно потрудились. Холл не дрогнул, не шевельнул ни одним мускулом, он только весь подобрался и насторожился. Добродушие, сиявшее на его круглом лице, вдруг угасло, как пламя свечи, когда ее задуют. Смех уже не заволакивал его глаза непроницаемой пеленой, и внезапно из их глубины выглянула темная, преступная душа. Он заговорил сдержанно и негромко: — Что вы, собственно, хотите этим сказать? Гриф небрежно закурил сигару. — Уж, право, не знаю, с чего и начать. Положение довольно затруднительное для вас. Я хочу быть справедливым. Я уже сказал: вы все-таки немало потрудились. Мне бы не хотелось просто отбирать у вас жемчуг. Так что я готов заплатить вам за хлопоты, за потерянное время, за труд. Сомнение на лице мнимого Холла сменилось внезапно уверенностью. — А я-то думал, что вы в Европе, — проворчал он. На миг в глазах его блеснула надежда. — Эй, послушайте, не морочьте голову. Чем вы докажете, что вы Суизин Холл? Гриф пожал плечами. — Подобная шутка была бы неуместной после вашего гостеприимства. Да и второй Суизин Холл неуместен на острове. — Если вы — Суизин Холл, так кто я, по-вашему? Вы, может быть, и это знаете? — Нет, не знаю, — ответил беспечно Гриф, — но хотел бы знать. — Не ваше дело. — Согласен. Выяснять вашу личность не моя обязанность. Но, между прочим, я знаю вашу шхуну, и найти ее хозяина не такое уж мудреное дело. — Как же зовется моя шхуна? — «Эмилия Л.». — Верно. А я — капитан Раффи, владелец и шкипер. — Охотник за котиками? Слыхал, слыхал. Но каким ветром вас занесло сюда? — Деньги были нужны. Котиковых лежбищ почти не осталось. — А те, что на краю света, слишком хорошо охраняются? — Да вроде того. Но вернемся к нашему спору. Я ведь могу оказать сопротивление. Будут неприятности. Каковы ваши окончательные условия? — Те, что я сказал. И даже больше. Сколько стоит ваша «Эмилия»? — Она свое отплавала. Десять тысяч долларов — да и то уже грабеж. Каждый раз в штормовую погоду я боюсь, что обшивка не выдержит и балласт продавит дно. — Уже продавил. Я видел, что ваша «Эмилия» болталась килем кверху после шторма. Допустим, она стоит семь с половиной тысяч долларов. Так вот, я плачу вам пятнадцать тысяч и везу вас до Сиднея. Не снимайте рук с колен. Гриф встал, подошел к нему и отстегнул от его пояса револьвер. — Небольшая предосторожность, капитан. Сейчас я отвезу вас на шхуну. Миссис Раффи я сам обо всем предупрежу и доставлю ее на судно вслед за вами. — Вы великодушный человек, мистер Холл, — сказал Раффи, когда вельбот уже подходил к борту «Дядя Тоби». — Но будьте осторожны с Горманом и Уотсоном. Это сущие дьяволы. Да, между прочим, мне неприятно говорить об этом, но вы ведь знаете мою жену. Я, видите ли, подарил ей четыре или пять жемчужин. Уотсон с Горманом были не против. — Ни слова, капитан, ни слова. Жемчужины принадлежат ей. Это вы, мистер Сноу? Здесь наш друг, капитан Раффи. Будьте добры, возьмите его на свое попечение. А я поехал за его женой.
VIII
Дэвид Гриф что-то писал, сидя за столом в гостиной. За окном чуть брезжил рассвет. Гриф провел беспокойную ночь. Обливаясь слезами, миссис Раффи два часа укладывала вещи. Гормана захватили в постели. Но Уотсон, карауливший рабочих, пытался было оказать сопротивление… Дело не дошло, впрочем, до выстрелов Он сдался, как только понял, что его карта бита. Гормана с Уотсоном в наручниках заперли в каюте помощника. Миссис Раффи расположилась у Грифа, а капитана Раффи привязали к столу в салоне. Гриф дописал последние строчки, отложил перо и перечитал написанное:Суизину Холлу за жемчуг, добытый в его лагуне (согласно оценке)……… 100 000 долларов
Герберту Сноу сполна за судно «Каскад» (в жемчуге, согласно оценке)…… 60000 Долларов
Капитану Раффи жалованье и плата за издержки, связанные с добычей жемчуга……7500 долларов
Капитану Раффи в виде компенсации за шхуну «Эмилия Л.», погибшую во. время урагана………7 500 долларов
Миссис Раффи в подарок пять первоклассных жемчужин (согласно оценке)………1 100 долларов
Проезд до Сиднея четырем персонам по……120 долларов …… 480 долларов
За белила на окраску двух вельботов Суизина Холла………… 9 долларов
Суизину Холлу остаток (в жемчуге, согласно оценке) оставлен в ящике стола в библиотеке ………… 23 411 долларов
__________
100 000 долларов
Гриф поставил свою подпись, дату, помедлил немного и приписал внизу: «Остаюсь должен Суизину Холлу три книги, взятые мною из его библиотеки: Хедсон, «Закон психических явлений», Золя, «Париж», Мэхэн, «Проблемы Азии». Книги, или их полную стоимость, можно получить в конторе вышеупомянутого Грифа, в Сиднее». Гриф выключил свет, взял стопку книг, аккуратно заложил входную дверь на щеколду и зашагал к поджидавшему его вельботу.
ОЧЕРКИ И ПИСЬМА

КАК Я НАЧАЛ ПЕЧАТАТЬСЯ
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Стоит человеку напечатать две-три вещи в журнале или добиться, чтобы какой-нибудь издатель опубликовал его книгу, и все друзья начинают расспрашивать, как ему это удалось. Поэтому вполне естественно сделать вывод, что пристраивание книги или рассказа — процесс весьма интересный. Лично для меня он представлял большой интерес, я бы даже сказал, жизненно важный интерес. В те дни я пролистывал множество журналов и газет, ломая голову над тем, каким образом авторы всего этого умудрились напечататься. Чтобы вы поняли, насколько жизненно необходимо было мне это узнать, скажу, что у меня за душой не было ничего, кроме долгов, что никаких доходов я не получал, но должен был кормить несколько ртов, а моя квартирная хозяйка была бедной вдовой, и ей приходилось отказывать себе в самом необходимом, если я переставал платить за квартиру более или менее регулярно. Вот каково было мое экономическое положение, когда я облекся в боевые доспехи и приступил к осаде журналов. В довершение всего я не имел ни малейшего понятия о том, как это делается. Жил я в Калифорнии, вдали от крупных издательств. Я не знал, как выглядит редактор. Я не знал ни одного человека, которому удалось напечататься, да и вообще никого, за исключением меня самого, кто пытался бы писать, а тем более публиковать написанное. Мне не к кому было обратиться за советом, я не мог воспользоваться чужим опытом. А потому я сек, и принялся писать, чтобы набраться опыта самому. Я писал все — рассказы, статьи, анекдоты, шутки, очерки, сонеты, баллады, триолеты, песни, легкие водевили ямбическим тетраметром и тяжелые трагедии белым стихом. Эти разнообразные творения я засовывал в конверты, прикладывал марку для ответа и опускал конверт в почтовый ящик. О, я был плодовит! День ото дня росла гора моих рукописей, и в конце концов проблема добывания марок стала не менее трудной, чем проблема обеспечения сносной жизни моей вдовствующей квартирной хозяйки. Все мои рукописи возвращались назад. Они возвращались непрерывно. Словно работала бездушная машина. Я опускал рукопись в почтовый ящик. По истечении определенного срока почтальон приносил ее мне обратно. Рукопись сопровождалась стереотипным печатным отказом. Какая-то часть машины, хитрое соединение шестеренок и кривошипов (не мог же это быть живой человек из плоти и крови!), находящееся где-то на другом конце, перекладывало рукопись в другой конверт, извлекало из моего конверта вложенную марку, наклеивало ее и прилагало напечатанный отказ. Так продолжалось несколько месяцев. А я все еще блуждал в потемках. У меня все еще не накопилось ни крупицы опыта. О том, что находит лучший сбыт на литературном рынке — поэзия или проза, шутки или сонеты, рассказы или очерки, — я знал не больше, чем вначале. Правда, у меня уже появились некоторые — весьма туманные и неясные — представления, что минимальная оплата за тысячу слов — десять долларов, что стоит мне опубликовать две-три вещи, и редакторы начнут брать мой товар нарасхват, и что пребывание рукописи в руках редактора столь пустячный срок, как четыре-пять месяцев, вовсе не означает, будто она принята. Признаюсь, что про минимальную оплату в десять долларов за тысячу слов, в которую я свято уверовал, мне довелось прочесть в каком-то воскресном приложении. Кроме того, мне следует признаться и в необыкновенной трогательной скромности: пусть другие, думал я, получают максимальные гонорары, как бы велики они ни были, я же согласен всю жизнь получать минимальную оплату. И как только начну печататься, то буду писать не более трех тысяч слов в день, только пять дней в неделю. Таким образом, у меня останется достаточно времени для отдыха, и я буду зарабатывать шестьсот долларов в месяц, не перегружая книжного рынка. Как я сказал, машина работала несколько месяцев, а затем однажды утром почтальон принес мне письмо — заметьте — не длинный, толстый конверт, а маленькое тоненькое письмецо из журнала. Марочная проблема и проблема платы за квартиру к этому времени приобрели небывалую остроту, и это короткое тонкое письмо из журнала должно было немедленно их разрешить. Не сразу решился я вскрыть письмо. Оно казалось мне священным. Ведь его написал сам редактор. И редактор журнала, который, как я был убежден, принадлежал к числу первоклассных. Я помнил, что послал туда рассказ в четыре тысячи слов. «Сколько же они заплатят?» — спрашивал я себя. «Конечно, гонорар будет минимальный, — отвечал я со свойственной мне скромностью, — то есть сорок долларов». Застраховав себя таким образом от любых разочарований, я вскрыл письмо, дабы прочесть слова, которые, думал я, на всю жизнь огненными буквами врежутся мне в память. Увы! Прошло всего несколько лет, а я уже их забыл. Холоднаяже суть этого письма сводилась к тому, что мой рассказ подходит, будет напечатан в следующем номере и мне заплатят… пять долларов. Пять долларов! Доллар с четвертью за тысячу слов! Тот факт, что я тогда же не умер на месте, убеждает меня, что я обладаю незаурядной душевной стойкостью, которая, вне всякого сомнения, поможет мне прожить долгие годы и в конце концов позволит стать старейшим жителем страны! Пять долларов! Когда? Об этом редактор не писал. А у меня даже марки не было, чтобы согласиться или отказаться, и тут в мою дверь постучала маленькая дочь хозяйки. Обе мои проблемы требовали немедленного разрешения. Было ясно, что минимального гонорара просто не существует. Мне оставалось только идти в кочегары. Я этим уже занимался и зарабатывал больше. И я решил вернуться к этой профессии и вернулся бы, если бы не «Черней кот». Да, «Черный кот». Почтальон принес мне предложение этого журнала: сорок долларов за рассказ в четыре тысячи слов, который был скорее длинен, чем силен, при условии, если я разрешу сократить его наполовину. Это означало не сорок, а двадцать долларов. Разрешу сократить? Я написал, что они могут хоть пополам его разрезать, если только вышлют деньги (что они и сделали с обратной почтой). Что же касается вышеупомянутых пяти долларов, то я их в конце концов получил после опубликования рассказа, больших волнений и неприятных хлопот. Я позабыл о своем решении идти в кочегары и продолжал стучать на пишущей машинке — «капать прилагательными с кончиков пальцев», как образно выразилась одна молодая дама. В заключение этого краткого рассказа о моем опыте я хотел бы дать несколько выстраданных общих советов. Не оставляйте работы, чтобы писать, если вы должны кого-то кормить. За беллетристику платят больше всего, и, если она достаточно хороша, ее легче продать. Хороший анекдот сбывается легче, чем хорошее стихотворение, и в переводе на пот и кровь автора оплачивается куда выше. Избегайте несчастливых концов, всего грубого, трагического, страшного, если хотите увидеть свои писания напечатанными. (Поэтому поступайте не так, как я поступаю, а так, как я говорю.) Юмористические вещи труднее всего сочиняются, легче всего находят сбыт и выше всего оплачиваются. Но писать их способны лишь немногие. Если у вас есть такой дар, то пишите их. И обретете Клондайк, золотую жилу. Посмотрите на Марка Твена! Не спешите еще до завтрака закончить рассказ в шесть тысяч слов. Не пишите слишком много. Лучше как следует попотеть над одним рассказом, чем распыляться на десяток. Не ждите попусту, пока вас посетит вдохновение. Бегите за ним с дубинкой, и, даже если оно вас не посетит, вы все равно обретете достойную ему замену. Установите себе норму и заставляйте себя ежедневно ее выполнять. К концу года в вашем активе окажется больше написанных слов. Изучайте приемы писателей, завоевавших известность. Они овладели инструментами, о которые вы режете пальцы. Они стали мастерами, и в их произведениях можно найти секреты их мастерства. Не ждите, что вас научит какой-нибудь добрый самаритянин, ищите эти секреты сами. Следите, чтобы ваше тело дышало всеми порами, и пищеварение было хорошим. Это, по моему глубокому убеждению, самое важное правило. И пожалуйста, не приводите мне в пример Карлейля. Заведите записную книжку. Путешествуйте с ней, ешьте с ней, спите с ней. Заносите в нее каждую случайную мысль, которая вас посетит. Дешевая бумага попрочнее серого мозгового вещества, и карандашные заметки надежнее памяти. И работайте. Запишите заглавными буквами — РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ все время. Старайтесь познать тайны земли, вселенной, материи и духа, мерцающего в этой материи, во всем — от ничтожной личинки до божества. Под всем этим я подразумеваю РАБОТУ над созданием своей философии жизни. Пусть даже она окажется и ошибочной, главное — иметь эту философию и верить в нее. Вот три главные вещи: ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ, РАБОТА и ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ. К ним я могу, нет, должен добавить четвертую — ИСКРЕННОСТЬ. Без нее первые три ничего не стоят, с ней же вы, быть может, достигнете вершин и займете свое место среди великанов.
ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ
Перевод М. Урнова
Я родился в рабочей среде. Рано познал я восторженность, власть мечты, стремление к идеалам; и добиться желанной цели было надеждой моего детства. Меня окружали грубость, темнота, невежество. И смотрел я больше не вокруг, а вверх. Место мое в обществе было на самом дне. Жизнь здесь не обещала ничего, кроме убожества и уродства тела и духа, ибо тело и дух здесь в равной мере были обречены на голод и муки. Надо мной высилось громадное здание общества, и мне казалось, что выход для меня — это подняться вверх. Проделать этот путь я решил еще в детстве. Там, наверху, мужчины носили черные сюртуки и накрахмаленные рубашки, а женщины одевались в красивые платья. Там же была вкусная еда, и еды было вдоволь. Это для тела. Но там же были и духовные блага. Я верил, что там, наверху, можно встретить бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я знал это потому, что читал развлекательные романы, где все герои, исключая злодеев и интриганов, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в благородстве и доблести. Короче говоря, я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра вновь взойдет на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено все чистое, прекрасное, благородное — все то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения. Но не так-то легко пробиться снизу вверх, в особенности если ты обременен иллюзиями и не лишен идеалов. Я жил на ранчо в Калифорнии, и обстоятельства понуждали меня упорно искать лесенку, по которой я мог бы вскарабкаться наверх. Я рано начал допытываться, сколько дохода приносит денежный вклад, и терзал свои детские мозги, стараясь постичь благодеяния и преимущества этого замечательного человеческого изобретения — сложных процентов. Затем я установил, каковы действующие ставки заработной платы рабочих всех возрастов и каков их прожиточный минимум. На основе собранных сведений я пришел к выводу, что если я немедленно начну действовать и буду работать и копить деньги, то к пятидесяти годам смогу бросить работу и вкусить те блага и радости, которые станут мне доступны на более высокой ступени общественной лестницы. Само собой разумеется, что я твердо решил не жениться и совершенно упустил из виду болезни — этот страшный бич трудового люда. Но жизнь, бившая во мне ключом, требовала большего, чем жалкое существование мелкого скопидома. К тому же десяти лет от роду я стал продавцом газет, и мои планы на будущее стали быстро меняться. Вокруг меня были все те же убожество и уродство, а высоко надо мной — все тот же далекий и манящий рай; но взбираться к нему я решил по другой лестнице — по лестнице бизнеса. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив две газеты за пять центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за десять и таким образом удвоить свой капитал? Я окончательно избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Обманчивые мечты! В шестнадцать лет я в самом деле получил титул «короля». Но этот титул был присвоен мне бандой головорезов и воров, которые называли меня «королем устричных пиратов». К этому времени я уже поднялся на первую ступень лестницы бизнеса. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе две трети добычи и отдавал команде одну треть, хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью я совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж — согласен; но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами — в этом была вся разница, — я пускал в ход револьвер. Но в ту ночь моя команда оказалась в числе тех ротозеев, по адресу которых порою так негодует капиталист, ибо они весьма чувствительно увеличивают непроизводительные расходы и сокращают прибыль Моя команда была повинна и в том и в другом. Из-за ее небрежности загорелся и пришел в полную негодность парус с грот-мачты. О прибыли нечего было и думать, китайские же рыбаки получили чистый доход в виде тех сетей и веревок, которые нам не удалось украсть. Я оказался банкротом, не способным уплатить шестьдесят пять долларов за новый парус. Я поставил свое судно на якорь и, захватив в бухте пиратскую лодку, отправился в набег вверх по реке Сакраменто. Пока я совершал это плавание, другая шайка пиратов, орудовавшая в бухте, разграбила мое судно. Пираты утащили с него все, вплоть до якорей. Некоторое время спустя я нашел его остов и продал за двадцать долларов. Итак, я скатился с той первой ступени, на которую было взобрался, и уже никогда больше не вступал на лестницу бизнеса. С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты. У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я был матросом, грузчиком, бродягой; работал на консервном заводе, на фабриках, в прачечных; косил траву, выколачивал ковры, мыл окна. И никогда не пользовался плодами своих трудов! Я смотрел, как дочка владельца консервного завода катается в своей коляске, и думал о том, что и мои мускулы — в какой-то степени — помогают этой коляске плавно катиться на резиновых шинах. Я смотрел на сынка фабриканта, идущего в колледж, и думал о том, что и мои мускулы — в какой-то степени — дают ему возможность пить вино и веселиться с друзьями. Но меня это не возмущало. Я считал, что таковы правила игры. Они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых. Я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Я не боялся работы. Я любил тяжелый труд. Я напрягу все силы, буду работать еще упорней и в конце концов стану столпом общества. Как раз в это время — на ловца и зверь бежит — я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он, в еще большей степени, хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию, — в действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника. А дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне пятьдесят долларов ежемесячно. Двое рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по сорок долларов каждый. Я выполнял их работу за тридцать долларов в месяц. Мой хозяин заездил меня чуть не до смерти. Можно любить устриц, но, если их есть сверх меры, почувствуешь к ним отвращение. Так вышло и со мной. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. И я бежал от работы. Я стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяние, колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я родился в рабочей среде и вот теперь, в восемнадцать лет, стоял ниже того уровня, с которого начал. Я очутился в подвальном этаже общества, в преисподних глубинах нищеты, о которых не очень приятно да и не стоит говорить. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества, в душном склепе, на свалке нашей цивилизации. Эти подвалы в здании общества предпочитают не замечать. Недостаток места заставляет меня умолчать о них, и я скажу лишь, что то, что я там увидел, повергло меня в ужас. Потрясенный, я стал размышлять. И наша сложная цивилизация предстала предо мной в своей обнаженной простоте. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крове. Для того чтобы добыть кров и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец продавал обувь, политик — свою совесть, представитель народа — не без исключения, разумеется, — народное доверие; и почти все торговали своей честью. Женщины — и падшие, и связанные священными узами брака — готовы были торговать своим телом. Все было товаром, и все люди — продавцами и покупателями. Рабочий мог предложить для продажи только один товар — свои мускулы. На его честь на рынке не было спроса. Он мог продавать и продавал только силу своих мускулов. Но этот товар отличался одним весьма существенным свойством. Обувь, доверие и честь можно было обновить. Запас их был неиссякаем. Мускулы же нельзя было обновить. По мере того как торговец обувью распродавал свой товар, он пополнял запасы его. Но рабочий не имел возможности восстановить запас своей мускульной силы. Чем больше он продавал, тем меньше у него оставалось. Только этот товар и был у него, и с каждым днем запас его уменьшался. И наступал день, — если только рабочий доживал до него, — когда он продавал остатки своего товара и закрывал лавочку. Он становился банкротом, и ему ничего не оставалось, как спуститься в подвальный этаж общества и умереть с голоду. Затем я узнал, что человеческий мозг тоже является товаром. И что этот товар также имеет свои особенности. Торговец мозгом в пятьдесят-шестьдесят лет находится в расцвете сил, и в это время изделия его ума ценятся дороже, чем когда-либо. А рабочий уже к сорока пяти — пятидесяти годам истощает свои запас сил. Я находился в подвальном этаже общества и считал это место не подходящим для жилья. Водопровод и канализация здесь были в антисанитарном состоянии, дышать было нечем. Если уж мне нельзя жить в бельэтаже, то стоило попытаться попасть хотя бы на чердак Правда, рацион там тоже был скудный, но зато воздух чистый. Я решил не продавать больше мускульную силу, а торговать изделиями своего ума. Тогда началась бешеная погоня за знаниями. Я вернулся в Калифорнию и погрузился в чтение книг. Готовясь к тому, чтобы стать торговцем мозгом, я невольно углубился в область социологии. И тут, в книгах определенного толка, я нашел научное обоснование тех простых социологических идей, до которых додумался самостоятельно. Другие и более сильные умы еще до моего появления на свет установили все то, о чем и я думал, и еще многое такое, что мне и не снилось. Я понял, что я социалист. Социалисты — это революционеры, стремящиеся разрушить современное общество, чтобы на его развалинах построить общество будущего. Я тоже был социалистом и революционером. Я вошел в группу революционных рабочих и интеллигентов и впервые приобщился к умственной жизни. Среди них было немало ярко талантливых, выдающихся людей. Здесь я встретил сильных и бодрых духом, с мозолистыми руками представителей рабочего класса; лишенных сана священников, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей маммоны; профессоров, не ужившихся с университетским начальством, насаждающим пресмыкательство и раболепие перед правящими классами, — профессоров, которых выкинули вон, потому что они обладали знанием и старались употребить его на благо человечества. У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, горячую преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Жизнь здесь восстановила себя в правах и стала изумительна и великолепна, и я был рад, что живу. Я общался с людьми горячего сердца, которые человека, его душу и тело, ставили выше долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, чем трескотня и шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества. Я видел вокруг себя лишь благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звезд, и в искрах росы, и в пламени передо мной сверкал священный Грааль, символ страждущего, угнетенного человечества, обретающего спасение и избавление от мук. А я, жалкий глупец, я думал, что это всего лишь предвкушение тех радостей, которые я обрету в верхних этажах общества. Я утратил немало иллюзий с тех пор, когда на ранчо в Калифорнии читал развлекательные романы Но мне предстояло еще много разочарований. В качестве торговца мозгом я имел успех. Общество раскрыло передо мной свои парадные двери. Я сразу очутился в гостиной и очень скоро утратил свои последние иллюзии. Я сидел за обеденным столом вместе с хозяевами этого общества, с их женами и дочерьми. Одеты женщины были красиво — все это так; но, к моему простодушному изумлению, я обнаружил, что они из того же теста, что и все женщины, которых я знал в подвальном этаже. Оказалось, что, несмотря на различие в одежде, «знатная леди и Джуди О’Греди во всем остальном равны». Но меня поразило не столько это обстоятельство, сколько их низменный материализм. Верно, эти красиво одетые и красивые женщины были не прочь поболтать о милых их сердцу маленьких идеалах и столь же милых и мелких добродетелях, но их детская болтовня не могла скрыть основного стержня их жизни — голого расчета. А в какой покров сентиментальности обряжали они свой эгоизм! Они занимались всякого рода мелкой благотворительностью, причем охотно ставили вас об этом в известность, а между тем та пища, которую они ели, и те платья, которые носили, были куплены на дивиденды, запятнанные кровью детского труда, кровью потогонного труда и кровью тех, кто был вынужден торговать своим телом. Когда я говорил об этом и в простоте души ожидал, что эти сестры Джуди О’Греди немедленно сбросят с себя залитые кровью шелка и драгоценные камни, они обижались и со злобой возражали мне, что нищета в подвальном этаже общества явилась следствием мотовства, пьянства и врожденной порочности. Когда же я замечал, что вряд ли мотовство, пристрастие к спиртным напиткам и врожденная порочность заставляют еженощно работать по двенадцати часов на бумагопрядильной фабрике Юга полуголодного шестилетнего ребенка, то мои собеседницы обрушивались на мою личную жизнь и называли меня «агитатором», видимо, считая, что на такой веский довод возразить нечего. Не лучше чувствовал я себя и в кругу самих хозяев. Я ожидал встретить людей нравственно чистых, благородных и жизнедеятельных, с чистыми, благородными, жизнеутверждающими идеалами. Я вращался среди людей, занимавших высокое положение, — проповедников, политических деятелей, бизнесменов, ученых и журналистов. Я ел с ними, пил с ними, ездил с ними и изучал их. Верно, я встречал немало людей нравственно чистых и благородных, но, за редким исключением, люди эти не были жизнедеятельны. Я глубоко убежден, что мог бы все эти исключения сосчитать по пальцам. Если в ком чувствовалась жизнь, то это была жизнь гниения; если кто был деятелен, то деяния его были гнусны; остальные были просто непогребенные мертвецы — незапятнанные и величавые, как хорошо сохранившиеся мумии, но безжизненные Это особенно относится к профессорам, с которыми я познакомился, — к тем людям, что придерживаются порочного академического принципа: «Будь бесстрастен в поисках бесстрастного знания». Я знал людей, которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали сыщикам оружие, чтобы те убивали бастующих рабочих; людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в продаже недоброкачественных продуктов, от которых детей ежегодно умирает больше, чем их было на совести у кровавого Ирода. Я беседовал с промышленными магнатами в отелях, клубах и особняках, в купе спальных вагонов и в каютах пароходов, и я поражался скудости их запросов. В то же время я видел, как уродливо развит их ум, поглощенный интересами бизнеса. Я понял также, что во всем, что касалось бизнеса, их нравственность равнялась нулю. Вот утонченный джентльмен с аристократическим лицом, он называется директором фирмы, — на деле же он кукла, послушное орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редкостных изданий, радеющий о литературе, — им как хочет вертит скуластый, звероподобный шантажист — босс муниципальной машины. А этот редактор, публикующий рекламные объявления о патентованных лекарствах и не осмеливающийся сказать правду о них в своей газете из-за боязни потерять заказ на рекламу, обозвал меня подлым демагогом, когда я заявил, что его познания в области политической экономии устарели, а в области биологии — они ровесники Плинию. Вот этот сенатор — орудие и раб, маленькая марионетка грубого и невежественного босса; в таком же положении находится этот губернатор и этот член верховного суда; и все трое они пользуются бесплатным проездом по железной дороге. Этот коммерсант, благочестиво расссуждающий о бескорыстии и всеблагом провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный благотворитель, щедрой рукой поддерживающий миссионеров, — он принуждает своих работниц трудиться по десяти часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию. Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете, — он лжесвидетельствует на суде, чтобы выгадать побольше долларов и центов. А этот железнодорожный магнат нарушил слово джентльмена и христианина, тайно обещав сделать скидку одному из двух промышленных магнатов, сцепившихся в смертельной схватке. Итак, повсюду грабеж и обман, обман и грабеж. Люди жизнедеятельные — но грязные и подлые; или чистые и благородные — но мертвые среди живых. И тут же огромная масса — беспомощная и пассивная, но нравственно чистая. Она грешила не расчетливо и не произвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я почувствовал отвращение к жизни в бельэтаже, где расположены парадные комнаты. Ум мой скучал, сердце томилось. И я вспомнил своих друзей — интеллигентов, мечтателей, лишенных сана священников, выброшенных на улицу профессоров, честных, сознательных рабочих. Я вспомнил дни и ночи, пронизанные сиянием солнца и звезд, когда жизнь казалась возвышающим душу чудом, духовным раем, исполнен ным героизма и высокой романтики. И я увидел перед собой, в вечном сиянии и пламени, священный Грааль. И я вернулся к рабочему классу, в среде которого родился и к которому принадлежал. Я не хочу больше взбираться наверх Пышные хоромы над моей головой не прельщают меня. Фундамент общественного здания — вот что меня привлекает. Тут я хочу работать, налегать на рычаг, рука об руку, плечом к плечу с интеллигентами, мечтателями и сознательными рабочими и, зорко приглядываясь к тому, что творится в верхних этажах, расшатывать возвышающееся над фундаментом здание. Придет день, когда у нас будет достаточно рабочих рук и рычагов для нашего дела и мы свалим это здание вместе со всей его гнилью, непогребенными мертвецами, чудовищным своекорыстием и грязным торгашеством. А потом мы очистим подвалы и построим новое жилище для человечества, в котором не будет палат для избранных, где все комнаты будут просторными и светлыми и где можно будет дышать чистым и животворным воздухом. Таким я вижу будущее. Я смотрю вперед и верю — придет время, когда нечто более достойное и возвышенное, чем мысль о желудке, будет направлять развитие человека, когда более высокий стимул, чем потребность набить брюхо, — а именно это является стимулом сегодняшнего дня, — будет побуждать человека к действию. Я сохраняю веру в благородство и величие человека. Я верю, что чистота и бескорыстие духа победят господствующую ныне всепоглощающую алчность. И, наконец, — я верю в рабочий класс. Как сказал один француз: «Лестница времени постоянно сотрясается от деревянных башмаков, поднимающихся вверх, и начищенных сапог, спускающихся вниз».
ПРЯМОЙ РЕЙС
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Сан-Франциско — Япония, через океан, южное плавание, тропики. Какое богатство содержания в подобных словах! Какие дивные воспоминания они пробуждают! Какую прекрасную воскрешают дружбу! Какие счастливые часы переживаются вновь! Даже само воспоминание о чудесах такого путешествия уже пьянит, и в памяти возникают долгие тропические дни, когда попутный северо-восточный пассат надувает все паруса и часы проносятся за часами, и дни за днями, о, слишком стремительно! Дни дремлющие, зачарованные в своей сонной красоте; дни, когда заря занимается в несравненном тропическом великолепии, а вечерние сумерки неуловимо сменяются ночной тьмой; дни, каждый из которых, как капля воды, напоминает предыдущий и все же отличается чем-то своим, — быть может, еще более величественным восходом или еще более яркими красками заката, необычной игрой света и тени на танцующих океанских волнах или небом в пушинках кудрявых облачков, золотых, алых и лиловых, еще более роскошных, чем прежде. И время не медлит на свинцовых крыльях. Вахты, часы у руля пролетают мгновенно. Этот ровный ветер, неизменно попутный, позволяет рулевому почти забыть о штурвале и отдаться созерцанию. Каждое мгновение рождаются новые дива, новые красоты; или же его поражают и забавляют приятные неожиданности. Мечтательным взглядом следит он за огромными чайками, за тем, как торжественно и грациозно парят они над океанской бездной Описывая величественные круги, они неизменно сопровождают летящий по волнам корабль. А теперь его взгляд привлекает стая дельфинов или серебристый полет летучих рыб, скачущих по ветру с гребня на гребень по солнечной дорожке. Плавник людоеда-акулы за кормой, фонтан кита с подветренной стороны, парус на горизонте; ветер крепчает — и океан улыбается веселей, ветер спадает — и океан затихает, погружается в сон; пробитый с мартин-бакштага гарпуном дельфин переливается трепещущей радугой красок, пока его жизнь угасает на раскаленной палубе, — вот эти и тысячи подобных событий привлекают внимание, занимают ум и наполняют грудь тихим, упоительным счастьем, совершенным в его всепроникающей властности.

Карты лежат нетасоваиными, книги отложены в сторону, забыты матросские мешочки для ниток и иголок, забыты мелкие дела; и моряки, умиротворенные, расслабленные единением с радостной природой, слоняются по палубам, лениво болтают, собравшись, сидят кучками или, растянувшись во всю длину, лежат на баке в задумчивых позах. Умолк блюститель судовых законов, в его услугах никто не нуждается. Не вспыхивают ссоры, никто не отвечает ударом в челюсть на обвинение во лжи. Все это оставлено до более бурной погоды. А ночи! Какая игра света и тени! Смутная фигура рулевого; яркое пятно нактоуза; паруса, уходящие в черный свод над головой; нос, укрытый ночным мраком, где не столько видишь, сколько угадываешь ванты, блоки, реи, тали; черные силуэты то растворяются во тьме, то вновь возникают, обретя обычную подвижность; огоньки их трубок, мгновенные вспышки спичек, звезды, усыпавшие небосвод, словно драгоценные камни, волны, увенчанные сверкающими огненными диадемами, — все это дарит наслаждение душе, охваченной истомой, взывает к чувству прекрасного, переполняет тихой и неизъяснимой радостью. Даже звуки преображаются. Ничего резкого, диссонирующего, все — гармония. Скрип блока звучит как музыка. Звон надутых парусов, плеск воды под танцующим форштевнем, легкий шлепок не в меру смелой летучей рыбы о парус, приглушенный, неясный гул голосов и своеобразное, почти неслышное пение каждого натянутого каната, каждой оттяжки, нагеля и блока слагаются в умиротворящую симфонию, которая убаюкивает, успокаивает, навевает дремоту. И тогда, когда небо затягивают темные грозовые тучи — достойный фон для ослепительных молний, когда океан клокочет пеной, а воздух превращается в невидимого воющего демона, тогда душа тоже испытывает наслаждение. Дремотная истома рассеивается и черпает яростный восторг в битве стихий. Чем грознее ревет ветер, грохочет гром и вздымаются волны, а с ними и борющийся с бурей корабль, тем неистовее этот восторг. Буйство природы будит буйные чувства в груди. Ветер встает, как стена, мелкие брызги и дождь секут лицо и руки, как ножи, палуба превращается в поток вспенившейся воды, но все это дарит радость и упоение. Сердце начинает биться сильнее всякий раз, когда корабль взбирается на гороподобную волну, и замирает от восхитительного предвкушения, когда он, задрав бушприт, замирает на головокружительной вершине, а потом низвергается в пенный водоворот. Громовые команды шкипера принимаются с лихорадочным нетерпением, радость битвы стремительней гонит кровь, и, когда вздутые паруса побеждены, а непослушный шкот, наконец, поддался напряженным усилиям, морская песня заставляет моряка очнуться от грез, и, обновленный, ободренный, он возвращается к повседневным, обычным заботам своей однообразной жизни.
ЧЕРЕЗ СТРЕМНИНЫ К КЛОНДАЙКУ
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Мы спешили. Все спешили. Спешка типична для золотой лихорадки, а для клондайкской лихорадки 97-го года особенно. Октябрь был на носу, земля покрылась снегом, река вот-вот грозила замерзнуть, а до Доусона на севере все еще оставалось несколько сотен миль. Никогда за всю историю Севера никто не рисковал так безрассудно, и никогда еще туда не вторгались более отчаянные люди. Клондайкские ветераны, которые принесли ошеломляющие вести и тяжелые мешочки арктического золота и вызвали охвативший всю страну азарт, высмеяли нас, когда мы сказали, что мы пронесем свое снаряжение через перевалы и довезем его на лодках до Доусона этой же осенью. Но мы это сделали, и, когда наперекор буранам и ледяным заторам мы и еще несколько тысяч человек прибыли в Доусон, его постоянные обитатели только ахнули. Уж они-то знали, какие трудности и опасности подстерегают того, кто осмелится на такое путешествие в это время года, потому им и в голову не приходило, что кто-то отважится пуститься в подобный путь и — более того — успешно его завершит. Разумеется, некоторые погибли по дороге, лодки других вмерзли в речной лед, тысячи изможденных потеряли веру в свои силы, отступив перед перевалами, повернули назад, но мы оказались среди тех, кому повезло. Отправившись в путь, мы хорошо понимали, что отступать нельзя, что мы должны пробиваться вперед во что бы то ни стало, и это подводит меня к непосредственной теме моего рассказа — к тому, как мы преодолели Ящичное ущелье и стремнины Белой Лошади. Для того чтобы вы поняли, с каким благоговением относились к этим местам старожилы, я приведу отрывок из книги Майнера У. Брюса, аляскинского пионера, в которую мы постоянно заглядывали на протяжении всей дороги. «Если путешественник умеет управляться с рулем и веслами, он может провести свою лодку по ущелью и причалить к правому берегу. Если же нет, то ему следует тащить ее по берегу. Оттуда ему две мили следует держаться левого берега до начала стремнин Белой Лошади. Отыскивая место, где причалить выше Белой Лошади, необходимо проявлять величайшую осторожность. Если вода стоит низко, то лодку можно провести через Белую Лошадь бичевой, если же вода высока, ее следует тянуть волоком». Река Шестидесятой мили, которая, собственно, является верховьем Юкона, вытекает из озера Марш и имеет в ширину от одной восьмой до четверти мили. А так как она глубока и стремительна, вы можете сами представить себе, сколько воды она несет. Внезапно ее русло сужается до ста ярдов, образует излучину, где главная струя подходит к самому берегу, позволяя высадиться без особого труда, а затем река мчится между отвесными скалистыми обрывами, расстояние между которыми не превышает восьмидесяти футов. Гигантская масса воды, зажатая в теснине, мчится с чудовищной скоростью, образуя водовороты, буруны и крутые бугры. В результате своеобразного течения и скалистых берегов середина стремнины вздымается хребтом высотой от шести до восьми футов, который называется Гребнем. Длина ущелья равна миле, и примерно на середине обрывы раздвигаются, образуя гигантскую круглую чашу. Вырывающийся на нее поток создает могучий водоворот. Говорят, что когда-то в этот водоворот попали два шведа. Лодка у них была крепкая, сначала они попытались выбраться, но потерпели неудачу и то вычерпывали воду, то молились, ожидая, что будет дальше. Целых четыре часа, их крутило и вертело, а потом прихотливое течение увлекло лодку дальше в ущелье, так что в конце концов они выбрались на берег целыми и невредимыми, если не считать пережитого испуга. Привязав нашу лодку «Красавицу Юкона» перед Ящичным ущельем, мы с тремя товарищами отправились на разведку. Сотни людей вокруг перетаскивали снаряжение на себе. Для нас это означало бы два дня изнурительного труда, тогда как, если бы мы попытали счастья и рискнули проскочить, все дело заняло бы только две минуты. Как у нас было заведено, мы поставили вопрос на голосование, и все единодушно высказались за второй способ. Я закрепил рулевое весло так, чтобы его не могло сорвать, и указал остальным их места, поскольку был капитаном. Только что возвратившийся. из Южной Америки и кое-что понимавший в лодках Меррит Слопер устроился с гребком на носу. Сухопутные крысы Томпсон и Гудмен, которым до этой поездки ни разу не приходилось грести, сели на весла. Чтобы вы могли как следует оценить ситуацию, добавлю, что, кроме людей, на нашей двадцатисемифутовой лодке находилось еще свыше пяти тысяч футов багажа, а потому она не обладала необходимой для подобного предприятия плавучестью. — Держись Гребня! — кричали нам с берега, когда мы отчалили. Несмотря на быстрое течение, вода была зеркально гладкой, но едва мы очутились в пасти ущелья, как река мгновенно превратилась в бешеную сумятицу волн. Опасаясь, что гребцы «поймают леща» или совершат еще какую-нибудь роковую ошибку, я велел убрать весла. Дальше все происходило с невероятной быстротой. Мелькнули фигуры людей, наблюдавших за нами с края обрыва, пронеслись мимо, подобно двум экспрессам, каменные стены, но мне было некогда смотреть по сторонам: напрягая все силы, я старался удержаться на Гребне. Он весь щетинился крутыми волнами, и наша перегруженная лодка зарывалась в них, вместо того чтобы нестись по ним. Я поймал себя на том, что, несмотря на страшную опасность, улыбаюсь нелепым антраша, которые выделывал сидевший на носу Слопер, работая гребком как сумасшедший. Только он делал исполинский замах, как корма проваливалась между волнами, нос взмывал кверху и гребок даже не задевал воды. При следующем же взмахе нос нырял под волну, которая грозила вот-вот смыть Слопера, весившего сто фунтов, не больше. Но он не терял присутствия духа и выдержки. Один раз Слопер обернулся и прокричал какое-то предупреждение, но рев воды заглушил его голос. В следующее мгновение мы соскользнули с Гребня. Вода со всех сторон хлынула в лодку, ее поставило поперек течения, и она была готова вот-вот перевернуться. Это означало гибель. Я налег на весло так, что оно затрещало, а у гребка Слопера обломилась лопасть. И все это время мы неслись по ущелью ярдах в двух от обрыва. Несколько раз я думал, что нам уже пришел конец, но лодка все-таки почти боком поднялась на Гребень, и, пронзив огромный бурун, мы влетели в водоворот гигантской чаши. Я приказал грести, чтобы лодка начала слушаться руля и, внимательно следя за направлением течения, перевел было дух, но тут мы очутились в нижней части ущелья. Хотя мы пересекли Гребень слева направо, а затем справа налево, вторая часть пути была лишь повторением первой. Секунду спустя «Красавица Юкона» мягко стукнулась о берег. Милю по ущелью мы проделали точно за две минуты по часам. Слопер и я пошли по берегу назад и провели через ущелье лодку одного нашего приятеля, что было довольно рискованным предприятием, так как длина ее не превышала двадцати двух футов, а потому она была перегружена даже больше нашей. Потом мы вычерпали воду и отправились дальше по обычным быстринам к началу Белой Лошади, обогнав несколько разбитых лодок, гребцы которых погибли. Белая Лошадь опаснее Ящичного ущелья. До нас эти стремнины никто не проходил, если не считать нескольких утопленников. Здесь по берегу перетаскивали не только снаряжение, но и лодка — с помощью еловых катков. Но мы спешили и к тому же были ободрены предыдущей удачей, а потому ни на фунт не облегчили лодки. Самый опасный участок стремнин в нижнем их конце назван Лошадиной Гривой из-за вздыбленных пенистых волн. Каменистая коса, вдающаяся в реку на три четверти ее ширины, отбрасывает главную струю на правый берег, а затем русло расширяется, и течение образует новый водоворот, намного более опасный, чем в Ящичном ущелье. Едва мы оказались на Гриве, как «Красавица Юкона» запрыгала, будто вовсе не была нагружена: она взлетала на гребни и глубоко зарывалась в воду в промежутках между этими прыжками. До сих пор не понимаю, почему, но она перестала меня слушаться. Поперечная струя увлекла корму, и лодка стала поворачиваться боком. Мы соскочили в водоворот, хотя я этого не понял. Слопер сломал второй гребок, и вода снова окатила его с ног до головы. Не забывайте, что мы неслись со скоростью призового рысака и все происходило в десять раз быстрее, чем в моем рассказе. Со всех сторон в лодку хлестала вода, грозя утопить нас. «Красавица Юкона» повернула прямо на скалы левого берега, и, хотя я изо всех сил налегал на рулевое весло, мне не удалось поставить ее носом по течению. С берега нас пытались фотографировать, но они не учли нашей скорости, и на снимках не получилось ничего, кроме дикой панорамы бушующей вспененной воды. Берег был угрожающе близок, а лодка по-прежнему не слушалась руля. Все происходило с такой быстротой, что я только теперь понял, что пытаюсь повернуть ее против водоворота. В мгновение ока я повернул весло в другую сторону, лодка подчинилась и, следуя струе водоворота, встала носом вверх по течению. Казалось, она вот-вот заденет камни, и Слопер выпрыгнул на скалу. Однако, увидев, что мы благополучно проскочили мимо нее в двух дюймах, он отважно скатился в лодку, словно человек, вздумавший оседлать комету. Хотя нас крутил водоворот, мы вздохнули свободнее. По завершении круга мы были выброшены на Гриву, и на этот раз благополучно пронеслись по ней, и пристали к берегу в тихой заводи ниже по течению.
«ДЖУНГЛИ»
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
Когда Джон Барнс, видный руководитель английских рабочих и в настоящее время член кабинета, посетил Чикаго, какой-то репортер спросил, что он думает об этом городе. «Чикаго, — ответил Барнс, — это ад в миниатюре». Некоторое время спустя, когда он поднимался на борт парохода, отплывавшего в Англию, к нему подошел другой репортер, чтобы узнать, не переменил ли он свое мнение о Чикаго. «Да, переменил, — последовал немедленный ответ. — Теперь я считаю, что ад — это Чикаго в миниатюре». Вероятно, Эптон Синклер придерживался того же мнения, когда избрал Чикаго местом действия своего индустриального романа «Джунгли». Так или иначе он выбрал крупнейший индустриальный центр страны, город, где индустриализация достигла наивысшего предела, и образец наисовершеннейшей цивилизации джунглей. Правильность такого выбора сомнений не вызывает: Чикаго — это воплощение индустриализма, центр бурных столкновений труда и капитала, город кровавых уличных схваток, где друг другу противостоят организации классово-сознательных капиталистов и классово-сознательных рабочих, где учителя создали профессиональные союзы и объединения с каменщиками и подсобными рабочими Американской федерации труда, где даже служащие выбрасывают конторскую мебель из окон небоскребов на головы полицейских, пытающихся во время стачки на бойнях доставить штрейкбрехерскую говядину, и где кареты «скорой помощи» увозят с места стычек столько же полицейских, сколько и забастовщиков. Вот где разворачивается действие романа Эптона Синклера — в Чикаго, в индустриальных джунглях цивилизации двадцатого века. И именно тут, вероятно, следует предупредить возражения тех, кто объявит, что эта книга лжива, хотя сам Эптон Синклер говорит: «Эта книга — правдивая книга, правдивая и в главном, и в частностях, точная и верно изображающая ту жизнь, о которой она повествует». Тем не менее вопреки очевидной правдивости «Джунглей» многие объявят «Джунгли» сплетением лжи, и в первую очередь, вероятно, — чикагские газеты Их всегда возмущает любая неприкрытая правда об их возлюбленном городе. Всего три месяца назад один оратор в Нью-Йорке[10], говоря о крайне низкой заработной плате на чикагских потогонных предприятиях, привел в пример женщин, которые получают девяносто центов в неделю. Чикагские газеты тотчас назвали его лжецом — все, за исключением одной, которая попробовала установить истинные факты и обнаружила, что не только многие работницы получают девяносто центов в неделю, но что немало их получает всего пятьдесят центов. Кстати, когда нью-йоркские издатели первый раз познакомились с рукописью «Джунглей», они послали ее редактору одной из крупнейших чикагских газет, и этот господин письменно высказал мнение, что Эптон Синклер «самый отпетый лжец в Соединенных Штатах». Тогда издатели потребовали у Синклера объяснений. Он представил свои доказательства. Издатели все же сомневались, — несомненно, их преследовала мысль о разорительных исках за клевету. Они хотели удостовериться, что Синклер не лжет, и послали в Чикаго своего юриста. Примерно через неделю он сообщил, что Синклер еще умолчал о самом худшем. После этого книга вышла, и вот она перед вами — повесть о гибели человеческой личности, о бедных сломанных зубцах безжалостного индустриального механизма. Это злободневная книга. Она исполнена живого тепла, жестока и беспощадна, как сама жизнь. Она написана потом и кровью, стонами и слезами. Она показываетчеловека не таким, каким ему следует быть, а каким он вынужден быть в этом нашем мире двадцатого века. Она показывает нашу страну не такой, какой она должна быть или какой она представляется тем, кто живет в неге и довольстве вдали от рабочих гетто, но такой, какова она на деле, — средоточие угнетения, несправедливости, ужасающей нищеты, ад, полный страданий, джунгли, в которых один дикий зверь пожирает другого. Своим героем Эптон Синклер избрал не природного американца, который сквозь туманы патриотических речей по поводу Четвертого июля[11], чарующих миражей избирательных кампаний все-таки видит весь ужас жизни рабочих в Америке. Эптон Синклер не совершил этой ошибки. Он избрал иностранца, литовца, бежавшего от европейского гнета и несправедливости и мечтающего о свободе и равных правах всех людей на счастье. Этот литовец (его фамилия Юргис), молодой широкоплечий гигант, полон энергии, до самозабвения любит труд, упорен в достижении своей цели, — короче говоря, работник один на тысячу. Он способен задать такой темп, который непосилен и губителен для тех, кто работает с ним рядом и вынужден не отставать от него, хотя он несравненно их сильнее. Одним словом, Юргис принадлежал «к тем рабочим, которые особенно нравятся хозяевам, искренне сожалеющим, если таких рабочих не находится. Юргис не знает усталости, потому что у него могучие мышцы и отличное здоровье. Какое бы новое несчастье его ни постигло, он расправляет плечи и говорит: «Ничего, я буду работать больше!» Таков его клич, его девиз! «Ничего, я буду работать больше!» Он не думает о том времени, когда его мышцы уже не будут столь могучи, а здоровье столь отличным и когда он уже не сможет «работать больше». На второй день пребывания в Чикаго он стоит в толпе у ворот бойни. «Целый день эти ворота осаждали голодающие люди без гроша в кармане, каждое утро они приходили сюда тысячами, оспаривая друг у друга жалкий шанс выжить. В метель и в морозы они являлись сюда за два часа до восхода солнца и за час до начала работы. Иногда они отмораживали щеки и носы, а иногда руки и ноги, но они все же приходили, потому что им больше некуда было идти». Однако Юргис простоял в этой толпе всего полчаса. Могучие плечи, молодость, здоровье и первозданная сила выделили его в толпе, как выделяется цветущая девушка среди безобразных старух. Ведь изнурительный труд еще не наложил на него свою печать, не истощил и не ослабил его тело, а потому мастер сразу же заметил его и взял на работу. Юргис — работник один на тысячу. Толпа же состояла из людей, которые терпеливо ждали целый месяц, не пропустив ни одного дня. Это были остальные девятьсот девяносто девять. Юргис преуспевал. Ведь он зарабатывал семнадцать с половиной центов в час, а работал он много часов в день. Далее, ему не требовались призывы президента Теодора Рузвельта: преисполненный счастливой молодости, осыпанный жизненными благами, он женится. «Это был час наивысшего счастья в жизни одного из самых кротких божьих созданий, свадебный пир и преображение Оны Лукошайте». Юргис работал в убойном цехе — шлепая по заливающей пол дымящейся крови, он метлой сметал в люк теплые внутренности, едва их извлекали из бычьих туш. Но он не испытывал ни малейшей брезгливости. Он был безмерно счастлив. Затем он купил дом — в рассрочку. Зачем платить за квартиру, если дешевле купить собственный дом? Так вопрошала реклама. «В самом деле, зачем?» — спросил себя Юргис. Многочисленная семья Юргиса и Оны долго и тщательно изучала вопрос о доме, а затем они отдали для первого взноса все сбережения, сделанные на прежней родине (триста долларов), и обязались платить по двенадцати долларов в месяц, пока не выплатят остальные тысячу двести долларов. После чего дом перейдет в их собственность. А до тех пор согласно навязанному им контракту они будут считаться съемщиками. Не внеся хотя бы один очередной взнос, они потеряют все, что уже уплатили. И в конце концов они лишились и трехсот долларов, и всех денег, которые внесли после, и уплаченных процентов по взносу, так как этот дом не был просто домом, а спекуляцией на несчастьях, уже много раз продавался таким же простодушным людям, как они. Тем временем Юргис работал и набирался опыта. Он начал разбираться в истинном положении вещей. Он понял, что «есть операции, определяющие темп всей работы, и на них ставят людей, которым хорошо платят и которых часто меняют. Это называлось «пришпориванием», а если кто-нибудь не выдерживал темпа, то на улице сотни людей умоляли о возможности встать на его место». «Он увидел, что мастера берут взятки не только с рабочих, но и друг с друга, а управляющий берет взятки с мастеров. Бойни принадлежали человеку, который старался извлечь из них как можно больше прибыли, не стесняясь в способах; а за владельцем в иерархическом порядке, точно в армии, следовали директора, управляющие, мастера, и каждый из них подгонял того, кто пониже, и старался выжать из него как можно больше работы. А люди одного ранга противопоставлялись друг другу: на каждого была заведена отдельная ведомость, и каждый жил под угрозой лишиться места, если показатели соседа окажутся выше. Нигде там не было ни верности, ни порядочности, и человек значил меньше, чем доллар. Тот, кто шпионил и доносил на товарищей, делал карьеру, а тот, кто не совал нос в чужие дела, а занимался своей работой, не мог ни на что рассчитывать: его «пришпоривали», пока не выжимали из него все соки, а потом выбрасывали на свалку». И зачем хозяевам заботиться о рабочих? Ведь найдется сколько угодно других. Однажды Дэрхем дал в газете объявление, что ему требуются двести человек для колки льда, и бездомные и голодные люди весь день брели по сугробам со всех концов огромного города, расстилающегося на двести квадратных миль. В эту ночь восемьсот человек набилось в полицейский участок района боен; они заполнили все помещения и спали, положив головы на колени друг другу, а в коридорах лежали штабелями, так что в конце концов полицейские заперли двери участка, предоставив остальным замерзать на улице. Перед рассветом на следующее утро перед бойней Дэрхема стояло три тысячи человек, и для предотвращения беспорядков пришлось вызвать дополнительные полицейские части. После этого дэрхемовские мастера отобрали двадцать самых здоровых и приняли их на работу. Теперь Юргис жил в постоянном страхе перед случаем. В любую минуту на него могло обрушиться несчастье не менее ужасное, чем смерть. Один из его друзей, Миколас, обрубавший мясо с костей, за три года дважды получал заражение крови и лежал дома, один раз три месяца, а другой — семь. Кроме того, Юргис понял, что «пришпоривание» неизмеримо увеличивает возможность несчастного случая. «Зимой пропитанная кровью одежда рабочих убойного цеха покрывалась ледяной коркой. Рабочие обертывали ноги газетами и старыми мешками, которые намокали от крови и промерзали. Все, кто пользовался ножом, не могли работать в перчатках, их руки покрывались инеем, а пальцы немели, что, конечно, вело к несчастным случаям». Порой, когда мастер отворачивался, рабочие пытались отогреться, засовывая ноги по щиколотку в дымящиеся туши только что забитых быков. Благодаря тому, что он видел и слышал, Юргис разобрался также в смене национальностей. Одно время «все рабочие были немцы. Потом, когда прибыла более дешевая рабочая сила, немцы ушли. Следующими были ирландцы. После этого — чехи, а затем — поляки. Люди приезжали ордами, и старый Дэрхем туже завинчивал гайки: «пришпоривал» их все больше и больше, выжимая из них все соки. Поляков вытесняли литовцы, а теперь они сами уступали место словакам. Кто окажется беднее и несчастнее словаков, еще неизвестно, но мясопромышленники их разыщут, можете не сомневаться. Заманить их нетрудно, так как заработная плата действительно много выше, а о том, что и все цены гораздо выше, бедняги узнают, когда уже будет поздно». Затем Юргису предстояло узнать, на какой лжи строится общество, на каком сплетении лжи. Продукты фальсифицировались, молоко для детей разбавлялось, и даже порошок от насекомых, за который Юргис заплатил двадцать пять центов, был фальсифицирован и безвреден для насекомых. Под его домом находилась выгребная яма с нечистотами пятнадцатилетней давности. «Юргис ко всему теперь относился с подозрением. Он понял, что окружен враждебными силами, которые стремятся завладеть его деньгами. Лавочники залепляли свои витрины всевозможной ложью, чтобы соблазнить его, — даже заборы, фонарные и телеграфные столбы были облеплены ложью. Богатая корпорация, которая взяла его на работу, лгала ему и всей стране — все сверху донизу было одной огромной ложью». Работы стало меньше, и, занятый лишь часть времени, Юргис начал понимать, что такое на самом деле щедрая плата в семнадцать с половиной центов в час. Бывали дни, когда он работал не более двух часов, и дни, когда вовсе не было работы. Но в среднем он работал по шесть часов в день, что значило шесть долларов в неделю. А потом с Юргисом случилось то, о чем со страхом думают все рабочие, — с ним произошел несчастный случай. Он всего-навсего повредил ступню и продолжал работать, пока не упал в обморок. После чего три недели пролежал в постели, вышел на работу слишком рано и снова слег на два месяца. К этому времени в их объединенной семье уже все вынуждены были пойти работать. Дети продавали газеты на улице. Она целый день упаковывала окорока, а ее двоюродная сестра красила банки. А маленький Станислав работал на удивительной машине, которая почти все делала сама. Станислав должен был только вставлять банки для топленого сала в зажим. «Вот так место маленького Станислава во вселенной и его судьба до конца дней были определены раз и навсегда. Час за часом, день за днем, год за годом ему было суждено стоять на точно определенном квадратном футе пола с семи утра до полудня, а затем с половины первого до половины шестого, ограничивая все свои движения и мысли теми, которые требовались для того, чтобы вставить пустую банку в зажим». А получал он за это около трех долларов в неделю, что составляло причитающуюся ему долю в общем заработке миллиона семисот пятидесяти тысяч детей, работающих в Соединенных Штатах. Его заработной платы едва хватало, чтобы выплачивать проценты за дом. А Юргис лежал на спине беспомощный и голодный — те деньги, на которые ему могли бы купить еды, уходили на очередные взносы и проценты за дом. И, когда он поправился, он уже не был самым здоровым и крепким человеком в толпе. Теперь он стал худым и изнуренным, и вид у него был жалким, своего прежнего места он давно лишился и теперь каждый день с раннего утра приходил к воротам, изо всех сил стараясь остаться впереди и выглядеть пободрее. «Особая горечь положения заключалась в том, что Юргис понимал смысл происходящего. В тот первый раз он был здоров и крепок и получил работу в первое же утро, но теперь он уже принадлежал ко второму сорту, стал, так сказать, подпорченным товаром и был хозяевам не нужен. Они использовали его свежую силу, вымотали «пришпориванием», а потом выбросили вон». Положение Юргиса и его близких стало отчаянным. Другие тоже потеряли работу, и Юргис решился на последнее средство и начал работать в аду — на фабрике удобрений. И тут произошел еще один несчастный случай особого рода: мастер гнусно обошелся с Оной, его женой (так гнусно, что этого нельзя пересказать здесь), а Юргис избил мастера и попал в тюрьму. Они с Оной оба потеряли работу. К рабочим несчастье не приходит в одиночку. Лишившись места, они лишил1»: ь и дома. За то, что Юргис ударил мастера, он был занесен в черные списки на всех бойнях и даже не смог вернуться на фабрику удобрений. Семья распалась, и каждый своим путем отправился в земной ад. Повезло тем, кто вовремя умер: отцу Юргиса, погибшему от заражения крови, которое он получил, работая с химикалиями, и сыну Юргиса Антанасу, утонувшему на улице. (Тут я хотел бы упомянуть, что последний случай достоверен: некий член благотворительного общества рассказывал мне в Чикаго, что ему как-то пришлось хоронить ребенка, который утонул на улице Мясного городка.) Юргис, попав в черные списки, рассуждал так: «Ни справедливости, ни прав там не было — ничего, кроме силы, тирании, произвола и бесконтрольной власти. Они растоптали его, сожрали все, что ему принадлежало, убили его старика отца, замучили и погубили его жену, раздавили, стерли в порошок всю его семью. А теперь отмахнулись от него. Больше он им не был нужен». «Рабочие глядели на него с жалостью — бедняга, он занесен в черные списки. Работу в Мясном городке он получить не мог — уж скорее его избрали бы мэром Чикаго. Его фамилия значилась в секретных списках каждой тамошней конторы, от самой большой до самой маленькой. Его фамилия стояла в таких же списках в Сент-Луисе и Нью-Йорке, в Омахе и Бостоне, в Канзас-Сити и Сент-Джозефе. Его судили без суда и без права на обжалование: ему уже больше никогда не работать на бойнях». Однако на этом «Джунгли» не заканчиваются. Юргис не погибает и знакомится изнутри с гнилостью и разложением промышленной политической машины; но о том, что он увидел и узнал, лучше, чем в самой книге, рассказать невозможно. Эту книгу стоит прочесть; она может оказать на историю такое же воздействие, как в свое время «Хижина дяди Тома». Да и вообще ее можно назвать «Хижиной дяди Тома» эпохи промышленного рабства. Она посвящена не Хантингтону и не Карнеги, а Рабочим Америки. В ней сила правды, и за ней в Соединенных Штатах стоит более четырехсот тысяч мужчин и женщин, которые добиваются того, чтобы эта книга нашла самую широкую аудиторию за последние пятьдесят лет. Она не просто будет раскупаться — она, безусловно, будет раскупаться, как ни одна другая популярная книга. И тем не менее благодаря одной из особенностей современной жизни, хотя «Джунгли» разойдутся в сотнях тысяч, даже миллионах, экземпляров, журналы не включат эту книгу в списки «бестселлеров». Дело в том, что читать ее будет рабочий класс, и она уже читается сотнями тысяч рабочих. Любезные хозяева, а не следует ли и вам почитать книгу, которую читает весь рабочий класс?
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА Репортажи из Кореи и Маньчжурии (Отрывки)
Перевод В. Быкова, под редакцией И. Гуровой
ПОЕЗДКА В ПХЕНЬЯН
26 февраля 1904 года. — Покупайте все, что увидите, и готовьтесь ехать в Пхеньян! Вот какими словами меня встретили в Чемульпо, едва я сошел на берег. Это была первая фраза, которую я услышал на моем родном языке, после восьмидневного плавания вдоль корейского побережья в сампане — рыбачьей лодке — с командой из местных жителей. Говоривший был одним из двух иностранных корреспондентов, добравшихся сюда раньше меня. Я стал третьим. Еще пятьдесят, не меньше, должны были прибыть из Японии, как только им удастся найти судно, которое доставило бы их сюда, чем и объяснялся полученный мной совет. — Я здесь уже две недели, — добавил он, — и запасся всем необходимым: лошадьми, переводчиками, носильщиком — всем. Война шла уже неделю, хотя я услышал об этом только сейчас. В дороге я надышался угара от жаровни и теперь ничего не соображал. Дома, люди, европейские блюда — все это казалось непривычным и непонятным, тем не менее я приступил к экипировке. Путешествовать предстояло на лошадях, а я не умел ездить верхом. Джонс, от которого я получил вышеупомянутый совет, и Маклеод — второй корреспондент — принялись обучать меня. Их методика оказалась весьма интересной — для мапу (конюхов), рикш, кули и всяких зевак, собравшихся у «Грандотеля». Джонс и Маклеод подъехали на спокойных китайских лошадках. Но для меня они раздобыли великолепного жеребца. Едва взглянув на него, я пришел в восторг. Мое сердце преисполнилось гордости. И я как-то не придал значения тому, что под уздцы красавца держало два мапу. Я взобрался в седло. Зрители с хохотом кинулись врассыпную. Many отпустил коня, и я поскакал. Нет, я не полетел как из лука стрела. Мой путь скорее следует уподобить полету бумеранга, пущенного с огромной силой и скоростью. Я сворачивал то направо, то налево, описывая круги, налетая на сугробы, сметая со своей дороги всех встречных всадников (которые никак не могли угадать, какая дорога моя), и вытворял бог знает что. Но отнюдь не по своей вине. Я старался всего лишь заставить лошадь скакать вперед, но удавалось мне только кое-как усидеть в седле. Какая-то лошадь укусила моего коня. Он укусил ее в ответ, встал на дыбы, залязгал зубами и принялся бить передними копытами по воздуху. — Правильно, старина! Действуй в том же духе! — крикнул мне Джонс. У меня не хватило дыхания поблагодарить его, но мой конь сделал это за меня — он совсем немного не достал передними копытами Джонса по заду. Джонс поспешно описал на своей лошади полукруг Мой конь кинулся за ними, норовя ударить Джонса копытом или укусить. Джонс хлестнул его по морде. Я изо всех сил натягивал поводья, но без толку. Джонс ускакал вслед за Маклеодом, а я помчался за ними, свернул с утоптанной дороги в мягкий снег, и вокруг меня забушевала метель. Два мапу кинулись к нам и повисли на голове моего коня, а я соскользнул на землю и отскочил в сторону. Я взглянул на часы. Представление длилось четыре минуты, хотя я голову отдал бы на отсечение, что оно продолжалось по меньшей мере полчаса. Все мои кости и мышцы болели и ныли. Сердце стучало, как будильник, и я никак не мог отдышаться. Утро было очень холодное, но пот по мне струился градом: я чувствовал, как его капли скатываются по спине, а лицо у меня было мокрое, словно после душа. — Возьмите его лошадь, а ему отдайте вашу, — предложил Маклеод Джонсу. Джонс замотал головой, и мой конь, гарцуя, удалился в сторону отеля между двумя мапу, лица которых отнюдь не сияли радостными улыбками. — Вам, старина, требуется кроткое, покладистое животное, — заметил Джонс. Он мог бы этого и не говорить. Как раз такое условие я и поставил им перед началом урока. И все это предшествовало отъезду на поля сражений русских с японцами. — Во всяком случае, — объявил я, — хотя я и увидел эту лошадь, но покупать ее не буду! Я нанял переводчика — с испытательным сроком. Право, не знаю, почему мне в голову пришла счастливая мысль поставить это условие: по-английски он, казалось, говорил безупречно. Этот японец вызубрил свою вступительную речь с похвальным усердием!.. Когда сделка была заключена, он изрек свою последнюю фразу: «Я от души рад, что еду с вами на войну», на чем его запас истощился, и пять минут спустя я принужден был занять переводчика у Джонса, чтобы выяснить, о чем говорит мой переводчик. — Вам нужен мапу, — сказал Джонс, — и слуга. Many — это конюх, обычное жалованье которого четыре-шесть долларов в месяц. Едой и одеждой он обеспечивает себя сам. Я заявил, что не стану нанимать мапу до тех пор, пока не обзаведусь кроткой и послушной лошадью, но без слуги обойтись было нельзя, и мистер Эмберли, владелец отеля, сказал, что у него есть подходящий человек. Моего нового слугу звали Ванюнги, и он согласился работать за семнадцать с половиной долларов без еды и одежды — довольно щедрое вознаграждение. Одет он был в европейский костюм — белая рубашка, крахмальный стоячий воротничок, галстук, запонки и прочее. Он был корейцем, а по-английски говорил лучше, несравненно лучше моего взятого условно переводчика. Он не только сам умел работать, но и обладал известной способностью заставлять работать других слуг. Впервые коридорные затопили в моем номере печь и принесли горячую воду до того, как я успел одеться и уйти. И впервые огонь горел как следует. После того как мистер Эмберли добыл мне такое сокровище, я, естественно, решил, что это как раз тот человек, который способен достать для меня кроткую и послушную лошадь. А потому я выслушал его совет и отправился с ним к мистеру Брауну, начальнику корейской таможни. Мистер Браун продавал двух лошадей. Мы пошли их посмотреть. Одна нетерпеливо била копытом. — Мне нужна лошадь, и я возьму вот эту, — сказал мистер Эмберли. — А для вас она чересчур резва, — добавил он. Я всецело с ним согласился. Во вторую лошадь я влюбился с первого взгляда. Такой красивой головы и таких кротких глаз я еще не видел ни у одной лошади. Она позволила мне приласкать ее и терлась мордой о мою руку и заржала, прося, чтобы я ее еще раз почесал. — А у нее нет никаких скрытых пороков? — спросил я. — Знаете, ведь я ничего не смыслю в лошадях. — Это именно то, что вам нужно, — последовал ответ. И я купил ее. На следующее утро ее привели к гостинице. Фрэзер, жокей-любитель и специалист по скачкам с препятствиями, взялся ее испробовать. Генерал Аллен наблюдал за ними. — Великолепный ход, — заключил он. — Отличная лошадь: крепкая и послушная. — Ну садитесь, — сказал Фрэзер. — Она гораздо выносливее, чем лошади Маклеода и Джонса. Преисполненный гордости, я снова забрался в седло. На этот раз благополучно поехал вперед, въехал в Сеул и тут начал замечать, что лошадь моя все время забирает вправо. «Делает поправку на ветер», — подумал я и стал держать лево руля. В результате мы придерживались примерно прямого курса, но мне пришло в голову, что происходит что-то не то. И я решил проверить, куда заведет ее это стремление поворачивать вправо, а потому поставил руль прямо и начал ждать результатов. Ее немедленно стало заносить вправо, а справа зияла канава метра в три глубиной. «У края она, конечно, одумается», — решил я и, стиснув зубы, приготовился испытать степень ее бесстрашия. Она бесстрашно шагнула к краю, к самому краю и готовилась сделать следующий шаг, когда я отвернул ее влево. Вот так, все время держа лево руля, я лавировал по узким многолюдным улицам корейской столицы. Теперь я только диву даюсь, вспоминая эту поездку: повозки, запряженные волами, вереницы вьючных лошадей, пешие солдаты, солдаты верхом, толпы ребятишек, апатичные прохожие, которым лень посторониться, заторы, давка, бьющие задом, встающие на дыбы лошади (в большинстве жеребцы) — и я ни разу ни с кем не столкнулся, ни на кого не наехал. Только когда я повернул назад, произошло первое происшествие. Произошло оно на Легейшн-стрит, как раз за дворцом, и отнюдь не было результатом случайности. Справа вместо глубокой канавы тянулась гладкая стена. Я вновь поставил руль прямо, чтобы разобраться в причине отклонения от курса. Лошадь повернула вправо, гулко ударилась боком о стену и остановилась. Я провел рукой перед ее глазами. Она не заморгала. Минуту спустя она снова ткнулась в стену, на этот раз головой. Она была слепой, совершенно слепой… Вечером я поехал на рикше, кроме того, я рассчитал своего переводчика, которого совершенно перестал понимать, и нанял другого. Его звали Ямада. До этого он был переводчиком у Джонса, но ушел, потому что Джонс обращался к нему только «эй, ты!» и не иначе. Я обещал всегда называть его «мистер Ямада», и он, очень довольный, попросил выплатить ему жалованье на два месяца вперед. — Мы с Маклеодом отправляемся в понедельник, — сказал Джонс. — Вы успеете приготовиться? Было воскресенье, а кроме того — день японского, китайского и корейского Нового года. Лавочники и ремесленники, оставив работу, предавались веселью, которому предстояло продлиться дней шесть или, во всяком случае, до тех пор, пока у празднующих не кончатся деньги. — Нет, не успею, — ответил я. — Встретимся в Пхеньяне. — Как вы знаете, мы совсем готовы, — сказал Джонс, — а то бы мы вас подождали. Я повидался с Маклеодом. Он тоже закончил все приготовления к отъезду. Только я один их еще не закончил, а потому отправился делать прививку. Но я не только сделал прививку, но и купил у доктора лошадь — одну из лошадей русского посла, которых он не стал брать с собой при своем поспешном отбытии из Сеула. Это был прекрасный конь, привезенный из Австралии, а стоил он не дороже китайской лошадки, хотя и был вчетверо больше. Во всяком случае, подпруга седла, которое я купил для моей слепой лошади, не охватывала и половины его брюха. Ликуя, я вернулся в гостиницу и узнал, что для меня купили трех корейских вьючных лошадок. Но прежде чем ратифицировать сделку, я удостоверился, что они хотя бы зрячие. Кроме того, я узнал, что Маклеод и Джонс, которые «закончили все приготовления», закончат их не раньше вторника; тогда я пошел и купил лошадь для моего переводчика… виноват, для мистера Ямады. Теперь я был владельцем пяти лошадей и нанял двух мапу ходить за ними. Потом началась спешка, в которой Ванюнги, поистине сокровище, оказался незаменимым. Он работал как черт и заставлял работать всех вокруг. Надо было купить буквально все: седла, уздечки, одеяла, ремни, торбы, веревки, запасные комплекты подков, кузнечные инструменты для подковывания, вьюки, запасные подпруги, консервы, резиновые сапоги, рукавицы, шапки, перчатки, белье, муку, сковородки, котелки, башмаки, свечи и еще тысячу и один предмет, необходимый для путешествия, быть может, в Маньчжурию. А город праздновал Новый год! Во вторник Маклеод и Джонс все еще были не готовы, в среду Джонс пополнял свое снаряжение консервами, которые я вынул, чтобы облегчить мои тюки, а Маклеод мог быть готов не раньше четверга. Поэтому мои вьючные лошади первыми направились на север по дороге, ведущей к Пекинскому перевалу. И в этот вечер, когда позади были пятьдесят ли, Джонс сел ужинать со мной, оставшись без слуги, без мапу и без всего прочего. А я был гордым владельцем лучшей в мире лошади — маленькой корейской лошадки, чуть-чуть покрупнее ньюфаундленда. Наверное, я бы смог унести ее под мышкой. В первый день на нее нагрузили самый тяжелый вьюк. Из-под горы поклажи виднелись только хвост и маленькие неутомимые копытца, которые топали с утра до вечера. — Так нельзя, — сказал я. — Это жестоко. Завтра, Ванюнги, навьючьте эту крошку полегче (вы же видите, что она самая маленькая) и поезжайте на ней сами. Мудрый обычай требует, чтобы слуга ехал верхом, тогда к концу дня у него хватит сил разбить лагерь и приготовить ужин. На следующий день Ванюнги ехал на малютке. Сам он весил 120 фунтов и сидел на тюке в 130 фунтов, а так как вьючное седло весит не меньше 20 фунтов, то все это составляет 270 фунтов. Лошадка, вероятно, весила фунтов 350, и тем не менее весь день она держалась наравне с нашими верховыми лошадьми. Если мы пускались в галоп, она с радостным ржанием скакала за нами, и Ванюнги не мог ее сдержать. Он изо всех сил натягивал поводья, он уговаривал ее по-корейски и пускал в ход всю свою изобретательность, но лошадка бежала рысью, припускалась галопом или шла шагом, следуя за нами. Мы с Джонсом решили, что к тому времени, когда мы остановимся на ночлег, она сдохнет. Но мне пришлось в тот же вечер изменить свою точку зрения. Когда лошадям задали корм, наша малютка принялась лягать, отталкивать и кусать сородичей побольше ростом, пока не отвоевала не только свою собственную порцию, но в придачу и добрую половину их порции, не говоря уже о лучшем и самом удобном месте на ночь. Сейчас Джонс уговаривает меня продать лошадку ему, а я прикидываю, смогу ли я ездить на ней, если с моим конем что-нибудь случится. Джонс доказывает, что мои ноги будут волочиться по земле, и, пожалуй, он прав, Завтра я сяду на нее и проверю. Может быть, мне как-нибудь удастся поджать ноги.КАЗАКИ ВСТУПАЮТ В БОЙ И ОТХОДЯТ
Пхеньян, 5 марта 1904 года Первое сражение на суше! Первое соприкосновение японцев с русскими на суше с первым реальным обменом выстрелами между армиями произошло под Пхеньяном утром 28 февраля. Казачий разъезд, переправясь через Ялу у Ыйчжу, отправился дальше на юг и на 200 миль углубился в Корею, чтобы войти в соприкосновение с японцами и выяснить, как далеко на север они проникли. Три американца, которые сопровождали женщин с рудников американской концессии, расположенных в пятидесяти милях восточнее Анчжу, встретили разъезд казаков вблизи Анчжу на главной Пекинской дороге. Они ехали вместе с казаками целый день, и говорят, что это бравые солдаты и великолепные наездники; лошади у них очень выносливые, русской породы. Вот пример их дисциплинированности: один из американцев угостил казака табаком. Тот принялся свертывать самокрутку, но тут казакам была дана команда пустить лошадей в галоп. Табак и бумажка полетели в разные стороны — солдат ни на секунду не задержал выполнение приказа. Казаки не имели ни малейшего представления о том, где им могут встретиться японцы, а потому считали, что в каждой деревне их может ждать засада. По приближении к деревне они спешивались и шли дальше врассыпную, ведя лошадей так, чтобы они находились между ними и хижинами. Но они так и не встретили ни одного японца, пока не достигли древних стен города Пхеньяна, где в 1894 году японцы устроили резню китайцев, — летописная история этого города начинается задолго до рождения Христа. Вот здесь, в живописной долине, под пхеньянскими стенами, двадцать казаков столкнулись с пятью японскими кавалеристами. Казаки бросились в погоню за японцами и отстали только тогда, когда их принялись обстреливать со стен города. Сделать первые выстрелы на суше выпало 7-й роте 46-го пехотного полка 12-й японской армии. Четырнадцать солдат этой роты под командованием старшего лейтенанта Иосимуры, укрывшись за обвалившимся парапетом, наблюдали за погоней, которая приближалась к ним. С расстояния 700 метров в 9.30 утра они открыли огонь. Казаки сразу повернули лошадей и умчались прочь. Всего было сделано тридцать выстрелов, на которые казаки не ответили. Они выполнили свою задачу — обнаружили японцев и благоразумно не стали пытаться овладеть Пхеньяном. Удивительно, что никто из них не был ни убит, ни ранен, хотя стреляли в них с относительно близкого расстояния. Японцы объясняют это тем, что боялись попасть в своих собственных спасающихся бегством кавалеристов. Впрочем, они утверждают, что два казака спешились и повели своих, по-видимому, раненых лошадей на поводу. Таким образом, в первом бою на суше все-таки была пролита русская кровь, хотя и лошадиная. Команду стрелять отдал лейтенант Иосимура, единственный офицер, присутствовавший там, хотя подробности я узнал от его соотечественника, лейтенанта Абе, который навестил меня в номере японского отеля и которого я принял на японский манер, потому что иного выбора у меня не было. Мы сидели разувшись на циновках, которыми был устлан пол моего номера, пили чай и саке и ели маринованный лук деревянными палочками. Между нами стояла неизменная жаровня, в которой тлело несколько углей и в которую мы стряхивали пепел бесчисленных папирос. Японцы — заядлые курильщики, и законы вежливости требуют угощать гостя папиросами. Все это, конечно, очень мило, но довольно обременительно для бедного корреспондента, находящегося вдали от своей базы снабжения. Лейтенант Абе, кстати, — типичный офицер новой Японии. Несмотря на свой европейский мундир и коротко подстриженную бороду, он остается представителем Востока. Он сидел, поджав ноги, с прирожденной изящной непринужденностью, я же вытянул ноги перед собой и был вынужден то и дело двигать ими, чтобы они не затекли. В отличие от него я чувствовал себя крайне неловко. Он кончил Токийскую военную академию, знает французский, английский и китайский языки, а сейчас изучает немецкий. Он сказал мне, что после окончания войны он вернется в академию и будет специализироваться по военным наукам. Японцы, бесспорно, это военная нация. Рядовые и офицеры у них — настоящие солдаты. Я сделал визит саперному капитану Кучибе, который живет в соседнем номере. Он человек чрезвычайно занятый, сейчас ему поручена постройка моста через реку Тайтон и укрепление Пхеньяна. Он сидел на полу среди вороха документов, карт и планов. Появлялись вестовые со все новыми донесениями и тут же исчезали, входили и уходили посыльные, — а потому наш короткий разговор получился еще и отрывистым. Между нами стояла жаровня, и, предложив мне папиросы, капитан приказал подать чай. Вдоль стен стояли ящики такого размера, что их было бы легко навьючить на лошадь. На стене висели седельные сумы, портупея и сабля. Стола не было, и капитан работал на полу. Его солдаты шли от Сеула, переходами в среднем по двадцать миль в день; и когда я спросил, не сбили ли они ноги, он неохотно признал, что некоторым солдатам в пути пришлось нелегко, но тут же прибавил, что они настолько воодушевлены любовью к своей стране, что никакие стертые ноги не помешают им идти в бой с русскими. Он выразился так: «Если речь идет о русских, то стертые ноги не в счет. Может быть, некоторые солдаты не слишком готовы к походам, но к сражениям они готовы все». Мне были нужны подковы, и через десять минут я откланялся, унося письмо к кавалерийскому офицеру. Кроме того, капитан Кучиба обещал мне свой запасной комплект подков. Когда дело касается помощи или совета, японские офицеры неизменно бывают очень любезны, и, хотя люди они чрезвычайно занятые, у них всегда находится свободная минутка для иностранного корреспондента, нуждающегося в той или иной помощи.ПО ПЕКИНСКОЙ ДОРОГЕ К ЯЛУ
Пхеньян 7 марта 1904 года Кто-то назвал Пекинскую дорогу рекой грязи. Это не совсем так, поскольку верно только для дневного времени. Ночью она превращается в реку льда, а северная сторона всех перевалов остается покрытой льдом и днем. На этих ледяных полосах, круто уходящих вниз под углом в 15–30 градусов, человек спешивается и возносит мольбу о том, чтобы, во-первых, его лошадь не сломала ноги и чтобы, во-вторых, упала она не на него. Причем приходится не только следить за лошадью, которая надвигается на тебя сзади, грозя вот-вот упасть, раздавить тебя, но еще и смотреть, куда ты ставишь собственные ноги. Ведь этот лед тверже алмаза, абсолютно гладок и из-за наклона оказывается куда более скользким, чем хорошо натертый паркет. Сочетание скользящего человека и скользящей лошади ничего приятного не обещает, а длинная цепочка скользящих лошадей и людей — это кошмар, от которого бросает в холодный пот и людей и животных. Я не скоро забуду ледяной скат, на который мы карабкались в хвосте пехотной колонны. Солдаты падали слева и справа. Это было заразительно. Маклеод, который шел впереди меня, зашатался, замахал руками и упал. Солдат помог ему встать, а сам растянулся на льду. Мои ноги разъезжались в нескольких направлениях сразу, а потому я каким-то чудом сохранил некоторое подобие равновесия. У бедной Красотки, моей лошади, скользили четыре ноги, а позади нее и под ней скользили и метались Джонс и его лошадь. Причем Джонс испускал предостерегающий вопль всякий раз, когда Красотка грозила свалиться на него. А так как Красотка все время находилась на грани падения, его вопли не смолкали ни на секунду. — Осторожней! Ваша лошадь поломает ноги! — то и дело повторял он, а потом он сменил этот рефрен на: — Посмотрите на ее подковы! Я посмотрел. Лошадь отчаянно перебирала ногами, и я заметил, что при каждом ударе о лед подкова скользит не только по льду, но и по копыту. Когда мы добрались до гребня (остановиться на склоне было невозможно), все ее подковы еле держались и две было нетрудно оторвать рукой; а лошадь Маклеода вообще потеряла задние подковы. Джонс отправился с вьюками вперед, а мы с Маклеодом повели наших лошадей на поводу. Через пять ли показалась деревня, где было полно солдат. Наши переводчики не то отстали, не то уехали вперед, но мы показали свои удостоверения и письмо, написанное по-японски послом Хияси, а потому офицеры обошлись с нами весьма любезно. Молодой щеголеватый лейтенант, сидевший на лошади, расстегнул свои сумки и протянул нам подкову. — Ну, во всяком случае, — сказал Маклеод, — я получил некоторое представление о войне. Как и я. Шоколадный солдатик Бернарда Шоу, возможно, встречается в Европе, но не в Японии. Офицеры Страны восходящего солнца не возят конфет в седельных сумках и кобурах. Однако кузнеца в деревне не нашлось, и, три часа притоптывая ногами на морозе в ожидании прибытия следующего эскадрона, мы твердо решили впредь всегда возить запасные подковы, а также научиться подковывать лошадей. Мы отправились дальше, когда уже стемнело; лошадиные копыта звонко цокали по обледенелой дороге. Через десять ли мы нагнали Джонса. Он нашел комнату для ночлега в деревне из шести домов, где было расквартировано сто солдат, и доблестно отстоял ее от всех покушений. В ней еле уместились три наши дорожные койки — там, где на полу могли бы переночевать двенадцать солдат. Офицер неоднократно требовал, чтобы Джонс убрался вон, и приказывал вытащить наши вещи на улицу. Many и переводчики, которым «карлик» внушал смертельный страх, после каждого выселения упрашивали Джонса отправиться в следующую деревню, но Джонс прикинул, что и в следующей деревне солдат будет не меньше, а потому всякий раз, когда наши вещи выбрасывались вон, он приказывал дрожащим от страха мапу внести их обратно. И здесь возникает этический вопрос. Имел ли право Джонс, как и мы, разделившие с ним ночлег, силой захватывать дом? На нашей стороне было право реального владения, на стороне солдат — право сильного — ведь заняли же они всю страну. Но тут возникает вопрос о корейце, его настоящем хозяине… Но как бы то ни было мы с Маклеодом были благодарны Джонсу и спали сном праведников. Сохранить подковы на ногах лошадей оказалось почти неразрешимой задачей. Во-первых, наши подковы были подковами европейского образца, о которых корейские кузнецы не имели ни малейшего понятия, а поскольку их кузнечный опыт был плодом мудрости столетий, трудно было ожидать, что они в ближайшие два-три века научатся разбираться в европейских подковах. Ждать же мы не могли. Во-вторых, японским военным кузнецам тоже никак не удавалось подковать наших лошадей. Каждый день они ставили им новые подковы, и каждый день лошади их теряли. И мы затосковали по хорошей американской кузнице, а через сто восемьдесят миль были вынуждены окончательно спешиться и вести наших лошадей в Пхеньян на поводу. Здесь я купил у американского миссионера Грэма Ли несколько фунтов подковных гвоздей. С помощью того же миссионера мне удалось найти корейского кузнеца» который согласился изготовить два комплекта по образцу подков Красотки и сразу же напился, чтобы отпраздновать столь выгодный заказ. Но мистер Ли воззвал к его совести, и в конце концов я получил свои комплекты, а вдобавок к ним. комплект фабричных подков от саперного капитана и еще один — от кавалерийского капитана, так что мог считать себя вполне обеспеченным. Теперь я отправился в путь с полным комплектом подков в седельной сумке, а также с молотком, клещами и железным клином для загибания гвоздей. И если Красотка выдержит испытание, я набью руку в кузнечном ремесле. Однако на Пекинской дороге страдают не только лошадиные ноги, о чем свидетельствуют вереницы прихрамывающих солдат, которые, растянувшись на мили, плетутся за каждой ротой или батальоном на марше. А есть ли для пехотинцев несчастье горше стертых ног? Каждый шаг пытка, но ему нужно идти, шаг за шагом, целый день. Если бы он только мог прилечь и отдохнуть, пока ноги не заживут, все было бы хорошо, но он должен идти дальше, шаг за шагом, и каждый шаг растравляет кровоточащие ссадины. Рай в этот момент воображается им как простое прекращение всяких движений, и на протяжении долгих часов нескончаемого марша им, несомненно, снится их буддийская нирвана. Во всяком случае, они спят на ходу, так как не замечают ничего вокруг. Дробный стук копыт наших лошадей не заставил их очнуться, а когда мы, лавируя, пробирались сквозь толпу таких отставших солдат, никто из них не посторонился. Даже когда лошади задевали их, они не сворачивали с пути. Им было все равно — точно жертвам морской болезни Им легче было попасть под лошадиные копыта, чем сделать усилие и отскочить в сторону. Мы ни на кого не наехали, но это была отнюдь не их заслуга. Мы двигались быстрее армии, а потому постоянно нагоняли бедняг, плетущихся в хвосте каждой пехотной колонны. Большинство шли без ранцев, взвалив их на спины мобилизованных кули. Многие сбросили армейские ботинки, сделанные из жесткой кожи, и облеклись в традиционную обувь: мягкие соломенные сандалии. А некоторые — я видел это своими глазами — тащились по замерзшей грязи, привязав кусок толстой ткани к босой ступне. Но все это только начало, когда они пройдут полтысячи миль, таких отставших будет совсем мало. Выучку проходят в дороге не только они; например, жителей Хванчжу пришлось научить, что предоставлять ночлег европейцам и корм их лошадям выгодно, а воровать у них — невыгодно. Хванчжу, обнесенный стеной, древний город с населением примерно в 30 000 жителей, живописно расположен на правом берегу реки Намчлион. Маклеод с Джонсом в этот день сделали 140 ли, в сумерках миновали великий перевал Тонсан, продолжали ехать в темноте еще двадцать ли, так как в этих местах из-за страха перед горными разбойниками никто не селится и, наконец, добрались до Хванчжу, когда уже и люди и лошади валились с ног от усталости. Я по обыкновению отстал, задержавшись из-за очередной подковы. Ни один из 30 000 обитателей Хванчжу, которые живут в домах, не пожелал ни сдать комнаты Маклеоду и Джонсу, ни продать ячменя или бобов для лошадей. Усталые люди и измученные лошади тщетно бродили по городу. Повсюду путники встречали любезные отказы и получали радушные советы отправиться в соседнюю деревню, «еще десять ли». Эта фраза «еще десять ли» почему-то особенно злит Джойса. Он утверждает, что со времени своего приезда сюда не слышал ничего другого, а эту фразу слышит столько раз и при таких критических обстоятельствах, что непременно напишет книгу о Корее и назовет ее «Еще десять ли». И когда они с Маклеодом вновь оказались у городских ворот и он услышал совет отправиться в соседнюю деревню с добавлением ненавистной фразы, он уперся. Если 30 000 человек не пожелали предоставить им ночлег за хорошие деньги, что их ждет в маленькой деревушке? Джонс наотрез отказался отправиться туда. Маклеод его поддержал. Оба небрежным жестом переложили свои револьверы из одного кармана в другой, и все сразу переменилось.Последовало быстрое совещание вполголоса, и через две минуты лошади и люди получили удобный ночлег. Поздно ночью в Хванчжу прибыл я и разбудил весь город своими криками, пока ездил по городу, разыскивая своих. Мне повезло — я был без переводчика, а потому не понял многочисленных приглашений проехать «еще десять ли», которые, несомненно, неслись мне вслед. Я разъезжал, вопя и будя город, пока не услышал желанный голос переводчика Джонса и не нашел моих товарищей. Они лежали на полу убогой комнатки и ждали ужина. Мы торопились скорей добраться до Пхеньяна, поэтому оставили свои вьюки позади. Дорожные койки остались во вьюках, так что каждому из нас предстояло обойтись одним пледом, а съестные припасы все кончились. Ужинали мы без молока и хлеба; меню исчерпывалось чаем, горсткой сахара и плохо очищенным, недоваренным рисом. Рис мы ели без сахара, который весь израсходовали на горячий грог. После чего у нас не осталось и виски…НА РЕКУ ЯЛУ
Аньдун, Маньчжурия. 10 мая 1904 года Японцы, следуя немецкому образцу, сначала все подготавливают и принимают все меры предосторожности, а затем приступают к действиям, черпая уверенность в убеждении, что теперь только чудо может помешать их успеху. Против их трех дивизий на Ялу стояли значительно более слабые силы русских, но японцы должны были форсировать реку под огнем и атаковать укрепленные позиции противника. Перемещая эти три дивизии, прибегая к хитростям, они, по-видимому, дезориентировали русских. В устье Ялу у японцев имелись две небольшие канонерки, два катера и четыре небольших парохода, вооруженных пулеметами Гочкиса. И еще — имелись пятьдесят сампанов, нагруженных материалами для постройки моста. Они предназначались для возведения постоянного моста через Ялу у Ыйчжу, но вначале сослужили другую службу — ниже по реке. Присутствие маленького военного флота и груженых саьМтанов убедило русских, что японцы намерены строить мост именно там. И они направили туда три тысячи солдат, чтобы помешать сооружению моста. В результате горстка японских моряков обрекла 3000 русских на бездействие, ослабив русскую армию на один полк. Еще одна хитрость была применена при строительстве моста у Ыйчжу. Работы велись на виду у русских, занимающих конический холм почти напротив Кью-Лян-Чена, но чуть восточнее; русские потратили немало времени и пороха, чтобы разбить его. А японцам только того и надо было. Пока русские занимались этим мостом, японцы чуть ниже по реке строили другой под прикрытием поросшего ивняком острова. Настоящий мост так ни разу и не был обстрелян. Приходилось ли вам когда-нибудь стоять перед клеткой, из которой на вас добродушно и кротко посматривает мартышка? Как спокойно и мирно держатся ее передние лапы за прутья, с каким дружеским интересом заглядывает она вам в глаза! И все это время задняя лапа потихоньку высовывается из клетки… И вот, застигнутый врасплох, вы испускаете вопль. Берегитесь обезьяны в клетке! Одними глазами за ней не уследить. И берегитесь японца. Когда он глупо располагается строить руками мост у вас на виду, то помните: в укромном местечке за ивняком уже почти готов другой мост, который он строил ногами. Он работает и руками и ногами, он работает день и ночь, и ожидать от него можно только одного — неожиданностей. Ночь 29 апреля и день 30-го были тревожным временем для японцев. Их армия была разрезана пополам, и разделяла ее могучая река Ялу. Одна треть их сил (дивизия Z) уже переправилась через Ялу и находилась в Маньчжурии. У них не было точных сведений о силах русских, и никто не мог поручиться, что русские не предпримут контратаки на дивизию Z и не разобьют ее наголову. Поэтому дивизии X и Y стояли на южном берегу в полной готовности, чтобы немедленно прийти ей на помощь, атаковав русских прямо через реку. Однако этого не потребовалось. Численность русских была так невелика, что они не могли атаковать даже эту одну дивизию, хотя она углубилась в горы. Этого японцы не знали, но они приготовились и к такой возможности, как готовятся ко всему. Река Айхэ покидает Маньчжурию и впадает в Ялу примерно в миле выше Кью-Лян-Чена. Она течет возле самой этой деревни, стоящей на маньчжурском берегу, на пути японской армии (даже дивизии Z) после ее переправы через ЯлуЛКроме того, над переправой господствовали шестнадцати орудий русского правого фланга Ida коническом холме\30 апреля была поставлена задача подавить эти орудия. Японцы решительно взялись завело. Русская батарея\стояла на открытых позициях, и с помощью концентрированного огня (за двадцать пять минут было выпущено шестьдесят снарядов) они добились своего. Русский огонь прекратился, и ночью батарея отступила, кроме того, японцы обстреляли русский лагерь, место для которого было выбрано необдуманно — он был открыт со стороны корейских гор, так что японский огонь причинял большой ущерб. В ночь на 1 мая дивизии X и Y тоже переправились через Ялу и заняли позицию на песчаном берегу. От русских позиций их теперь отделяла Айхэ. Дивизия X, образовавшая японский левый фланг, стояла напротив русского правого фланга, расположенного на коническом холме; дивизия Y развернулась возле устья Айхэ, а вверх по Айхэ, рассредоточившись на несколько миль, расположилась дивизия Z. Против этих трех дивизий у русских было всего 4000 человек. Растянутые на шесть-семь миль позиции русских не были непрерывными. Собственно говоря, благодаря рельефу местности русские занимали две отдельные позиции. Одну на коническом холме и вокруг него у Кью-Лян-Чена, а другую на Айхэ, от устья на несколько миль вверх. На две эти позиции, каждую из которых защищало около двух тысяч солдат, были брошены три японские дивизии, что-то около 25 000 человек, поддерживаемые мощным огнем полевых орудий и гаубиц. Шрапнель помешала русским на Айхэ полностью отбить атаку, и русский левый фланг, который начал окружать противник, обладавший огромным численным перевесом, был вынужден оставить свои позиции и отступить к Хаматану. Правый фланг русских на коническом холме сражался упорно и держался гораздо дольше, но в конце концов уцелевшие также отступили к Хаматану. Японцы всегда практичны. По их мнению, резервы следует использовать не только для усиления линии обороны и спасения прорванного фронта, но и в минуты успеха, чтобы быстрее добиться решающей победы. Резервы, свежие, рвущиеся в бой, чтобы разделить с остальными славу этого дня, получили при^газ преследовать противника. Правый и левый фланги, а также центр бросились за русскими. Полевые орудия, задержавшиеся при переправе через Айхэ, догоняли их галопом. Отступление превратилось в бегство. Резервы русских, два полка, отошли без единого выстрела — во всяком случае, японцы о них ничего не сообщают. Хаматан расположен на перекрестке трех дорог в шести милях от конического холма. По этим трем дорогам и устремились русские и, встретившись вместе, вышли на главную Пекинскую дорогу, или, как иначе ее называют, Мандаринскую дорогу. И по этим же трем дорогам, правой, левой и средней, их преследовали японские резервы, которые догоняла их артиллерия. Тем временем в стороне от японского правого фланга, опережая погоню, одна рота успела отрезать пятнадцать русских пушек и восемь пулеметов «максим». Остатки трех русских батальонов собрались вокруг пушек и поспешно заняли оборону. Подкрепление к преследователям-японцам не прибывало. Но рота упрямо преграждала русским путь к Пекинской дороге. Японцы стояли, хотя у них были убиты капитан и три лейтенанта. В живых остался только один офицер. Были расстреляны все патроны. Оставшиеся в живых примкнули штыки, приготовившись к отражению атаки. И в этот момент подошли левый, правый фланги и центр — их товарищи по преследованию. Русские были атакованы с трех сторон. Теперь в безнадежном положении оказались они, но это не помешало им сражаться с величайшим мужеством. Они знали, что бой проигран, но продолжали упорно драться. Приближалась ночь. Когда японцы подошли ближе, русские порезали постромки, освободив лошадей, испортили замки своих пушек, разбили затворы «максимов» и, только отбив первую штыковую атаку, вынули из своих карманов белые платки в знак сдачи. Следует упомянуть об еще одном обстоятельстве, связанном с этим преследованием: на полпути до Хаматана, уже настигая русских и не сомневаясь в полноте своей победы, японцы остановили часть своих сил, чтобы иметь резервы на случай, если преследующие войска будут отброшены и разгромлены русскими подкреплениями. Вот так фанатическая храбрость сочетается у них с самой трезвой осторожностью. Да, только чудо способно помешать исполнению их столь тщательно разработанных Кланов. И солдаты сражаются с неистовой храбростью, твердо зная, что офицеры позаботились обо всех необходимых мерах предосторожности. Разумеется, и офицеры не менее храбры, чем солдаты. В ночь на 30 апреля, когда армия заняла позиции на Айхэ, еще не было известно, можно ли переправиться вброд через эту реку. Тогда несколько офицеров каждой из трех дивизий разделись и под огнем русских переплыли или перешли реку вброд в нескольких местах. «Люди, полные решимости умереть» — так один японский офицер отозвался о добровольцах, в которых никогда нет недостатка, когда предстоит опасная операция Еще не зная, как глубока Айхэ, японцы разработали три плана ее форсирования. Первый: в наступлении 1 мая солдаты пойдут одетые только в патронные сумки, с винтовками и досками, за которые будут держаться, переплывая Айхэ. Второй: одежда и снаряжение те же самые, но вместо доски кадка; и третий: лучшие пловцы переплывают реку с канатами и привязывают их на том берегу, чтобы за них при переправе могли держаться те, кто плавает плохо или совсем не умеет плавать. Каждая дивизия, каждая батарея была связана со штабом полевым телефоном. Когда дивизии наступали, они тянули провода за собой, точно паук паутину. Даже маленький флот в устье Ялу непрерывно держал связь со штабом. Благодаря этому главнокомандующий непосредственно контролировал все это широко раскинувшееся и в основном не видимое им поле боя. Изобретения, оружие, системы (флот по английскому образцу, армия — по немецкому) — японцы сумели использовать все достижения Запада.
ИЗ ПИСЕМ
ДЖЕКА ЛОНДОНА
Его засыпали письмами. Читатели, издатели, друзья. Человек со строгим распорядком дня, он отвечал на корреспонденцию ежедневно. Сохранились тысячи писем Лондона. В письмах он чаще по-деловому сдержан, рассудителен, нередко ироничен, некоторые его письма — это крик души, исповедь. После издания в Соединенных Штатах тома его переписки я мог считать себя свободным от условия, поставленного Ирвингом Шепардом — наследником Джека Лондона, не публиковать микрофильмированных мною неизвестных писем Лондона. Из нескольких сотен была отобрана часть писем к разным корреспондентам. Они дополняют биографию Лондона, дают представление о волновавших его вопросах и раскрывают некоторые секреты творческой лаборатории писателя.Виль Быков
К МЭЙБЛ ЭПЛГАРТ[12]
Окленд-парк, 30 ноября 1898 годаДорогая Мэйбл! Отвечаю сразу. Относительно лекарства: поскольку мои планы еще не определились, думаю, было бы лучше послать деньги мне, а заказ — Оул-драг-компани. Пошлите немедленно, чтобы Фрэнк[13] мог забрать их с собой. Он не уедет до субботы, а возможно, пробудет и дольше. Я искренне благодарен за Ваш интерес к моим делам, но… У нас нет общей почвы. Мои стремления Вам известны в общих, самых общих чертах, но реального Джека, его мысли, чувства и т. д. Вы совершенно не знаете. И все же, как это ни мало, вы знаете обо мне больше, чем кто бы то ни был. Я вел и веду свою битву в одиночку. Вы говорите о том, чтобы пойти к моей сестре. Я знаю, как она меня любит, а знаете, как и за что? Я прожил в Окленде несколько лет, а мы совсем не виделись — от силы раз в год. Если бы я последовал ее советам, то был бы сейчас клерком; получал сорок долларов в месяц, или железнодорожником, или еще чем-нибудь в том же роде. У меня была бы одежда на зиму, я ходил бы в театр и завел приличных знакомых, и принадлежал бы к какому-нибудь гнусному крохотному обществу вроде Ж. К. П.[14], говорил бы как они, думал бы как они; короче говоря, я был бы сыт, тепло одет, не знал бы, что такое угрызения совести, тяжесть на сердце, неудовлетворенное честолюбие, и имел бы единственную цель — купить в рассрочку мебель и жениться. Меня бы вполне тогда устроила такая кукольная жизнь до конца дней. Да, да, и сестра любила бы меня куда меньше, чем сейчас. Ведь любила она меня за то, что я чувствовал, что достоин большего, чем быть чернорабочим, механизмом, за то, что я доказал, что мой мозг чуть лучше, чем он должен был бы быть в моем невыгодном положении при отсутствии преимуществ; потому, что я был непохож на большинство тех, кто находился в одинаковом со мною положении. Впрочем, все это было второстепенным, а главное, она была одинока, у нее не было детей, а муж был плохим мужем и т. д., и ей нужно было кого-то любить. По той же причине те же чувства щедро изливались на Ж. К. П. Если бы завтра весь свет оказался у моих ног, не было бы человека счастливее ее, и она заявила бы, что всегда была уверена, что именно так и будет. А до тех пор… она бы посоветовала об этом не думать, погрузиться лет на сорок в безвестность, набивая живот и ни о чем не беспокоясь, и умереть, как и жил, — животным. Зачем учиться, чтобы извлекать радость из чтения каких-то стихов? Она ведь обходится и без этого и ничего не теряет; Том, Дик и Гарри обходятся без этого и счастливы. Для чего я совершенствую свой ум? Для счастья этого не нужно. Хватит с меня сплетен, мелких дрязг, глупых пустяков. Их ведь хватает Тому, Дику и Гарри, и они счастливы. Пока моя мать жива, я ничего не сделаю, но если бы она умерла завтра, а я бы знал, что моя жизнь останется такой и дальше, что мне суждено жить в Окленде, работать в Окленде на каком-то постоянном месте и умереть в Окленде, тогда я завтра же перерезал бы себе горло и положил бы конец всей этой проклятой жизни. Вы можете назвать это глупым порывом юношеского тщеславия и сказать, что со временем все настроится на нужный лад, но я уже получил свою долю настройки. Да, если бы я выполнял свой долг, как Вы изложили его в своем письме, кем бы я теперь был? Чернорабочим, то есть я хочу сказать, что годился бы только для черной работы. Вы знаете, какое у меня было детство? Когда мне было семь лет и я учился в деревенской школе в Сан-Педро, произошло вот что: я так истосковался по мясу, что однажды открыл корзинку какой-то девочки и украл кусок мяса — маленький кусочек, размером в два моих пальца. Я съел его, но больше никогда не повторял подобного. В те дни я, как Исайя, готов был продать свое первородство за миску похлебки, за кусок мяса! Бог мой! Когда ребятишки, наевшись, швыряли на землю недоеденное мясо, как мне хотелось поднять его из пыли и съесть! Но я этого не делал. Представьте же, как развивался мой ум, моя душа, в таких материальных условиях. Этот эпизод с мясом символизирует всю мою жизнь. Мне было восемь лет, когда я впервые надел рубашку, купленную в магазине. Долг! В десять лет я торговал на улице газетами. Каждый цент я отдавал семье, а в школе мне всегда было стыдно за мою шапку, башмаки, одежду. Долг! С тех пор у меня не было детства. В три часа утра на ногах, чтобы разносить газеты. Покончив с ними, я шел не домой, а в школу. После школы — вечерние газеты. В субботу я развозил лед. По воскресеньям я ходил в кегельбан ставить кегли для пьяных немцев. Долг! Я отдавал каждый цент и ходил одетый как чучело. А у других не было долга по отношению ко мне? Фред проработал на консервном заводе время летних каникул, за это он семестр учился в колледже. Я же работал на том же самом консервном заводе не в течение каникул, а целый год. Месяц за месяцем в течение этого года я начинал работу в шесть утра. Полчаса на обед, полчаса на ужин. Каждый вечер я работал до десяти, одиннадцати или двенадцати часов. Моя почасовая оплата была ничтожно мала, но я работал столько часов, что по временам вырабатывал до пятидесяти долларов в месяц. Долг! Я отдавал каждый цент. Долг! Я стоял у машины в этой проклятой дыре тридцать шесть часов подряд, а я ведь был ребенком. Помню, как я пытался скопить денег на покупку ялика — восемь долларов. Целое лето я экономил как мог. К осени у меня было пять долларов, потому что я отказывался от всех удовольствий. Моя мать пришла к моему рабочему месту и забрала эти деньги. В тот вечер я едва не покончил с собой. После года подобного ада так жалко… чтобы у тебя отняли такую маленькую радость! Долг! Если бы я разделял Ваше представление о долге, я бы никогда не пошел в среднюю школу, в университет, никогда — я бы так и остался чернорабочим. С детства мое тело и душа привыкли к лишениям, к голоду — так неужели они не обойдутся без некоторых излишеств на этом этапе игры? Да, я ушел из дому, но и тогда разве я убежал от долга? Семья получала от меня немало золотых монет. Когда я возвратился из семимесячного плавания, что я сделал со своим жалованьем? Я купил подержанную шляпу, несколько сорокацентовых рубашек, две пары нижнего белья по пятьдесят центов да подержанный пиджак и фуфайку. Ровно семьдесят центов я потратил, угощая ребят, с которыми дружил до того, как ушел в море. Остальное пошло на оплату долгов моего отца и в семью. Когда я работал на джутовой фабрике, я получил сорок долларов и еще приз в двадцать пять долларов на литературном конкурсе[15]. За десять долларов я купил костюм и выкупил из заклада часы. Вот и все, что я потратил. Два дня спустя мне пришлось снова заложить часы, чтобы добыть деньги на табак. А как часто, когда я убирал классы в средней школе, ко мне прямо во время работы приходил отец и брал полдоллара, доллар или два доллара? А ведь у меня нашлось бы на что их потратить самому! И когда отец приходил, а у меня не было ни цента, я шел к ребятам из «Иджиса»[16] и занимал под те деньги, которые должен был получить за будущий месяц. Знаете, сколько мне пришлось выстрадать, пока я учился в средней школе и университете? Даже бесы из ада рыдали бы, будь они на моем месте. А разве кто-нибудь об этом знает? Разве может знать? Долг! Два долгих года я без конца отбивался от него и рад этому. Вы меня знали прежде, до этих двух лет, — принесли они мне пользу? Вы говорите: «Это Ваш долг, если Вы хотите сохранить уважение тех, чьим одобрением и дружбой следует дорожить». Если бы я придерживался этого правила, разве я познакомился бы с Вами? Если бы я придерживался этого правила, кого бы я теперь знал, чьей дружбой я мог бы гордиться? Если бы я придерживался его с детства, то чьей дружбы был бы я теперь достоин? Теннисона? Или шайки хулиганов на уличном углу? Я не могу обнажить, не могу излить на бумаге свое сердце и только указал на некоторые конкретные факты моей жизни. Они могут послужить ключом к моим чувствам. Ведь если не знать инструмент, на котором играют, вы не оцените музыку. Что я чувствовал и думал во время этой борьбы, что я чувствую и думаю сейчас — это Вам неизвестно. Голод! Голод! Голод! С тех самых пор, как я украл кусок мяса и не слышал иного зова, кроме зова желудка, и до сего времени, когда для меня зазвучал более высокий зов, всегда это был голод, только голод. Вы не можете этого понять и никогда не поймете. И никто этого никогда не понимал. Все получалось само собой. Долг требовал: «Не продолжай, иди работать». Так говорила моя сестра, хотя и не мне в глаза. Все смотрели на меня косо; хотя они ничего не говорили, я знал, о чем они думают. Ни слова одобрения, а только осуждение. Если бы хоть кто-то сказал: «Я понимаю». Со времени моего голодного детства на меня смотрели равнодушными глазами или с недоумением или подсмеивались и издевались. И всего тяжелее было то, что я встречал такое равнодушие у моих друзей, не мнимых, а настоящих друзей. Я оделся в броню и принимал удары, словно не замечая их, а какую боль они причиняли мне и моей душе, не знает никто, кроме меня и моей души. Пусть так. Это еще не конец. Если мне суждено погибнуть, я умру, сражаясь до конца, и ад не получит обитателя более достойного, чем я. Но и в добре и в зле я, как и прежде, буду один. Но запомните, Мэйбл, что прошло то время, когда меня прельщала джентльменская этика во вкусе Джона Галифакса. Мне безразлично, если мое настоящее, все, что у меня есть, погибнет, я создам новое настоящее; если завтра я буду наг и голоден, я не сдамся, а пойду нагой и голодный; если бы я был женщиной, я бы стал отдаваться любому встречному, но я бы добился успеха, короче — я его добьюсь. Прошу извинить, что я так много говорил о себе, я рад, что Вам лучше. Мне так хочется побывать у Вас, и я приеду, если смогу. Пока я это пишу, Фрэнк играет на скрипке, а Джонни[17] бесится в комнате как может, поэтому извините за бессвязность письма. Скажите Тэду[18], я напишу ему через пару дней и попрошу его подробнее объяснить, что это за гимн он мне прислал.
Ваш Джек.
28 января 1899 года Я убежден, все, что я написал, почти полностью отражает ту мысль, тот образ, который жил в моем сознании. Я знаю, что, если бы я полностью нарисовал образ Мельмута Кида[19] в одном коротком рассказе, то пропал бы смысл создания серии рассказов с этим героем… Кстати, забыл сообщить Вам в последнем письме, что в списке кандидатов в почтальоны я стою первым[20]. Я получил 85,38 % баллов. Наш почтальон говорит, что меня возьмут почти наверняка. Сначала они берут тебя помощником, долларов на 45 в месяц. Примерно через полгода можно попасть в штат с окладом в шестьдесят пять долларов. Однако может пройти целый год, прежде чем я вообще получу что-нибудь… Джон Китс писал мисс Джеффри: «Англия рождала самых лучших писателей в мире отчасти потому, что англичане плохо обращаются с ними, пока они живы, и прославляют их после смерти». Что Вы об этом думаете? Пусть у Вас ни на секунду не возникнет мысль, будто и я зачисляю себя в эту категорию. Себя я считаю неловким подмастерьем, изучающим опыт мастеров искусства и старающимся им овладеть…
КЛОУДЕСЛИ ДЖОНСУ[21]
22 февраля 1899 года «Предъявите счет компаний» или «Коршун и К0» были бы хорошими заглавиями для Вашего рассказа. Я бы предпочел первое, но мне кажется, если бы Вы немножко поломали голову, то нашли бы еще лучше. Но с самого начала я бы хотел сказать, что я не могу справедливо судить о стиле и вообще ни о чем, если текст не отпечатан хотя бы на машинке. О рукописи, написанной от руки, можно судить только на слух. Но то, что пишу я сам, я оцениваю на глаз. А потому мне приходится все печатать. Под словами «судить на глаз» я подразумеваю следующее: когда кто-то начинает сочинять стихи, он обязательно считает слоги по пальцам, но, набираясь опыта, он постепенно и бессознательно утрачивает эту привычку, а я точно так же взглядом воспринимаю ритм и структуру. Но вернемся к теме: Ваш рассказ зрелый, в нем есть дыхание грубой жизни, настоящей жизни он посвящен. А посоветовал бы я Вам вот что: вычеркните все прямые ссылки на компанию «Нортон-Дрейк» и добавьте еще тысячу слов, чтобы превратить своих мексиканцев в реальных людей (пока они куклы) и развить образ Маккарти и О’Коннела. Оба они правдивы, но сделайте их еще более убедительными, проникните поглубже в психологию и национальные особенности. Короче говоря, раскройте побольше их миропонимание, характеры и т. д. На словах трудно объяснить, что я имею в виду. Например, о мексиканцах. Статистика не вызывает эмоций, если подавать ее как статистику. Не рассказывайте, что компания обращается с людьми вот так-то, обманывает их так-то. Пусть читатель узнает об этом через восприятие ваших героев, пусть читатель увидит ситуацию их глазами. Есть много способов, как это сделать, и самый простой — это заставить их разговаривать друг с другом. Пусть они ругаются и изливают свою горечь, рассказывая о несправедливостях, которые творит компания (или так им кажется), о своей ненависти к хозяевам и т. д. и т. п. Ну, вы понимаете. Кроме того, заставьте нас больше сочувствовать Маккарти. Покажите отчетливее его достоинства, которые Вы, несомненно, имели в виду. Помните, что читателю он неизвестен, а известен только Вам. Для Вас каждый поступок Маккарти — это поступок известного Вам человека, а для читателя же — это поступок Маккарти, которого Вы описали, и т. д. Что же касается компании «Нортон-Дрейк», то ее осуждает полмира, и по этому поводу написано немало романов. Но это неподходящая тема для беллетристики. Чтобы обличить такую компанию, нужна статья (в 3000 слов) разоблачительная и сенсационная, а вовсе не рассказ, и взяться за это должна газета, — видите ли, на все есть своя манера. Не нужно давать компаниям их настоящие названия, выдумайте им другие или, еще лучше, говорите отвлеченно. Любой дурак прочтет между строк. Себя в рассказ не вводите. Я заметил в тексте несколько «я», они режут слух. Пусть он весь будет в третьем лице. Избегайте повторений (иногда они позволительны, но редко). На стр. 1, в абзаце 3 из четырех слов слово «волны» появляется дважды, замените на «валы» или на что-нибудь другое… В заключение я хотел бы сказать, что у Вас в этом рассказе есть впечатляющий материал, сильные типы, расовые контрасты, первобытные инстинкты и т. д. Я бы посоветовал Вам все переписать заново. Попробуйте внушить читателю больше сочувствия к актерам трагедии и т. д. Сейчас рассказ неплох, но в нем заложено еще много нераскрытых возможностей. Я понимаю, что переделал все не так, что Вы не поймете меня правильно и не раз назовете ослом и т. д. Но что поделаешь! Мне еще не приходилось заниматься критикой, а поэтому я говорю, что думаю и могу дать Вам хотя бы искренность, по крайней мере. Будь бы у меня возможность поговорить с Вами лично, достаточно было бы нескольких минут, чтобы все стало гораздо яснее… Остаюсь искренне ВашДжек Лондон.
27 февраля 1899 года Дорогой сэр… Не могу выразить, какое впечатление произвело на меня известие, что написанное мной нравится кому-то еще. Ведь из всех людей автор менее всего способен судить о своих произведениях… Когда я кончаю вещь, я, как правило, не могу сказать, хороша она или никуда не годится… Я вел такую бродячую жизнь, что в моем чтении и образовании создались огромные пробелы, и я настолько это сознаю, что сомневаюсь в себе; кроме того, когда я пишу, я проникаюсь темой до такой степени, что в конце концов устаю от нее. Я, конечно, понимаю, что, сравнив меня с Тургеневым, Вы сделали мне большой комплимент, но, хотя я знаю, какое высокое место он занимает в литературе, мне он почти неизвестен. Кажется, в Японии, я читал его «Дворянское гнездо»; но это единственная его книга, которая мне знакома, и я даже не уверен, такой ли у нее заголовок. Ведь так много хороших книг и так мало времени, чтобы их читать! Порой я с грустью думаю о тех часах, которые потратил на посредственные вещи, просто за неимением лучших. За Вашу доброту я могу вас только благодарить — она вдохнула в меня новую жизнь и в то же время расставила несколько вех на неизведанном пути, который вынужден пройти начинающий. Напишите, пожалуйста, какую ошибку имели вы в виду. Наборщики сделали несколько грубых опечаток, худшая — самовольное изменение заглавия, она же и самая неприят ная. В машинописном тексте было ясно: «То the man on Trail»[22], они напечатали так: «То the man on the Trail». Какой «Этот путь»? Я имел в виду путь вообще. Искренне ваш
Джек Лондон.
7 марта 1899 года Как мне понятно, что Вы жалуетесь на друзей, которые называют Ваши произведения «великолепными», «прекрасными» и т. д. То же самое пришлось пережить и мне. Чем дальше в сторону уходил я от проторенных дорог (я имею в виду ортодоксальное направление современного стиля и литературного искусства), тем более сыпалось на меня похвал — от моих друзей. А поверьте, я бродил во мраке, который приводил меня в отчаяние. С тех пор я пришел к выводу, что они видели нечто такое, чего не видел я. И вот я перестал им доверять, и однажды, месяцев пять или шесть назад, я вдруг понял, что было все не так. Прежнее рассыпалось прахом, и я начал учиться всему заново. Вначале я совсем растерялся — даже не чувствовал разницы между запятой, двоеточием и точкой с запятой. Но с тех пор я упорно тружусь… Мне никогда не приходилось читать произведений Моро. Но я всем сердцем присоединяюсь к Вашему восхищению Робертом Луисом Стивенсоном. Какой прекрасный пример целеустремленности и самосовершенствования! Как рассказчику ему нет равного; то же самое можно сказать, пожалуй, и о его очерках. Чары иных его произведений для меня просто неотразимы, самая сильная из всех его вещей — это «Отлив». Сравнивать Стивенсона с другими его знаменитыми соотечественниками просто невозможно: не существует таких мерок, которые бы мы приложили к ним и к нему… Я не умею перерабатывать рукопись, сочиняю я обычно так: пишу от пятидесяти до трехсот слов, потом перепечатываю это на машинке для редакции. Все необходимые исправления вносятся в процессе перепечатки или делаются позже чернилами. Возможно, когда-нибудь я овладею искусством гранильщика. Я уже научился сочинять рассказ до самого конца, прежде чем коснусь пером бумаги. Я убедился, что так я достигаю лучших результатов…
15 марта 1899 года Я согласен с Вами, что Р. Л. Стивенсон никогда не выпускал полированной чепухи, а Киплинг выпускал; но Стивенсону никогда не приходилось думать о деньгах, тогда как Киплинг, всего лишь журналист, вредил себе тем, что больше заботился о немедленной продаже своих произведений, чем о посмертной славе… Итак, Вы закончили роман? Счастливец! Как я Вам завидую! У меня пока все еще в планах — вещей до двадцати, но одному богу ведомо, когда у меня будет возможность начать хотя бы одну из них, не говоря уж о том, чтобы ее закончить. Я пришел к выводу, что легче сделать одну книгу в тридцать пять — шестьдесят тысяч слов и хорошо написанную, чем роман в четыре раза длиннее и слабо написанный. Как Вы считаете? Сообщите о Вашем романе, каков его объем, тема и т. д.?
30 марта 1899 года …Думаю, Вам много приходилось встречать гениальных бродяг, не так ли? Я ведь тоже когда-то был бродягой и проехал от океана до океана самым общепризнанным способом, попрошайничал под окнами. Один раз, помню, в Мичигане ушел со званого вечера и за ночь перебрался по озеру в Чикаго. Наутро я уже стучался там в задние двери в поисках завтрака. В следующую ночь я успел углубиться в штат Огайо более чем на двести миль, прежде чем меня ссадили с поезда. Интересно, что подумала бы барышня, которую накануне я вел к ужину, если бы она увидела, как далеко я укатил на следующий день или следующую ночь! Как я болтаю — и все о себе! Надеюсь, Вы не скрыли своего истинного отношения к моей критике; я же был готов ко всему. Рассказ Ваш хорош, но мне всегда так бросается в глаза возможность что-то улучшить, что я не смог удержаться от советов. Сам я не умею переписывать, но зато я и пишу медленнее. Прежде я мчался как ураган, но вскоре обнаружил, что пишу хуже, чем мог бы, и постепенно отделался от этой дурной привычки. После того как я послал Вам свои замечания и, вспомнив из-за них про Бирса, я вытащил его «Солдат и штатских». В его произведениях я замечаю полнейшее отсутствие сочувствия к людям. Рассказы его по-своему прекрасны, но причиной тут вовсе не изящество стиля; я бы сказал, что их отличает металлический и интеллектуальный блеск. Они обращены к уму, а не к сердцу. Да, конечно, они воздействуют и на нервы, но в психологическом, заметьте, а не в эмоциональном плане. Я, кстати, большой его поклонник и всегда с удовольствием читаю его вещи в воскресных выпусках «Экзаминер». Письмо из «Вестерн-пресс» нельзя назвать иначе, как многообещающее. Несомненно, Ваша работа произвела на них сильное впечатление. Буду рад прочесть эту статью. Жаль, что они платят так мало, но Вы можете, как и многие, получить больше, если подготовите сборник и опубликуете его в виде книги. Какую область (я имею в виду, какие газеты) охватывает этот синдикат? С Вашей стороны очень любезно уступить мне ведущую роль на «западе», но я ни в коей мере этого не заслуживаю; наш стиль, метод и т. д. настолько сильно отличаются, что это попросту нелепо. Но мы поступим как Антоний и Октавиан — поделим мир между собой. Как Вы считаете? Должен признаться, письма Ваши действуют освежающе, в них чувствуется личность и своеобразная личность. Вы, во всяком случае, не затеряетесь в толпе. Сильная воля поможет всего добиться — а я убежден, что у Вас она есть, — почему же упорные занятия не взять себе в привычку? Такой вещи, как вдохновение, не существует, да и гениальности во многом тоже. Упорный труд при благоприятных условиях заменяет то, что иные называют вдохновением, и дает возможность развиться крупице гениальности, если она есть. Труд — это удивительная вещь и сдвигает куда больше гор, чем вера. Собственно говоря, труд — это законный отец веры в себя… Это хорошо, что вы понимаете преимущества отсутствия богатства, и Вам, судя по всему, это идет на пользу. Меня богатство превратило бы в короля гуляк, и я в тридцать лет умер бы от пьянства, если бы еще раньше не погиб в результате несчастного случая. У нас много общего. Я тоже работал как вол, а ел за четверых, но что касается работы, ни одна душа не скажет, что Джек Лондон хоть от чего-то уклонялся. Мне ненавистна сама мысль о такой напрасной трате времени…Моя самая большая слабость — это стремление изучать человеческую природу. Не признавая бога, я сделал предметом своего поклонения человека и, конечно, успел узнать, как низок он может быть. Но от этого мое уважение к нему только возрастает, потому что это позволяет отчетливее увидеть те гигантские высоты, на которые он может подняться. Как он мал и как он велик! Но эта слабость — это желание обязательно докопаться до души каждого нового человека доставляло мне немало неприятностей. В 1900 году я, вероятно, поеду в Париж, но до этого должны произойти большие события. Мне понравился присланный Вами рассказ. Ни сентиментальных излияний, ни истерик, и какой внутренний пафос! Разве можно не проникнуться сочувствием к миссис Анертон? Журналы наши настолько благопристойны, что я сомневаюсь, чтобы они напечатали такую рискованную и хорошую вещь. Их постоянная забота о том, чтобы не вогнать в краску невинную американскую барышню, отвратительна. И ведь ей разрешают читать газеты! Вы когда-нибудь читали сравнение, которое Поль Бурже провел между молодыми американками и француженками?..
ИЗДАТЕЛЬСТВУ ХОФТОН МИФФЛИН[23]
Окленд, Калифорния 31 января 1900 годаГоспода! Отвечаю на Ваше письмо от 25 января с просьбой о дополнительных биографических сведениях. Мне придется пополнить мой прошлый рассказ, поэтому нижеследующее по необходимости будет отрывочным. Мой отец родился в Пенсильвании, солдат, следопыт, лесоруб, охотник и любитель странствовать. Моя мать родилась в Огайо. Оба приехали на Запад, познакомились и поженились в Сан-Франциско, где 12 января 1876 года родился я. Но лишь небольшую часть самого раннего детства я провел в городе. С четырех до девяти лет я жил на разных ранчо в Калифорнии. Читать и писать я научился, когда мне шел пятый год, правда, я ничего об этом не помню. Я всегда умел читать и писать, и никаких воспоминаний о времени, предшествовавшем этому состоянию, у меня нет. Мои близкие говорят, что я потребовал, чтобы меня научили читать. Читал я все подряд, главным образом потому, что книг было мало и я радовался всему, что попадало мне в руки. В шесть лет, помню, я читал какие-то повести Троубриджа для подростков. В семь лет я прочел «Путешествия» Поля дю Шайю, «Плавания» капитана Кука и «Жизнь Гарфилда». Тогда же я проглотил все романы «Морской библиотеки», какие смог достать у женщин, и дешевые романы, которые брал у батраков. В восемь лет я читал Уйду и Вашингтона Ирвинга А также довольно много книг об американской истории. Нужно иметь в виду, что жизнь на калифорнийском ранчо не очень способствует развитию воображения. Когда мне шел девятый год, мы перебрались в Окленд; теперь его население, по-моему, доходит до восьмидесяти тысяч, и за тридцать минут оттуда можно добраться до центра Сан-Франциско. Так я получил доступ в бесплатную библиотеку, и это было для меня главным. Окленд стал моим домом. Здесь умер отец, и здесь я живу с матерью. Я не женат: мир слишком велик, и его зов слишком настойчив. С девяти лет если не считать посещения школы (я оплачивал его тяжелым трудом), я вел трудовую жизнь. Нет смысла перечислять, чем я занимался, — все это была черная работа, потому что ни одного ремесла я не знал. Разумеется, я продолжал читать. Никогда не бывал без книги. Мое образование было самым обычным, начальную школу я кончил в четырнадцать лет. Меня потянуло к воде. Пятнадцати лет я ушел из дому и стал жить на заливе. Между прочим, Сан-францисский залив — это не мельничный пруд. Я был рыбаком, устричным пиратом, матросом на шхуне, служил в рыбачьем патруле, был портовым грузчиком, в общем, искателем приключений на заливе — мальчишка по годам и мужчина среди мужчин. И всегда с книгой и всегда за книгой, когда другие спали; а когда они вставали, я был таким же, как они, потому что я всегда был хорошим товарищем. Через неделю после того, как мне исполнилось семнадцать лет, я нанялся матросом на трехмачтовую промысловую шхуну. Мы отправились к берегам Японии и охотились на котиков, дальше на севере, у русского побережья Берингова моря. Это самое длительное мое путешествие; и больше я не ходил в такие долгие плавания, не потому, что оно было скучным или долгим, но потому, что жизнь слишком коротка. Однако короткие путешествия я совершал, слишком короткие, чтобы о них упоминать, и теперь чувствую себя дома в любом кубрике или в кочегарке — ведь отношения там всегда самые товарищеские. Больше, по-моему, о моих путешествиях прибавить нечего, так как в предыдущем письме я уже подробно описал мое бродяжничество и поездки на Клондайк. Пересек Канаду, был на Северо-Западе, на Аляске и т. д. и т. п. в разное время, не считая того, что я работал на приисках, был старателем и исходил Сьерру-Неваду. Я уже говорил о своем образовании. В основном я занимался самообразованием, другого наставника, кроме себя самого, у меня не было. Я выбирал то, что считал нужным из программ средней школы и колледжа, так как обнаружил, что не могу следовать по выбитой колее — у меня для этого не было ни времени, ни денег. Один год я посещал среднюю школу в Окленде, потом занимался дома сам и, уложив следующие два года в три месяца, сдал вступительные экзамены и поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Был вынужден против своего желания оставить его перед самым окончанием первого курса. Мой отец умер, когда я был на Клондайке, и я вернулся домой, чтобы впрячься в работу. Теперь о моей литературной деятельности. Первая моя журнальная публикация (я не писал для газет) появилась в январе 1899 г.; сейчас это пятый рассказ в сборнике «Сын Волка». С тех пор я писал для «Трансконтинентального ежемесячника», «Атлантика», «Волны», «Арены», «Спутника юношества», «Обозрения обозрений» и т. д. и т. п., не считая множества мелких публикаций и статей для газет и синдикатов. Все это — или почти все — поденная работа, от анекдота или триолета до псевдонаучных рассуждений о совершенно незнакомых мне предметах. Поденная работа ради денег — вот и все, а всякую надежду создать что-то значительное приходилось откладывать до тех времен, когда я буду материально менее стеснен. Таким образом, мой литературный возраст исчисляется сейчас тринадцатью месяцами. Естественно, раннее чтение пробудило во мне желание писать, но мой образ жизни мешал этому. Никакой литературной помощи или совета я не получал, а, так сказать, бил молотком в темноте, пока не пробил отверстий тут и там и не увидел проблеска дневного света. Самые элементарные сведения о работе журналов и тому подобном были для меня откровением. Некому было сказать мне: вот это так, а здесь ты ошибаешься. Разумеется, в период революционных настроений я доводил свое мнение до публики через посредство местных газет, бесплатно. Но это было несколько лет назад, когда я ходил в среднюю школу и шокировал, а не вызывал уважение. Кстати, когда я вернулся из своего плавания на промысловой шхуне, я получил за очерк награду в двадцать пять долларов от сан-францисской газеты, опередив студентов Стэнфордского и Калифорнийского университетов, которые заняли второе и третье места. Это вселило в меня надежду достичь чего-нибудь в будущем. После периода бродяжничества я в 1895 году поступил в среднюю школу. В Калифорнийский университет я поступил в 1896 году, то есть если бы я продолжал учиться, то сейчас я как раз готовился бы к получению диплома. Что же касается учения, то я всегда учусь. Задача университета состоит в том, чтобы подготовить человека для учения в течение всей последующей жизни. Я был лишен этого преимущества, но тем не менее продолжаю учиться. Не проходит ни одной ночи (независимо от того, было ли это дома или где-то еще), чтобы я не провел несколько часов в постели за книгами. Меня интересует все — ведь мир так хорош! В основном я изучаю точные науки, социологию и этику — сюда, конечно, также входят биология, экономика, психология, физиология, история и т. д. и т. п., без конца. И кроме того, я стараюсь не забывать о литературе. Я здоров, люблю спорт и почти им не занимаюсь. Возможно, когда-нибудь мне придется расплатиться за это. Вот, пожалуй, и все. Знаю, что сообщенные мною сведения скудны, но автобиография не доставляет особого удовольствия, если она смертельно надоела рассказчику. В том случае, если Вам потребуются дополнительные сведения, укажите какие, и я их представлю. Кроме того, я буду искренне благодарен за возможность просмотреть биографическую статью, перед тем как она будет напечатана. Искренне преданный Вам
Джек Лондон
КЛОУДЕСЛИ ДЖОНСУ
16 июня 1900 года …Клоудесли, не кажется ли Вам, что тема использована Вами лучшим образом? Я помню, что Вы писали для сборника «Рассказы и очерки дороги» и что Вы намерены их переписать, но все-таки я спрашиваю, верный ли путь Вы избрали? В общем, Вы подходите к теме так же, как Викоф[24] в «Рабочих» («Восток и Запад»). Но он подходит к ней с научной точки зрения и, если можно так выразиться, с эмпирически научной. К тому же он больше занимался рабочими, чем бродягами, но это, впрочем, не исключает применения того же метода. Вы же по-своему чересчур сухи. Ваш подход, с точки зрения выбора объекта и тематики, отличается от его подхода. Следовательно, и Ваш стиль должен быть другим. Вы имеете дело с живой жизнью, романтикой, с человеческой жизнью и смертью, юмором и пафосом и т. д. Но, черт побери, обработайте все это должным образом. Не рассказывайте читателю о философии дороги (за исключением тех случаев, когда Вы выступаете от первого лица, как участник). Не рассказывайте! Ни в коем случае! Ни в коем! Пусть Ваши герои расскажут о ней своими делами, поступками, разговорами и т. д. Только тогда, то, что Вы пишете, будет художественным произведением, а не социологической статьей об определенной прослойке общества. И создайте верную атмосферу. Придайте своим рассказам объемность, не подменяя ее длиной, рожденной рассказом о том, что следует показать. Ведь это художественное произведение, и читателю не нужны Ваши рассуждения на эту тему или изложение Ваших взглядов на нее, Ваших видений как таковых, Ваших мыслей и идей, ее касающихся, — нет, вложите все это в рассказы, в сюжеты, а сами устранитесь (за исключением тех случаев, когда выступаете как участник). Вот это-то и создаст атмосферу, А этой атмосферой и будете Вы, понимаете, это будете Вы! Вы! Вы! И за это, только за это Вас будет хвалить критика и ценить публика, только тогда Ваши сочинения станут искусством. Короче говоря, тогда Вы будете художником; если же Вы этого не сделаете, то будете ремесленником. В этом-то вся и разница. Изучайте Киплинга, которого терпеть не можете, изучайте «Отлив» Вашего обожаемого Стивенсона. Изучайте их для того, чтобы увидеть, как они самоустраняются и создают вещи, которые живут, и дышат, и овладевают людьми, и заставляют лампы читателей гореть за полночь. Атмосфера всегда означает самоустранение художника, иными словами, атмосфера — это художник, а когда атмосфера отсутствует, а художник присутствует, значит, машина скрипит и читатель это слышит. Сделайте свои фразы крепкими, свежими и живыми. И пишите напряженнее, а не так утомительно и длинно. Не рассказывайте, а рисуйте, очерчивайте, стройте! Творите! Лучше тысяча хорошо построенных слов, чем целая книга посредственного, растянутого, небрежного материала. …Прокляните себя! Забудьте о себе! И тогда мир Вас будет помнить. А если Вы не проклянете себя и не забудете о себе, тогда мир не станет Вас слушать. Вложите всего себя в произведение так, чтобы оно стало Вами самим, но так, чтобы Вас нельзя было заметить. Когда в «Отливе» шхуна пристает к жемчужному острову и миссионер, собиратель жемчуга, встречает этих трех отчаявшихся людей и противопоставляет им свою волю в борьбе не на жизнь, а на смерть, разве читатель тогда думает о Стивенсоне? Разве хоть на миг ему приходит мысль о писателе? Нет и нет. Потом, когда все кончено, он вспоминает, дивится и проникается любовью к Стивенсону. Но не во время чтения. Тогда он о нем не думает. А разве у Шекспира слышен скрип колес? Когда Гамлет произносит свой монолог, разве читатель в этот момент думает, что это Шекспир? Но потом, да, потом, он говорит: «Как велик Шекспир!» 22 декабря 1900 года— Да, конечно, какое-то сочувствие рассказ «Могильщик» вызывает. Но очень незначительное, если взглянуть с точки зрения читателя. Ведь его сильные стороны остаются в потенции. Он содержит все возможности для возбуждения сочувствия, но эти возможности не использованы. И по многим причинам. Первая и самая главная — Вы неправильно подошли к теме. Существует множество способов обработки сюжета, любой ситуации, но только один из них наилучший. На мой взгляд, Вы выбрали не наилучший. Я имею в виду точку зрения. Ваш умирающий герой — это частное, а мир — Ваши читатели — это всеобщее. Вы, написав этот рассказ или очерк, отнесли частное ко всеобщему. Чтобы быть правдивым, быть художником, вам следовало отнести частное через частное же ко всеобщему. Вы поступили не так. Вы отнесли частное ко всеобщему через всеобщее. Попробую объяснить. Вы избрали точку зрения читателя, а не главного действующего лица трагедии. К трагедии и основному действующему лицу Вы подошли через читателя, вместо того чтобы подойти к читателю через трагедию и ее основное действующее лицо. Или, проще говоря, пусть будет сбивчиво, читатель не проникает в этого героя и не воспринимает происходящее через его душу. Читатель стоит в стороне, как посторонний зритель. А так не должно быть. Читатель, к примеру, не смотрел на окружающее глазами героя; читатель не увидел, как герой видел — или должен бы был видеть — стервятников, спускающихся все ниже. Чтобы пояснить свою мысль, я должен взять что-нибудь конкретное. Вчера я правил корректуру своего рассказа («Закон жизни») для журнала Мак-Клюра. Написан он был месяцев восемь назад и будет опубликован в февральском номере. Пожалуйста, прочтите его. и Вам станет понятнее то, что я пытаюсь объяснить. Этот рассказ короток, относит частное ко всеобщему и показывает одинокую смерть старика, а трагедию завершают звери. Старик этот — старый индеец, оставленный в снегах своим племенем, потому что он слишком одряхлел. У него есть небольшой костер и немного сучьев. Вокруг мороз и безмолвие. Он слепой. Как же я подошел к этому событию? С какой же точки зрения я на него взглянул? Конечно же, с точки зрения старого индейца. Повествование начинается с того, как он сидит у своего маленького костра, слушает, как его соплеменники снимают лагерь, запрягают собак и пускаются в путь. Вместе с ним читатель прислушивается к каждому знакомому звуку, слышит, как скрывается за деревьями последняя упряжка, ощущает, как воцаряется безмолвие. Старик вспоминает прошлое, и читатель следует за ним, и вот весь сюжет раскрывается через душу индейца. До самой кульминации, когда вокруг него смыкается кольцо волков. Как видите, все, даже оценка и обобщения, делается только через него, через воплощение того, что испытывает он. Что же касается финала Вашего рассказа, то поступили вы неверно. Вам следовало бы кончить на этом: «А птицы еще продолжали лениво кружить над скалами, и темные пятна начинали закрывать ему небо пустыни». Вот настоящий конец, пусть он лежит там, беспомощный, и, хрипя, всматривается в эти черные точки. Так и читатель будет лежать на том же месте, задыхаясь, и смотреть его глазами, только его глазами, за дверь хижины на жаркое марево. А у Вас читатель не смотрит его глазами за дверь хижины. А что же делает читатель? Он сидит где-то на вершине скалы или висит в воздухе и смотрит сверху в глаза героя и в дверь хижины. Вы понимаете? Ваш рассказ я выслал, как сообщал, несколько дней назад; но, пожалуйста, обдумайте все это и попробуйте переписать его, полностью переписать. Я уверен, что Вы не обидитесь на мою критику. О Вашем стиле: он хромает, и ему не хватает связности. Разнообразьте структуру предложений. Ваши фразы слишком часто одинаковы по структуре, а нередко и по длине. Быстрые, энергичные фразы, короткие, четкие и завершенные обычно хороши для действия. Но если их использовать для статических описаний или второстепенных действий, то для основного действия, главного действия они уже бесполезны и даже вредны… Да, еще одно, Клоудесли. Вы одновременно и скупы и расточительны! Вы бедны на слова и щедры на содержание. Искусство опускать необыкновенно важно, но его нужно верно понимать. Из множества деталей, множества характерных черт выбирайте единственную, наиболее выразительную, но, бога ради, выбрав, используйте ее во всю силу. Для этого рассказа можно набрать десяток важных деталей и тысячу мелких. Ваша задача отобрать одну главную и несколько мелких. Но уж тогда не забывайте о мелких, хотя и подчиняйте их всякий раз главной. Например, как щедро Вы бросаетесь эпизодом уходящей весны, которая делает героя еще более одиноким! Вы разделались с ним двумя-тремя короткими фразами! А ведь Вам следовало взяться за это где-то в самом начале, незаметно, хитро, постепенно, но постоянно подсознательно подготавливая к этому читателя. Пусть он в сердце огромной пустыни привыкнет к весне и ищет у нее утешения, как у живого существа, приляжет возле и размышляет о прошлом, рассуждает… Пусть весна войдет в него, пока не станет его частью, — и вот тогда, когда она исчезнет, Ваша мысль достигнет кульминации, трагедии, без единого слова о ней. Трагедия станет очевидной сама по себе. И достаточно простого сообщения, что весна ушла. И нет нужды говорить, что он почувствовал себя более одиноким, нет никакой нужды, если была хорошо проведена подготовительная работа. Черт побери! Трогательность! Да, один этот эпизод может стать безмерно трогательным, но Вы не раскрыли его. Все его возможности еще в потенции. Вы понимаете, к чему я веду? Да, действительно, после долгой задержки «Космополитен» присудил мне премию[25]. Льщу себя мыслью, что я один из немногих социалистов, которым удавалось заработать деньги своим социализмом… Война — что я думаю о ней? Прочтите в «Оверленд мансли» мой отзыв о книге Блоха. Я утверждаю в ней, что война как прямое средство добиться желаемой цели бесполезна, что теперь она превратилась в косвенное средство. Что за ней стоят экономические факторы, которые проявляются через нее и осуществляют желаемую цель. «Не битвы, а голод» — вот что я написал.
4 февраля 1901 года Дорогой Клоудесли! Не умер, но, как всегда, некогда… Я так горячо желал стать отцом, что мне даже не верилось в возможность такого счастья. Но это свершилось. И чудесный здоровый ребенок. Вес девять с половиной фунтов, что для девочки, говорят, хорошо. Пока аппетит у нее прекрасный, а болезней — никаких, потому что она только и делает, что ест, спит или по целому часу тихонько лежит с открытыми глазками. Думаю назвать ее Джоан. Скажите, нравится ли Вам это имя и какие ассоциации оно вызывает. [Далее Джек Лондон обращается к теме предыдущего письма, где обсуждались вопросы социализма.] …Я говорю не о том, что должно быть, и не о том, чего хотел бы я, но о том, что есть и что будет. Мне хотелось бы, чтобы сейчас был социализм, однако я знаю, что социализм не является ближайшей ступенью, я знаю, что прежде капитализм должен изжить себя; что прежде мир должен быть им разграблен до предела, что прежде произойдет жестокая, напряженная, гораздо более широкая, чем когда бы то ни было, борьба за жизнь между нациями. Конечно, я предпочел бы проснуться завтра в полностью устроенном социалистическом государстве, но я знаю, что этого не будет, я знаю, что так это произойти не может. Я знаю, что ребенок должен переболеть всеми детскими болезнями, прежде чем он станет мужчиной. Поэтому помните, что я всегда говорю о том, что есть, а не о том, что должно быть.
АННЕ СТРУНСКОЙ
Окленд, конец 1901 годаДорогая Анна! Ваше письмо — великолепное, изящно-великолепное добавление к книге[26]. Я страстно желаю видеть это напечатанным (книгу, конечно, но я имею в виду Ваше письмо). Я хочу видеть ее завершенной. И хотя я не смог ответить на Ваше письмо, оно тем не менее побудило меня работать. Прилагаю мою попытку переписать первое письмо. Я целых два дня сидел над ним и серьезно его переработал. По трудностям, которые у меня возникли, и по опыту с первым ужасным вариантом я заключаю, что мне нужно будет переписать его в третий раз (при окончательном редактировании), чтобы оно прилично выглядело. Однако я шлю его таким, как оно есть. Я и представить себе не мог, что мои первые письма так плохи. Теперь я это вижу. Вы заметите, что я мало места отвел Эстер, а больше места другим маловажным вещам. Я охарактеризовал ее психологию, ее интеллектуальный склад, как это представляется нелюбящему Герберту Уэйсу. Для читателя я уже приоткрыл трещину между Вами (Дэном Кэмптоном) и мной. В начале книги мы осознаем наши расхождения, смутно осознаем: несомненно, одной из задач книги будет разделить нас так, чтобы эта трещина обозначалась отчетливо Я заменю своего землевладельца другом Гуинном. Я разовью для него любовную линию, которая достигнет кульминации в одном из его писем: естественно, в споре любовная история будет доказательством в мою пользу. Тороплюсь захватить почтальона. Воскресный вечер в 1901 году.
Джек.
Окленд 1901 — начало 1902 года Дорогая Анна! Прилагаю письмо № 2. Должен признаться в том же чувстве, какое преследовало Вас, когда Вы писали мне. Я не знаю, что делать. Как в тумане, чувствую, что ошибаюсь во всем, что не строю характеры, как должен, и даже письма пишу не так, как их нужно писать. Но я надеюсь — со временем все вызреет. Во всяком случае, это хороший способ честно понять ограниченность человеческих возможностей. Как Вы относитесь к тому, что я делаю из Эстер поэта? Поэта или поэтессу? Ненавижу слово «поэтесса». Существует ли слово «лирист»? Есть слово «лирик», означающее то же самое, но я не люблю его. Понимаете ли Вы мою новую поэтическую школу, которая, возможно, будет основана Эстер? Поэзия машинного века. Я могу разработать ее в последующих письмах. Замечаете ли Вы, Дэн Кэмптон, что я ничего не сказал Вам о внешности Эстер? Я не люблю насыщать, громоздить второстепенные конфликты. Может показаться, будто я принимаю спорный вопрос за решенный, и, однако, не могу представить себе иного его решения. Мне оно кажется почти бесспорным. Может быть, я не прав. Не знаю. Вот так. Дайте о себе знать. Я больше не могу писать. Пришлось отвлечься, доканчиваю письмо ночью и смертельно устал. Кроме того, я сильно простужен. Спокойной ночи, дорогая, и, пожалуйста, критикуйте беспощадно, особенно погрешности вкуса.
Джек.
Суббота, 29 марта [19]02 года Дорогая Вы! Я пытался написать Вам хорошее длинное письмо, но явились гости, нужно побриться — сейчас или никогда — и заняться фотографиями в темной комнате. Я почти беспрестанно думаю о Вас с тех пор, как в последний раз Вы были здесь. Я сильно беспокоился, не обидел ли Вас тем, что не пошел с Вами на чай к этой английской даме. Всю неделю я боролся с рассказом, часть которого Вы читали. Я кончил его вчера вечером — 10 тысяч слов. Вы знаете, не считая писем, которые будут вставлены, мы уже сделали 50 тысяч слов для нашей книги! Мне нужно от Вас письмо, в котором бы говорилось, что Вы приезжаете в Калифорнию. Кроме того, в одном из Ваших стэнфордских писем должна быть подведена черта, чтобы затем следовала наша встреча, которая, как я себе представляю, должна предшествовать Вашей встрече с Эстер. Ну как? Теперь приступим к редактированию? Вы должны приехать к нам на это время. Здесь славно, скорей похоже на сон, чем на действительную жизнь.
Сообщите, подходит ли письмо или нужно другое.Джек.
Окленд, Калифорния 13 октября 1904 года Дорогая Анна! Развитие здесь слишком быстро и пунктирно. Слишком оно в повествовательном духе, а повествование только тогда хорошо в рассказе, когда дается от первого лица. Сюжет заслуживает большей длины. Сделайте сцены, диалоги более развернутыми. Кроме того, Вы слишком неожиданно, слишком резко обрываете. Рассказ не закругляется к концу, а обрубается топором. Вам нужно разработать развитие сумасшествия героя, его психологии и психологии жестокости идеалистов из Ист-Сайда, как Вы это сделали в разговоре со мной. Вкратце моя критика сводится вот к чему: взяв великолепный сюжет, Вы не раскрыли его во всем великолепии. Вы владеете им, вполне владеете — Вы его понимаете, но еще не выразили своего понимания так, чтобы и читатель понял. Все это, пожалуй, относится к Вашим рассказам в целом. Запомните одно: рассказ следует ограничивать предельно кратким временем — одним днем, а если можно, и часом; если же, как это случается даже в лучших рассказах, необходимо охватить больший период времени, — например, несколько месяцев, то просто намекните или бегло, между прочим сообщите, сколько прошло времени, но описывайте только решающие моменты. Дело в том, что развитие в принципе не подходит для рассказа, это область романа. Рассказ — это завершенный эпизод из жизни, единство настроения, ситуации, действия. Не считайте меня эгоцентристом потому, что я сошлюсь на свои рассказы, — просто я знаю их наизусть, и это позволяет сэкономить время. Снимите с полки и раскройте сборник «Сын Волка». Все первые восемь рассказов построены на одной ситуации, хотя некоторые из них охватывают довольно большой период времени, но время только упоминается, и оно подчинено заключительной ситуации. Как видите, ситуация — на первом месте — вначале. Сын Волка тоскует по женщине, он отправляется на поиски ее, ситуация заключается в том, как он ее обретает. Рассказ «По праву священника» — это сцена в хижине, остальное же — вступление, подготовка. «Жену короля» ни в одном аспекте нельзя назвать хорошим рассказом. «Северная Одиссея», охватывающая большой период времени, дана от первого лица, в результате чего этот долгий период времени (вся жизнь Нааса) укладывается в полтора часа, проведенных в хижине Мельмута Кида. Снимите с полки и раскройте сборник «Бог его отцов». Первый рассказ — одна ситуация. «Великая загадка» — одна ситуация в хижине, где используется вся прошлая история мужчины и женщины. И так вплоть до последнего рассказа «Женское презрение» посмотрите, как время в нем только упоминается, а ситуация используется целиком, а ведь это не короткий рассказ. И так далее, и так далее. Посылаю Вам «Нос»[27], чтобы Вы улыбнулись.
Джек Лондон.
ФРЕДЕРИКУ БЭМФОРДУ
Письма видному оклендскому социалисту Бэмфорду больше связаны с общественной деятельностью Лондона. Ему же Лондон писал из Англии, где собирал материал для книги «Люди бездны».
Лондон, Англия 9 сентября 1902 года Дорогой товарищ! Наконец-то Ваше сердечное письмо в моих руках. Благодарю. За добрые пожелания горячо благодарю клуб Рёскина. Дела здесь, в Лондоне, ужасны: они мне еще говорят, что это хорошие времена и все обеспечены работой, кроме нетрудоспособных. Ну, если это хорошие времена, то как выглядят плохие времена, я и представить себе не могу! Ничего похожего на Калифорнию, и я не дождусь, когда вернусь домой. Книга на две трети написана, а материал для остальной трети собрал. Горячо любящий
Джек Лондон
Глен-Эллен, графство Сонома, Калифорния 2 октября 1905 года
Дорогой друг! Нет, я никак не смогу поехать в Стэнфорд. Мне просто необходимо кончить книгу[28]. Я согласился дать отзыв на «Длинный день» для «Экзаминера» (автор книги социалистка, и ее книга о работницах в Нью-Йорке). Я согласился написать статью о Студенческом социалистическом обществе для «Интэрнэшнл ньюс синдикат». Я согласился написать статью в пятьсот слов о «Джунглях» Эптона Синклера для «Эпил ту ризон» и дополнительно рецензию на «Джунгли»[29] либо для херстовских газет, либо для нью-йоркского «Индепендента». И ни к чему из перечисленного (а все это для дела социализма) я не в состоянии всерьез приступить до моего отъезда на восток, а тогда я за три дня между Оклендом и Чикаго надеюсь все это сделать. К тому же я завален просьбами социалистов со всех концов страны выступить у них, так как они узнали, что я еду в лекционную поездку и побываю в различных частях страны. К этому, наконец, можно добавить, что лекция, которую я намереваюсь читать, еще не готова, я имею в виду лекцию для «Слейтон Лайсием бюро». Я буду в Окленде с 14 по 20 октября, и нам нужно бы повидаться за это время. Искренне ваш
Джек Лондон
Мт. Дезерт, Мэн 15 дек. 1905 г. Дорогой Друг и Товарищ! Вместе с этим я возвращаю письмо Анны[30]. Вот это письмо! И из ее слов я понял, что мне можно присоединиться к ее поздравлениям вам. Революция продолжается. Она продолжается! Да, я получил Ваше письмо в Ньютоне (Айова). Чармейн сейчас пишет на него ответ. «Кольере» заплатил мне 500 долларов за «Революцию»[31]. Не знаю, когда они ее опубликуют. Может быть, никогда. Понимаете, они могут испугаться. Давным-давно Мак-Клюр купил и заплатил мне за «Вопрос о максимуме», но там испугались и не опубликовали его. В ближайший четверг я читаю «Революцию» в Гарвардском университете, а вскоре после этого я буду читать ее в Йеле, Колумбийском и в Чикагском университетах — все это под эгидой Студенческого социалистического общества. Потом я буду читать лекцию для местных социалистов в нескольких больших городах. Она продолжается. Она продолжается. О! Когда я вернусь, у меня найдется что порассказать вам о столкновениях с хозяевами общества. С любовью
Джек Лондон.
К ЧАРМЕЙН КИТТРЕДЖ
Не позднее ноября 1905 года Дорогая, дорогая Женщина! В последние дни я почему-то очень много думаю о Вас, и необъяснимым образом Вы стали мне еще дороже. Я не буду говорить о качествах ума и души, ибо ни на словах, ни даже в мыслях я не могу постичь, почему Вы внезапно неизмеримо возвысились над остальными женщинами. О, поверьте мне, последние несколько дней я думал, я сравнивал: и я понял, что не только все больше и больше горжусь Вами, но восхищаюсь Вами. Дорогая, дорогая Женщина, как я восхищался Вами, например, вечером в среду! Конечно, мне нравилось, как Вы выглядите, но, помимо этого, я восхищался не столько тем, что Вы говорили или делали, сколько тем, чего Вы не говорили и не делали. Вами, Вами самой, силой, и уверенностью, и властью удерживать меня около себя, во имя того мира и покоя, которые Вы всегда дарили мне. Сейчас я еще тверже, чем год назад, уверен, что мы будем счастливы вместе. И уверен не сердцем, но умом. Бог мой! Как Вы отважны! Я люблю Вас за это. Поэтому Вы — мой товарищ. Я говорю о душевной отваге. Но Вы обладаете и другой, менее важной отвагой. Я вспоминаю, как Вы плаваете, прыгаете, ныряете, и мои руки тянутся к дорогому, чуткому, отважному телу, к отважной душе, которая живет в нем. Моя первая мысль по утрам и последняя вечером — о Вас. Мои руки обнимают вас, а душа целует Вас.Ваш раб.
ФР. БЭМФОРДУ
Глен Эллен, Калифорния
24 февраля 1906 года
Дорогой товарищ!
Вы говорите: «Почему же тогда не посоветовать нашим гостям оформиться как социалистам?»
Ну! Это было бы слишком решительное действие для президента Студенческого социалистического общества.
Я твердо убежден, что в группах ССО ряда университетов верх возьмут социалисты, и они сами собой, в конце концов, превратятся из ССО в социалистические организации. На востоке я видел колледжи, где есть только один-два социалиста и где поэтому нельзя было создать социалистическую группу. С другой стороны, в тех же самых колледжах я встретил немало социалистически настроенных студентов, — хотя и не социалистов, — серьезных и честных, которые охотно организовали бы группу ССО. В таких случаях сразу создавать социалистическую группу было невозможно. Ничего не поделаешь.
Поэтому была создана группа ССО, и я не сомневаюсь, что из большинства ее членов выкуются социалисты, а меньшая часть отсеется. А пока происходят дискуссии, изучается литература и слово «социализм» обретает свой истинный смысл.
Обдумайте все это.
Я снова за работой и счастлив.
Не забудьте, что мы ждем Вас в гости в любое время, когда у Вас будет настроение пожить у нас. Я сейчас сажаю фруктовые деревья, виноград и живые изгороди. А кроме того, вот-вот примусь за постройку яхты.
Искренне Ваш
Р. S. Вы говорите: «Мне кажется, ясно как день, что социалисты ССО вынуждены будут выйти из этой организации и создать свои собственные клубы». Но ведь Вы знаете социалистов. Так почему же Вы не хотите взвесить возможность того, что они обратят группы ССО в свою веру, а Вы, конечно, понимаете пользу единой студенческой организации для всех Соединенных Штатов.Джек Лондон
С. С. МАК-КЛЮРУ[32]
Глен-Эллен, Калифорния 10 апреля 1906 года Дорогой мистер Мак-Клюр! Отвечаю на Ваше письмо от 3 апреля. Жизнь так коротка, а люди так глупы, что с самого начала моей карьеры, когда я только-только начал благодаря газетам приобретать сомнительную известность из-за моего юношеского социализма, я дал себе зарок никогда не опровергать газетных обвинений. С другой стороны, я иду на такие объяснения, если об этом просят мои друзья. А потому я исполню Вашу просьбу и готов объяснить, почему похожи моя «Любовь к жизни» и «Заблудившийся в краю полуночного солнца» Огестеса Бридла и Дж. К. Мак-Дональда. Писатели часто берут материал для своих рассказов из газет. Ведь изложенные в них журналистским стилем реальные факты могут послужить прекрасной основой для художественного произведения. Это стало настолько обычной практикой, что порой возникают курьезы, если один и тот же материал используют несколько писателей. Года три-четыре тому назад, когда я был в Англии, «Сан-Франциско Аргонавт» напечатал один из моих рассказов[33]. Одновременно «Сенчюри» напечатал рассказ Фрэнка Норриса. И хотя оба эти рассказа были совершенно разными по подходу к материалу, основа и конфликт у них были одинаковы Газеты немедленно заметили это сходство. Объяснение же было простым: мы с Норрисом прочли одну и ту же газетную заметку и использовали ее. Но на этом дело не кончилось. В «Блэк кэт» за предыдущий год кто-то откопал похожий рассказ еще одного автора, который использовал ту же самую основу и конфликт. Затем в Чикаго разыскали рассказ, опубликованный за несколько месяцев до рассказа, помещенного в «Блэк кэт», с той же основой и сюжетом. Разумеется, всех этих писателей просто заинтересовала одна и та же газетная заметка. Эта практика получила такое широкое распространение, что руководства для начинающих писателей рекомендуют читать газеты и журналы, для того чтобы отыскивать материалы для рассказов. Чарльз Рид был большим поклонником этого метода. Я бы мог составить длинный список крупнейших писателей, также его рекомендовавших. Все это я говорю, только чтобы показать, что такая практика существует и широко распространена среди писателей. Теперь о «Любви к жизни», которую «Нью-Йорк уорлд» столь любезно сопоставил с «Заблудившимся в краю полуночного солнца». «Заблудившийся в краю полуночного солнца» — это не рассказ. а сообщение о реальном факте. Оно было напечатано в «Мак-Клюрс мэгэзин» и содержит описание страданий человека, повредившего ногу в бассейне реки Копермайн. Это не художественное произведение, не литература. Я взял оттуда реальные факты и дополнил многими другими реальными фактами, почерпнутыми из других источников, и сделал или постарался сделать из этого литературное произведение. Из другого сообщения о подобных же страданиях я взял не меньше, чем из «Заблудившегося в краю полуночного солнца». Я имею в виду газетную заметку о старателе, заблудившемся возле Нома на Аляске. Кроме того, я использовал все, что на собственном опыте узнал о тяготах, страданиях и голоде, и все то, что было мне известно о тяготах и голоде, которые довелось испытать сотням и тысячам других людей. Если вы обратитесь к финалу моей «Любви к жизни», Вы обнаружите, что мой спасенный герой неожиданно растолстел. Объяснялась эта внезапная дородность тем, что он прятал под рубахой все сухари, которые ему удавалось выклянчить, у моряков. Так вот, я это не выдумал. Этот факт взят из жизни. Его можно найти в рассказе лейтенанта Грили о его полярной экспедиции. Не вижу, как меня можно тут обвинить в плагиате, но ведь если считать, что я совершил плагиат там, где речь идет об Огестесе Бридле и Дж. К. Мак-Дональде, значит, я повинен в плагиате и по отношению к лейтенанту Грили. И, следовательно, я плагиатор и по отношению к газетному корреспонденту, который описал блуждания старателя из Нома, а также и по отношению ко всем тем старателям Аляски, которые рассказывали мне о том, что им довелось пережить. Между тем «Уорлд» не обвиняет меня в плагиате. Он обвиняет меня в тождественности времени и ситуации. Разумеется, «Уорлд» прав. Я признаю себя виновным и рад, что у «Уорлд» хватило ума не предъявить мне обвинения в тождественности языка. Больше мне добавить нечего. Быть может, стоило бы объяснить, каким образом в «Уорлд» появились эти полстраницы убийственных параллелей. В первую очередь — сенсация. Сенсация — это то, что требует газета от своих репортеров. Подозрение в плагиате всегда сенсационно. Когда газета приводит полстраницы убийственных параллелей, это, естественно, предполагает плагиат. Неточно понимаемое рядовым читателем значение слов приведет к тому, что девяносто процентов читателей сделают заключение, будто выдвинуто обвинение в плагиате. Во-вторых, репортер пишет ради заработка. И, надеюсь, (ради него самого) репортер преследовал ту же цель. Его газета требует сенсаций и, не указывая прямо на плагиат, не намекая на него, этот репортер продал полстраницы в «Уорлд». В заключение должен сказать, что я зарабатываю на жизнь превращением газетных и журнальных новостей в литературу, используя материалы из различных источников, то есть труд людей, которые зарабатывают на жизнь тем, что превращают реальные факты в газетные и журнальные новости. Репортер «Уорлд» зарабатывает на жизнь тем, что превращает поступки других людей в сенсацию. Итак, все трое заработали на жизнь, и кто из нас заслужил пинка? Искренне ВашР. S. Дорогой мистер Мак-Клюр! Вы вправе распорядиться этим письмом, как считаете нужным. Мне хотелось бы, чтобы его напечатали в «Уорлд». Мне не хотелось бы, чтобы его отредактировали.Джек Лондон.
ДИРЕКТОРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН КОМПАНИ» ДЖОРДЖУ БРЕТТУ
Окленд, Калифорния
7 марта 1907 года
Дорогой мистер Бретт! Отвечаю на Ваше письмо от 28 февраля. Нет, даже если Вы представите мне веские доказательства того, что издание сборника «Дорога»[34] может нанести ущерб продаже других моих книг, это не изменит моего желания, чтобы Вы его опубликовали. Хотя Вы не высказали причин своих опасений, мне кажется, я о них догадываюсь. Я не исключаю, что вначале продажа других моих книг может несколько пострадать, однако я уверен, что в конечном итоге никакого ущерба не будет. По поводу же «Дороги», в частности, и обо всех своих произведениях вообще я хочу сказать следующее. В «Дороге» и во всем своем творчестве, во всем, что я до сих пор говорил, написал и делал, я был правдив. Такую репутацию я себе создал, и я убежден, что она составляет немалое мое преимущество. По мере того как мои произведения создавали мне эту репутацию, время от времени я сталкивался с враждебностью, нападками и порицаниями, но я выдержал все, и теперь мой истинный образ рисуется гораздо более правдиво и четко. Я всегда считал, что основное достоинство писателя — это искренность, и старался, чтобы мои взгляды не расходились с делом. Если я ошибаюсь, если мир меня отвергнет, я скажу: «Прощай, гордый мир!», уеду на ферму, стану сажать картофель и разводить кур, чтобы есть сытно и поддерживать силы в моем теле. Готов допустить, что я совершенно не прав, считая, что искренность и правдивость составляют важнейшее мое достоинство. Готов допустить, что я рассуждаю неверно. Тем не менее, оглядываясь на свою жизнь, я прихожу к одному общему выводу: я стал тем, чем стал, потому, что не слушал осторожных советов. В самом начале, последуй я советам журнальных редакторов, я провалился бы. «Мак-Клюрс мэгэзин» платил мне 125 долларов в месяц и хотел, чтобы я ходил по струнке за кусок хлеба с маслом. Филлипс говорил: «Пишите рассказы для наших журналов вот так-то и так-то. Бросьте писать рассказы, какие вы пишете». Короче говоря, он хотел заставить меня убрать из моих рассказов всю их суть, хотел сделать из меня евнуха, хотел, чтобы я писал самодовольные и благодушные буржуазные пустячки, хотел, чтобы я вступил в ряды ловких посредственностей и потворствовал изнеженным, жирным и трусливым буржуазным инстинктам. Я отказался это сделать и порвал с «Мак-Клюром». Собственно говоря, Филлипс меня уволил и отобрал 125 долларов в месяц. Некоторое время мне приходилось очень туго. Если помните, в Нью-Йорке я был вынужден занять у вас денег на обратный билет в Калифорнию. Но в конце концов я добился своего, а слушайся я советов Филлипса, то никогда бы ничего подобного не достиг. Вот и теперь (из-за своего скверного характера, наверное) я хочу положиться на собственное суждение. Но искренне благодарен Вам за Вашу благожелательность — и не только за предупреждение о возможных последствиях издания «Дороги», но и за деликатность, с какой Вы это сделали. Собственно говоря, я позволил себе возразить на доводы, которых Вы не приводили. «Дорога» продана в журнал «Космополитен». Первый очерк будет напечатан в майском номере. Вероятно, они будут продолжать, пока не опубликуют весь цикл. Кстати, могу сказать, что я получил за него что-то между шестью и семью тысячами долларов. В Вашем бюллетене новых книг я прочел, что скоро должен выйти сборник «Любовь к жизни». В нем есть два рассказа, один из которых еще не печатался в периодических изданиях, а относительно другого я не уверен. «Путь белого человека» был продан синдикату «Ассошиэйтед санди мэгэзинз» по адресу: 52-Е, 19-я улица. Вам достаточно написать письмо или позвонить по телефону, чтобы узнать, опубликовали ли они его. Другой рассказ — «Однодневная стоянка» продан «Кольере уикли», и я знаю, что они его еще не напечатали. Повремените, пожалуйста, с выпуском книги, пока эти рассказы не будут опубликованы в периодике. Видите ли, мне уплатили почти 1500 долларов за право публикации этих двух рассказов в американских периодических изданиях и, если книга появится раньше журнальных публикаций, я буду вынужден возвратить эти деньги. В прошлое воскресенье яхта[35] во второй раз выходила в пробное плавание. Для меня она истинное наслаждение. Ни о каких новых перестройках не может быть и речи. Выйти в плавание я смогу не раньше первого апреля. Я уже перестал устанавливать точные даты моего отплытия. Искренне Ваш
Джек Лондон.
ИЗ ПИСЬМА ДЖОРДЖУ БРЕТТУ
11 июля 1907 года
…Я по-прежнему твердо убежден, что моя сила заключается в искренности и верности самому себе, такому, каким я стал теперь, и также в верности себе, каким я был в шесть, шестнадцать и двадцать шесть лет[36]. Почему я должен стыдиться того, что мне пришлось пережить? Таким, каков я есть, я стал благодаря своему прошлому, и если я буду стыдиться своего прошлого, то логика требует, чтобы я стыдился и того, во что превратило меня это прошлое.
ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ ЛИЛИАН КОЛЛИНЗ НА ЕЕ ПИСЬМО С КРИТИКОЙ РОМАНА «МАРТИН ИДЕН»
26 апреля 1910 года
Отвечаю на Ваше благожелательное письмо от 22 апреля. Не знаю, принимать ли его как невольный или как искусный комплимент мне. Цитирую из Вашего письма: «Он физически не был в состоянии защищать себя. Он пал духом, его воля к действию парализована неимоверным перенапряжением, способность оценивать, анализировать, выбирать и сопоставлять погребена под всепоглощающим сознанием потери».
Это и еще многое из вашего письма доказывает, что мне действительно удалось показать неизбежность его гибели. По отношению к Мартину Идену я поступил не более по-предательски, чем поступает жизнь со многими людьми. Вы неоднократно указываете, где я был несправедлив с Мартином Иденом, «пичкая его только что пробудившееся сознание абстракциями, которые его неотшлифованный ум не в состоянии усвоить». Согласен, но не забывайте, что это мой Мартин Иден и что я создал его именно таким, и никаким другим. А раз так, то его безвременный конец объяснен и оправдан. Запомните, это мой Мартин Иден, и он сделан именно таким. Вы, конечно, создали бы Мартина Идена совсем иным. Мне кажется, что разногласия между нами заключаются в том, что Вы смешиваете моего Мартина Идена с Вашим Мартином Иденом.
Вы пишете: «Эгоистичный индивидуализм Мартина Идена кажется мне незрелостью, следствием привычек его ранней юности — как отсутствие перспективы, которую создадут время и расширяющийся кругозор». И вы жалуетесь на то, что он погиб. Вы считаете, что, дай я ему возможность жить, он бы выбрался из трясины уныния. Я позволю себе прибегнуть к сравнению, которое Вам, вероятно, не понравится: предположим, что прекрасного, как Адонис, юношу, который не умел плавать, бросили бы в глубокое место, он начал бы тонуть. Вы кричите: «Дайте молодому человеку научиться плавать, пока он тонет, и он не утонет, а невредимым выберется на берег». И, как ни странно, если вернуться к нашей основной теме, Вы сами же четко и ясно изложили причины, объясняющие, почему Мартин Иден не умел плавать и вынужден был утонуть.
Вы утверждаете, будто я доказываю, что любовь обманула и предала Мартина Идена, тогда как и Вам и мне известно, что так не бывает. Наоборот, все, что я знаю о любви, убеждает меня в том, что Мартин Иден, влюбившись в Руфь, испытал первую большую искреннюю любовь и что не он один, а бесчисленные миллионы людей обманывались точно так же. Однако Вы несправедливы, утверждая это и делая решительное обобщение, будто я отрицаю всякую любовь и величие всякой любви.
Спорить таким образом можно до бесконечности. Но я думаю, что мы расходимся не столько из-за Мартина Идена, сколько из-за различия наших представлений о жизни. Ваша натура и Ваше восприятие ведут Вас одним путем, а мои — другим. Я думаю, в этом и заключено объяснение нашего расхождения.
С благодарностью за Ваше доброжелательное письмо
Искренне Ваш
Джек Лондон.
ПИСЬМО МОЛОДОМУ ПИСАТЕЛЮ
Конец 1910 года
Отвечаю на Ваше недавнее письмо без даты и прилагаю рукопись. Прежде всего позвольте сказать, что мне как психологу и человеку, много испытавшему на своем веку, понравились психологизм и идея Вашего рассказа. Но, честно и откровенно говоря, его литературные достоинства мне особого удовольствия не доставили. Хотя бы потому, что он их практически лишен. Если Вам есть что сказать другим, это еще не освобождает Вас от обязанности приложить все усилия к тому, чтобы изложить Ваш материал наилучшим образом и в наилучшей форме. А этим-то Вы полностью пренебрегли.
Повторяю: можно ли ожидать от двадцатилетнего, не обладающего опытом юноши, чтобы он знал, какую форму и каким образом следует ему придать своему произведению. Боже мой! Молодой человек! Вам потребовалось бы лет пять, чтобы из подмастерья стать хорошим кузнецом. Посмеете ли Вы утверждать, что потратили не пять лет, но хотя бы пять месяцев непрерывного труда на изучение приемов работы профессионального писателя, продающего свои произведения в журналы и получающего за это гонорар? Конечно, нет. Ничего подобного Вы не делали. И ведь Вы могли бы рассуждать, что преуспевающие писатели зарабатывают такие большие деньги, потому что лишь очень немногие из тех, кто хочет писать, становятся настоящими писателями. Если требуется пять лет работы для того, чтобы стать хорошим кузнецом, то сколько же лет работы — и работы интенсивной, по девятнадцати часов в сутки, так что один год превращается в пять, —сколько лет такого труда на изучение приемов и форм искусства и ремесла надо потратить человеку, обладающему природным талантом и имеющему что сказать, чтобы достичь такого положения в литературном мире, когда он будет получать по тысяче долларов в неделю?
Вероятно, вы поняли, о чем я говорю? Человек, который впряжется в работу для того, чтобы стать светилом и получать по тысяче долларов в неделю, должен соответственно и работать упорнее, чем тот, кто собирается стать светлячком и получать двадцать долларов в неделю. На свете больше преуспевающих кузнецов, чем преуспевающих писателей, только потому, что кузнецом стать гораздо легче, чем преуспевающим писателем, и для этого не требуется такой упорной работы.
Не может быть, чтобы Вы в свои двадцать лет успели проделать всю ту работу, которая давала бы Вам право на успех. Вы еще не стали даже подмастерьем. Доказательством служит то, что Вы дерзнули написать «Дневник того, кто должен умереть». Если б Вы изучили то, что печатается в журналах, Вы увидели бы, что Ваш рассказ принадлежит к типу вещей, которые никогда там не печатаются. Если Вы собираетесь писать ради успеха и денег, Вы должны поставлять на рынок вещи, пользующиеся спросом. Ваш рассказ не имеет рыночной стоимости. Если бы Вы просидели десяток вечеров в читальне и почитали бы рассказы в последних номерах литературных журналов, вы знали бы, что Ваш рассказ рыночной стоимости не имеет.
Есть только один способ начать — это начать. Начать с упорной работы, терпеливо приготовившись ко всем разочарованиям, которые пережил Мартин Иден, прежде чем добился успеха, которые пережил я, — ведь я наделил своего вымышленного героя, Мартина Идена, собственным опытом, который приобрел, пока становился писателем.
Джек Лондон.
МИСТЕРУ РИКСУ[37]
Мэдфорд, Орегон 17 августа 1911 годаДорогой м-р Рикс! Сердечно благодарю Вас за присланные в Вашем письме от 22 июля два рекламных объявления из «Арката юнион» и «Гумбольдт тайме». Дело не только в том, что благодаря этому я впервые узнал о них, но в том, что, если бы Вы мне их не прислали, я бы вообще о них не узнал. Это действительно странный и забавный глупый поступок глупого и ни о чем не задумывающегося человека. Ведь рекламодатель, несомненно, заплатил за эту рекламу[38]. На память приходит старинная поговорка: «У дурака деньги долго не держатся». Меня несколько ставит в тупик то удивление, которое у Вас, по-видимому, вызвало открытие, что я социалист. Право же, это известно всему свету, и не понимаю, каким образом Вы могли остаться в неведении. Я опубликовал не менее восьми (8) книг о социализме. Остальные мои книги пропитаны социализмом, а в продаже их находится не менее двадцати восьми, не считая многочисленных социалистических брошюр. Восемнадцать лет назад, борясь за социализм, я попал в тюрьму. Я был первым президентом Студенческого социалистического общества. Я выступал с речами о социализме перед аудиторией в 3000–5000 человек во всех крупных университетах Соединенных Штатов. Эти безмозглые капиталисты бойкотировали меня за мой социализм и занесли в черные списки, безмозглые капиталисты заставили меня потерять из-за моего социализма больше денег, чем набралось бы у них самих. Мой социализм обошелся мне в несколько сотен тысяч долларов. Я говорю Вам об этом, потому что мы живем в ‘век доллара. Я объясняю Вам свои поступки через доллары. Как-то странно, что Вы не знали, что я социалист. Однако мне кажется, что это не совсем так и что-то Вам было известно — ведь Вы помните (а я отчетливо это помню!), не успели мы пробыть в Вашем доме и двух минут, как Вы смущенно, но настойчиво попросили меня не говорить в Вашем доме о социализме. Что я могу сказать еще? Право же, политические убеждения и социалистические взгляды не должны препятствовать дружбе. Мы с миссис Лондон относимся к Вам и всем Вашим с большой симпатией. Мы храним наилучшие воспоминания о Вашем гостеприимстве. Дружба, как я ее понимаю, не имеет никакого отношения даже к такой элемен-гарной вещи, как сходство взглядов на достоинства и недостатки таблицы умножения. И все-таки я бы посоветовал Вам почитать о социализме. Это очень интересно. Мы с миссис Лондон чудесно провели время и только что возвратились в Мэдфорд из поездки на озеро Кратер. Сегодня мэдфордские социалисты устраивают в нашу честь вечер в Оперхаус, завтра мы попробуем ловить радужную форель, а послезавтра отправимся на юг в Калифорнию и домой. В сегодняшних газетах я прочел, что Ваш зять подбил мне глаз, а моя жена бросила меня! Во вчерашней газете я прочел, что я ловил в озере Вашингтона форель Бирдсли на бриллиантовую запонку. Чего только не приходится читать! Искренне Ваш
Джек Лондон.
ЭСТЕР АНДЕРСЕН
Глен Эллен, Калифорния
11 декабря 1914 года
Дорогая мисс Андерсен! По моему мнению, писателю для успеха необходимы три вещи. Во-первых, изучать и знать, как создается современная коммерческая литература. Во-вторых, знание жизни и, в-третьих, рабочая философия жизни. И еще один негативный совет: на мой взгляд, готовясь стать писателем, ни в коем случае нельзя слепо принимать каноны литературного искусства, установленные учителями литературы средней школы и университетскими преподавателями литературы. Средний автор может считать, что ему везет (я имею в виду преуспевающего среднего автора), он считает, что ему везет, если он зарабатывает от тысячи двухсот до двух тысяч долларов в год. Многие добившиеся успеха авторы ухитряются зарабатывать до двадцати тысяч долларов в год, а некоторые, правда их немного, получают за свои произведения от пятидесяти до семидесяти пяти тысяч долларов в год; а самые преуспевающие авторы в наиболее удачные годы зарабатывают даже сто или двести тысяч долларов. Самому мне кажется, что одно из важнейших преимуществ писательской профессии как источника средств к существованию состоит в том, что она представляет больше свободы, чем предпринимательская деятельность или другие профессии. Писатель носит свою контору под шляпой и может отправляться куда хочет и писать в любом месте, где ему нравится. Благодарный за Ваше милое письмо, искренне Ваш
Джек Лондон.
ДОКТОРУ ДЖОНУ Е. ПАРДОНУ[39]
С борта яхты «Ромер»
26 января 1915 года
Дорогой доктор Пардон! Отвечаю на Ваше письмо от 12 января 1915 года, которое было мне переслано и только что мною получено. Если я скажу Вам, что я убежденный реалист и материалист и верю, что, умерев, я буду мертв, и мертв навсегда, Вы поймете, насколько я гожусь для участия в Ваших чрезвычайно интересных исследованиях. Прошу Вас, не расцените вышесказанное как резкость с моей стороны, а лишь как точное изложение моего отношения к предмету. Я родился в среде, где верили в оккультные явления[40], и в этой обстановке прошло мое детство. В результате я стал неверующим. Моя мать же и по сей день — а ей уже семьдесят с лишним лет — все еще остается горячей поклонницей спиритизма. Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Искренне Ваш
Джек Лондон.
ДЖОЗЕФУ КОНРАДУ[41]
Гонолулу, территория Гавайи
4 июня 1915 года
Дорогой Джозеф Конрад! Вокруг скворцы возвещают жаркую зарю. У меня в ушах стоит грохот волн, разбивающихся о белый песок пляжа здесь, в Вайкики, где зеленая трава у подножий кокосовых пальм упрямо растет у самой кромки прибоя. Эта ночь была Вашей и моей. Я только начинал писать, когда прочел Вашу первую вещь. Я просто пришел в дикий восторг, и все эти годы заражал этим восторгом своих друзей. Я не писал Вам. Даже никогда я не помышлял написать Вам. Но Ваша «Победа» потрясла меня, и я вкладываю в конверт копию письма, которое я написал одному другу по исходе этой бессонной ночи. Быть может, Вам станет понятнее цена этой бессонной ночи, если я скажу Вам, что ей непосредственно предшествовал день плавания на японском сампане из колонии прокаженных на Молокаи (где мы с миссис Лондон навестили старинных друзей) за шестьдесят миль в Гонолулу. Да падет это на Вашу голову. Алоха (это нежное слово приветствия, гавайского приветствия, означающего: «Пусть моя любовь будет с Вами»).
Джек Лондон.
ЭТЕЛДЕ ХЕССЕР
Глен Эллен, Калифорния
21 сентября 1915 года
Дорогая Этелда Хессер! С запозданием отвечаю на Ваше письмо от 9 августа 1915 года. Я путешествовал и только что возвратился домой, где меня встретила гора корреспонденции. Такова причина не только моего запоздания, но также и приносимых извинений за краткость ответа на Ваше письмо. Я не могу согласиться с Вами, что «Маленькая хозяйка большого дома» — плохой роман. Сам я им немного горжусь, этим романом. Возможно, на Вас оказали влияние иллюстрации, о чем Вы пишете в своем письме. У меня есть две дочери, они учатся в средней школе, и в ответ на Ваш вопрос могу заверить Вас, что, сполна изведав игру жизни и юность, я в нынешнем моем зрелом возрасте, тридцати девяти лет, твердо и глубоко убежден в одном: игра стоит свеч. Я был очень счастлив, и мне повезло больше, чем многим сотням миллионов людей моего поколения, и, хотя я больше страдал, я больше жил, больше повидал и больше перечувствовал, чем было дано среднему человеку. Да, поистине игра стоит свеч. И вот доказательство этого: все мои друзья в один голос говорят, что я толстею. А это само по себе является свидетельством духовной победы. С благодарностью за ваше милое письмо. Искренне Ваш
Джек Лондон.
ТЕЛЕГРАММА В. ГЕЙСВЕЙТУ [42]
Глен Эллен, Калифорния
8 октября 1916 года
НИКОГДА СПЕЦИАЛЬНО НЕ ЗАНИМАЛСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ ВИНОГРАДА ДЛЯ ВИНА. КУПЛЕННЫЕ МНОЮ ВИНОГРАДНИКИ БЫЛИ СТАРЫМИ, БЕСПОЛЕЗНЫМИ, ПОЭТОМУ Я ПОВЫДЕРГАЛ ЛОЗЫ И ПОСАДИЛ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ. ОДНАКО НЕСКОЛЬКО АКРОВ ВИНОГРАДНИКОВ, ПРИНОСЯЩИХ ПРИБЫЛЬ, Я ОБРАБАТЫВАЮ. МОЯ ПОЗИЦИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ АЛКОГОЛЕ: ПОЛНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — ПОЛНОЕ. Я НЕ ПРИЗНАЮ ПОЛУМЕР. ПОЛУМЕРЫ — НЕЧЕСТНЫ, РАВНОСИЛЬНЫ КОНФИСКАЦИИ И ПРИВОДЯТ К ЗАКУЛИСНЫМ МАХИНАЦИЯМ, ОБМАНУ И НАРУШЕНИЯМ ЗАКОНА. КОГДА НАЦИЯ ПОСТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ПОЛНОГО ЗАПРЕЩЕНИЯ, ЭТО СТАНЕТ КОНЦОМ АЛКОГОЛЯ, И НЕ БУДЕТ НИ МАХИНАЦИЙ, НИ ОБМАНА, НИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА. ЛИЧНО Я БУДУ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНИ ДОСТУПНЫ. КОГДА ПОЛНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ СДЕЛАЕТ АЛКОГОЛЬ НЕДОСТУПНЫМ, Я ПЕРЕСТАНУ ПИТЬ, И ЭТО НЕ БУДЕТ ТЯЖКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ МЕНЯ, ДА И ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, КАК Я, ИМЯ ИМ — ЛЕГИОН. А ПОКОЛЕНИЕ, ИДУЩЕЕ НА СМЕНУ НАМ, БУДЕТ ЗНАТЬ ОБ АЛКОГОЛЕ, ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОН БЫЛ НЕЛЕПЫМ ПОРОКОМ ИХ ДИКИХ ПРЕДКОВ.
Джек Лондон
ВИЛЬ БЫКОВ,
кандидат филологических наук
ПО СЛЕДАМ ДЖЕКА ЛОНДОНА

Кажется» это было так недавно и в то же время так давно» если начать считать годы. Осенью 1958 года семнадцать студентов и аспирантов из Москвы» Ленинграда» Киева» Риги и других советских городов ступили на американскую землю. Среди аспирантов» приехавших в США вести научно-исследовательскую работу» был и я. Темой моего исследования были жизнь и творчество Джека Лондона — выдающегося писателя» слава о котором прогремела в Америке» Европе и России» дошла до берегов Австралии, Новой Зеландии и Индии. Джек Лондон интересен для всех возрастов: юношу увлекают его северные» морские новеллы, повести о животных, романы «Морской волк», «Белый Клык», взрослого — не только рассказы, но и статьи и очерки, романы «Железная пята», «Мартин Иден» и другие. В Советском Союзе произведения Лондона держат своеобразное первенство среди переводной литературы — свыше двадцати восьми миллионов экземпляров его книг на 32 языках народов СССР напечатаны в нашей стране. Ни одна библиотека, даже маленькая, домашняя, не обходится без романтических и суровых его произведений. Джека Лондона считают самым популярным американским писателем в Болгарии, его вновь и вновь переиздают в Чехословакии, Германской Демократической Республике, во Франции, Англии, Финляндии, Японии и других странах. Результаты опроса, проведенного в 1915 году в США, свидетельствовали о невероятной популярности писателя на родине. Повесть «Зов предков» была поставлена большинством читателей на первое место среди историй о животных. «До Адама» признана лучшей из научных повестей. «Морской волк» — на втором месте среди морских романов после стивенсоновского «Острова сокровищ», а «Лунная долина» — первая в списке приключенческих книг. Джек Лондон в первые десятилетия этого века являлся одним из самых знаменитых в США писателей. В его произведениях нет сверхъестественного, они глубоко реалистичны и вместе с тем овеяны романтикой. Романтику привносит и место действия — далекий Север, южные моря. Мужественные, смелые его герои готовы вступить в схватку со стихией, с более сильным противником, стараются защитить слабого. Джек Лондон пишет о страданиях человека и его борьбе, о любви и ненависти» о стремлении построить справедливое общество на смену закрепостившему человеческий ум и сердце капитализму. Его книги проникнуты симпатией к простым людям. Горький справедливо назвал Лондона писателем, проложившим путь пролетарской литературе в Америке. Основное отличие Лондона от предшественников, писателей критического реализма в США состоит в том, что, создавая высокохудожественные произведения, он вдохновлялся идеями пролетариата и его борьбой, старался овладеть материалистическим мировоззрением, открыл, по его словам, что социализм — единственный верный ориентир для искусства и художника[43]. Он стал первым в Америке подлинно значительным и влиятельным писателем, вышедшим из народа, защищавшим интересы народа. Что же представлял собой этот знаменитый писатель, открывший нам мир красивых и мужественных людей?
ТУДА, ГДЕ ОН ЖИЛ
…Позади 26 часов утомительного полета, позади гостиница на Бродвее и бессонная ночь, потому что сутки перевернулись вверх ногами — время в Сан-Франциско на одиннадцать часов отстает от московского. Позади докучливые репортеры радио, газет и телевидения, восторженно возвестившие жителям США, что не дипломаты, а молодые советские граждане будут длительное время жить в этой стране, и восемь из них — почти половина — в Калифорнии. Мы в Калифорнии — «золотом штате», как его называют американцы, где не бывает зимы и вечно зелены деревья, где растут лучшие в Штатах фрукты и делают лучшее в Америке вино. Мы будем учиться в Беркли, небольшом зеленом городке, рассыпавшем свои двухэтажные здания по склонам живописных холмов, в университете, где учился Джек Лондон. В Сан-Франциско — его видно через залив — он родился, в Окленде, который сросся теперь с Беркли, так что не поймешь, где кончается один и начинается Другой, — он провел свое детство и юность, здесь был «устричным пиратом», отсюда уходил в кругосветное плавание на яхте «Снарк». В пятидесяти милях отсюда Лунная долина, там написаны многие его книги, там жил писатель, и там он умер. Сан-Франциско в конце прошлого века был быстро растущий но все же провинциальный город. Как и все американские города это был город контрастов, город роскоши и нищеты. Широкая Базарная улица делила его на две части. К северу от нее располагались здания банков, богатых компаний, роскошные магазины, театры, дома богачей. К югу — заводы, фабрики, прачечные, кабаки, мрачные притоны, кварталы бедноты. Здесь, в бедном районе в домике на углу Третьей улицы и Брайант-стрит, 12 января 1876 года у учительницы музыки Флоры Уэллман родился будущий знаменитый писатель Джек Лондон. Сан-Франциско расположен на полуострове, на берегу надежно укрытого от морских бурь залива. По берегам залива разбросано множество городков и местечек. В поисках лучшей жизни Лондоны постоянно кочевали по округе залива, пока, наконец, не обосновались в городке Окленде. После лекций в университете я брожу по Окленду, подолгу стою на площади перед недавно сооруженным небольшим бюстом писателя, у дуба, посаженного в его память почитателями талант, сижу на берегу озера Лейк-Мерит, являвшегося некогда местом загородных прогулок, а теперь оказавшегося в центре города. По этому озеру подросток Джек катал в лодке свою первую любовь, темнокудрую Хейди. Вот зеленые, высокие, причудливо горбящиеся Берклийские холмы. Сколько вечеров, воскресных дней провел здесь Лондон! Отсюда прекрасно виден Сан-Франциско, пролив Голден-гейт (Золотые ворота), крошечный островок в заливе — Алькатрас, где сейчас тюрьма для осужденных пожизненно. Вот Телеграф-авеню — где-то здесь жил молодой, быстро завоевывающий известность писатель. А вот Оклендский порт. Здесь, на берегу залива, прошло детство Джека. Отсюда, чтобы вкусить всю радость самостоятельного путешествия, уплыл он на лодке, купленной на первые заработанные деньги. Здесь по берегу бегал он босиком со сверстниками, обучал забавным трюкам свою собаку Ролло. Джек Лондон любил Оклендский порт, часто посещал его уже будучи известным писателем. Здесь встретил он многих своих героев, среди которых был, наверное, и Вулф Ларсен — жестокий капитан шхуны «Призрак» из романа «Морской волк». Первое, что захотелось сделать, попав в лондоновские места, — это разыскать дома, где некогда жил писатель. Я не случайно сказал «дома». В зависимости от достатка Лондоны были вынуждены часто менять квартиру. «Я был нередко голоден, — рассказывал об этом времени Джек Лондон. — Однажды в школе мне так захотелось есть, что я открыл корзинку одной девочки и украл кусок мяса, маленький кусочек размером в палец. Я съел его, но больше никогда не воровал». Вряд ли удалось бы мне одному отыскать дома семьи Лондонов. Мемориальных досок на них нет, а город перестроился, большинство зданий снесено, нумерация изменена. Помог оклендский старожил Генри Перри — член Богемского клуба, лично знавший Лондона, худощавый седой человек с угловатыми торопливыми движениями. Мы приехали по первому адресу, но опоздали лет на десять — историческое здание снесено. Мистер Перри быстрыми шагами ходит по улицам, сокрушенно разводит руками, пожимает плечами и указывает наконец место, где должен стоять тот или иной дом. Из восьми имевшихся адресов только по трем обнаружили мы нужные нам дома. Особенный интерес представлял один, в котором жила семья Лондонов в 1893 году и где был создан семнадцатилетним Джеком первый рассказ «Тайфун у берегов Японии». Только что вернувшись из первого морского плавания, он по совету матери сел и две ночи напролет писал в задней комнатке вот этого неказистого деревянного дома свое первое произведение. Рассказ был отправлен на конкурс, объявленный газетой «Сан-Франциско Колл», и завоевал первый приз. В этот день Лондон впервые уверовал в свое призвание — ведь он, малограмотный уличный мальчишка, превзошел даже студентов Стэнфордского и Калифорнийского университетов, разделивших второе и третье места. Однако писателем он стал не скоро. Потребовалось более пяти лет, чтобы он осуществил свою мечту. Мы зашли с мистером Перри в маленький, вросший в землю деревянный кабачок, единственное строение, сохранившееся в порту с тех времен. Земля вокруг него усыпана толстым слоем пробок. Их не убирают, и время уже утрамбовало эти немые свидетельства прошлого в старом приморском салуне (так называют в Америке питейные заведения). Здесь собирались грузчики и вернувшиеся из дальних плаваний моряки, просоленные до костей, набитые диковинными легендами. Сюда забредали журналисты, извозчики. «Первый и последний шанс» — прозвали этот салун. — Отсюда начинался мост на островок Аламеда, куда причаливали океанские корабли, — объяснил мне мистер Перри. — Это был первый и последний шанс выпить… Мистер Перри был газетчиком в те далекие годы. Он помнит, что, вернувшись с Аляски, Джек частенько бывал здесь и рассказывал старым друзьям о Юконе. Приходил сюда и приехавший с Филиппин журналист Мартин Иган, который тоже любил рассказывать истории. Они мерились силой с Джеком, хотя Мартин был значительно шире в плечах, чем Лондон. Джек собирался дать его имя герою своего романа, но Иган сказал: «Нет». И, как видите, в романе «Мартин Иден» Лондон переделал фамилию «Иган» на «Иден». Мистер Перри спел веселую песню, сочиненную кем-то в честь Джека Лондона, а потом прислал мне текст этой песни, а также письмо Джека к своему дяде и отрывок из его неизвестного доселе произведения. Мне захотелось разыскать и других людей, помнивших выдающегося писателя. Но как? Я знал, что жена писателя Чармейн умерла, но жива его дочь от первого брака. На мои вопросы, как ее найти, мне отвечали, что живет она где-то в Окленде или поблизости от него, но никТо не знал ее точного адреса. Мне помог случай. После сообщения газет и радио о том, что один из приехавших советских аспирантов будет изучать творчество знаменитого калифорнийца Джека Лондона, мне пришли десятки писем, после довало множество телефонных звонков. А однажды мне позвонил мистер Альберт Норман, дальний родственник Лондона. Он сказал, что знает дочь писателя Джоан и готов отвезти меня к ней. Через несколько дней мы с мистером Норманом мчались через Берклийские холмы на северо-восток в местечко Конкорд. У дочери Джека Лондона темно-серые глаза, черные волосы. Лоб и верхняя часть лица — отцовские. На вид ей около пятидесяти лет, она моложавая, подвижная женщина. Она пишет новую книгу об отце. Если первая книга была историко-литературоведческая, то новая будет мемуарной. Она считает, что эта вторая книга будет объективнее первой, которую она теперь находит чересчур строгой по отношению к отцу. Джоан говорит, что Лондон был несчастным ребенком Его отец — астролог Чэни — оставил мать еще до рождения сына. А мать, ее бабушка, была плохой матерью. У Джека было детство, в котором не хватало любви… Голос ее дрогнул, Джоан задумывается, смотрит куда-то в сторону и вверх. — Но у него была сильная воля к жизни, и он любил жить… Всем существом отдаваясь жизни, — добавляет она. — Какие, его романы вы любите больше всего? — спрашиваю я. — «Мартина Идена», «Железную пяту» и «Лунную долину» я считаю самыми значительными из крупных его произведений, — отвечает Джоан. — Важным этапом в его творчестве является «Межзвездный скиталец». Материал для него ему дал один из узников Сан-Квентина мрачной калифорнийской тюрьмы. Джоан с ногами забирается в кресло. Она говорит о рабочем движении в США, о своей общественной деятельности — Джоан заведует библиотекой в штаб-квартире Федерации труда штата Калифорния. Потом Джоан расспрашивает меня о СССР, где была в тридцатых годах, о Сейфуллиной, Гладкове, Катаеве и других советских писателях. Я осматриваю библиотеку Джоан. Здесь книги ее отца, много работ по философии и экономике, о рабочем движении Америки. Среди авторов — Олдридж, Стейнбек, Фолкнер. С чашками кофе мы проходим в маленький дворик, примыкающий к дому. В нем аквариум с золотыми рыбками. На прощанье я фотографирую Джоан. Она долго стоит с мужем у порога и машет нам рукой.ЕГО ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ
Я работаю в библиотеках Калифорнийского университета, читаю книги о Лондоне, газеты начала 900-х годов, вырезки статей о нем, слушаю рассказы старожилов. То, что сообщают люди и что нахожу я в новых для меня книгах, статьях, уточняет, дополняет биографию писателя и постепенно складывает в моем сознании связную историю его жизни. Прежде чем стать профессиональным писателем, Джек Лондон прошел трудную жизненную школу. В десять лет он начал продавать газеты. Мальчишкой работал на консервном заводе, на джутовой фабрике, подносчиком угля в котельной, перепробовал еще ряд профессий. Он испытал на себе всю тяжесть подневольного труда. Работать чаще приходилось по 10–16 часов. Ложился Джек нередко после полуночи, а в половине шестого мать уже будила мальчика. Флоре приходилось подчас стаскивать его вместе с одеялом на пол. Джек протирал слипающиеся глаза, наскоро проглатывал кусок хлеба, чашку серой горячей жидкости, которую называли в семье «кофе», и бежал по темному спящему городу на работу. Он рано пристрастился к чтению. С упоением читал волшебные новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга, собранные в книге «Альгамбра». Его увлекали книжки о приключениях, а особенно нравился «Тайпи» Германа Мелвилла — правдивая и полная романтики повесть о жизни автора среди туземцев одного из тихоокеанских островов. Привлеченный легким заработком, Джек становится «устричным пиратом», присоединяется к компании взрослых и подростков, которые под покровом темноты совершают налеты на чужие устричные отмели и сбывают ценную добычу в салуны и магазины побережья. У Джека завелись лишние деньги. Он попал в темный мир. Раз, после пирушки, свалился в воду и едва не утонул, унесенный быстрым течением залива. Этот период жизни и свою борьбу с засасывающим влечением к спиртному Лондон описал позже в повести «Джон Ячменное Зерно». Мальчика неудержимо манило море. Оно казалось ему воротами в красочный, полный необыкновенных приключений мир, так непохожий на окружавшую его убогую жизнь. Семнадцати лет, нанявшись матросом на шхуну «Софи Сэзерленд». Джек уплывает к берегам Японии и русской Сибири в свое первое океанское путешествие. В 1893 году для Америки наступили черные дни кризиса. Биржу охватила паника, закрывались заводы, фабрики, сотни тысяч трудящихся безжалостно выбрасывались на улицу. Вчера еще казавшаяся великолепно смазанной и пригнанной машина капиталистического производства неожиданно дала осечку, стала разваливаться, погребая под своими обломками тысячи жизней. Безработные с утра собирались у ворот заводов и фабрик, а днем толкались в порту, надеясь на случайный заработок. Сотни бездомных бродили по улицам Сан-Франциско и Окленда в поисках хотя бы временной работы. Лавки и магазины ломились от продуктов, но нечем было заплатить за них. Голод, злой спутник кризиса, опустошил небольшие домашние запасы и прочно поселился в рабочих семьях. Вернувшись из плавания, повзрослевший и окрепший, Джек долго не мог найти работу, а когда наконец устроился, то стал получать меньше, чем некогда зарабатывал мальчишкой. Весной разнесся слух об организации безработными похода в Вашингтон с целью заставить правительство финансировать общественные работы по проведению и ремонту улиц, прокладке дорог, строительству новых школ, с тем чтобы дать безработным работу. Джек узнал о том, что в Окленде некий Келли собирает группу, чтобы двинуться на восток и влиться в «индустриальную армию». Оклендская группа покидала город 6 апреля. Джек решил присоединиться к ней, но опоздал на несколько часов и с приятелем устремился вслед. Так начались его скитания по больной, разъедаемой кризисом стране, кишащей недовольными, измученными людьми. Без гроша в кармане Лондон проделал путь через всю Америку от Тихого океана до Атлантического и узнал о жизни различных уголков родины. Это были дни опасностей и приключений. Кормились «армейцы» попрошайничеством и воровством, а передвигались нередко «зайцами» в вагонах и под вагонами. Щепетильный и стеснительный Джек с трудом принуждал себя просить у дверей. Сердобольные женщины кормили его охотно, а он в качестве платы сочинял экспромтом невероятные истории о своем происхождении и похождениях. «Это был честный обман, — вспоминал Лондон. — За их чашки кофе, яйца и кусочки жареного хлеба я платил щедрой ценой. Я доставлял им просто царское развлечение». За «армейцами» охотились кондукторы и полицейские. Немало их погибло под колесами мчащихся вагонов. Заснув, бродяга при малейшем толчке рисковал свалиться на мелькающие внизу шпалы. Одному из товарищей Джека отрезало ноги. Значительную часть пути Джеку Лондону пришлось пройти пешком. Башмаки прохудились, ноги покрылись мозолями. Он мужественно переносил и голод и холод. Его увлекала борьба с кондукторами и полицией, он обводил их вокруг пальца, используя до деталей разработанные хитроумные приемы, описанные им позже в сборнике рассказов «Дорога». Правительство мобилизовало полицию, посылало войска, чтобы разгонять и арестовывать участников голодного похода. В ряде мест произошли схватки, были убитые и раненые. Число «армейцев» убывало. Генеральный прокурор позже хвастался президенту Кливленду, что принятые им меры помешали, по крайней мере, 60 или 70 тысячам обездоленных доехать до Вашингтона. С невероятными трудностями добрался наконец Джек до Ганнибала на реке Миссисипи, родного городка Марка Твена, увидел захолустные улочки города и берега великой реки, где родились Том Сойер и Гек Финн — знаменитые герои твеновских книг. Затравленная властями армия безработных, в успех похода которой Джек уже не верил, в конце концов распалась. Лондон стал просто бродяжничать. Из письма матери он узнал, что в Чикаго его ждут пять долларов. До Чикаго было рукой подать. Через пару дней ранним утром из вагона поезда, доставившего скот на чикагские бойни, выскользнула фигура в замысловатой шляпе и потрепанном темносером пиджаке. Это был Джек Лондон. Когда он прибыл в Чикаго, там начиналась забастовка пульмановских рабочих. Заводы Пульмана производили салон-вагоны. Рабочие вынуждены были прибегнуть к забастовке после нового снижения зарплаты и увольнения тысяч их товарищей. Начавшаяся забастовка молниеносно распространилась по стране. Вспыхнула стачка солидарности, парализовавшая железнодорожное движение от Чикаго до Тихого океана. Остановились фабрики и заводы, возникли затруднения со снабжением. В стачке участвовало около ста тысяч трудящихся. Вообще же, в этом году в стачечное движение по всей стране было вовлечено около 700 тысяч человек. Рабочий класс выступил на борьбу за свои права, продемонстрировав силу и сплоченность. Его мощное выступление повергло в панику монополистов. Буржуазная печать открыла яростную кампанию против бастующих, обвинила профсоюзы в организации восстания против нации, пугала заговорами анархистов. Чтобы создать предлог для использования войск, в ряды рабочих подсылались провокаторы, имевшие задание подбить их на беспорядки. В Чикаго прибыли войска. 6 июня полиция стреляла в толпу, на следующий день огонь был вновь открыт по бастующим. Только убитых было около 30 человек, десятки раненых. В восьми наиболее беспокойных штатах президент запретил всякие сборища Федеральные войска пришлось направить на охваченный волнениями Запад, в том числе в Сан-Франциско. Беспечный, довольный представившейся возможностью видеть неизвестные края и новых людей, Джек начинает задумываться над причинами нищеты и роскоши. Балтимор, Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон — как в кинематографе мелькают города. Он свидетель горя и недовольства. Он и раньше сталкивался с несправедливостью, видел дно жизни, но восточные промышленные штаты не чета солнечной Калифорнии, где в конце концов удавалось найти кое-какую работу и кусок хлеба и не нужно было тратиться на зимнюю одежду. Месяцы скитаний обогатили будущего писателя. Он вел дневник. Впоследствии Джек вернется в творчестве к этому периоду жизни. А сейчас он ехал к Ниагарскому водопаду — одному из чудес природы. Сказочное зрелище падающей воды потрясло юношу. Джек и не заметил, как подкралась ночь. Об ужине думать было уже поздно, и он устроился ночевать в поле. Утром он проснулся чуть свет и вновь отправился к водопаду, чтобы еще раз насладиться грандиозной картиной, но по дороге был арестован за бродяжничество. Судебная процедура заняла 15 секунд, судили без присяжных и адвокатов, не дали ему вымолвить в защиту ни слова. Он получил тридцать дней тюрьмы. Левую руку Лондона сковали с правой рукой бродяги негра, цепь наручников прикрепили к общему стальному стержню и погнали под конвоем через весь город к вагону поезда, отправлявшегося в Буффало. Там осужденных остригли, одели в полосатые тюремные халаты. Крепкие каменные стены отрезали Джека от всего мира. Материала и времени для размышлений было достаточно. «С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, — вспоминал позже Лондон, — я перебрался в перенаселенные рабочие центры восточных штатов, где люди что пыль под колесами, где все мечутся в поисках работы. Это заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я увидел рабочих на человеческой свалке, на дне социальной пропасти»[44].УНИВЕРСИТЕТ
Вернувшись после тюремного заключения в Окленд, Джек Лондон засел за книги. Он твердо решил окончить школу и поступить в университет, с тем чтобы стать работником интеллектуального труда, продавать не силу мышц, а «изделия своего мозга». С редким упорством овладевает он знаниями, дни и ночи просиживая за книгами. Школьная газета помещает его рассказы о странствиях, которые он назвал «Историями мальчишки из Фриско». Кризис и последовавшая за ним депрессия принесли горе и страдания в семьи американцев. Передовые люди начинают искать пути устранения существующих несправедливостей. Среди рабочих и интеллигенции оживленно обсуждаются социалистические и марксистские идеи. В спорах выступают представители различных точек зрения — националисты (приверженцы утописта Эдварда Бэллами), анархисты, популисты и другие. Социалистическое движение переживает начальную стадию своего развития, оно разрознено и слабо. Оценивать преимущества той или иной позиции, нередко прикрываемой цветистыми фразами, было нелегко, а Джеку Лондону хотелось найти верный путь. Он участвует в спорах, читает брошюры, упорно стараясь разобраться в терминологии, постичь, к чему в конечном итоге ведет та или иная теория. Один товарищ посоветовал Лондону прочесть «Манифест Коммунистической партии». И эта написанная Марксом и Энгельсом небольшая книжечка ответила на многие вопросы, возникшие у него во время странствий. Лондон даже выписал в записную книжку несколько фраз, объяснивших ему необходимость свержения существующего порядка, открывших новый взгляд на события и развитие истории. Жирной чертой подчеркнул он заключительным параграф: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Юноша Джек на всю жизнь запомнил эти слова, повторял их неоднократно в своих выступлениях, лекциях, статьях. Девизом «Социалисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения» он стал руководствоваться всю жизнь. Школьник Джек Лондон принимает участие в социалистических собраниях, уличных митингах. Его даже прозвали «мальчик-социалист». В школьном журнале «Иджис» появилась первая его социалистическая статья «Оптимизм, пессимизм и патриотизм», в которой он обвинял власти в том, что они не дают народу доступа к образованию, так как боятся, что оно пробудит в нем дух протеста. Он указывал на социальную и моральную деградацию Соединенных Штатов, призывал патриотов проснуться, отобрать бразды правления у развращенного правительства и передать их народу. В эти годы Лондон становится членом Социалистической рабочей партии. В ее рядах он столкнулся с революционно настроенными рабочими и интеллигентами, людьми сильными и бодрыми духом. Их он позже сделал героями романа «Железная пята», рассказов «Мексиканец», «Сон Дебса», «По ту сторону черты». О них им написаны бессмертные слова: «У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, горячую преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Жизнь здесь восстановила себя в правах и стала изумительна и великолепна, и я был рад, что живу. Я общался с людьми горячего сердца, которые человека, его душу и тело ставили выше долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, чем трескотня и шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества»[45]. С гневным обличением капитализма и призывом установить новую, справедливую общественную систему — социализм — выступает Лондон в 1895 году на митинге, состоявшемся на центральной площади Окленда Сити-Холл-Парк. Здесь его вторично арестовывают. Лондон состоит членом различных кружков. В одном изучает поэзию и искусство, в другом — политэкономию, философию. Он пишет заметки в местные газеты, одновременно учится и работает. В литературном кружке знакомится он с Мэйбл Эплгарт, светловолосой, голубоглазой студенткой Калифорнийского университета. Ее отец инженер. Мэйбл кажется Лондону воплощением нежности и утончённости. Во время жарких дискуссий об искусстве он не может оторвать взора от ее одухотворенного лица, огромных сияющих глаз. Любовь к Мэйбл не была первой его любовью. Два года назад его сердце полонила Хейди. Он и тогда робел, не знал, о чем говорить, куда деть руки. На этот раз к прежнему чувству примешивалось обаяние интеллигентности Мэйбл, ее вкуса, уюта их богатого дома, чего-то, как ему казалось, возвышенного, к которому неудержимо тянулась его поэтическая душа. Чтобы не выглядеть неуклюже в доме любимой, юноша штудирует книги о правилах хорошего тона. Брат Мэйбл учит Джека играть в шахматы, а она помогает ему выбрать в своей библиотеке интересные книги, поправляет его речь. Они совсем не похожи друг на друга: рослый, широкоплечий, грубоватый Джек и маленькая, хрупкая Мэйбл. Она тоже робеет в его присутствии, неведомый трепет охватывает и ее существо. Любовь их становится взаимной. Занятия в школе были малопродуктивны. При таких черепашьих темпах потребовалось бы еще два года для подготовки в университет. Он оставляет школу и решает пойти в учебное заведение, готовящее экстерном, но и оттуда уходит. Занимаясь по двенадцать часов, Джек самостоятельно за три месяца усваивает двухлетнюю программу и сдает вступительные экзамены в Калифорнийский университет. Университет размещался у подножия Берклийских холмов в дубовом лесу. Здесь можно было, расположившись на мягкой траве, читать философские труды заинтересовавшего его своей системой взглядов Герберта Спенсера и стихи Рэдьярда Киплинга; смотреть, как осенний ветер рвет сухие листья и долго качает их в теплом пахучем воздухе, прежде чем опустить на землю. Лондон слушал лекции по философии, истории, литературе, английскому языку, биологии, одно время занимался изучением французского языка. Незаурядные способности, целеустремленность и упорство делали свое дело — он опередил сверстников. Чтобы платить за учебу, Джеку приходилось работать. Но по-прежнему не оставлял он своей общественной деятельности, выступал на уличных митингах. В университете на него смотрят подозрительно, как на революционера и красного. Между гем материальное положение семьи ухудшилось. Заболел отчим. Прекрасно сдав экзамены, Джек после первого семестра вынужден оставить университет.НА АЛЯСКУ ЗА ЗОЛОТОМ
С новой силой овладевает Лондоном заветное желание стать писателем. Он познал жизнь, полную отчаяния и горя, видел ее жертвы и ее борцов; он жаждет рассказать миру об увиденном, о том, что восхищает его в человеке и что вызывает боль. Он раздобыл где-то ветхую машинку, печатавшую только заглавными буквами, и в свободные от работы дни по 15 часов в сутки выстукивал на ней одним пальцем очерки, научные и социологические статьи, юмористические стихи, рассказы. Однако редакции журналов с неуклонным постоянством возвращают его продукцию. Стихи его высокопарны, им недостает поэтичности, а рассказы кажутся надуманными, действие в них не развивается, герои статичны, плоски. Мастерства начинающему писателю явно не хватает: язык его чересчур цветист и тяжел, он загромождает большое количество звонких эпитетов, играя словами, рассматривая их со всех сторон, любуясь их звучанием и красками. У автора есть любовь к слову, но недостает еще чувства меры. Начинающего писателя не обескураживает неуспех его творчества. Он продолжает усиленно работать над новыми рассказами, стихами, а возвращенное посылает в другие журналы и пишет, пишет, пишет. Отчим верит в его счастливую звезду, мать возлагает серьезные надежды на упорство Джека, но пока что-то у него не клеится. Джеку от многого приходится отказаться, и в том числе от своего увлечения политэкономией и биологией. Измотавшись за день, он засыпает даже над увлекательными романами. В Америке много говорится и пишется о различныхспособах молниеносного обогащения. Повсюду США рекламируются как страна свобод и равных возможностей. Но вот он, здоровый, полный сил молодой парень, бьется как рыба об лед, безуспешно пытаясь вырваться из нищеты сам, освободить от нее семью. Он убежден: нужно перевернуть всю эту гнилую систему. Социалисты делают хорошее дело. Маркс прав: капитализм должен погибнуть, он погибнет и будет с проклятиями погребен народами мира. Лондон сам готов отдаться великому делу революции, но сейчас нужно кормить стариков, нужно как-то обеспечить себя. В этот год сенсационная весть пронеслась по Штатам — на Аляске открыто золото. Из уст в уста передавались легенды о золотоносных землях, где миллионерами становились за неделю. Джек с мужем сестры решил попытать счастья. Были взяты все сбережения сестры Элизы и деньги под залог дома, в Сан-Франциско закупили шерстяные свитеры, фланелевые рубашки, меховые шубы, шапки, сапоги, одеяла, палатки — все предметы, необходимые для длительного путешествия по снежным просторам Аляски. В конце июля 1897 года двое мужчин отплыли. Трудности начались с первых же минут высадки на Севере. Багаж был велик, а носильщики дороги. Если взять носильщиков, им не хватит денег и на несколько дней. Решили тащить груз сами по скользким тропам, через горы. Шурин Джека отказался от непосильного путешествия, и Лондон ушел с тремя друзьями; груз переправляли частями, по нескольку раз проходя один и тот же путь. Особенно тяжел был Чилкутский перевал. Лондон взваливал на спину до семидесяти килограммов и ожесточенно карабкался по крутым склонам, стараясь опередить товарищей. Нет, этот вид спорта был, конечно, не для слабых, поэтому-то он и доставил удовольствие Джеку Лондону, который наслаждался безупречной работой своих мускулов, был счастлив, когда удавалось перегнать коренных жителей здешних мест — индейцев. Джек преодолевал пороги, бурные ледяные потоки, где ни одна душа не решалась плыть. Нужно было торопиться — время решало все, так как сотни соперников шли по горным склонам, брели по узким тропам, плыли в лодках и на плотах через озера. Мужество, выносливость и смекалка обещали удачу в этой лихорадочной погоне, предпринятой обездоленными судьбой людьми. Джек бесстрашно смотрел в глаза опасности. Его окрыляла мечта обеспечить мать и отчима, которого он оставил больным; он грезил о женитьбе на Мэйбл и о средствах для свободной писательской деятельности, которая не была бы омрачена постоянной погоней за долларом. В начале октябрю Джек Лондон с приятелями добрался до старательского лагеря на реке Гендерсон, выше Доусона, а на третий день поисков и пробных промывок компаньон Джека Томпсон наткнулся на песок с обильными золотыми блестками. Спешно застолбив участок, составив подробную карту и захватив с собой пробу, обрадованные золотоискатели спустились в Доусон, чтобы сделать заявку. Только оформив заявку, решились они показать свою пробу знатокам. Их сразу подняли на смех. Золотые блестки оказались слюдой. О новых разведках думать было поздно: наступала ранняя северная зима. Друзья предполагали переждать ее и весной вновь начать поиски золотоносного участка. В долгие зимние вечера Лондон штудировал толстые книги, среди которых были «Капитал» Маркса и «Происхождение видов» Дарвина, слушал бесконечные были и небылицы об удивительных происшествиях и сказочных находках, о столкновениях из-за золота, кончавшихся трагически, о могуществе дружбы и о самоотверженности индейских женщин, о том, как едва не замерз промочивший в полынье ноги путник и как погиб от взрыва ружья алчный, спрятавший в ствол золото человек. Каких только не наслушаешься историй в бесконечную арктическую ночь! К весне от недостатка свежей пищи и овощей Лондон заболел цингой. Он долго крепился, прежде чем понял, что на Севере ему не удастся излечиться, а когда наконец понял, то спустился с двумя товарищами на лодке вниз по Юкону, а затем проплыл вдоль побережья Берингова моря на Север до порта Сент-Майкл, проделав около двух тысяч миль. Из Сент-Майкла пароход доставил его в Сан-Франциско. Он не привез ни гроша, напротив, — потратил все, что ему дали, но все же он привез нечто ценнее денег — заметки о виденном и слышанном. Память сохранила встречи, рассказы, картины величественной природы. Он был свидетелем жестокой борьбы людей с природой, их торжества и поражений. На Севере Джек Лондон полюбил друга человека — собаку, по достоинству оценил ее привязанность и самоотверженность, но, главное, в нем укрепилась вера в могущество самого человека, вера в товарищество, дружбу. С этих пор его еще больше привлекали в людях упорство, воля, способность выходить победителем из сложных и трудных положений. В то же время путешествие на Аляску приоткрыло и еще одну сторону капиталистического мира, — он поощрял жестокую борьбу между людьми, называя ее свободным предпринимательством. В этой борьбе успеха добивались единицы, а сотни, тысячи, как на Аляске, либо терпели крах, либо устилали трупами узкие лабиринты, ведущие к призрачному счастью.НОВЫЕ БИТВЫ
Вернувшись домой, Джек не застал Джона Лондона, своего второго отца, в живых. Джеку снова нужно было брать на себя заботы о семье. Тщетно целыми днями бродит он по предприятиям Окленда. Подвертывается лишь временная работа, но и это на худой конец неплохо. Он закладывает часы, велосипед, макинтош и вновь начинает писать. Джек тщательно изучает рассказы, публикуемые в журналах, пытаясь разгадать секрет их популярности, обращается к творчеству прославленных авторов. Вчитываясь в их произведения, он постигает премудрости построения сюжета, особенности стиля. Среди прочих писателей его внимание привлекает англичанин Рэдьярд Киплинг и прежде всего лаконизм его стиля. Лондон приходит к выводу, что писать нужно сжато, рассказывать нужно о сильных человеческих переживаниях, о ярких характерах. Одну за другой шлет он новые рукописи в журналы, но по-прежнему встречает холодный прием. Мэйбл не верит в его литературный талант, советует найти постоянную работу, но бледный, похудевший Джек упорно стоит на своем. То, что любимая не понимает, а главное, не верит в него, еще более его ожесточает. Джек неустанно работает над стилем и композицией своих произведений, совершенствует мастерство. Он не понимает, что недостаток мастерства был только одной из причин его неуспеха у издателей. Творения Лондона были слишком непохожи на литературу, наводнявшую рынок. Издатели. требовали от писателя счастливого конца. Верные господствовавшей в американском искусстве «традиции утонченности», призывавшей изображать действительность в розовом свете, они поддерживали сочинения, далекие от суровой жизненной правды. В ходу был так называемый «деловой роман», дающий рецепты стремительного обогащения, воспевающий частное предпринимательство, прославляющий бизнесмена. Положительным образом таких романов был образ «великого дельца» — благотворителя и спасителя бедного люда. На этом поприще подвизались такие писатели, как Вилл Пейн, Сэмюэл Мервин, Генри Уэбстер, Джордж Лоример, Маргарет Дэланд и десятки других бесталанных литераторов, умело извлекавших из своего промысла звонкую монету. Литературный рынок наводнен был книгами, воспевающими захват чужих земель, колониальную эксплуатацию. На рубеже XX века Соединенные Штаты превратились в империалистическую державу. Они начали войну с Испанией из-за Кубы и вышли победителями. Они захватили Филиппины, Гавайские острова, Панаму, остров Пуэрто-Рико, предприняли интервенцию в Китай и Мексику. Жизненно правдивые произведения с трудом пробивали себе дорогу. Писателей-реалистов ставили в сложные, подчас невыносимые условия. Судьбу многих талантливых современников Лондона изуродовала капиталистическая Америка. Она подкупила Хэмлина Гарленда, начавшего творческий путь в 90-х годах правдивыми рассказами о разоряющемся американском фермерстве. Она третировала и объявила «безнравственным» оригинального художника Стивена Крейна, обратившегося к показу жизни низов американского города. Она травила Генри Фуллера, попытавшегося в середине 90-х годов выступить с разоблачениями бизнесменов. Она на десять лет принудила умолкнуть Теодора Драйзера, объявив аморальным его первый роман «Сестра Кэрри». Марк Твен, великий сатирик Твен, вынужден был, по его собственному признанию, из опасения потерять кусок хлеба всю свою жизнь писать полуправду. В этой обстановке вступал в литературу Джек Лондон. Он хотел стать писателем, но он был далек от мысли прославлять бизнесмена, создавать новеллы в помощь идеологам колониальных захватов. В декабре 1898 года, накануне Нового года. Джек получил извещение из «Оверленд мансли», калифорнийского журнала, что его рассказ «За тех, кто в пути» принят и он получит за него… пять долларов (пять лет назад за первый несовершенный его очерк «Тайфун у берегов Японии» ему выдали 25 долларов). Но доведенный от отчаяния Лондон был вынужден принять и эти гроши. Рассказ появился в январском номере и положил счастливое начало. «Оверленд мансли» принял еще две новеллы, а затем и другие журналы начали помещать его произведения. Эти рассказы Джека Лондона раскрывали перед читателем мир золотоискателей, людей, с суровым упорством боровшихся за счастье. Лондон необычайно много и упорно работает над рассказами. В 1901 году он издает первый свой сборник «Сын Волка», а через год второй — «Бог его отцов». Новеллы обоих сборников посвящены жителям Аляски, золотоискателям, индейцам. Этой же теме посвящен и третий сборник «Дети Мороза» (1903 г.). Писатель показывал, как пытался добыть человек пресловутое счастье и как жестоко расплачивался за свою дерзость. Рассказы Лондона заставляли с нетерпением следить за развитием действия. Но внимание читателя приковано не неожиданными поворотами сюжета, а драматизмом ситуации. Персонажи действуют в трудных условиях, над ними нависает смертельная опасность, угрозе подвергается их жизнь — это особенность творческой манеры Лондона. Сюжет лучших рассказов сжат, концовка обрывается, словно натянутая струна, оставляя в сердце замирающий отзвук «только что промелькнувших перед глазами событий. Это не американский Киплинг, как его называли некоторые обозреватели, а самобытный талант, нашедший свой путь. Джек Лондон продолжал и развивал реалистические традиции Марка Твена и Брет-Гарта. Не соглашаясь с принципами «традиции утонченности», призывавшей приукрашивать жизнь, он показывал, как гибли сотни людей, привлеченные блеском золота, и как в жестокой борьбе лишь единицы достигали цели. Сюжеты, избираемые Лондоном для рассказов, характер изложения были рассчитаны на широкого читателя. Он вводил в американскую литературу разговорный язык, жаргонизмы. Читатели заметили и оценили свежий талант молодого автора, а затем последовало и признание издателей. Журналы начали наперебой слать ему заказы. Битва была выиграна.ЧИТАЯ РАССКАЗ «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ»
«Любовь к жизни» (1905 г.) — один из самых известных северных рассказов Джека Лондона. Он включался во многие сборники произведений писателя, выходившие у нас и за рубежом. Популярность рассказа заслуженна. Секрет ее в эмоциональном воздействии, за которым сУоит высокое писательское мастерство, своеобразный художественный талант Джека Лондона. Начинается повествование, как это нередко бывает в произведениях Лондона, со зрительных образов. Без пролога и экспозиции вводит автор читателя в центр событий. «Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз». Первый ступил в «молочно-белую воду, пенившуюся по камням… Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед, — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору». С первых строк и в дальнейшем Лондон опирается на образы, связанные с самым развитым человеческим чувством — зрением. Это помогает ему сделать картину событий наглядней, усилить иллюзию их подлинности… Разумеется, если бы писатель ограничился только этим приемом, наше восприятие лишилось бы многих ярких красок, из которых слагается образная система художественного произведения. Мы «ощущаем» холод, «слышим» вялый голос одного из спутников. Но преимущественно рассказ идет в зрительных образах — то глазами автора, то глазами участника событий. «Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией…», «…с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет» и т. д. Попутно Лондон сообщает, о чем путник думает: он пытается припомнить местность, представляет, как найдет тайник с патронами, обдумывает, куда пойдет дальше, он надеется, что товарищ не бросил его. Снимок сознания позволяет автору делать экскурсы во времени — в прошлое и будущее, но, как только он обращается к настоящему, он вновь дает зрительные картины одну за другой. Вот как доводятся до сознания читателя признаки голода, который начал испытывать герой: «Он ничего не ел уже два дня, но еще больше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, — оставалось только горькое жесткое семя». Образные картины страданий героя вызывают и усиливают наше сочувствие: «Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизал сухие губы кончиком языка. — Билл! — крикнул он. Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду…» Мы прочли всего лишь три страницы рассказа, а уже включены зрение, слух, вкус, ощущение холода, страха, автор вызвал первый отклик сострадания в наших сердцах. Излюбленный прием Джека Лондона — воздействовать на читательское воображение, показав отношение действующего лица к окружающему, описывая его чувства и ощущения. Еще в начале своей писательской карьеры, но уже после того, как были созданы такие блестящие рассказы, как «Белое безмолвие», «Северная Одиссея», «Мужество женщины» и «Закон жизни», Лондон в письмах к молодому писателю Клоудесли Джонсу объяснил свои представления об истинно художественном сочинении. Убежденно и настойчиво он повторяет: «Не увлекайтесь пересказом… Пускай ваши герои сообщают об этом своими делами, поступками, разговорами и т. д… Пишите напряженнее… не повествуйте, а рисуйте, очерчивайте, стройте!..», «…Подходите к читателю через трагедию и ее основное действующее лицо». Все это важнейшие принципы творческого метода писателя. В качестве примера разработки сюжета через душу главного героя Лондон приводил свой рассказ «Закон жизни». В нем речь идет о дряхлом старике индейце, которого племя оставляет умирать в снежной пустыне. «Все, что вы узнаете, — пишет Лондон, — даже оценка и обобщения, — все это делается только через этого старика индейца путем описания его впечатлений». Лондон заставляет нас встать на место страдающего героя, проникнуться его мучениями. Такого эффекта автор достигает с помощью приемов, о которых речь шла выше, но также и с помощью тех мельчайших деталей, которые, как песчинки, новые и новые падают на чашу весов судьбы героя, характеризуя то угасание его жизненных сил, то возгорание огня его инстинкта самосохранения. Но вернемся к рассказу «Любовь к жизни». Первые признаки голода и страха уже появились у героя. Но он здраво мыслит, четко планирует свои ближайшие и будущие действия. Он смотрит на часы, не забывает завести их, с помощью часов определяет направление на юг, ориентируется на местности. Он остался в одиночестве с поврежденной ногой, но он способен прогнать страх. Дальше трагизм его положения усугубляется. Вначале муки голода, безуспешные попытки подбить куропатку, поймать, вычерпав воду из лужи, рыбку, поиски лягушки или хотя бы червей, чтобы заглушить неумолимый зов желудка. Вот уже его сознанием безраздельно овладело одно желание: есть! Параллельно вкраплены такие детали: от мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки порвались, ноги стерты до крови. Выпал снег. Человек уже не разводит костра и не кипятит воды. Спит он под открытым небом тревожным голодным сном, а снег превратился в холодный, всюду проникающий дождь. Он наконец ухитрился поймать двух пескарей. Съел их сырыми. Потом поймал еще трех, двух съел, а третьего оставил на завтрак (какая аскетически бесстрастная подробность, без авторской оценки, но сильная сама по себе). «В этот день он прошел не более десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, не больше пяти». И вот теперь очень часто до него доносится из пустынной дали вой волков. Три волка, «крадучись, перебежали ему дорогу». Пока еще крадучись, это лишь первый намек на смертельную опасность. Едва передвигающийся путник пытается догнать куропатку, но тщетно, он только совсем обессилел. Он уже почти все бросил из своих вещей, теперь высыпает из мешочка половину золота, того самого золота, ради которого прибыл в эти далекие дикие края, а вечером он выбрасывает и остатки. По временам он начинает терять сознание. Встреча с медведем. Кругом волки, но они все еще не подходят близко. Несчастный набрел на обглоданные кости олененка. Мысль: «Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?» Но вот он уже не рассуждает, он сидит на корточках, как пишет Лондон, «держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни». Картина становится страшной. Оборванный, потерянный в глуши, изнемогающий человек обгладывает недоеденные волками кости, дробит их камнем и глотает с жадностью. Он уже не чувствует боли, когда попадает камнем себе по пальцам. «Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед». Вот он, огонь, жажда жизни. Но нет, им еще не испита до дна чаша страданий. Мы давно ждем облегчения, но его нет ни для героя, ни для читателей, хуже того — тучи сгущаются. Уже нависла новая угроза: путника начинает преследовать волчица, больная, чихающая и кашляющая. Здесь скрыта горькая ирония: унизительно мужчине сражаться с больной волчицей, но путник так обессилен, что для него почетно и такое соперничество, ибо оно представляет для него смертельную угрозу». Обглоданные кости оленя и корабль, увиденный человеком вдали, укрепляют его волю к жизни, организуют его силы и проясняют сознание. Начинается многодневный судорожный путь к кораблю. Ослабевший зверь не решается наброситься на человека. Два изможденных существа бредут по равнине. Несчастный путник натыкается на обглоданные кости своего товарища Билла, который бросил его. Рядом лежит его мешочек с золотом. Злая ирония судьбы — Билла настигла расплата. Человек выдавил из себя «ха-ха!», он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Но человек не взял золота и не стал «сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше». Страшная, отвратительная мысль, но такая естественная в его состоянии. Человек бредет дальше. Он уже не в силах вычерпывать воду и ловить пескарей. Он может только ползти. Колени и ступни его содраны до живого мяса. Волк лижет кровавый след человека. Чувство надвигающейся опасности заставляет человека принять решение. «Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней». Он притворяется спящим, всеми силами стараясь при этом не потерять сознания, терпеливо ждет приближения волчицы. И не только приближения, а укуса. Начинается смертельная схватка двух умирающих, обессилевших, не способных убить друг друга существ. Победителем выходит человек. Он оказался хитрее и жизнеспособнее. И вот, не в силах даже ползти, а только извиваясь, как неведомое чудовище, в полуобморочном состоянии продвигается человек последние десятки метров, чтобы его заметили с корабля. Его обнаруживают и спасают. После чудовищных мучений и терзаний наступав! благополучный конец. Победила воля к жизни. Шла борьба до конца, на карту было поставлено все. Победа потому и далась, что ей отдано было все без остатка. Это не искусственное преувеличение тех или иных человеческих свойств, а художественное открытие Лондона. Оно было результатом проникновения в суть человека, шло от избытка собственных жизненных сил и было плодом жизненного опыта смелого, энергичного мужчины, который до конца дней любил помериться силами с опасностью. Внимание Джека Лондона к острым ситуациям, сопряженным для героя с тяжелой борьбой, и реалистическая ее трактовка дали ему возможность выступить новатором. Ни один писатель в Америке до Лондона не показал с такой художественной силой возможности человека, неисчерпаемость его физических сил, его упорство в борьбе. Горький верно подметил, сказав, что «Джек Лондон — писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать волевых людей»[46]. Основой сюжета рассказа «Любовь к жизни» послужили действительные происшествия на Аляске, о которых узнал писатель из газет. Одно случилось на реке Куперман, где вывихнувший ног} золотоискатель с трудом добрался до жилья. Другое — у местечка Ноум. Там заблудился и едва не умер в тундре старатель. Сведения о болезненной мании запасать провизию, появившейся у перенесшего жестокий голод человека, Джек Лондон тоже почерпнул из достоверного источника — из книги лейтенанта Грили о своей полярной экспедиции. Как видим, в основе сюжета рассказа подлинные факты. Добавим к ним опыт собственных голоданий и «хождений по мукам», которые пережил Лондон, его впечатления от пребывания на Аляске. Все это были крупицы, но весьма существенные для реалистической канвы рассказа. Далее работало воображение и безжалостный судья — разум, отобравший самое необходимое, самое действенное. Лейтмотив всего северного цикла — тема товарищества. Товарищеская поддержка — это, по мысли писателя, решающее условие победы над природой. Мораль Севера основана на доверии и взаим ной честности. Суровые условия счищают с человека шелуху неискренности и показной храбрости, обнажают его подлинную ценность. Лондон выступает против эгоизма и индивидуализма, за дружбу и взаимопомощь, за сильных духом. Трус, ничтожный человек, по убеждению автора, скорее погибнет, чем смелый, так гибнут потерявшие самообладание золотоискатели в новелле «В далеком краю» и Билл, бросивший товарища, в рассказе «Любовь к жизни». Лондон не принадлежал к числу тех писателей-романтиков которые розовыми красками рисуют трудности борьбы и тем самым обманывают, разоружают читателя перед лицом серьезных испытаний. «Любовь к жизни», «Развести костер», «Мужество женщины», «Закон жизни» и десятки других рассказов, романы и повести выдающегося американского писателя — вот бессмертные свидетельства особого, неповторимого дарования Джека Лондона и его мужественного реализма. Жена Джека Лондона Бесс с дочерьми Джоан и Бесс. Джек Лондон с дочерьми. 1905 г.ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
В 1900 году Лондон женился, но не на Мэйбл Эплгарт — она не решилась уйти из семьи, — а на невесте погибшего друга, Бесс Маддерн. Супруги зажили согласно и счастливо, а вскоре быстро идущий в гору молодой писатель стал отцом дочурки, которую назвали Джоан. Постепенно к писателю приходит слава, а в семью достаток. Но неугомонный Лондон не успокаивается. Осенью 1902 года он едет корреспондентом в Африку, где идет англо-бурская война, но опаздывает (бои уже прекратились), и поскольку весть о конце войны застала его по дороге, в Лондоне, столице одной из богатейших стран мира, писатель-социалист решает пожить в беднейших кварталах, чтобы изучить быт простого люда. Переодевшись в тряпье, Джек Лондон поселяется на несколько недель в Ист-Энде, лондонских трущобах. По материалам своих наблюдений создает он потрясающую книгу «Люди бездны», в которой без прикрас описывает ужасающие картины нищеты народной жизни, картины распада и загнивания английского общества и выносит ему приговор. Такую достоверную и гневную книгу мог создать только писатель, близкий к народу, сам переживший унижения и страдания, всем сердцем любящий простых людей. По возвращении в США Лондон работает над романом «Морской волк», над рассказами, статьями в защиту социализма, и через непродолжительное время вновь отплывает газетным корреспондентом, на этот раз к театру военных действий начинающейся русско-японской войны, в Корею. Это было почти за три недели до вероломного нападения японской эскадры на Порт-Артур. В конце января 1904 года вместе с другими репортерами он высадился в Иокогаме и оттуда перебрался в Корею, где, как предполагалось, должны были развернуться события. Невероятного труда стоил Лондону путь в Корею. Трудно было получить разрешение, найти место на пароходе. Множество препятствий чинили японские военные власти. Он был даже арестован. Осунувшийся, падающий с ног от угара и усталости, сошел Джек Лондон на берег в Чемульпо. Из-за всех дорожных превратностей писатель последним добрался до Сеула, но ему удалось первым попасть в Маньчжурию. 12 марта он не без гордости пишет, что дальше всех продвинулся на север и находится всего в 40 милях от линии фронта. А через два дня Лондон вновь оказывается в Пхеньяне, вынужденный подчиниться приказу японского командования. «Японцы вообще не позволяют нам видеть войну», — с горечью сообщает он. Джек Лондон не получает писем из дому и не знает, доходят ли по назначению его корреспонденции. Ему не разрешают отъезжать более мили от места указанного ночлега. Препятствия, создаваемые японцами, становятся невыносимыми для писателя, и он просит редактора газеты либо перебросить его на русскую сторону, либо отозвать, так как не считает целесообразным оставаться. Японские власти явно с особым недоброжелательством относятся к упрямому корреспонденту, к тому же социалисту, и вскоре Лондон вынужден возвратиться в Америку. Когда он отплывал обратно из Иокогамы, его друзья журналисты все еще ожидали разрешения для поездки на фронт. Препятствий и ограничения, с которыми столкнулся Джек Лондон, не могли не сказаться на его репортажах. Японская цензура обязывала писателя быть сдержанным в своих симпатиях к русским и, с другой стороны, быть весьма умеренным в критике японской армии и не скупиться на комплименты в их адрес. II все же в его репортажах мы находим и симпатии к русским, и осуждение японского вероломства, а в оценке, даваемой Лондоном японской армии, звучат настороженность и беспокойство. Он предостерегает об опасности, которую представляет собою милитаристская машина Японии. Может быть, именно за зоркий глаз и смелость оценок и был «выслан» писатель-социалист Джек Лондон подальше от фронта: из Маньчжурии, Кореи и Японии. В репортажах писатель рассказывает о первом столкновении казаков с японскими силами, о храбрости русских солдат, которые дерутся до последнего патрона, но вынуждены отступать под давлением значительно превосходящих сил неприятеля. Лондон показывает ошибки русских офицеров, которые то разбивают лагерь и ставят орудия на открытых и легко уязвимых позициях, то попадаются на довольно примитивную уловку японского командования. Из репортажей Лондона мы узнаем, как враждебно отнеслось корейское население к оккупантам японцам, да и не только к японцам, но и тем европейцам и американцам, которые шли с ними. У Джека Лондона уже растут две крошки дочери, но семейная жизнь не ладится. Бесс, прекрасная мать для детей, не смогла стать Джеку другом, товарищем, который разделил бы его интерес к литературе, понял его постоянные искания, порывы его мятежного духа. Он уходит от семьи, мучительно переживая свер шившееся. Он все чаще выезжает в Лунную долину, подальше от города, в деревню Глен Эллен; здесь он создает свои произведения. Влюбившись на всю жизнь в пышный, не тронутый цивилизацией край, Лондон после вторичной женитьбы (в 1905 году на Чармейн Киттредж) покупает поблизости ранчо, ставшее постоянным его домом. Но Лондон не любил подолгу сидеть на одном месте и частенько уезжал отсюда вместе с Чармейн то в кругосветное путешествие на яхте «Снарк», то по рекам и заливу на суденышке «Ромер», то в прилегающие штаты на четверке лошадей, то на корабле «Дириго» вокруг Южной Америки, то для отдыха на Гавайи. Джека Лондона, как и в детстве, все время куда-то тянуло ему хотелось больше видеть и знать, ему хотелось все испытать самому: самому добиться успеха в боксе, в нырянии с вышки, самому спроектировать яхту, а затем управлять ею, ведя через Тихий, Индийский, Атлантический океаны — вокруг света, почти без команды, только с женой да двумя-тремя помощниками. «Больше всего, — писал он, — я хочу разных личных достижений, — не для того, понятно, чтобы кто-то мне аплодировал, а просто для себя, для собственного удовольствия. Это все то же старое: «Это я сделал! Я! Собственными руками я сделал это!» Но мои подвиги должны быть непременно материального, даже физического, свойства. Для меня гораздо интереснее побить рекорд в плавании или удержаться в седле, когда лошадь хочет меня сбросить, чем написать прекрасную повесть». «Чем больше препятствия, тем больше удовольствие от их преодоления, — объясняет Лондон причины, побудившие его предпринять рискованное путешествие вокруг света. — Возьмите, например, человека, который прыгает с трамплина в воду: он делает в воздухе полуоборот всем телом и попадает в воду всегда головой вперед. Как только он оттолкнется от трамплина, он попадает в непривычную суровую среду, и столь же суровой будет расплата, если он не справится с задачей и упадет в воду плашмя. Разумеется, ничто, собственно, не заставляет его подвергать себя риску такой расплаты. Он может спокойно остаться на берегу в безмятежном и сладостном окружении летнего воздуха, солнечного света и устойчивой неподвижности. Но что поделаешь, человек создан иначе! В короткие мгновения полета он живет так, как никогда не жил бы, оставаясь на месте. Я, во всяком случае, предпочитаю быть на месте этого прыгающего, чем на месте субъектов, которые сидят на берегу и наблюдают за ним. Вот почему я строю «Снарк»[47]. В этих высказываниях весь Джек Лондон. В апреле 1907 года оклендская прогрессивная газета «Голос социалиста» шлет дружеское напутствие отплывающему Джеку Лондону: «До свидания, Джек! До свидания! «Снарк» с развевающимся красным флагом поднял 22 апреля якорь, и Джек Лондон с женой теперь уже в море. Рузвельт будет рад узнать, что еще одним «нежелательным гражданином» стало в стране меньше». Незадолго перед тем тогдашний президент Теодор Рузвельт назвал «нежелательными гражданами» за их активную организаторскую деятельность руководителей рабочего движения Билла Хейвуда и Чарльза Мойера, которые были незаконно арестованы властями и брошены в тюрьму. В защиту Хейвуда и Мойера выступил ряд видных общественных деятелей и писателей. По прибытии в Америку приветственную телеграмму им послал А. М. Горький, за что подвергся со стороны американской реакции ожесточенной травле. Лондон написал в защиту арестованных гневную статью «Гниль завелась в штате Айдахо». Он сам фактически тоже был для правительства США «нежелательным гражданином». «Снарк» режет волны Тихого океана. Гонолулу, Маркизские острова, Паго-Паго, острова Фиджи, Новые Гебриды. А на палубе, склонившись над стопкой бумаги, сидит и пишет свои романы и рассказы атлетического сложения человек. Морской ветер треплет его волосы, ласкает щеки, шею, забирается за воротник. Человек изредка поднимает глаза и смотрит отсутствующим взглядом в бескрайнюю даль. Выражение его лица меняется: то оно строго и напряженно, то нежно и просветленно. О чем он пишет? Неуклюжий матрос, неловко сдернув кепку, входит в гостиную богатого дома. Он застенчив, не знает, как вести себя. Это простой, необразованный парень, но необычайно чуткий к красоте пейзажа, изображенного на висящей в гостиной картине, к музыке стихов неизвестного поэта, книга которого попадает ему в руки. Молодой моряк знакомится в этом доме с девушкой необыкновенной красоты, белокурой, нежной, умной. Его охватывает незнакомое, щемящее чувство, он влюбляется в это воздушное создание. Но он не ровня ей. И моряк твердо решает получить образование, стать писателем, добиться успеха, чтобы обеспечить будущую семью и тогда жениться на любимой девушке. Истории трагически завершившейся судьбы матроса Мартина Идена и был посвящен роман, который писал на палубе своей яхты Джек Лондон. Когда ветер крепчал, начинал яростно хлопать парусами и бросать на палубу «Снарка» соленые брызги, Лондон спускался в каюту, и работа продолжалась там. Он вспоминал юность, любовь к Мэйбл и то время, когда он, голодный, упорно трудился над рассказами, стихами, пьесами, чтобы пробить путь в литературу. В романе было воспроизведено немало деталей из его биографии. Мартин Иден, как и сам Лондон, становился наконец писателем, его тоже постигало разочарование в любимой, он тоже устал и переживал духовный кризис, но, в то время как лишенный большой цели и друзей одиночка Мартин Иден погибал, придя к выводу, что все, ради чего стоило жить, потеряно, Лондон нашел в себе силы в 1904–1905 годах преодолеть кризис; и спасло его в ту пору, по его собственному признанию, убеждение, что существует нечто гораздо более важное в жизни, чем любовь, — служение общественному делу, своему народу. В шторм, когда гигантские волны вздымаются выше мачт, Джек Лондон стоит сам у руля, гордый, восхищенный своей победой над стихией. В штиль он ловит рыбу, морских черепах, дельфинов, охотится на акул, стреляет чаек и львиную долю времени проводит за книгами, наслаждаясь пьесами Ибсена и новеллами Мопассана, остроумием Бернарда Шоу и неистощимой фантазией Герберта Уэллса. Он выходит на палубу, чтобы определить местонахождение судна и проверить его курс, постигает новые и новые премудрости кораблевождения. Но ежедневно пишет, пишет, пишет. На тихоокеанских островах его трогает радушие туземцев. Отчаливающий от островов «Снарк» буквально ломится от подарков. На полинезийском острове Бора-Бора экипаж судна ходит не иначе как увитый гирляндами цветов, а взошедшие на борт туземные девушки приветствуют всех поцелуями. К яхте то и дело подплывают челноки, до краев наполненные плодами, овощами, фруктами, рыбой, живой птицей. Мореплавателям поднесли даже поросенка. Отказываться было нельзя: это обидело бы гостеприимных хозяев. А после того, как «Снарк» отходит от берега и поднимается легкий бриз, по палубе начинают кататься ананасы, кокосовые орехи, гранаты, лимоны. Убрать всю снедь некуда, и бананы, куры, орехи при сильном крене сваливаются за борт. Но так или иначе команда и за месяц все равно не смогла бы съесть подаренное. Не преминул, конечно, Джек Лондон отыскать на Маркизских островах долину Тайпи, о необыкновенных жителях которой мальчишкой прочел в книге Германа Мелвилла. На месте прежних туземных деревень увидел он развалины. Там, где полвека назад возвышались прочные каменные постройки, теперь лишь кое-где стояли убогие хижины. Населявшие острова туземцы частью были истреблены, частью вымерли, не вынеся «даров» той цивилизации, которая была им навязана европейскими колонизаторами. Лондон с горечью пишет, что вся прежняя «мощь и красота исчезли, и долина Тайпи является пристанищем нескольких жалких созданий, съедаемых чахоткой, элефантиазисом[48] и проказой. Мелвилл исчислял население долины в две тысячи человек, без небольшой смежной долины Хо-о-у-ми. Люди точно сгнили в этом изумительном саду, с климатом более здоровым и более очаровательным, чем где бы то ни было в другом месте земного шара. Тайпийцы были не только физически прекрасны — они были чисты. Воздух, которым они дышали, никогда не содержал никаких бацилл и микробов, отравляющих воздух наших городов. И когда белые люди завезли на своих кораблях всевозможные болезни, тайпийцы сразу поддались им и начали вымирать»[49]. После «Мартина Идена» Лондон засел за «Рассказы Южного моря». Но он прерывал работу над ними и регулярно писал очерки о путешествии. Чармейн печатала их на машинке. Главу за главой по мере продвижения «Снарка» посылал он в журналы. Из них потом была составлена увлекательная и бодрая, как дуновение свежего ветра, книга «Путешествие на «Снарке». За два года плавания им были написаны роман «Приключение», сборник рассказов под названием «Храм гордыни», несколько прекрасных новелл, вошедших в разные сборники: «Меченый», «Кусок мяса», «Дом Мапуи». Во время путешествия Джек Лондон получил хорошую возможность изучить быт и нравы островитян, понять мотивы их самоотверженной борьбы против колонизаторов. Чтобы отстоять свою землю и свободу, туземцы поднимались на борьбу, нередко неравную, с белыми завоевателями. Один из эпизодов такой схватки изобразил Лондон в потрясающем по силе рассказе «Кулау-прокаженный». Туземный вождь Кулау во главе своего племени сражается до последней капли крови и умирает непобежденный, прижав винтовку к груди. И в плавании Джек Лондон не оставлял своей пропагандистской деятельности Он вступал в споры с моряками в портовых кабачках, при случае выступал с лекциями о социализме. Прибыв в какой-нибудь порт, Лондон с жадностью набрасывался на журналы, газеты, письма, которые пересылались ему из Лунной долины. Так он узнал о новом кризисе, разразившемся в Соединенных Штатах, о том, что через несколько месяцев после его отплытия, 16 декабря 1907 года вышла в кругосветное путешествие американская военная эскадра из шестнадцати броненосцев. Зловеще поблескивая орудиями главного калибра, броненосцы шли в Рио-де-Жанейро. Буэнос-Айрес и другие порты и столицы. Как и «Снарк» Джека Лондона, они должны были посетить Австралию, Новую Зеландию, Японию, Филиппины, Гавайские и ряд других островов Тихого океана, однако совсем с другой целью: чтобы «помочь» островитянам оценить преимущества американской «цивилизации» Эскадра была послана американским капиталом, чтобы продемонстрировать могущество США, посеять страх в рядах других империалистических хищников.ЛУННАЯ ДОЛИНА
Если поставить ножку циркуля в то место на карте, где помещается административный корпус университета в Беркли, и провести окружность радиусом в 25 миль, то мы получим круг, внутри которого — согласно инструкции госдепартамента — советские студенты и аспиранты могут передвигаться без специального разрешения. Но до ранчо Джека Лондона пятьдесят миль, и, для того чтобы поехать туда, пришлось запрашивать специальное разрешение. С беспокойством жду ответа с другого конца Соединенных Штатов Наконец в моих руках телеграмма: «Разрешение на поездку в Лунную долину, графство Напа, дается». Профессор Джеймс Харт, проректор Калифорнийского университета и мой научный руководитель, любезно пригласил меня совершить поездку в его машине. Мы мчимся вдоль побережья к старинному городку Сонома. В местном музее можно узнать много интересного о прошлом края. Оказывается, с 1812 по 1839 год в этих местах было русское поселение и укрепленный форт. Эти места, как и Аляска, принадлежали России. В 1830 году население крепости и прилегающей к ней деревни достигло 400 человек, при том, что во всей Калифорнии, которой тогда владели испанцы, насчитывалось всего 4250 жителей. Лишь 60 лет спустя после того, как русские поселенцы впервые ступили на калифорнийскую землю, в этот район прибыли американские пионеры. Река, впадающая неподалеку в Тихий океан, до сих пор называется Русской рекой. Мы осматриваем один из старейших домов Калифорнии, принадлежащий семье Валлехо. В сознании оживают персонажи книги Брет-Гарта: индейцы, мексиканцы, американцы — пионеры здешних мест, грубые, но душевные люди, пришедшие сто с лишним лет назад в эти пустынные тогда края. Впрочем, не только душевные. В конце 40-х годов прошлого века, когда в Калифорнии и Неваде были открыты золотые и серебряные месторождения, азарт наживы занес сюда с востока США немало авантюристов, и в те годы здесь не было ничего дешевле человеческой жизни. Марк Твен, почти за сорок лет до Джека Лондона начинавший в Калифорнии свою писательскую карьеру, писал об атмосфере в старательских лагерях. Нелегко было здесь завоевать себе положение тому, у кого руки не были обагрены кровью. Зато человек, имевший на совести с полдюжины убийств, сразу получал всеобщее признание. Через несколько минут мы в местечке Глен Эллен. Зашли в книжный магазин, хозяин которого прислал мне письмо с предложением своих услуг, начинавшееся словами: «Дорогой товарищ!» И снова мы мчимся по дороге. Она забирает вверх и, неожиданно свернув, открывает перед нами ограду с бронзовой доской на камне. Большие буквы на доске гласят: «Ранчо Джека Лондона». Мы въезжаем в эвкалиптовую аллею. Деревья тонкие, длинные, неровные, с шелушащейся корой, словно облезшие. Еще один поворот, и мы вынырнули из аллеи. Отсюда хорошо видны окрестности. Горы везде: зубчатая гряда их тянется вокруг. «Сонома» — так называли эту долину индейцы. В переводе это значит «много лун». Луна, совершая свой путь по небу, скрывается то за одной, го за другой вершиной окрестных гор и потом появляется над ними вновь. Кажется, что опускается одна луна, а поднимается другая, только что родившаяся. Колонисты, заселившиедолину, изменили ее название на Нью-Сан-Франциско. Но Джек Лондон вновь возродил ее поэтичное имя «Лунная долина». Купив землю и построив дом, он окончательно здесь поселился. Мы подкатили к дому мистера Ирвинга Шепарда. Он — сын сестры Лондона, Элизы. Ему завещала Чармейн все права на наследство писателя и его ферму. Мистеру Шепарду за пятьдесят. Это крепкий, подвижный американец, типичный фермер. Поздоровавшись и перекинувшись несколькими словами, он сажает нас в свою машину и везет показывать дом своего знаменитого дяди. Вот он, этот дом, под сенью огромного дуба и других деревьев, вернее, то, что осталось от этого дома. Он довольно обширен, а сбоку — небольшая пристройка: в ней и писал облетевшие весь мир рассказы и романы большой писатель Америки. Толстый, в четыре обхвата дуб заслоняет часть окна, выходящего в долину. В комнате полумрак — приспущены шторы. Слева стол, за которым Лондон ежедневно писал по тысяче слов, приучив себя работать по утрам систематически. Рядом — узкий столик для книг. Книжные полки занимают всю левую стену, вверху меж ними — узкое окно. Дальше в углу — конторка для деловых записей и документов. На конторке — небольшой бюст Чармейн. Справа от окна ее стол, на нем она печатала рукописи мужа, рядом граммофон. Кабинет отделен от остальной части дома еще одной комнатой — библиотекой, где сейчас стоят подшивки журналов, развешаны фотографии и различные реликвии, так или иначе связанные с жизнью писателя. Здесь же стоит несгораемый шкаф с рукописями. Сюда, в этот дом, приходили к Джеку Лондону его друзья — Фредерик Бэмфорд, Джордж Стерлинг со своей красавицей женой, Клоудесли Джонс и десятки других, здесь рождались замыслы рассказов и романов, велись долгие споры. В хорошую погоду Лондон нередко уезжал писать куда-нибудь в глухой уголок ранчо. Близко знавший писателя в те годы Эдмонд Пелузо так об этом рассказывает: «Ранним утром он уезжал верхом куда глаза глядят, захватив с собой портативную пишущую машинку, складной стул, ковер и завтрак. Найдя себе место по вкусу — цветущий луг, залитый солнцем, или пеструю скалу, нависшую над долиной, он расстилал свой ковер под тенью какого-нибудь эвкалипта, красного кедра или гигантской секвойи, устанавливал пишущую машинку, отпускал лошадь щипать на свободе траву и впрягался в работу. На клочке бумаги он быстро набрасывал основные пункты, которые предполагал в дальнейшем развить, садился за пишущую машинку в обстановке чудесного калифорнийского пейзажа и принимался стучать по клавишам, выливая свои мысли в окончательную форму»[50]. До полудня Лондон обычно работал над своими художественными произведениями и отвечал на многочисленные письма читателей и издателей, ОН сам бел переписку по делам фермы, планировал хозяйство и делал закупки. После полудня встречался с друзьями, которые всегда оказывались на ранчо и жили в специально подготовленных для этой цели соседних пристройках. Компания шла купаться на пруд или совершала прогулки по горам и обрывистым ущельям Сономы, прорытым за века стремительными водами ручьев, или вниз в долину, покрытую виноградниками и апельсиновыми деревьями, славящуюся своим вином. Часто отправлялись верхом, и смех не умолкал в компании Джека, который был неистощим на выдумки, острил, рассказывал смешные истории. Он любил показывать друзьям свое хозяйство, строящийся свинарник, только что купленного породистого жеребца, с увлечением рассказывал о своих планах сделать из ранчо процветающий уголок края. Он был и рабочим, и писателем, и фермером. Мистер Шепард вынимает из несгораемого шкафа рукописи корреспонденций из Кореи и Японии, статьи «Что значит для меня жизнь» (1906) и пленки снимков, сделанных Лондоном в Корее и никогда не публиковавшихся. Государство собирается купить все это. Вот уже второй год ведутся переговоры. Шепард безвозмездно передает часть земли, где расположена могила Джека Лондона, руины сгоревшего дома и дом Чармейн. Штат собирается купить другую часть, перенести туда дом Лондона и сделать музей, но окончательного решения нет… Библиотека Джека Лондона перенесена в дом Чармейн, выстроенный ею после смерти мужа, в конце первой мировой войны. Он сделан из крупных неотесанных камней, старомодно, но удобно. Темная комната на первом этаже заполнена книгами. Вот тайник — целая комната, где хранятся особенно редкие книги с автографами и различные занятные предметы. Среди них бивни какого-то доисторического зверя, найденные Лондоном. Книг в библиотеке, по свидетельству мистера Шепарда, около пяти тысяч. Я нашел здесь «Капитал» Маркса, «Развитие социализма дт утопии к науке» Энгельса, тоненькую книжечку «Коммунистического манифеста». На полках Дарвин, Спенсер, Ницше, Руссо. Обходя библиотеку, дотрагиваясь до корешков собраний Бальзака, Диккенса, Толстого, Марка Твена, Мольера, я обнаружил «Мать» Горького, переведенную на английский язык, томик его рассказов, повесть «Трое». «Эта книга, — писал Джек Лондон о «Фоме Гордееве», — действенное средство, чтобы пробудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество». Через год после того, как Лондон написал приведенные строки, появилась скорбная и гневная его повесть о жителях лондонских трущоб «Люди бездны», а затем страстная книга о революции в США «Железная пята» — роман, равного которому по революционному звучанию нет в американской литературе. А. В. Луначарский отнес его к числу «первых произведений по длинной социалистической литературы»[51]. Ни звука не проникает в изолированную, лишенную естественного света комнату библиотеки прославленного писателя. Я готов сидеть здесь часами, но мистер Шепард торопит меня. Он человек занятый. Я покупаю давно безуспешно разыскиваемую мной в магазинах двухтомную биографию Лондона, написанную Чармейн. Мистер Шепард любезно надписывает ее и дает мне множество рекламных листков с фотографиями писателя, выдержками из его автобиографии и книг, дарит роман «Алая чума» и юбилейный номер журнала «Оверленд мансли», журнала, в котором был напечатан рассказ «За тех, кто в пути», положивший начало известности Джека Лондона. Осмотреть руины «Дома Волка» (писатель в шутку называл себя «Волком» и так решил назвать свой новый дом) не удается: мистер Харт должен успеть на какое-то совещание. Легендарный «Дом Волка» сгорел в 1913 году, накануне переселения туда хозяев. Причины пожара остались невыясненными. Почти все бумаги Лондона, говорит мистер Шепард, проданы Хантингтонской библиотеке, туда же вскоре должны переехать и книги. Эта библиотека расположена в нескольких сотнях миль на юг оз Беркли, в Пасадене, городке, закрытом для советских граждан. Пришлось вновь просить госдепартамент о разрешении просмотреть эти бесценные для меня документы. В ожидании ответа я продолжал работать в библиотеке университета, читал диссертации, выписанные мною из различных университетов США, работы по истории американской литературы, стараясь не упустить ничего важного, выступал с сообщениями о популярности Лондона в СССР. Узнав, что идет фильм «Вулф Ларсен», недавно снятый по мотивам «Морского волка», я пошел в кинотеатр. Но — увы! — картине явно недоставало глубины. Видимо, решив «улучшить» Лондона, постановщики внесли в фильм элементы современного американского боевика и «дописали» роман по-своему. Ларсен, например, слепнет во время попытки овладеть героиней. Взбунтовавшиеся матросы приковывают его к потолку каюты, но слепой Ларсен не сдается, он ногами убивает покушающегося на его жизнь кока, вырывает цепи, потом, схватив пистолет, карабкается на палубу и гибнет в завязавшейся перестрелке.«МОРСКОЙ ВОЛК» В ЦИНКОВОМ ЯЩИКЕ
Но вот разрешение от госдепартамента получено. Поезд мчится вдоль тихоокеанского побережья. Океан справа. Он спокоен, гнх. Слева медленно тянутся горы. Они то изломаны и беспорядочны, то величественны и торжественны, пересечены глубокими тенями. Вот они медленно отступают, открывая долины с одинокими фермами, куски плодородной земли. Здесь идет битва за то, чтобы вырвать у природы ее богатства. Напоенная влагой земля способна приносить человеку щедрые урожаи субтропических плодов — цитрусовых, авокадо, внешне похожих на мелкие дыни, олив. Неподалеку, за грядой этих гор, с севера на юг раскинулась обширная безлесная долина Сан-Хоакин. О ней писали Джек Лондон и его современник, американский писатель Фрэнк Норрис. Писали с горечью, как о месте, символизирующем трудную жизнь фермера, писали с огромным уважением к тем, кто гнет спину 9 тяжелом труде и отдает жизнь в неравной борьбе с монополиями. Я проехал по долине Сан-Хоакин на обратном пути. Поезд шел без остановок. За окном была облитая солнцем равнина, пшеничные поля, редкие городки и одинокие фермы — один-два дома с постройками для скота и птицы, группки деревьев. А сейчас… Поезд несется мимо ферм, городков и местечек, мимо полустанков, домов, домишек и убогих лачуг, мимо «одноэтажной» Америки; не той Америки, которая поражает туриста, а той, в которой живут ее труженики, те, кто пашет землю и сеет хлеб, кто создает ее умные машины и великолепные мосты. Поезд несет меня к «самому большому в мире городу» Лос-Анджелесу. Американцы любят превосходную степень — «самое большое», «самое лучшее», «единственное», «уникальное». Рекламируется «лучшее» пиво, «лучший» крем для бритья и порошок для мытья посуды. Гигантская реклама возвещает о продаже «страшно свежего мяса». Путешествуя, вы узнаете, что лучшим в мире пивом является шлиц, а через десять миль улыбающаяся с огромного транспаранта девица сообщает вам о лучшем в мире пиве эмбасадор; миль через пять афиша кричит: это счастье, что вы живете в Америке, вы можете пить пиво лаки лагер! Применяя превосходную степень к Лос-Анджелесу, американцы хитрят: они включают в него все пригороды и городки, носящие свои собственные имена и отстаивающие свой суверенитет. Одним из таких городков является и Пасадена, в которой находится Хантингтонская библиотека. Огромными белыми свечами цветут магнолии, пламенеют в тени гигантских пальм пахучие розы, бледно-зеленые, с аршинными листьями, густо усыпанными иглами, недвижно стоят под жгучими лучами калифорнийского солнца диковинные кактусы. Я в парке Хантингтонской библиотеки. Здание библиотеки, построенное в античном стиле, стоит на зеленом травяном ковре, окаймленном раскидистыми соснами и частым кустарником. Трава и кустарник давно бы сгорели, палимые беспощадным зноем, если бы их не поливали. Три раза в день, как змеи, шипят здесь вертушки, распыляя вокруг спасительную влагу. По иронии судьбы манускрипты писателя-социалиста попали в библиотеку, основанную железнодорожным магнатом Генри Хантингтоном. Филантропия в США — явление нередкое. Заработавшие миллионы на эксплуатации чужого труда капиталисты не прочь для увековечивания своего имени бросить сотню-другую тысяч долларов на создание музея, библиотеки или театра. Вкладываемые в такие предприятия деньги дают возможность спасти прибыли от налогов. Газетный магнат Херст, например, дал средства на постройку греческого театра в Беркли, нефтяной король Рокфеллер — на дом для студентов Калифорнийского университета. Генри Хантингтон, который нажил миллионы на крови и поте кули, вывезенных в конце прошлого века из Китая для постройки железных дорог, оставил часть своего имения и определенную сумму доходов на картинную галерею и библиотеку, собирающую уникальные документы английской и американской литературы. Я погружаюсь в бумаги Джека Лондона. Читаю его деловую корреспонденцию, письма к друзьям, просматриваю рукописи романов, рассказов, наброски, записные книжки, вчитываюсь в пометки. Вот письма к Мэйбл Эплгарт. Пылкие, сохраняющие горечь неудовлетворенности собой, они написаны еще до того, как Лондон стал писателем. Вот другие письма: в них и нежность, и обида, и попытки оправдаться, это письма к дочери Джоан, написанные десять лет спустя после разрыва с семьей: «Ты не приходишь к отцу, не любишь его…» Далее идут длинные, полные восхищения и страсти письма к Чармейн. Я бережно перекладываю листочки пожелтевшей бумаги, и передо мной встают новые и новые эпизоды из жизни писателя. Запрос от социалиста Новой Зеландии с просьбой разрешить издание романа «Железная пята» и разрешение Лондона на его перепечатку. Вот записные книжки Джека Лондона, в которых он тщательнейшим образом фиксировал рассылку своих произведений к издателям. Возвращенную рукопись он дорабатывал согласно рекомендациям или, вложив в чистый конверт и надписав новый адрес, посылал в другой журнал. Как показывает анализ записных книжек, за пять с небольшим первых лет писательской деятельности его произведения были отвергнуты американскими издательствами 644 раза. Не говоря уже о рассказах из жизни низов, то есть о произведениях, которым особенно сильно досталось, к Лондону по нескольку раз возвращались с отказом такие его шедевры, как «Северная Одиссея», «Любовь к жизни». Рассказ «Сказание о Кише» был отвергнут 24 раза. «Любовь к жизни» блуждал по американским журналам почти два года. Какую же колоссальную веру в себя и какое невероятное упорство должен был иметь этот человек! В библиотеке груды документов: более семидесяти коробок. Часть из них не разобрана. Мне привозят их в тележке по две, по три коробки, но я все равно не успеваю пересмотреть все. Вот письма читателям, друзьям, поэту Джорджу Стерлингу, ответ молодому писателю Клоудесли Джонсу, поддержавшему добрым словом начинающего автора. Джонс сравнивает Лондона с Тургеневым. Из письма Д. Стерлингу от 16 ноября 1910 года мы узнаем, что включаемый в Собрание сочинений Джека Лондона рассказ «Первобытный поэт» принадлежит перу поэта Джорджа Стерлинга. Стерлинг просил Лондона опубликовать этот рассказ под своим именем, так как сам не смог его нигде пристроить. Переписка с Синклером Льюисом. Из нее выясняется, что последний еще до того, как стал известным писателем, давал Лондону сюжеты для рассказов и что повесть «Лютый зверь», рассказы «Блудный отец» и «Крылатый шантаж» написаны на его сюжеты. Письмо выдающемуся английскому писателю Джозефу Конраду с восторженным отзывом о его произведениях. Перелистываю сотни писем, полученных Джеком Лондоном от соратников по борьбе за социализм: одни высказывают писателю свое восхищение, другие просят дать отзыв на книгу, третьи приглашают прочесть лекцию, выступить публично по тому или иному актуальному вопросу, обращаются за советом. Большинство ответов Лондона начинаются теплыми словами: «Дорогой товарищ!», а кончаются — «Ваш во имя революции». Особенно активен Лондон в 1905–1906 годы — годы подъема русской революции. После кровавых событий 9 января 1905 года Джек Лондон вместе с лидером социалистической партии Юджином Дебсом обращается к американцам с призывом выразить солидарность русским революционерам и собрать для них средства. Лондон старается пробудить интерес молодежи к социализму и событиям в России. «Русские университеты, — заявляет он 20 марта 1905 года в речи перед студентами Калифорнийского университета, — сейчас бурлят, зажженные революционным духом. И я говорю вам: университетские студенты и студентки, преисполненные жизненных сил мужчины и женщины, — вот Дело, достойное ваших романтических порывов. Пробудитесь! Откликнитесь на его зов!»[52] Вот газета «Голос социалиста» от 25 марта 1905 года. В ней напечатана статья Лондона, ставшая предисловием к его сборнику «Война классов». А на другой странице того же номера в рекламном отделе под большим портретом писателя объявление: «Джек Лондон прочтет лекцию в Альгамбра-театре (Сан-Франциско) в воскресенье 16 апреля в 8 часов вечера. Тема: «Революция!». Через неделю (а газета еженедельная) — то же объявление, в следующем номере под другим портретом Лондона еще раз объявление, и так до самого дня лекции, а затем заметка о ее успехе, и через две недели новое объявление о другом выступлении Джека Лондона. На этот раз — с чтением отрывков из опубликованных и неопубликованных книг. В июле 1905 года мэр Окленда отказался возобновить для социалистической партии разрешение на организацию митингов на улицах города. 22 июля «Голос социалиста» помещает письмо, написанное Лондоном, в котором уже широко известный в то время писатель выражает готовность явиться и быть арестованным, если его арест поможет делу борьбы с возмутительным произволом властей. В руки попадается план лекционного турне Джека Лондона на конец 1905 года. Он объездил десятки городов, рассказывая о русской революции и росте рядов социалистов во всем мире. Он бросил вызов в клубе бизнесменов: «Революция идет! Попробуйте остановить ее!» И вызвал яростный вой прессы, назвав русских революционеров своими братьями. Лондона избрали в те времена президентом Социалистического студенческого общества: об этом говорит листовка, которую я держу в руках. Он подписался под воззванием Общества друзей русской свободы, активно поддерживавшего революцию 1905 года в России, и вошел в его исполнительный комитет. В эти годы Лондон написал роман «Железная пята», но издатель, боясь за свою судьбу, не решался его напечатать. Тогда Лондон берет всю ответственность на себя. В своем мужественном письме он пишет, что готов отсидеть потом полгода в тюрьме, лишь бы книга была издана. «Я напишу там еще пару книг и получу возможность сколько угодно читать». Меня, естественно, интересовала творческая лаборатория писателя, то, как он создавал свои произведения. Как правило, Джек Лондон не составлял подробного плана для своих рассказов и романов. Он делал краткие заметки о теме, записывал отдельные штрихи, характеризующие персонаж. Нередко тот или иной элемент сюжета был подсказан ему прочитанной статьей или заметкой в прессе. Лондон вырезал ее и подкалывал булавкой к листку из записной книжки, где была набросана тема. Разрабатывался сюжет за письменным столом, когда Лондон непосредственно садился за работу над произведением. Писатель был убежден, что вдохновения не существует и его заменяет упорный труд. Он писал набело сразу и обычно не переписывал написанное и почти не вносил исправлений, но зато писал медленно. У него не часты зачеркивания. Правке рукопись обычно подвергалась при перепечатке на машинке, делалось это в том случае, если перепечатывал он сам, что случалось все реже. Отдельные поправки стиля делались Чармейн. Лондон тонко понимал природу художественной литературы, говорящей образами. «Не пишите вы, что компания обращается с людьми так-то или обманывает их следующим образом, — замечает он в письме к писателю Клоудесли Джонсу. — Дайте читателю возможность понять это через сознание самих героев, дайте читателю взглянуть на вопрос своими глазами». Лондон отрицал пресловутую теорию «искусства для искусства», призывающую писателя заботиться только о форме произведения и не интересоваться его содержанием. Однако вместе с тем он считал, что гуманные мотивы, идейность содержания не оправдывают нехудожественности формы. Лучшие произведения Джека Лондона — такие, например, заслуженно известные его рассказы, как «Белое безмолвие», «Любовь к жизни», «Отступник», «Мексиканец», «Кулау-прокаженный», повесть «Зов предков», роман «Мартин Иден», характеризуются не внешним богатством фабулы, приключенческой канвой, а внутренней напряженностью действия, драматичностью конфликта, в котором герой выявляет свои истинные качества, свои достоинства и недостатки. Писатель стремился изобразить человека в острые, нередко критические минуты его жизни. Зачастую основой сюжета того или иного произведения становились события из личной биографии писателя, художественно перевоплощенные, обработанные. К произведениям такого рода принадлежат рассказы, в которых Лондон описывал период своего бродяжничества по Соединенным Штатам в кризисный 1894 год. В новелле под названием «Сцапали» писатель рассказал о том, как его арестовали и судили несправедливым судом, а в новелле «Исправилка» — о месячном заключении в американской тюрьме. К этому же циклу относится рассказ «Признание». Во многом автобиографичен «Мартин Иден». Немало морских рассказов также основаны на его личном опыте. Первый опубликованный Лондоном рассказ «Тайфун у берегов Японии» и в это же время написанные «Прямой рейс» и «Мертвецы не возвращаются» с детальной точностью воспроизводят эпизоды и настроения первого плавания семнадцатилетнего Джека, когда он матросом ходил на шхуне в Тихий океан за котиками. На первой странице рукописи романа «Мартин Иден», которую увидел я в Хантингтонской библиотеке, название романа выведено бледно и почему-то чужой рукой в отличие от текста, написанного Лондоном отчетливо черными чернилами. Этот факт, сам по себе незначительный, оказался не случайным. В найденной мною записке издателю, которому направлялась рукопись. Джек Лондон сообщал, что не решил окончательно, как озаглавить книгу. Он предлагал три варианта: «Успех». «Звездная пыль» и «Мартин Иден». Лондон предпочитал первое название, иронически подчеркивающее крушение иллюзий главного героя. Заглавие «Звездная пыль» тоже нравилось автору, хотя и меньше. Издатель избрал самое нейтральное — последнее. Оставшаяся у Лондона рукопись позже, видимо рукой Чармейн, была озаглавлена «Мартин Иден». Обширны были творческие планы Джека Лондона. Помимо повести «До Адама», посвященной эпохе превращения обезьяны в человека, и романа «Железная пята», рассказывающего о грядущей революции в США, Лондон задумал еще четыре романа, намереваясь создать цикл, охватывающий различные этапы истории человеческого общества. Среди них должна была быть книга о средневековье, роман о конфликте между буржуазией и пролетариатом и роман о далеком будущем, о совершенном человеке, о его полетах с помощью энергии радиоактивного распада в космос. Задумайтесь на минуту. Ведь замысел последнего романа возник не в наше время, когда созданы атомные установки и изделия рук человеческих бороздят космическое пространство, а шесть десятилетий назад! И многое еще хотел сделать писатель, смерть помешала осуществить задуманное… С интересом рассматривал я фотографии: Лондон на «Снарке» во время кругосветного путешествия, в лондонских трущобах, среди японских солдат в Корее, Лондон с дочерью, с женой, снимки Сан-Франциско, разрушенного землетрясением, сделанные самим писателем. Бережно, как драгоценную реликвию, приносит мне мистер Хармсен, хранитель манускриптов, остатки сгоревшей рукописи «Морской волк», заключенные в цинковый ящик. Обуглившаяся стопка страниц не рассыпалась, не превратилась в прах. Здесь можно даже разобрать отдельные слова и фразы. Рукопись погибла во время разрушительного землетрясения и последовавшего за ним страшного пожара в Сан-Франциско, к счастью, после того, как роман был издан. Мне сообщили, что писатель Эптон Синклер, с которым Лондон был дружен в бурные годы русской революции, живет где-то поблизости от Лос-Анджелеса. Я написал Синклеру, просил о встрече, будучи уверен, что он может во многом помочь: Лондон и Синклер ведь переписывались. К сожалению, Эптон Синклер не смог принять меня, он писал, что упаковывает вещи, чтобы переехать в другой штат. Каждый день работы в библиотеке приносил что-то новое. Я обнаружил неопубликованные стихи, рассказы, убедился, что самая яркая статья «Революция» написана в 1905 году, а не в 1908-м, как сообщалось в последнем Собрании сочинений Джека Лондона, изданном в СССР. Это было лишним доказательством того, что статья вдохновлена нашей революцией 1905 года. Среди черновых набросков оказались материалы для книги о России. В одной из книг библиотеки я нашел характеристику, которую дал Лондону Максим Горький в 1906 году во время своего пребывания в Америке. Джек Лондон очень интересовался мнением Горького о его творчестве, и когда автор малоизвестной у нас книги Джозеф Ноел вернулся из Нью-Йорка, где встречался с Горьким, «Лондон засыпал его вопросами. Первый вопрос был такой: «Что говорил обо мне Горький?» «И он действительно был рад, как мальчик, окончивший седьмой класс, — пишет автор воспоминаний, — когда услышал отзыв Горького». Горький сказал: «Джек Лондон пробил огромную брешь в литературной плотине, которая окружала Америку с тех пор, как средний класс, состоящий из промышленников и лавочников, пришел к власти». Затем Горький заметил, что скоро придет великая пролетарская литература. Джек Лондон будет чествоваться, потому что он прокладывал ей путь»[53]. Немного забегая вперед, процитирую, кстати, еще один отзыв великого пролетарского писателя, приведенный в работе советского литературоведа С. Суховерхова. На вопрос одного американского литератора, действительно ли Джек Лондон необычайно популярен в России, М. Горький ответил: «Очень. Вы знаете, это очень ободряющий признак. Он оказывает огромное влияние на молодую Россию»[54]. Биография Джека Лондона так богата событиями, что иногда начинает казаться: не может быть конца открытию нового в его жизни и творчестве, не может быть предела их изучению. Среди книг и рукописей Джека Лондона я нашел немало любопытных документов, которые открывают новые грани в знакомом нам облике большого писателя. Вот среди заказов на различный инвентарь для фермы, в кипе ненужных бумаг, затерялась короткая записка с просьбой прислать пластинки двух произведений Бетховена: «Похоронного марша» и «Лунной сонаты». Отдыхая после трудного дня в своем деревянном кресле, Лондон слушал музыку гениального немецкого композитора. Мог ли представить себе кто-либо автора мужественных рассказов и романов рыдающим над книгой? Но вот передо мной письмо Джека Лондона от 10 марта 1900 года к Анне Струнской, в котором писатель признается, что всю ночь метался и плакал, прочтя «Овод» Л. Войнич. А вот высказывание Лондона о войне, проникнутое верой в человеческий разум. Эти строки, написанные шестьдесят лет назад, злободневны и сегодня. «Война, — считает писатель, — не только благодаря развитию средств уничтожения сделалась бессмысленной, но и сам человек, вооруженный великой верой и высшей моралью, противостоит теперь войне. Слишком много он познал. Война противоречит здравому смыслу. Он чувствует, что она будет ошибкой, абсурдом, к тому же слишком дорогим. Достигнутые результаты не окупят понесенного урона. Как в споре между людьми, где третейское решение гораздо разумнее кровавой драки, так и в споре между государствами — как убеждается человечество — третейское решение является куда более разумным. Войны уходят в прошлое, болезни побеждаются, с каждым днем растет способность человека к производительному труду…»[55] Раскрываю все новые папки, знакомлюсь с документами, рукописями, фотографиями. Вот в папке вырезки портретов выдающихся деятельниц международного рабочего движения: Клары Цеткин, Розы Люксембург, Элеоноры Маркс, Веры Фигнер, Александры Коллонтай и статьи о них. Это подтверждает догадку, что прототипами героинь романа «Железная пята» были известные нам героини той эпохи. Из документов я узнал, что существовал человек, поддерживавший интерес Лондона к России и ее народу…ОНА РАССКАЗЫВАЛА ЕМУ О РОССИИ
«Мы убеждены, что народ России должен сам решать проблемы своей политической и общественной жизни, но мы в Соединенных Штатах в начале нашей национальной жизни и в кризисный момент нашей истории были рады получить сочувствие и помощь от других народов, так и теперь мы должны с готовностью выразить такое сочувствие и оказать помощь русскому народу в его борьбе за свободу». Так начиналось воззвание, подписанное в 1905 году Джеком Лондоном и его другом Анной Струнской. Когда 9 января кровь русских рабочих пролилась на камни петербургских мостовых, их друзья в далекой Америке подняли голос протеста. Анна Струн-ская, тогда черноглазая, боевая девушка, вдохновенный оратор, была в Калифорнии инициатором движения в защиту русской революции. Вместе с Джеком Лондоном она написала книгу о любви «Письма Кэмптона и Уэйса». «Она глубокий и тонкий психолог. Она лишена официальности и чопорности. Очень легко находит дорогу к людям. Знает — пропасть. Радость и наслаждение для друзей. Она русская…» — писал о ней Джек Лондон семьдесят лет назад. Мне в руки попалось письмо создателя социалистической партии в США Юджина Дебса, где он характеризует Струнскую как мужественного товарища, отдающего свои способности борьбе за освобождение трудящихся. Может быть, Анна Струнская еще жива? Я наводил справки, разговаривал с местными старожилами. Мне отвечали, что давным-давно она уехала из Сан-Франциско. Кажется, в Нью-Йорк. И вот я сижу в небольшой уютной комнате в старом доме тихого квартала в Нью-Йорке. Со стены на меня смотрят портреты двух очаровательных молодых женщин — дочерей Анны Струнской, а в кресле она сама: энергичная женщина с седыми волосами и юными глазами. — Я встретила Джека впервые на лекции о Парижской коммуне осенью 1899 года. Я заметила его, когда он пробрался поближе к трибуне, чтобы приветствовать оратора. Один из друзей шепнул мне: «Хотите, познакомлю? Это товарищ Джек Лондон, который выступает на улицах Окленда. Он был на Клондайке и сейчас пишет рассказы». Мы пожали друг другу руки и о чем-то заговорили. Я ощущала какую-то удивительную радость. Для меня это было словно встреча с молодым Лассалем, или Карлом Марксом, или Байроном. Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему? Не могу сказать. Но ведь это оказалось правдой. Лондон действительно принадлежит к числу бессмертных. Тогда передо мной стоял молодой человек, приблизительно двадцати двух лет, с большими голубыми глазами и красивым ртом, щедрым на улыбку. Брови, нос, контуры щек, массивная шея были классическими. Фигура говорила об атлетической силе, хотя Лондон был ниже среднеамериканского роста. Одет он был в серые брюки и мягкий белый свитер. С тех пор началась наша дружба. Ее можно было назвать борьбой. Мы много спорили, стараясь убедить друг друга. И замысел нашей книги родился в споре во время прогулки на яхте, в присутствии Бесс, первой жены Джека, и Чармейн. Лондон был сама молодость, само приключение. Он был поэтом и мыслителем, верным другом и умел любить великой любовью. Вышел он из той самой бездны, которая поглотила миллионы молодых людей его поколения… Эмоциональный по натуре, он заставил себя твердо держаться избранного пути. Он жил строго по распорядку. Его нормой была тысяча слов в день, отредактированных, перепечатанных. Вечера посвящались чтению научных трудов, работ по истории и социологии. Он называл это созданием научной базы. В часы отдыха он занимался фехтованием, плаванием — он был великолепным пловцом. Джек немало часов проводил, запуская змеев, — у него их имелся большой выбор. В юности Джек писал много стихов. И конечно, в этом заключается тайна мильтоновской красоты его прозы[56], которая стала признанным образцом английского языка и стиля в университетах нашей страны и в Сорбонне. Джек был одержим желанием писать стихи, но ведь поэты обречены умирать с голоду, если у них нет другого заработка. Поэтому поэзия была им отложена до лучших времен, когда будут добыты слава и богатство. Слава и богатство к нему пришли, а поэзия вновь была отложена; и смерть наступила раньше, чем он вспомнил о данном себе обещании. …Анна Струнская волнуется, говорит торопливо, нервно двигаются по столу с бумагами и фотографиями ее руки. Нахлынувшие воспоминания перебивают, обгоняют ее речь. Она вручает мне несколько страниц своих мемуаров, написанных вскоре после смерти Лондона. Привожу отрывки из них: «Как сейчас вижу его, одной рукой он держит за руль велосипед, а в другой сжимает огромный букет желтых роз, который только что нарвал в своем саду: шапка сдвинута назад, на густые каштановые волосы… Необычайно мужественный и красивый мальчик, доброта и мудрость его взгляда не вяжется с его молодостью… Я вижу его майским утром опершегося на перила веранды, увитой жимолостью. Он наблюдает за двумя щебечущими пичужками. Он был пленником красоты — красоты птиц и цветов, моря и неба, холодных пустынь Арктики. Никто не мог бы повторить с большим основанием: «О, я жил!..» Я прошу миссис Анну Струнскую вспомнить об эпохе русской революции 1905 года. — Не миссис, а Анна, — поправляет она меня. — Миссис Струнская звучит слишком официально. В Америке принято независимо от возраста называть друг друга по именам. В своем письме накануне встречи Струнская писала мне «товарищ», здесь, дома, говорит просто «Вил». Но мне как-то неловко называть старшего товарища только по имени, и я свое обращение к ней начинаю длинно: «Дорогая Анна Струнская». — Время было трудное, — продолжила она свой рассказ. — Мы собирали деньги для русских революционеров. Я писала листовки, которые распространялись среди русских матросов. В 1906 году, к годовщине Кровавого воскресенья 9 января, мы с мужем просили Горького подписать манифест к социалистам всех стран по поводу этой даты. Он подписал. Мой будущий муж Инглиш Уоллинг, известный социалист, уехал в 1905 году в Петербург. Он присылал оттуда статьи, написал правдивую книгу о положении в России. Я вместе с сестрой Розой приехала в Петербург в декабре того же года. В октябре 1907 года муж и я были в Петербурге арестованы царской охранкой вместе с шестью финскими революционерами. Но нас скоро выпустили, так как мы были американскими подданными, а при обыске у нас ничего не обнаружили. Анна показывает мне снимки, сделанные в России. А вот листовка — царь на троне, залитом народной кровью. Она рассказывает, как их пригласил к себе в Ясную Поляну Л. Н. Толстой. — Он показывал нам дом, говорил о социализме, Америке, любви, войне, мире, революции. Мы старались разобраться в том, что происходит в России. Хорошо помню слова Толстого: «То, что вы видите в России сегодня, — это только начало поднятия занавеса над русской революцией». Я подарила Толстому нашу с Джеком книгу «Письма Кэмптона и Уэйса». Анна говорит о книгах. Ее любимые писатели: Шекспир, Данте, Уитмен, Тургенев, Толстой, Томас Харди. Она читала книги Степняка-Кравчинского, была потрясена романом Войнич «Овод», знала его чуть ли не наизусть. Я помогаю ей спуститься с пятого этажа, мы идем ужинать в маленькое итальянское кафе, размещенное в полуподвале. Здесь спокойно. Даже картины «битников» — американской богемы — не нарушают уюта комнаты. Мы едим спагетти с грибами и сыром, пьем кофе. Она не скрывает своей радости, узнав, что «Письма Кэмптона и Уэйса» уже тридцать лет как переведены на русский язык и изданы в многотомном Собрании сочинений Джека Лондона. Уже поздно: в эту пору здесь почти никого нет. Анна продолжает свой рассказ. Сейчас она активно работает в обществе, борющемся за равноправие негров. Я напоминаю ей, что спагетти стынут на тарелке. У меня удивительно теплое чувство к этой замечательной женщине, посвятившей жизнь служению людям. Она приехала с дачи на двух поездах и пароходе, чтобы встретиться с одним из тех, кто любит Джек? Лондона, с посланцем страны, где родились ее предки. Анна Струнская вручает мне оригинал неизвестного письма Горького к ее мужу и копии писем Лондона. Я принес ей том из советского собрания Джека Лондона, несколько книг на английском языке, изданных в СССР, — о нашем балете, о кино, альбомы с видами наших городов. На одном альбоме я написал: «Анне Струнской. От одного из русских с искренним уважением и благодарностью за добро и помощь русскому народу в тяжелые дни его истории. Июль 1959 г.»«ДОМ ВОЛКА»
Читатель помнит, что мне не удалось закончить осмотр ранчо Лондона в Лунной долине. Через некоторое время я снова побывал там. Тишина. Слышен только шум шагов да шорох ящериц, которые, завидев меня, исчезают в сухой листве. Я спускаюсь и поднимаюсь по холмам, усыпанным золотистыми маками. Им посвящен рассказ «Золотой мак». Дорога заросла: редко кто ходит здесь. А бывало, скакал по этим холмистым полям на лошади сильный, беспокойный, влюбленный в жизнь человек… Я иду к «Дому Волка». Лесная дорога ведет вниз, и неожиданно из зарослей диких кустарников и деревьев поднимаются мне навстречу мертвые руины из гигантских камней. Одиноко висят трубы водопровода. Вот здесь пламя пожара было особенно сильным — оплавились каменные стены, — должно быть, в этом месте стоял бак с бензином или керосином. Вот здесь был внутренний дворик с плавательным бассейном. В нем теперь растет буйный кустарник. Выше руин поднялись к солнцу тонкие длинные деревья. В три ряда вертикально, отмечая этажи, один над другим возвышаются камины. Я брожу по толстостенным коридорам и пустым коробкам комнат, сижу в раздумье у камина, который Джеку Лондону так и не довелось разжечь. Иду в лес, окружающий дом. Деревья, деревья, деревья… Они расступаются передо мной и открывают огромный замшелый обломок скалы, на котором высечены только два слова: «Джек Лондон»… Это его могила. Она* навевает мысли о тяжелой судьбе этого человека. Он жадно искал своего пути. Издатели упорно старались вогнать его талант в прокрустово ложе буржуазных традиций, а он не переставал писать о простом люде и о его героях, выступал против капитализма, мечтал о революции, работал для нее, хотел жить при социализме и все же шаг за шагом делал уступки буржуазным издателям и читателям, поддавался влиянию реакционной идеологии. Лондон тяготел к марксизму, но ему не удалось стать подлинным марксистом. Отдаваясь в лучшие годы жизни со всей страстью своей юной души делу социализма, он недооценил роли масс, народа в революции. Это отразилось и в его романе «Железная пята». Не был писатель свободен и от расовых предрассудков. Своим учителем наряду с Карлом Марксом Лондон называл и Герберта Спенсера — буржуазного философа, приспособившего дарвиновское учение о неизбежности борьбы за существование в животном мире к человеческому обществу. Из теорий Спенсера и других реакционных идеологов следовало, что, как и в животном мире, в обществе выживают наиболее сильные и приспособленные люди, а в мировом масштабе в конечном итоге восторжествуют наиболее приспособленные расы, народы же, находящиеся на низшей ступени исторического развития, уступят место этим «избранным» расам. «Пондон тщетно пытался согласовать свою веру в неизбежность прихода социалистического строя с этими антинаучными теориями, и вопиющая противоречивость этих идей наложила отпечаток на его творчество. Пролежав пять недель в австралийской больнице, оставив в 1909 году мысль о завершении кругосветного путешествия и вернувшись домой, Лондон нашел свои финансовые дела сильно пошатнувшимися. Последнее, видимо, явилось решающим обстоятельством, побудившим его снизить требовательность к себе. Некоторые его произведения, опубликованные после 1909–1910 годов, написаны исключительно ради денег и по содержанию противоречат общему гуманистическому тону его творчества. Таковы романы «Приключение» и «Сердца трех», таков несущий следы расистской идеологии роман «Мятеж на «Эльсиноре» и ряд новелл из сборников «Рассказы Южного моря», «Сын солнца». «Сердца трех», как никакое другое произведение Лондона, богаты событиями, неожиданными поворотами сюжета и внешне эффектными сценами приключений. В основу фабулы автором была положена легенда о сказочных драгоценностях, схороненных где-то в горах Центральной Америки древними племенами майя, и о поисках этих сокровищ. Но интересная тема была разработана торопливо, в спешке, на чужой сюжет, написанный для кино. Сценарий, построенный по законам кинематографа и к тому же не совсем удачно, сковывал творческие возможности Джека Лондона. С огромным трудом и далеко не всегда успешно сочинял он мотивировки действия и сюжетных коллизий. Книга получилась наивной и рыхлой. Вместе с тем в 1910 году публикуются обличающая капиталистическую Америку его пьеса «Кража», в 1911 году — призывающий угнетенных к объединению рассказ «Сила сильных». В то время как президент США У. Тафт стягивал американские войска и флот к границам Мексики, чтобы изолировать мексиканских революционеров, сражавшихся за свержение диктатуры Диаса, Джек Лондон создавал проникнутый глубокими симпатиями к этим революционерам рассказ «Мексиканец». В нем вновь, как и в «Железной пяте», революционер выдвигался в качестве положительного героя. С 1909 года как бы два писателя все ожесточеннее начинают бороться в Джеке Лондоне, он все более неудовлетворен своей писательской деятельностью, и его творчество все явственнее отражает это его неудовлетворение, а подчас и отчаяние. В романе «Межзвездный скиталец» (1914 г.) его внимание привлекает сознание человека, подвергнутого жестоким пыткам, в повести «Алая чума» (1915 г.) он рисует картину ужасающих бедствий, отбрасывающих человечество к первым ступеням его развития. Ошибкой было бы представлять жизнь Джека Лондона как некое прямое и стремительное восхождение и достижение всех поставленных им целей. Такого не было. Было другое — успехи и срывы, неутомимые поиски. Неудачи наталкивались на упорство Лондона и веру в свои силы. В самых трудных условиях, в тягостную минуту он не терял присутствия духа, умел с истинно американской предприимчивостью использовать создавшуюся ситуацию для нового дела, умел найти это дело, поставить перед собой важную цель, и она спасала его от отчаяния, гасила сомнения и неуверенность. Лондон не нашел золота на Клондайке, но он стал вести дневник, делал записи о быте и нравах индейцев, золотоискателей, и через два-три года клондайкский опыт оказался для него ценнее золотого песка. Он поехал репортером американских газет на англо-бурскую войну в Африке. Попал в Англию и там создал блестящие очерки «Люди бездны»(1903 г.). В 1903–1904 годы Лондон переживает душевный разлад. Он влюбился в Чармейн Киттредж и решил уйти от семьи. Бесси не да» развода, и он не может открыто связать свою жизнь с Чармейн. В то время подвернулась возможность уехать на русско-японскую войну — в Японию и Маньчжурию. Шлет оттуда корреспонденции, а затем, после высылки с фронта и из Японии, с головой уходит в общественную деятельность: разъезжает по Соединенным Штатам с лекциями о социализме, выступает со статьями, становится первым президентом Студенческого социалистического общества. Во время кругосветного путешествия на яхте «Снарк» Лондона свалила тяжелая тропическая болезнь. Он принужден в самый разгар прервать путешествие и возвратиться домой. Едва оправившись, Лондон выезжает в фургоне, запряженном четверкой лошадей, в поездку по штатам Калифорния и Орегон, а потом на судне «Дириго» — вокруг Южной Америки. Путешествия — это отдых и свежие впечатления для новых книг. Влекомый жаждой приключений и в поисках новых тем, Джек Лондон едет военным корреспондентом в Мексику, но вскоре заболевает. Подлечившись у себя на ранчо в Лунной долине, он уплывает на Гавайские острова писать рассказы и романы. В 1914 году он имеет полное право заявить: «Я всегда был борцом. И никогда не сказал я ничего и ничего не написал такого, что бы отказался потом поддержать». Он был честен и правдив перед собой и перед окружающими. «Кто я такой, чтобы стыдиться того, что я пережил?» — писал он в ответ на предостережения редактора относительно публикации сборника его автобиографических рассказов о бродяжничестве. — Тем, кто я есть, я стал благодаря своему прошлому, а если я буду стыдиться своего прошлого, то, следовательно, я должен стыдиться и того, во что меня это прошлое превратило». И всего за год до смерти потрясающие слова: «Я уверяю Вас… что, пройдя все превратности жизни и юности, в зрелом возрасте, имея за плечами тридцать девять лет, я со всей твердостью и торжественностью заявляю: игра стоит свеч. Я прожил очень счастливую жизнь, был удачливее многих сотен миллионов людей моего поколения, и, хотя я много страдал, я много жил, много повидал и больше перечувствовал, чем было отпущено рядовому человеку. Да, это так, игра стоит свеч». Последние годы жизни были несчастливыми для Джека Лондона. Умер при рождении ребенок, которого он так ждал, — дочь от второго брака. Сгорел «Дом Волка». Подобно своему герою Мартину Идену, Лондон сильно устал. Тяжелая болезнь почек — уремия подтачивала силы писателя, а издатели требовали новых книг, написанных в соответствии с их вкусами. Вынужденный все больше и больше идти на компромисс с буржуазным читателем, Лондон начал проникаться отвращением к писательской профессии. Он. все дальше отходит от рабочего движения, а победа оппортунизма в американском социалистическом движении способствовала этому. Рвались его связи с товарищами. Чармейн пыталась заменить ему мир, но не могла — не такова была натура Джека Лондона, он был способен жить, только что-то открывая, принося пользу, занимаясь чем-то значительным в своих глазах и глазах окружающих.22 ноября 1916 года Джека Лондона не стало. Он был совсем молод: ему едва минуло сорок лет. Обстоятельства смерти писателя были не совсем ясны, и я попытался разобраться в противоречивых документах. В газетах сообщалось, что он умер от острого приступа уремии. Но на этот счет ходили различные слухи. Одни говорили о случайном отравлении, другие — о преднамеренном. Выяснение истины усложнилось и тем, что в последние месяцы Лондон, чтобы заглушить приступы острой боли, причиняемой уремией, по предписанию врачей принимал содержащие наркотики лекарства. Поэтому трудно было с уверенностью сказать, сознательно ли он принял смертельную дозу морфина или пытался большой дозой заглушить острый приступ болезни. Однако подробнее об этом позднее.
«ОН СМОЖЕТ МЕТНУТЬ ЗВЕЗДЫ»
Домой я везу множество записей, микрофильмов, уйму памятных подарков и теплые воспоминания о простых американцах, чьи советы и помощь сделали мое пребывание в США вдвойне полезным. Перебираю в памяти то, что узнал о Джеке Лондоне, о беспокойном его сердце, о бунтарской душе писателя, о некоторых его мыслях, с которыми я имел счастье познакомиться первым из советских людей. Поиски материалов о Джеке Лондоне не прекращались мною и по возвращении из США; я перерывал старые газеты и журналы, добывал первые переводы его книг: меня интересовало, как росла популярность американского писателя в России. Переводить на русский язык произведения Лондона начали в середине первого десятилетия нашего века, вскоре после того, как он стал широко известен у себя на родине. Еще при его жизни в России было предпринято два издания собрания его сочинений. «По общему колориту творчества и выбору сюжетов, — писали в 1911 году «Русские ведомости», — это, быть может, самый оригинальный американский беллетрист наших дней. Автор никому не подражает, страшится всего шаблонного и избитого, создает нечто, во всяком случае, совершенно своеобразное». Русские писатели — современники Лондона — также восхищенно отзывались о даровании своего американского собрата по перу. «В Джеке Лондоне я люблю его спокойную силу, — пишет Леонид Андреев, — твердый и ясный ум, гордую мужественность. Джек Лондон — удивительный писатель, прекрасный образец таланта и воли, направленных к утверждению жизни»[57]. После Октябрьской революции известность Джека Лондона в нашей стране возросла еще более. Его произведения стали издаваться миллионными тиражами на десятках языков народов СССР. Серьезную и плодотворную работу по анализу творчества Лондона проделали советские литературоведы. Именно они тесно связали развитие писателя с социальными силами его времени, привлекли внимание к демократическим элементам его творчества и показали его новаторство. Советский Союз сделался второй родиной американского писателя. Выдающийся советский поэт Маяковский обратился к роману «Мартин Иден» как источнику для сценария фильма «Не для денег родившийся» и играл в этой кинокартине главную роль. Любили произведения Лондона Сергей Есенин, Александр Грин и писатель, в творчестве которого тема мужества нашла своего незаурядного певца, — Николай Островский. Александр Фадеев прямо назвал Лондона своим литературным учителем. «Напрасно Вы категорически вымели Джека Лондона из числа моих литературных учителей, — писал он. — Вспомните только, в каком диком краю я вырос. Майн Рид, Фенимор Купер и — в этом ряду — прежде всего Джек Лондон, разумеется, были в числе моих литературных учителей»[58]. Можно найти и других советских продолжателей традиций Джека Лондона. «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого написана в лучших традициях мужественного американца Джека Лондона. Зная о России лишь по книгам и рассказам, Лондон верно угадал душу ее народа, угадал его талантливость. В 1916 году, накануне Октября, он сказал пророческие слова: «Славяне — самая юная нация среди дряхлеющих народов, им принадлежит будущее». С Джеком Лондоном, отдыхавшим на Гавайских островах всего за несколько месяцев до смерти, встречался русский журналист. Писатель радушно принял гостя. Они подолгу беседовали. Был опубликован очерк об этих встречах, живо воссоздающий облик Лондона. Не могу не привести из него отрывок. «Атлетического сложения, красивый, сильно загорелый и совсем еще молодой джентльмен, — пишется там, — дружески приветствовал нас на пороге дома. Джек Лондон был одет в легкий светлый костюм, отлично сидевший на его богатырской фигуре, в мягком воротничке со скромным галстуком. На густой шевелюре непокорных волос красовалась дорогая панама. Ничего яркого, кричащего, утрированно-артистического, отличающего богему, к которой я причислял Лондона». Журналисту особенно бросилась в глаза простота обстановки и всего образа жизни Джека Лондона. «Он живет просто и только для себя; показной жизни он не знает вовсе. Простая пища, никаких излишеств, постоянное пребывание на воздухе, частые прогулки пешком, продолжительное купание в океане…» Утром до завтрака он работает, не любит, чтобы его отвлекали и прерывали. «Иногда мне не удается ничего написать за эти часы, — говорит Лондон, — но я привык отсиживать здесь определенное время. Это необходимо для дисциплины»[59]. Перечитывая вновь произведения Джека Лондона, я теперь в новом свете видел события, героев, потому что побывал в тех местах, где жили герои и где развертывались события, изображенные в романах и рассказах Лондона. В горах Сономы, где-то неподалеку от Глен Эллена, скрываются революционеры — герои романа «Железная пята». В Окленде, Беркли и Сан-Франциско развертывается действие романа «Мартин Иден». В заливе Сан-Франциско происходит столкновение судна Вулфа Ларсена с паромом и завязывается сюжет «Морского волка». С районом этого залива и Лунной долиной связаны события романов «Время-Не-Ждет», «Лунная долина», «Межзвездный скиталец», рассказов «Мечта Дебса», «По ту сторону черты» и других. Лондон пылко любил природу и ненавидел американские города-гиганты, особенно Нью-Йорк. Океанские просторы, суровые равнины севера и живописные острова южных морей умножали в нем волю к жизни. Все это обогащало духовно и физически, несло здоровье. Гигантский же город подавлял, угнетал, иссушал мозг и душу, отравлял легкие. Лондон отнюдь не был врагом техники, но пароходу предпочитал парусную яхту, а машине — верховую лошадь. Лондон бежал не только от города, но и от Америки, воплощавшейся в капиталистическом городе. Его угнетали несправедливость, страдания миллионов. Он боролся за торжество нового строя, но, бывало, чувствовал усталость от окружавшей действительности. Джек Лондон залетал мечтой далеко вперед. Его беспокоила мысль об угрозе разрушения цивилизации. Но все же он хотел верить в человеческий разум, в прекрасное будущее человечества. Вот строки из найденного мною неизвестного его стихотворения:ПИСЬМО АННЫ СТРУНСКОЙ
Мы переписывались с Анной Струнской. Она подтвердила, что писала из России Джеку Лондону, выслала документы тех лет, вырезки из американских газет с заметками о своем аресте в России. С восхищением писала Анна о полете Юрия Гагарина. В 1963 году она собиралась приехать в Советский Союз и дописать последнюю главу своей книги о русской революции, главу о новой России, неузнаваемо изменившейся за 60 лет, но из-за болезни отложила поездку до весны 1964 года. В феврале пришла весть о ее смерти. Ей было 84 года. Однако до последних дней Анна Струнская принимала посильное участие в борьбе американского народа за мир и демократические права. Присутствовала на юбилейном конгрессе Национальной ассоциации борьбы за прогресс цветного населения. В 1963 году в Нью-Йорке она шла в рядах похода за мир. Ей хотелось вместе со всеми пройти хотя бы квартал. Незадолго до смерти Анны Струнской мне пришла посылка из США, большая, тщательно упакованная коробка. Я оторвал клейкие ленты, открыл крышку. Здесь было много старых, никогда не виденных мною фотографий. Бородатые мужики, дети в лаптях, девочки в отцовских зипунах, с грудными младенцами на руках, бабы, подобрав подолы длинных юбок, ногами месят глину. Еще мужики в залатанных овчинных шубах, убогие, крытые соломой избы. Нищая матушка Русь. А вот урядник в белом мундире, положив ладонь на эфес шашки, напыщенно позирует на фоне ветхого крестьянского двора. Купчишка в хромовых сапогах у лавки. Девочка лет восьми со страданием во взгляде. Поп Гапон угрюмо потупил взор. Писатель-революционер Степняк-Кравчинский снят в окружении соратников. Портрет И. П. Каляева, покушавшегося на царского министра внутренних дел Плеве. Фотография митинга под лозунгом «Безработным — работы, хлеба — голодным!». А вот групповой снимок фракции социал-демократов в 1-й Думе. Много, много фотографий, сделанных почти 60 лет назад американским фотографом. Здесь же отпечатанная на машинке пожелтевшая рукопись, названная «Одиссея русской революции 1905 г.». Среди присланных документов вырезка из какой-то американской газеты. Привожу ее почти полностью. «Мисс Анна Струнская и мисс Роза Струнская завтра утром уезжают из Сан-Франциско в Женеву (Швейцария), в штаб русских революционеров, где они присоединятся к революционерам, борющимся против царя. Юные леди присутствовали в субботу вечером на банкете, устроенном несколькими лицами, среди которых был и знаменитый Джек Лондон… Молодые леди получат в Женеве инструкции и, видимо, проследуют в Россию…» Конец прибавлен либо для сенсационности, либо по злому умыслу. Вряд ли, если бы у Струнских была цель заехать за инструкциями в некий «штаб», они сообщили бы об этом репортеру. Однако тому, что были проводы и что на них присутствовал Джек Лондон, — этому можно верить. Да октября 1905 года Лондон находился в Глен Эллене, неподалеку от Сан-Франциско. В конце октября он отправился в поездку по Соединенным Штатам с лекциями о революции и социализме. Анна уехала незадолго перед тем, ее путь был далек и опасен. Джек знал это и переживал за друга. Его отношения с Анной Струнской были сложными. Их связывала общность целей, совместная работа. Джека Лондона покорила душевная чистота и искренность девушки. Он был близок к женитьбе на ней в 1900 году: это видно по их переписке. Анна сказала мне, что любила Джека, но не была уверена во взаимности. Неожиданно он женился на невесте погибшего друга, Бесси Маддерн. А два года спустя, в мае 1902 года, Джек вдруг предложил Анне выйти за него замуж, но теперь она ему отказала. Через год он ушел от семьи, и пресса немедленно связала этот уход с Анной Струнской, которая часто бывала у Лондонов: до 1903 года они работали над романом о любви, следовательно, для толков оснований было достаточно. Его отношения с Анной с осени 1905 года запачканы газетной шумихой, и поэтому первое ее письмо из-за границы адресовано Бэмфорду, не преминувшему, конечно, его показать Лондону. В ноябре 1905 года, добившись давно ожидаемого развода от Бесси, он женится на Чармейн Киттредж. Струнская уже на пути в Россию, она уехала к Уоллингу, который вскоре станет ее мужем. Они поженились в Париже. Свидетелем при оформлении брака был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Первые недели в стране, где родилась, захлестнули Анну новизной и заботами, она жадно впитывала все увиденное. Ее первая весть Джеку была краткой. Зато второе ее письмо, копию которого я нашел в посылке Анны Струнской, достаточно полное. Вот оно.Санкт-Петербург, 24 марта 1906 года Дорогой Джек, Роза только что вбежала в комнату: «На субботу объявлена забастовка железнодорожников… нам лучше уехать в Москву в четверг». Представь себе нашу радость! Давно настало время для забастовки и для Всего Дела[60]. Правительство совершенно сошло с ума — реакция свирепствует. Тех, кого боги хотят уничтожить, они сначала лишают рассудка. Дурново и Витте подают в отставку. Джек, я слышу, как Вы хохочете и вопите, узнав про этот хаос. Я еще не опомнилась от удивления, что я — в России. В сбывшейся мечте есть что-то пугающее. Всю свою жизнь я обращала взгляд к этой стране, но она казалась далекой. Бывали времена, когда я даже сомневалась, имею ли я право на столь страстный интерес к этой стране. Я ругала себя за надежды и планы, и все же я надеялась и строила планы. А теперь я здесь, и настало время, о котором мы мечтали. Все происходит так, как мы хотели — просто не верится, так это хорошо. Я просто не знаю, что мне делать — так я полна счастьем и восторгом. Мы с Инглишем возвратимся в Америку, как только революция нам позволит, вероятно, в сентябре. В моем последнем письме я не сказала Вам, что тот, кого я люблю и кто любит меня, — это Инглиш Уоллинг. Мы пробудем в Америке около двух месяцев, а потом вернемся сюда еще на год для изучения международных потрясений. Конечно, если забастовка шахтеров выльется в нечто более мощное, мы должны будем раньше уехать, а по возвращении пробыть здесь дольше! Я могу прислать Вам прекрасный материал — прокламации, рассказы, сплетни, — столь же первозданный, как Клондайк. И в то же время несравненно более тонкий и острый. Инглиш и я считаем, что Вам нужна Россия, так же как Международному Делу нужны Вы. Ведь, Джек, это единственное живое место в мире! Здесь все: мелодрама, фарс и трагедия, небеса и ад, отчаяние и вера. Это революция из революций, начало удивительного конца. Разве вы найдете такое в другом месте? Инглишу понравилась наша книга. Мы купили много экземпляров английского издания и уже раздарили несколько. (Через два месяца она подарит эту книгу Льву Толстому. — В. Б). Мне становится стыдно при мысли, что книгу, которую мы написали вместе, пропустила русская цензура! Вы должны встретиться с Горьким. Он едет с лекциями в Америку. Я обещала ему Вашу рецензию на «Фому Гордеева», опубликованную в «Импрэшнс». Он очень хочет с вами познакомиться. Он — великая личность. В его лице и голосе горе. Целую неделю мы ходили под впечатлением двухчасовой встречи с ним. Это Инглиш уговорил его написать послание к рабочим мира. Примерно через полтора месяца мы ожидаем отца и мать Инглиша. Потом в конце лета мы возвратимся домой месяца на два (Роза, возможно, будет ожидать нас в Париже), затем поедем опять в Россию, Францию и Германию еще на год. В Нью-Йорке мы будем жить в доме № 3 по Пятой авеню, кооперативном доме, снятом восемью социалистами. (В этом самом доме в апреле будет принят Горький. — В. Б.) Видите, как моя любовь все глубже ввергает меня в мир. Мы решили никогда не иметь дома, никогда не привязывать себя ни к какой секте, никогда не мешать жизни играть с нами, никогда не заслонять от нее друг друга. Это не теория, а реальная действительность — таков характер человека, который меня любит. Он еще меньше буржуа, чем я, а я не совсем буржуазна. Он мой самый близкий товарищ, мое сердце. Наши жизни, любимый мой Друг, покажут вам, как крепка эта любовь! С дружеским приветом
Анна.
Это письмо Джек Лондон получил, вероятно, в апреле. Неизвестно, дошли ли до него материалы о русской революции, но точно известно, что в августе он начал лихорадочно работать над «Железной пятой» и к концу года она была закончена. Первая в Америке книга о пролетарской революции. Книга американская, и действие ее развивается в Америке. Но вся она пронизана тем живым кипением, которое почувствовала Анна в далекой, никогда не виденной Джеком России. Только в трех-четырех случаях Лондон прямо ссылается в романе на русский опыт, но они существенны. В главе XVI он говорит, что при организации боевых групп революционеры воспользовались «опытом русской революции (одна действующая сила революции), а реакция создала нечто вроде «черных сотен», использованных в свое время самодержавием (действующая сила контрреволюции). Далее, в главе XX, рассказывая о переходе сына олигарха на сторону революции, писатель в подтверждение приводит пример русских дворян. Кровавая расправа царского правительства с восставшим народом убедила Лондона в шаткости надежд на мирную передачу власти трудящимся, он пришел к выводу о неизбежности вооруженного восстания. Вот что писал в воспоминаниях близко знавший писателя в эти годы американский социалист Эдмонд Пелузо: «Когда весть о Декабрьском вооруженном восстании долетела до тихоокеанских берегов, Джек встал на защиту большевиков». Об этой стране и героизме революционеров говорил Лондон в лекциях и статьях; презрением отвечал он на вой буржуазной прессы по поводу того, что он назвал русских революционеров своими братьями. Он читал Толстого, Достоевского, Тургенева, Горького. Лондон собирал материал для рассказа из эпохи русской революции. Может быть, по совету Анны. В его бумагах, которые хранятся в библиотеке Генри Хантингтона, я нашел обложку с надписью: Russian Revolution Short Story (Рассказ о русской революции). В ней две вырезки. Одна на трех страницах журнальная — описание всеобщей стачки в Петербурге, другая из какой-то социалистической газеты за 1906 год, озаглавленная «Максим Горький отвечает некоторым буржуазным корреспондентам». Это, конечно, не те материалы, что обещала Анна: они извлечены из американских изданий самим Джеком Лондоном. Этих документов, даже если добавить присланное Анной, писателю недостаточно для художественного произведения. Он должен был сам хотя бы краем глаза увидеть то, о чем думал писать. Так он привык. Он торопливо строил яхту «Снарк». Разрабатывая летом 1906 года маршрут своего кругосветного путешествия, он включил Россию. Он собирался зайти в Финский залив, бросить якорь в Петербурге и зиму провести в России. Однако Лондону не повезло: землетрясение в Сан-Франциско задержало постройку яхты более чем на полгода, а потом в южных морях его свалила неведомая тропическая болезнь, и он вынужден был прервать путешествие, едва добравшись до Австралии. На исходе был 1908 год. Уоллинги уже возвратились в Нью-Йорк. К лету следующего года в Сан-Франциско из Австралии вернулся Лондон. Связь между Анной и Джеком почти прервалась. Россия перестала быть центральной темой прессы. Царскому правительству удалось расправиться с революционным движением. Русские дела отходили на задний план, однако американский писатель не забыл о русской революции и преподанных ею уроках. Ему не довелось побывать в России, поэтому он не рискнул избрать местом действия эту страну, но он все же вывел русских героев в новом своем романе, действие которого развертывается в Америке. Драгомилов и его дочь Груня — главные герои его незаконченного романа «Бюро убийств». Прототипом для третьего героя, возлюбленного Груни Холла, взят Инглиш Уоллинг. Любопытна история создания романа. Лондон писал его на сюжет Синклера Льюиса, в то время неизвестного журналиста, а впоследствии крупнейшего американского критического реалиста. Лондон написал двенадцать с половиной глав, однако по неизвестным причинам работа над романом была отложена. Книга так и осталась незаконченной. После смерти писателя по его заметкам роман намеревалась завершить Чармейн Лондон. Однако замысел ее осуществлен не был. Рукопись «Бюро убийств» почти пол века лежала в архивах. Только в 1963 году американский писатель Р. Фиш, воспользовавшись заметками Джека Лондона для финала романа, дописал книгу. В романе рассказывается о компании, занимающейся убийствами, готовой по заказу уничтожить человека любого ранга, до короля и президента. В отличие от заурядных гангстерских шаек бюро требует веского обоснования смертного приговора; должно быть доказано, что своей деятельностью это лицо наносит такой серьезный вред, что заслуживает смерти, иными словами, его смерть «социально оправданна». Бюро принимает заказ на убийство шефа полиции, признав несправедливыми и жестокими его методы расправы с анархистами, на убийство железнодорожного короля, уничтожает продавшихся предпринимателям лидеров федерации горняков Глава бюро Иван Драгомилов и его члены строго придерживаются установленных для себя моральных правил, находя в них оправдание своей деятельности. Глава бюро настолько предан принципам, положенным в основу деятельности своей организации, что, поняв ошибочность своих взглядов» признав вредность террористической тактики, принимает заказ на умерщвление собственной персоны. Он не только отдает приказ убить себя, но и обосновывает перед членами организации необходимость такой акции. Отдав приказ, он бежит, поставив перед собой цель довести бюро до крушения. Судя по заметкам Лондона о финале, бюро не удается осуществить план. В единоборстве с шефом один за другим погибают его члены, и организация прекращает свое существование, доказав тем самым ложность принципов, на которых она строилась, и методов, которыми действовала. Роман «Бюро убийств» обращен против американских анархистов, но также в известной мере и против ошибок русских народовольцев, недооценивших роль народа в революции. Лондон выступил против анархистской идеологии, методов индивидуального террора. Убийцы, пытающиеся оправдать свою деятельность благими намерениями, изображаются как сообщество фанатиков. В романе явственно звучит разоблачение ницшеанства, пресловутой теории о «всаднике на коне», якобы вершащем судьбами народов. Джек Лондон верил в революцию масс. В конце жизни Джек часто вспоминал о далекой России. По словам Чармейн, он рвался в Россию и хотел написать о ней книгу[61].
О НЕКОТОРЫХ ГЕРОИНЯХ ДЖЕКА ЛОНДОНА
Помните, как рассказывает Джек Лондон в романе «Мартин Иден» о первой встрече героя романа с Руфью Морз? Мартина в дом Морзов привел брат Руфи. Молодой моряк впервые попал в богатый дом. Рояль, книги, картины на стенах. Выросший в нужде, Мартин никак не придет в себя от роскоши комнат. Он опасливо, боком обходит рояль, с благоговением перелистывает книги. В мозгу этого чуткого к красоте парня из низов по контрасту с окружающим мелькают доки, кочегарки, трюмы, мрачные притоны. И вдруг… «Но тут он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, роившиеся в его памяти, сразу исчезли. Перед ним было бледное, воздушное существо с большими одухотворенными голубыми глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, — знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, — такая воздушная красота не может быть земной»[62]. В романе описано развитие и крушение любви Мартина и Руфи. Их любовь вызывает в сердце радость и боль. Разочаровавшись в любимой, поняв фальшь всего уклада жизни «наверху», ее подчиненность корыстным интересам, добившийся известности и признания писатель Мартин Иден кончает с собой. Известно, что роман автобиографичен. За Мартином стоит прототип — Джек Лондон, а Руфь списана с возлюбленной Лондона Мэйбл Эплгарт. О последнем стало известно много лет спустя после гибели писателя и смерти Мэйбл. Во всяком случае, через пять лет после кончины Лондона в биографии, написанной Чармейн, Мэйбл еще была зашифрована под именем Лили Мейд (Лили Созданной, если буквально перевести на русский язык фамилию). Его возлюбленная Мэйбл была дочерью горного инженера, прибывшего в Окленд из Англии. Она обожала музыку и искусство, была хорошо образована, выросла в культурной семье и воспитывалась в духе консервативных традиций английской интеллигенции. Мэйбл не на шутку влюбилась в Джека, в те годы упрямо себе пробивавшего дорогу в литературу Но все же путы ее окружения были крепки, а любовь ее не настолько сильна, чтобы она решилась уйти с ним из дому, беззаветно доверившись его звезде. Я давно разыскивал портрет Мэйбл Эплгарт. У нас он не публиковался, не помещали его и в книгах, изданных за рубежом. Мои попытки найти фотографии прототипа героини «Мартина Идена» в библиотеках и архивах США тоже оказались безуспешными. Желание посмотреть на реальную Руфь Морз вполне естественно. Уж очень заманчиво проверить представление, составленное по роману и по отрывочным сведениям биографов. Мне удалось обнаружить несколько новых фотографий. Читатель найдет их на страницах этой книги. Разыскал я некоторые неизвестные снимки Лондона, его дочерей. Но фотографии Мэйбл нигде не было. Уже по возвращении из США в письме к дочери писателя Джоан Лондон я рассказал о своих безуспешных поисках. Джоан ответила, что у них дома была одна фотография Мэйбл, но она куда-то затерялась. По предположению Джоан, ее не возвратил один из биографов Лондона. Но некоторое время спустя пришло радостное известие от Джоан, — фотография найдена, и как только будет сделана копия, она немедленно вышлет ее мне. «Вот она, эта фотография, — писала Джоан в пришедшем следом письме, — на которой изображена моя мать, Мэйбл Эплгарт и мой отец в саду дома Эплгартов в Колледж-парке, вероятно, в 1899 году. Колледж-парк теперь, конечно, стал частью сегодняшнего Сан-Косе. Вы, разумеется, помните Сан-Хосе — город на южной оконечности залива Святого Франциска, неподалеку от Стэнфордского университета. А тогда там находился маленький колледж, отсюда его название». Я с нетерпением разорвал пакетик с фотографией. Так вот она какая — Мэйбл! Девушка с нежной кожей, белокурой копной волос, утонченная поклонница прекрасного. С фотографии, немного прищурив глаза, на меня смотрела вполне обычная девушка. Она как будто хотела улыбнуться, но не успела, только обнажила свои ровные, пожалуй, несколько крупноватые зубы. Завитки светлых волос над большим лбом. Она, несомненно, мила и женственна. Но не скажешь, что это глубокая, сильно чувствующая натура. Фотография сделана как раз в то время, когда все шло к разрыву между Мэйбл и Джеком, а кажется, что Мэйбл не коснулись никакие переживания. Губы Джека тронула скептическая улыбка разочарования. Он мнет в руках травинку. Набок сбился специально для поездки в Сан-Хосе повязанный галстук. Велосипедная куртка (он приезжал к Мэйбл на велосипеде), в гетры заправлены бумажные брюки. Это еще не писатель Джек Лондон, а оклендский парень, но уже позади бродяжничество по Америке, котиковый промысел у берегов Сибири и Клондайк. Он очень много пишет, ищет свой стиль и свою тему, но его почти не публикуют. Жить трудно, но он верит, что станет писателем, настоящим писателем: у него есть, что сказать миру. У Бесс открытое лицо, скромно убранные волосы, строгая кофта и юбка, устремленный вдаль взгляд. У нее недавно погиб жених. Правой рукой она задумчиво перебирает шерсть собаки, удобно устроившейся возле ее ног и ног Джека. Около Мэйбл тоже пес. На его спине лежит ее рука. Вот фотография, обнаруженная мною в библиотеке Калифорнийского университета. Джек Лондон восемь лет спустя в своем кабинете в Окленде с Чармейн — второй женой. Лондон знаменит. Уже написаны четыре сборника северных рассказов, «Люди бездны», «Морской волк», «Белый Клык» и «Железная пята». Он автор шестнадцати книг. Совсем недавно на всю страну прогремели его речи в защиту русской революции. Лондона знают не только в Америке, но и в Англии, его рассказы и повесть «Зов предков» переведены на русский язык. 1907 год — год расцвета. Скоро Лондон начнет свой лучший роман «Мартин Иден», в котором запечатлит себя и Мэйбл. В его взгляде уверенность. Рука спокойно держит лист бумаги. Сейчас он закурит сигарету и примется диктовать. Быть может, это будет ответ на письмо какого-нибудь социалиста из Аризоны, а возможно, новый рассказ для сборника «Дорога», который он посвятил дням бродяжничества по США. Чармейн смотрит влюбленно. Верная подруга, отвоевавшая Джека у Бесси. Ее левая рука на клавишах, но машинка забыта. Все ее внимание отдано Джеку. Он всю жизнь мечтал о жене — подруге, готовой разделить его порывы, пойти с ним в поисках новых дорог. Чармейн тоже социалистка, как и он. Она великолепно ездит верхом, играет на пианино. Она пойдет за ним на край света. Скоро он действительно уплывет вместе с ней на яхте «Снарк». Бесси слишком была близка к земле, к оседлой жизни, а Чармейн! Чармейн — это вольная дочь природы, презирающая условности, которые он так ненавидел в Мэйбл. Она почти его идеал. Почему почти? Потому что идеал найти невозможно. У Чармейн много достоинств в сравнении с Мэйбл и Бесси, но ей, пожалуй, не хватает остроты ума и восторженной романтичности, преданности великой цели, какая у Анны Струнской, ведь в нее он тоже был недавно влюблен. Сейчас она где-то в далекой, охваченной народными волнениями России. В произведениях Лондона много женских образов. Его героиня — женщина отважная, способная сама решать свою судьбу, как Бесси; готовая разделить с мужчиной все тяготы жизни («Дочь снегов», «Лунная долина») и даже пожертвовать собой («Мужество женщины»), она полна романтических порывов и способна пуститься в опасное плавание по южным морям, как Чармейн (южные рассказы, «Морской волк»). Она не безвольная игрушка, украшение мещанского очага. Своих героинь Лондон видит гармонично развитыми, способными вести серьезный спор о поэзии Мильтона и Шелли, о творческом почерке Верещагина и Коро, как Мэйбл, но также и скакать во весь опор и нырять с трамплина, как Чармейн («Маленькая хозяйка большого дома»). В «Железной пяте» Джек Лондон нарисовал образ Эвис — жены революционера Эвергарда, готовой отдать жизнь за народное дело, как Анна Струнская. Разумеется, образы героинь Джека Лондона шире и многообразнее этих четырех близких писателю женщин. Но все же эти прототипы сыграли важную роль в его творчестве. Есть значительная доля правды в словах Джоан Лондон. Она сказала, что если бы можно было собрать этих четырех женщин и хорошо перемешать их, то в результате получилась бы типичная героиня Джека Лондона.КАКОЙ РАССКАЗ БЫЛ ВТОРЫМ!
1924 год. Советская Россия. Январь холодный, снежный. В доме тепло, а за окном мороз. В незатянутую морозным узором середину окна видны домики деревушки Горки. Владимир Ильич, задумавшись, поднимает глаза от книги или газеты и смотрит на домики на пригорке, на опушку леса. Он быстро устает. Тяжелая болезнь вот уже многие месяцы не отступает. Врачи разрешили ему немного читать, предостерегали от переутомления. По вечерам ему иногда читает Надежда Константиновна. Смеркается. После просмотра газет Владимир Ильич попросил Надежду Константиновну почитать ему что-нибудь из художественной литературы. Накануне была получена пачка новых книг. Ильич отобрал из нее себе всего несколько книжек для чтения. Надежда Константиновна взяла отложенную Лениным тоненькую книжечку «Любовь к жизни», сборник рассказов Джека Лондона. Название, как показалось Надежде Константиновне, очень подходило к случаю: она подумала о муже, ведущем сражение с болезнью. Посмотрела оглавление — рассказы короткие, не утомят. Предложила Ильичу почитать эту книжку. Он согласился. Он знал о Джеке Лондоне, американском писателе-социалисте, просматривал его статьи. В его кремлевской библиотеке есть сборник социологических статей писателя «Борьба классов», есть и вырезка из газеты его гневной антивоенной заметки. Владимир Ильич поудобнее устроился в кресле. Надежда Константиновна начала ровным голосом, изредка взглядывая на больного, следя за его реакцией. Рассказ развертывался неторопливо. Джек Лондон писал скупыми красками, без броской красивости, но напряжение сюжета нарастало, повествование увлекло Ленина. Закончили чтение, когда за окном было уже темно. — Понравилось? — спросила Надежда Константиновна. Ильич ответил односложно, но реакция его не вызывала никакого сомнения. Рассказ ему понравился. По просьбе Ленина Надежда Константиновна прочла ему еще один рассказ из сборника Джека Лондона. «…Какой-то капитан обещал владельцу корабля, нагруженного хлебом, выгодно сбыть его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засмеялся Ильич, — вспоминает Н. К. Крупская, — и махнул рукой. Больше не пришлось мне ему читать»[63]. Это было за два дня до смерти Владимира Ильича. Какой же именно рассказ вызвал ироническую реакцию. Ленина? Об этом Надежда Константиновна не сообщала. Не было об этом упоминаний и в работах литературоведов. Между тем после Октября выпускалось немало самых разнообразных сборников рассказов Лондона. Почти все они включали «Любовь к жизни». Судя по краткому изложению сюжета, у меня был «на подозрении» один рассказ, но предположение требовало уточнения. Решено, я еду в Горки. Вот она, под стеклянной коробкой, маленькая книжечка, читанная Ленину перед смертью. В ответ на мою просьбу экскурсовод собственноручно достает ценнейшую реликвию и передает ее мне на минуту. «Джек Лондон. Любовь к жизни. Москва — Петроград, 1924». Так и есть. Второй рассказ — «Потомок Мак-Коя». Действительно, очень слабое произведение, написанное Лондоном в годы творческого кризиса, много лет спустя после новеллы «Любовь к жизни». Мораль, вытекающая из сюжета «Потомка Мак-Коя», сделала рассказ фальшивым, неестественным. Он лишен благородной идеи и того живого напряжения, которое присуще всякому правдивому и талантливому сочинению Джека Лондона.НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
До Октябрьской революции и особенно после нее у нас в стране столько переводили Джека Лондона, что, казалось, не осталось ничего, за исключением, пожалуй, переписки, что бы не увидело свет. Многие вещи переводились даже дважды-трижды, зачастую код разными названиями. Эго затрудняло выявление неизвестных его произведений. Внимательно изучая американские и английские сборники Лондона и библиографию опубликованных его сочинений, сверяя переводы с английскими текстами, мне удалось обнаружить статьи, рассказы и драматические произведения, не известные русскому, а зачастую и современному американскому читателю. Прежде всего был разыскан цикл автобиографических очерков, связанных с первым морским плаванием Лондона и с поездкой на Алйску, — красочные, живые впечатления молодого писателя, воссоздающие истинные события: «Прямой рейс», «Мертвые не возвращаются», «Через стремнины к Клондайку», «Из Доусона в океан». Далее я обратил внимание на то, что в подробной библиографии произведений Лондона, составленной Чармейн Лондон, дважды в разные годы упоминался рассказ «Развести костер». В последнем, четырнадцатитомном Собрании сочинений Д. Лондона, выпущенном библиотекой «Огонька» в 1961 году, рассказ «Костер» (такое название получил он в русском переводе) датировался маем 1902 года. Это было ошибкой. Напечатанный в Собрании сочинений рассказ Лондона взят из сборника «Потерявший лицо». Он был написан и опубликован в 1908 году. В этом нетрудно убедиться, обратившись к библиографии Чармейн и сверив его текст. И все-таки в мае 1902 года Лондон публиковал рассказ под названием «Развести костер». Но ведь мог писатель дважды напечатать свое произведение в журналах — в 1902 и 1908 годах, а затем включить его в сборник. По-видимому, так и рассуждали составители Собрания сочинений. Правда, существовавшая издательская практика того времени исключала повторную публикацию в журналах, но ведь могли быть и нарушения правил. Ясность в проблему внесло письмо Джека Лондона, посланное 22 декабря 1908 года из Австралии. В нем он сообщал о созданном им новом рассказе «Костер» и объяснял, что много лет назад написал рассказ того же названия, сюжет которого опирался на подлинные события. «Один за другим люди на Клондайке погибали в одиночестве, промочив ноги и потерпев неудачу при попытке разжечь костер». Находясь вдали от родины, в южных морях, писатель решил, взяв тот же самый сюжет, иначе его разработать. У него не было под рукой первого рассказа, он помнил только канву. Но дело было не только в этом, иным ему виделся финал. Первый рассказ завершался благополучно. А новый его рассказ «Костер» заканчивался трагически: одинокий путник замерзал. Но где же все-таки этот первый рассказ, написанный в Калифорнии молодым Лондоном? Около 70 лет назад он был напечатан в известном бостонском молодежном еженедельнике «Юс компеньон», в котором публиковались такие знаменитые писатели, как Киплинг, Томас Гарди, Уильям Хоуэлле. Недавно американские литературоведы подготовили рассказ к печати. Я перевел его, назвав «Развести костер». Это не только более точный перевод заглавия, но такое название вернее раскрывает его основной сюжетный конфликт. «Развести костер» — одно из первых произведений Лондона, в котором им начата разработка темы мужества, способности человека выстоять в самых, казалось, безвыходных ситуациях при условии, если он не пасует, не поддается панике, а напрягает все силы в борьбе за победу. В дальнейшем эта важная для Лондона тема была углублена в его новелле «Любовь к жизни». К числу самых ранних произведений Джека Лондона относится и «Рассказ старого солдата». Он написан в 1894 году вслед за первым рассказом «Тайфун у берегов Японии». Но судьба его сложилась менее удачно, нежели первого рассказа, завоевавшего премию сан-францисской газеты «Колл». «Рассказ старого солдата» Лондону удалось напечатать лишь несколько лет спустя, когда ему улыбнулась наконец фортуна и одна за другой начали публиковаться его новеллы, в том числе и те, что долгое время отвергались издателями. С того времени этот короткий рассказ не переиздавался. Он был потерян. Чармейн Лондон ошибочно указала название журнала и дату публикации рассказа. Лишь недавно мне с помощью американских литературоведов удалось разыскать журнал с этим рассказом. Действие происходит во время американской гражданской войны за отмену рабства, в которой на стороне северян участвовал отчим писателя Джон Лондон. Найденные рассказы Лондона в чем-то уступают его зрелым произведениям. Не всегда в них тщательно отработана фраза, иной раз не хватает уверенности автора, власти над темой. Но всюду, даже в самом слабом из них, чувствуются свежесть и острота взгляда. Большинство рассказов автобиографичны. В старом американском журнале мне удалось обнаружить автобиографический очерк «Как я начал печататься». Тогда же мною была подготовлена для многотомного советского Собрания сочинений Лондона его рецензия на роман «Спрут» Фрэнка Норриса. Советскому читателю хорошо известна рецензия Джека Лондона на роман Горького «Фома Гордеев» (1901 г.). Писатель высказал в ней свой взгляд на рольлитературы. В том же году в рецензии на роман Норриса «Спрут» Лондон подчеркнул, что автору удалось проникнуть в сердце народное и провести в романе материалистический взгляд на историю. Эти высказывания исключительно важны для понимания творческого метода Джека Лондона. Рецензия на «Джунгли» (1906 г.), как и предыдущие две, тоже принадлежит к числу лучших литературных статей Лондона. И не только в силу гражданского пафоса, смелости, с которой выступил он в защиту романа Эптона Синклера, разоблачавшего американский капитализм (а нужно сказать, что только благодаря помощи уже знаменитого в то время писателя Джека Лондона «Джунгли» увидели свет), но прежде всего в силу того критерия, который Лондон вводил в обиход для оценки художественного произведения. Он подчеркнул, что книга Синклера посвящена рабочим Америки, впервые определил особую значимость произведения, защищающего рабочий класс. Любопытна судьба «Джунглей». Беспощадные разоблачения, произведенные книгой, вызвали бурю в прессе и общественном мнении. Сенат создал специальную комиссию для расследования вопиющих злоупотреблений, описанных в книге. Но эти расследования фактически коснулись лишь антисанитарных условий, в которых производились консервы и колбасы в мясной промышленности Чикаго, и не затронули ужасающего положения рабочих. Синклер с горечью констатировал, что, метя в сердце граждан своей страны, он попал в их желудок.ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«29 июня 1894 г., Джон Лондон, 18 лет, холост. Отец и мать живы. Занятие — моряк, религия — атеист, принят тюрьмой графства Эри на срок 30 дней по обвинению в бродяжничестве, приговорен полицейским судьей Чарльзом Пайпером (Ниагара Фолс, штат Нью-Йорк). Освобожден 28 июля 1894 г.» Это выписка из тюремного журнала, а речь о ней идет, как вы догадываетесь, о Джеке Лондоне[64]. Процитированная выписка впервые приводится в книге Фрэнклина Уокера «Джек Лондон и Клондайк. Рождение американского писателя»[65]. Эта работа — итог многолетнего исследования жизни и творчества выдающегося писателя. Автор не только ознакомился с архивами и беседовал с оставшимися в живых родственниками писателя, но и совершил поездку на Аляску, в места, где искал золото и провел зиму Джек Лондон. Это дало автору возможность иллюстрировать книгу уникальными фотографиями: улица золотоискательского Доусона, интерьер старательской хижины, пороги Белой Лошади, которые с риском для жизни преодолевал Лондон, легендарный Чилкутский перевал, тонкая цепочка людей, карабкающихся по его склонам. Уокер поставил перед собой цель дать важнейшую часть биографин Лондона и проанализировать тематически связанное с этим периодом творчество. Северная тема волновала писателя почти до конца дней и именно с ней связаны наиболее значительные достижения Лондона-художника. Документы и подробности, впервые приводимые Уокером по-настоящему интересны. В процитированной выписке из тюремного журнала важны не только точные даты заключения Лондона, но и то, что он решительно назвал себя атеистом. А вот другая, не менее любопытная выдержка из работы Уокера — воспоминание клондайкского золотоискателя: «Впервые я встретился с Джеком Лондоном в октябре 1897 г. Никто не оставлял в моей памяти такого неизгладимого впечатления. Его хижина стояла на берегу Юкона, возле устья реки Стюарт. Я хорошо помню, как вошел туда в первый раз. Джек сидел на краю койки, скручивал сигарету. Он беспрестанно курил, и не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, отчего пожелтели у него пальцы. Один из его партнеров, Гудман, готовил обед, а другой — Слопер что-то плотничал. По обрывкам фраз, которые, входя, я расслышал, можно было заключить, что Джек о чем-то спорил с Гудманом, а последний упорно отбивался в этом неравном поединке острословов. Позже мне самому не раз приходилось выдерживать остроумные наскоки Лондона и я вполне сочувствую Гудману. Джек прервал разговор, чтобы поздороваться со мной и его приветливость была такой радушной, улыбка такой естественной, а гостеприимство таким сердечным, что всякая робость мгновенно проходила. Меня пригласили принять участие в споре, я это сделал…» Клондайкский период биографии Лондона, пожалуй, самый романтичный и вместе с тем это время, когда складывался писатель, вызревали его основные темы и сюжеты. Поэтому так важна здесь каждая деталь. Как выясняется, 25 июля 1897 года судно «Уматилла», на котором уплывал на Аляску Джек Лондон, рассчитанное на 290 пассажиров, везло на 181 человека больше. Через десять дней золотоискатели высадились в порту Дайе (Аляска), а затем, преодолев Чилкутский перевал, озеро Линдерман и пороги Белой Лошади, Лондон с друзьями во главе первой волны смельчаков 9 октября добрался до заброшенной хижины на берегу Юкона. Как известно, Джек Лондон не нашел золота. Сегодня же, по словам Уокера, в тех же самых местах золоторазрабатывающие машины успешно его добывают. Весь огромный багаж с одеждой и продовольствием Лондону пришлось через перевал и добрую часть пути тащить на собственных плечах и все же с собой на Аляску он привез несколько книг. Название двух из них выяснено: «Происхождение видов» Дарвина и «Потерянный рай» Мильтона. У соседей Лондону удалось достать «Семь морей» Киплинга. Зимой Лондон со своим компаньоном Томпсоном совершил поездку на собаках вверх по Юкону. По воспоминаниям Томпсона, Джек Лондон не мог убивать животных и птиц. В начале июня на следующий год Лондон покинул Аляску. Главную роль в его решении возвратиться домой, кроме тяжелой формы цинги, как выясняется, сыграло полученное весной известие О смерти отчима… И вот новое письмо из Калифорнии от Джоан Лондон. «Дорогой Виль, я так давно ничего не слышала о Вас, что не знаю, известно ли Вам о хижине Джека Лондона, в которой он провел часть зимы 1897–1898 годов в районе Юкона (на левом притоке ручья Гендерсона, впадающего в реку Стюарт, которая, в свою очередь, впадает в Юкон). Эту хижину скоро привезут сюда, восстановят на площади Джека Лондона, и, по-видимому, в июле состоится торжественное открытие. Потом планируется создать музей». Новость, сообщенная Джоан, не могла не воспламенить воображение. Подумать только, цел тот самый легендарный домик, в котором жил на Аляске молодой неудачливый золотоискатель Джек Лондон! А как его нашли, как удостоверились, что это именно та хижина? Вот обо всем этом я и спросил в письме к Джоан. История поисков и установления подлинности хижины оказалась весьма любопытной. Одному из канадских поклонников творчества Джека Лондона, Дику Норту, стало известно, что существует автограф Лондона на обломке дерева. Норт принялся за розыски этого уникального автографа. Он отправился в Доусон. Здесь ему удалось выяснить у старожилов, что последний аляскинский почтальон Маккензи, развозивший почту на собаках вверх по Юкону, давным-давно действительно нашел надпись Джека Лондона на бревне внутри хижины, что стояла на ручье Гендерсона, и будто бы он вырезал эту надпись. Большого труда стоило Норту разыскать старого Маккензи. Тот признал, что был у него такой автограф Лондона, но он его подарил одному из друзей, несколько лет назад умершему. Маккензи понятия не имел, где теперь может быть кусочек дерева с надписью Лондона. Старый почтальон заверил, что хижина Джека Лондона должна быть цела, так как сделана она была из крепких бревен. Правда, в последний раз видел он ее лет двадцать назад, а за это время всякое могло случиться. Ободренный первыми успехами, Норт взял собачью упряжку и устремился на поиски хижины. Ему пришлось пройти на собаках более ста миль, но хижину он все же нашел. Она стояла вблизи участка № 54, именно на него, согласно записи в Доусоне, была сделана заявка Джеком Лондоном. Вскоре нашелся и автограф. На кусочке, вырезанном из бревна, написано: «Джек Лондон, рудокоп, автор, 27 января 1898 года». Автограф привезли к Джоан Лондон. «Я не эксперт, — пишет она, — но я уверена, что это написано моим отцом». Автограф показали также биографу Ирвингу Стоуну и специалистам по почерку. Все единодушно заявили, что надпись сделана рукой Лондона. Теперь оставалось подтвердить, что дощечка с подписью Лондона была действительно вырезана из бревна той самой хижины, которую нашел Норт. Для этого была послана новая экспедиция. Она подтвердила этот факт, обнаружив и место, откуда был вырезан автограф. Хижина Джека Лондона стояла на левом притоке ручья Гендерсон в восьми милях выше устья и в 75 милях от Доусона. Размеры ее невелики — всего 4 метра на 4. Внутри нашли сковороду для выпечки лепешек, юконскую печку, банку из-под ружейного масла и лопату. После поездки экспертов на хижину Лондона стали претендовать сразу две страны: Канада, на территории которой она стояла, и Соединенные Штаты. Было найдено компромиссное решение: соорудить две одинаковые хижины, точные копии найденной, использовав в каждой половину оригинального материала. Как сообщили газеты, две хижины поставлены ныне, одна — в Окленде, на площади Джека Лондона, другая — в Доусоне.ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Самое неясное место биографии Джека Лондона — обстоятельства его смерти. Вот уже более полувека причины смерти писателя вызывают разногласия среди биографов и литературоведов как в самой Америке, так и далеко за ее пределами. И тому есть веские основания. В 1915–1916 годах Джек Лондон жил на своем ранчо в Лунной долине, иногда для отдыха выезжая на Гавайские острова. Ему едва минуло сорок, а он страдал от ревматизма, частых приступов дизентерии, от головных болей. Но мучительнее всего была уремия — тяжелая болезнь почек. Врачи требовали соблюдать диету, а это совсем не в духе Джека Лондона. Он по-прежнему деятелен. У него оригинальные и смелые планы расширения хозяйства, закупки племенных лошадей, свиней, строительства школы для детей рабочих фермы. Он помогает молодому писателю закончить книгу, высылая ежемесячно чек, шлет пятьдесят долларов в месяц в Австралию женщине, потерявшей в самом начале мировой войны двух своих сыновей. Он пытается приблизить к себе старшую дочь Джоан. Ей уже идет пятнадцатый год, и она нуждается в отцовских советах. Он обнаруживает в ней литературные способности, упрекает за отчужденность. Возникла у него мысль построить на своем ранчо дом для Бесси с детьми, нереальная, совершенно нереальная мысль, если знать нрав Чармейн. Друзья говорили, что Джек влюбился в незнакомку, с которой встретился в Гонолулу. Никто не знал ее имени или не хотел его сообщить. 22 ноября Лондон собирался поехать в Окленд. Так сказал он Чармейн. А через неделю в Нью-Йорк и Чикаго. В Чикаго — посетить выставку скота, чтобы закупить производителей для фермы, а в Нью-Йорке — обсудить с издателями план автобиографии «Моряк в седле» и романа из эпохи открытия Америки викингами. После этого без Чармейн — случай невиданный — в Европу для изучения древних скандинавских саг и исторических трудов, необходимых для романа. На ближайшее воскресенье он наметил поездку к дочерям в Окленд. Об этом он сообщал 21 ноября в письме Джоан. Но ранним утром 22 ноября 1916 года Лондон был найден в своей спальне без сознания. Срочно вызванные врачи поставили диагноз: отравление. Были предприняты незамедлительные усилия спасти писателя. но все оказалось тщетным. Не приходя в сознание, вечером Джек Лондон умер. Было ему всего сорок лет. В официальном заключении врачей причиной смерти называлось отравление организма вследствие приступа уремии, тяжелой болезни почек. В последние годы жизни Лондон страдал от этой болезни и по настоянию врачей должен был отказаться от спиртного, от обожаемой им недожаренной дичи и других вкусных вещей. Он не соблюдал диету — это всем было известно. Но все же скоропостижная кончина жизнерадостного, еще полного сил человека казалась неожиданной, не находила оправданий, вызвала немало противоречивых слухов. Наиболее страшной и распространенной была версия о якобы сознательно принятом яде. Эта версия разделялась даже некоторыми друзьями Лондона, в том числе писателем Эптоном Синклером. Эту версию, казалось, подтверждала не только мучительная болезнь, но и сопровождавший ее упадок творческой энергии, ряд личных неудач и происшедший незадолго до этого разрыв Лондона с товарищами по революционной борьбе. Близкий друг писателя, поэт Джордж Стерлинг тоже был убежден, что Лондон покончил с собой. Причиной такого поступка он считал любовь к неизвестной женщине, встреченной Лондоном на Гавайских островах. «Джек убил себя потому, — утверждал в одном из писем Стерлинг, — что он полюбил двух женщин и не мог решиться причинить боль ни одной из них, выбрав другую»[66]. «Одной» Стерлинг считал Чармейн, «другой» — незнакомку с Гавайев. Стерлинг проводил прямую параллель между смертью Лондона и трагической развязкой романа «Маленькая хозяйка большого дома», ссылаясь на слова писателя в разговоре с Э. Мэтьюсом, которому будто бы Лондон признался, что «Маленькая хозяйка большого дома» — это его собственная история, но покончить с собой надо бы не женщине из-за любви к двум мужчинам, а мужчине, раз он влюбился сразу в двух женщин. Несмотря на упорные слухи и мнения некоторых друзей, до конца 30-х годов среди биографов преобладала официальная версия смерти писателя. Но вот в 1938 году в США вышла беллетризованная биография И. Стоуна «Моряк в седле»[67], в которой впервые категорически заявлялось со ссылками на факты, что Джек Лондон покончил с собой. В подтверждение такого вывода Стоун приводил два ранее неизвестных факта: две пустые ампулы из-под морфина сульфата, якобы найденные на полу спальни Лондона, и будто бы оставшийся на столе листок бумаги с подсчетом смертельной дозы лекарства. Новые подробности в художественной, увлекательно написанной книге Стоуна не были должным образом опровергнуты, и восторжествовала версия о самоубийстве. Литературоведы нередко с оговорками, но все же склонялись к признанию такой трактовки фактов весьма правдоподобной. Хотя против нее по-прежнему возражали Чармейн и Джоан Лондон — авторы интересных книг о жизни и творчестве Джека Лондона. Тридцать лет историки литературы признавали версию И. Стоуна. Но вот в 1968 году в Соединенных Штатах была опубликована работа «Джек Лондон — не самоубийца», опровергающая выводы И. Стоуна. Автор ее, профессор Альфред Шиверс[68], подвергает детальному анализу концепцию о самоубийстве, и его возражения, подтверждаемые новыми данными, убедительны. Главное внимание он сосредоточил на основных посылках Стоуна и других сторонников его точки зрения. Перескажем вкратце ход рассуждений А. Шиверса. Сообщая об оставшемся клочке бумаги, на котором якобы был сделан рукой Лондона подсчет смертельной дозы лекарства, Стоун ссылался на Томпсона, одного из трех врачей, вызванных к постели умирающего писателя. Шиверсу, естественно, кажется странным, что врач 21 год хранил эту тайну и что никто другой этой бумажки не видел. Но все же, приняв на веру это свидетельство Томпсона, Шиверс, сам в прошлом фармацевт, занялся обследованием всех медицинских книг, имевшихся в библиотеке Лондона. Он решил найти ту книгу, которая могла помочь «кончавшему с собой» человеку подсчитать смертельную дозу морфина. В библиотеке писателя оказалось 36 медицинских книг. В четырех из них есть разделы о морфине, однако нигде не указывается смертельная доза, и нет ни малейшего намека на то, как ее подсчитать. Шиверс обратился к терапевту и к двум практикующим фармацевтам. Эти авторитеты сообщили, что им известны допустимые дозы, но никто из них не знает смертельной, не знали они и как ее подсчитать, более того — ни один из этих врачей не смог определить эту дозу с помощью существующей справочной медицинской литературы. Если современные опытные врачи не в состоянии определить смертельную порцию морфина, заключает Шиверс, то как же мог ее подсчитать полвека назад не имеющий медицинского образования Джек Лондон? Относительно двух пустых ампул из-под прописанного врачом морфина сульфата с атропином сульфатом, найденных на полу спальни, Шиверс высказывает следующие соображения. Эти ампулы тоньше и более чем вдвое короче обыкновенного карандаша. Если не обе, то, по крайней мере, одна из них, вполне могла незамеченной пролежать на полу в течение нескольких дней. Возможно, одна из них была опустошена ранее. Все это сокращает порцию лекарства, принятого Лондоном единовременно той трагической ночью. Кроме того, выясняется, что Лондон принимал это наркотическое лекарство почти год. Привычка организма за это время должна была значительно увеличить действенную дозу. С другой стороны, известна способность морфина накапливаться в организме до опасных пределов. «Вычисления» Лондона, вероятно, были записью доз, принятых в течение длительного времени. Не исключено, что предупрежденный об аккумулирующем свойстве организма он делал их во избежание опасности отравления или чтобы запомнить предыдущие дозы, приносящие ему необходимое облегчение. Одним из аргументов в защиту самоубийства Лондона в книге другого американского биографа, Р. О’Коннора[69], было то, что заключение о смерти Лондона подписано только одним врачом, хотя у постели находились три врача. О’Коннор из этого делал вывод, что остальные не были согласны с диагнозом. Однако ознакомление с фотокопией заключения, пишет Шиверс, показывает, что на бланке предусмотрено место только для одной подписи, такие свидетельства требуют лишь одной подписи. Подписал заключение, вполне естественно, Портер, лечащий врач Лондона, хорошо знавший состояние здоровья писателя, в течение длительного времени изучавший особенности его организма. Своей точки зрения на причины кончины Джека Лондона Портер не изменил и после выхода книги Стоуна. В беседе с Джоан Портер подтвердил, что в последние месяцы жизни состояние здоровья Лондона было таким тревожным (а он не следовал предупреждениям и не выдерживал режима), что трагическую развязку можно было ожидать в любое время. Если бы Джек Лондон действительно хотел покончить с собой, пишет Шиверс, он не выбрал бы такой мучительный (10–12 часов агонии) и неверный способ. Этот человек, воплощение мужества, не избрал бы такой «женский» путь ухода из жизни: у него всегда был под рукой кольт сорок пятого калибра. О непредумышленности смерти говорят и письма Джека Лондона, отправленные накануне, и его приготовления к отъезду в Нью-Йорк, и другие факты. Шиверс приходит к выводу, что смерть Лондона была следствием острого уремического отравления, как и сообщалось во врачебном заключении, а сильная доза морфина, судя по всему, ускорила гибель. Вместе с тем нельзя исключить и возможность неумышленного отравления слишком большой порцией лекарства, аккумулированного в организме, или просчета больного человека, принимавшего во время острого ночного приступа новые и новые дозы лекарства, чтобы избавиться от боли. Но нет никаких оснований — это полностью отвергает Шиверс — для версии о сознательном самоубийстве. Две оставшиеся пустые ампулы как раз свидетельствуют против этого, ибо они, как, впрочем, и лист с подсчетами, явно срывали маскировку, если бы таковая была нужна Джеку Лондону. В любом случае, было ли то уремическое отравление или отравление морфином, или же го и другое в совокупности, смерть Лондона не была предумышленной. Таким выводом заканчивает Шиверс свою хорошо аргументированную работу.СУДЬБА ЕГО ТВОРЧЕСТВА В США
Еще при жизни Джека Лондона буржуазная пресса систематически нападала на него. Вокруг имени писателя сочинялись грязные сплетни, его обвиняли в плагиате, в выступлении против конституции, из библиотек изымались его книги. Лондона называли аморальным, жестоким человеком. С болью слушал я в первые дни моего пребывания в США рассказ о том, как неизвестные негодяи в ночь после открытия памятника Джеку Лондону в Окленде вымазали бюст красной краской. Маленький лысоватый человек с бегающими глазками убеждал меня на одном из приемов: — Джек Лондон? Да это же писатель прошлого! Его произведения мертвы и никогда не воскреснут. Есть на его родине и сейчас ученые мужи, которые пытаются умалить значение творчества прогрессивного писателя; художественную ценность его произведений. Отношение к Джеку Лондону литературоведения США имеет свою довольно примечательную историю. При жизни и в течение двух-трех десятилетий после смерти он оставался в числе самых знаменитых американских писателей. За этот период появилось несколько фундаментальных книг о нем. Однако с конца 40-х и в 50-е годы, в разгар «холодной войны» и маккартизма, Лондон перестал быть в США в числе тех писателей, о которых публикуются научные статьи, итоги новых изысканий. Литературные и научные журналы вели разговор о многих бесталанных современниках и предшественниках Лондона, выяснялись и обсуждались малейшие детали их жизни и творчества, выдвигались новые «проблемы», но почти ничего не писалось об авторе «Мексиканца» и «Мартина Идена». И хотя по-прежнему издавались и раскупались в Соединенных Штатах томики рассказов, романов писателя да прогрессивные газеты, больше коммунистические, откликались на его годовщины, с университетских кафедр и в колледжах профессора с особой охотой говорили об «ограниченности изобразительных средств» Лондона, о его «грубом репортерском стиле» и «неспособности отразить проблемы существования индивидуума», говорили, что герои его примитивны, а сам он натуралист и ницшеанец. Об этом же писалось и в историях литературы. В трудах, посвященных анализу литературной формы, о Лондоне вообще не говорилось или только упоминалось вскользь. Те историки американской литературы, которые не могли замолчать знаменитого писателя, пытались представить его как автора «Зова предков», «Морского волка» (не сообщая при этом об основной идее этих произведений) и остросюжетных рассказов, остальное объявляя пропагандой; они умалчивали о его революционной работе. Но разве мыслимо отделить деятельность Лондона-публициста, оратора социалистической партии, его пропагандистскую работу, продолжавшуюся без малого два десятка лет, от личной жизни художника? Разве можно вычеркнуть из творческого наследия его откровенно антикапиталистические произведения? Как понять «Лунную долину», «Железную пяту». «Людей бездны», «Отступника», «Мечту Дебса», «Голиафа» без изучения социалистических воззрений их автора. Джек Лондон смело вводил в литературу лексику Дальнего Запада, язык пионеров Аляски, речь золотоискателей и моряков, грузчиков и калифорнийских разнорабочих, бродяг и бездомных путешественников. Авторский язык его произведений резко отличался от так называемого «литературного языка», принятого в «благопристойных» журналах Новой Англин, эстетические и литературные каноны которой в конце века господствовали на североамериканском континенте. Самобытный, необычный стиль сочинений Лондона вначале был ему препятствием на пути в литературу, а затем стал тем элементом, который наряду с особым настроением и пафосом обеспечил неповторимость его творческой манеры и способствовал жизнестойкости его искусства. Не в 40-е и 50-е годы, когда большое влияние в литературоведении США получили сторонники изощренной и нарочито усложненной техники письма, считавшие себя интеллектуалами от литературы, приверженцы Генри Джеймса, Т. С. Эллиота, вот тогда Джек Лондон вместе с Теодором Драйзером и другими «грубыми» литераторши был сочтен слишком простонародным. Эстетские нормативы оказались как нельзя кстати всем тем, кого пугали революционные и социалистические идеи в мировоззрении ненавистных им художников. Ярые защитники капитализма не преминули воспользоваться этими канонами для «развенчания» творчества прогрессивных писателей. Но его произведения говорили сами за себя. Мнения об их достоинствах передавались в американских семьях от родителей к детям. Лондон уже стал славной национальной традицией, народной гордостью. На уроке литературы в одной из оклендских школ я наблюдал, с какой заинтересованностью молодая учительница рассказывала о писателе, подчеркивая реалистический дух его творчества, как бережно анализировала она его стиль. Для многих американцев Лондон — верный спутник юности. В течение долгих лет реакционеры препятствовали открытию музея Джека Лондона на его родине. Их страшила популярность писателя, ненавидевшего капитализм. И вот сорок пять лет спустя после смерти писателя пришло известие об открытии в Лунной долине парка-музея Джека Лондона. Часть ранчо писателя с руинами легендарного «Дома Волка», могилой Лондона, домом его жены, где находится библиотека и реликвии, привезенные им из путешествий, стали доступны наконец широкой публике. В 60-е годы в США появились работы, авторы которых ставили целью показать, что Джек Лондон не только не утратил значения, но является действительно серьезным американским писателем и заслуживает пристального внимания. Артур Калдер-Маршалл в книге для юношества «Одинокий Волк»[70], с демократических позиций рассмотрел жизнь и творчество Джека Лондона, назвав его великим писателем. Буквально вслед за книгой Маршалла вышла художественно-биографическая повесть о Лондоне, созданная Рут Фрэнчир[71], тоже проникнутая симпатией к писателю. В этот же период в США была переиздана массовым тиражом биография Ирвинга Стоуна «Моряк в седле», а затем книга прогрессивного историка Филиппа Фонера «Джек Лондон — американский бунтарь»[72]. О выходе в свет интересной работы Ф. Уокера мы уже говорили. Был подготовлен также солидный том всеобщей библиографии Джека Лондона. В эти годы в Соединенных Штатах было защищено о творчестве Лондона восемь докторских диссертаций — более, чем за все предыдущие годы. Стало вполне очевидным пробуждение интереса к писателю в разных слоях американского литературоведения. За последние годы для американского литературоведения стало знаменательным то, что в нем начал подниматься вопрос (У предшественниках и продолжателях Джека Лондона. Прежде всего возникли сопоставления Джека Лондона и Марка Твена. Фриско Кид, герой «Рассказов рыбачьего патруля», как заявили некоторые критики, продолжил линию Тома Сойера и Гека Финна. Один литературовед выразил мнение, что своей жизнью и творчеством Лондон даже более, чем Марк Твен, представляет неугомонный, наивный и романтичный темперамент американской культуры. Автор фундаментальной работы об американских натуралистах Чарлз Уолкатт в книжечке «Джек Лондон» высказал предположение, что рассказ «Укротитель леопардов» был написан Лондоном под влиянием Твена и других юмористов, а «Луннолицый» и «Тень и вспышка» — под впечатлением чтения Эдгара По[73]. Еще сильнее, добавим мы, твеновский смех слышен в типично лон-доновском рассказе «Меченый». Среди непосредственных предшественников автора «Морского волка» и «Сына солнца» литературоведы закономерно назвали Г. Мелвилла, Р. Стивенсона и Д. Конрада, имея в виду приключенческую морскую традицию англоязычной литературы, а затем блестящего социального романиста Фрэнка Норриса. Очень разное по силе и характеру, но влияние вышеупомянутых писателей на Лондона неоспоримо. К списку непосредственных предшественников Лондона можно добавить еще несколько имен. Об этих беллетристах им написаны специальные статьи. Это американский классик морских повестей Ричард Дана, англичанин Рэдьярд Киплинг и Максим Горький. Если включить еще сюда Брет-Гарта и известного калифорнийского писателя, представителя «страшного юмора» Амброза Бирса, то список окажется более или менее полным. Это будут, видимо, как раз те прозаики, которые оказали наиболее заметное и характерное влияние на Джека Лондона. В спорах и обсуждениях творчества Лондона любопытна и характерна одна деталь. Почти всегда разговор о Лондоне-писателе переходит и тесно переплетается с разговором о Лондоне — своеобразном и интересном человеке. Чарльз Уолкатт объясняет это распространенной легендой об американском писателе, которая существовала обо всех писателях — от Эдгара По и Марка Твена до Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя. Все эти писатели старались прожить сразу несколько жизней и в результате пожертвовали своей жизнью, своим искусством или своим покоем[74]. Говооя о роли Джека Лондона в Америке, нельзя не учитывать и его деятельности как пропагандиста социализма и критика капиталистической системы США. Три года спустя после смерти Лондона в Чикаго из средней школы за пропаганду социализма были исключены два ученика. Социалистические же идеи, по их словам, они почерпнули из произведений Маркса, Либкнехта, но, главным образом, у Джека Лондона. А вот еще факты. В долине Сан-Хоакин (той самой, борьбу фермеров которой некогда темпераментно описал Норрис) во время всеобщей забастовки сборщиков винограда в 1965 году был арестован проповедник Дэвид Хэвенс за чтение вслух отрывков из статьи Лондона «Скэб», в которой писатель клеймит штрейкбрехеров. Как стало известно, в некоторых американских средних школах учителя запрещают ученикам брать темы сочинений по произведениям бунгаря Джека Лондона. О том существенном, что при анализе стыдливо опускают буржуазные литературоведы, хорошо сказала прогрессивная газета «Диспэтчер» — орган профсоюза портовых грузчиков и складских рабочих западного побережья США. «Отличало его от писателей-современников, — пишет газета, — го, что был он рабочим, писал для рабочих и его читали рабочие. Он воплотил в себе воинственность рабочего класса и дух фронтира западного побережья, унаследовал его силу и неугомонность. Имя Джека Лондона продолжает оставаться живой легендой по всему западному побережью. Грузчики, моряки, рыбаки, лесорубы, а в глубине материка — горняки, шахтеры — все считают его своим. Вот уже многие годы его имя является символом товарищества и боевого духа рабочего класса».ПУТЬ ВЕДЕТ ВПЕРЕД
Фигурально выражаясь, мой путь по следам Джека Лондона пролегал из одной страны в другую, с континента на континент. Я, например, узнал, что самое большое число переводов Лондона за рубежом сделано в Италии, прочел о первой публикации его рассказов на бирманском языке, о съемках в Англии фильма на сюжет романа «Бюро убийств». В Чехословакии сделали фильм по роману «Мартин Иден», а по советскому телевидению показали старую немую ленту «По закону», снятую одним из корифеев нашего кинематографа Л. Кулешовым по рассказу Лондона «Неожиданное». В Америке за 50 лет, как я выяснил, на сюжеты Лондона снято более 40 фильмов. В СССР, кроме картины «По закону», снимались фильмы по мотивам «Мартина Идена», «Мексиканца», по повести «Белый Клык». Японская печать сообщила, что в Токио умер слуга Джека Лондона Сэкине, свидетель трагической гибели писателя. В американской газете промелькнула заметка: дом на Гавайях, где жил Лондон, снесен, и на его месте разместились сооружения военно-морской базы. А «Магаданская правда» с гордостью писала, что в левобережном бассейне реки Колымы, в предгорьях гранитного массива Анагаг существует озеро имени Джека Лондона. Первооткрыватель колымского золота Ю. А. Билибин очень любил творчество Лондона. Всеобщее чувство уважения к писателю выразил геолог П. Скорняков, в 1930 году впервые нанесший озеро на карту. Оно живописно окружено снежными горными вершинами[75]. В конце 60-х годов не просто сборники, а многотомные сочинения Лондона появились на украинском, армянском, грузинском языках. Узнал я о первых переводах Лондона на эстонский язык. Они были опубликованы еще в 1913 году в рабочей газете «Уус ильм» («Новый мир»). Причем переводы эти делались по инициативе эстонского революционера Ханса Пегельмана, лично знакомого с Джеком Лондоном. Пегельман заключил с писателем договор на право перевода всех его произведений. «Правда» и «Литературная газета» сообщили об удивительной находке в Грузии. В семье учительницы Е. Дзюбенко были обнаружены фотографии и письмо Лондона к русской почитательнице его творчества О. Н. Мыловой[76]. Потом я в одной из американских книг прочел о том,/что во время второй мировой войны в Окленде на воду было спущено торговое судно, носившее имя «Джек Лондон». Узнал я также, что невестка А. Струнской во время войны была узницей Освенцима и едва не погибла. Младший же брат Анны в 1966 году приехал с женой как турист в Советский Союз. Он разыскал меня и рассказал, как во время войны плавал на торговых судах, их судно заходило в Архангельск, где он сдал кровь для наших раненых. Морис Струнский показывал бережно хранимую донорскую карточку, выданную советским Красным Крестом. Чикагский литературоведческий журнал «Америкен бук коллектор» ноябрьский номер 1966 года посвятил Джеку Лондону. Так редакция отметила 50-летнюю годовщину со дня смерти выдающегося писателя. В номере была помещена статья Джоан Лондон, посвященная результатам проведенных ею исследований биографии отца писателя Уильяма Чэни. Как сообщила Джоан, в результате переписки с Чэни и разговоров с матерью Джек Лондон пришел к выводу, что, по всей вероятности, Чэни был его отцом. Так же считает и она. Между тем наши литературоведы одно время отцом писателя называли отчима Джона Лондона, а за последние годы иной раз Уильяма Чэни объявляют отчимом Джека Лондона, которому якобы Джек «был заботливым и любящим сыном», с которым будто бы он «делил все тяготы его нелегкой жизни». В действительности Джек Лондон ни разу не видел Чэни и не питал к нему добрых чувств: ведь Чэни категорически отказывался признать свое отцовство. Джоан подробно характеризовала Чэни, подчеркивая, что он не только был странствующим астрологом, как до сих пор сообщали биографы Лондона, но и одаренным математиком, редактором газет и журналов, автором романов и стихотворений. Чэни был хорошо начитан в философии и точных науках, особенно же в астрономии, и принимал активное участие в радикальных политических движениях своего времени. Чэни, как сообщила Джоан Лондон, принадлежал к старейшему новоанглийскому роду, обосновавшемуся в Массачусетсе около 1630 года. Оба его деда принимали участие в американской войне за независимость 1775–1783 годов, были сторонниками великого американского демократа и просветителя Томаса Джефферсона и поддерживали народное восстание под руководством Даниэля Шейса. Иногда мои «встречи» с Джеком Лондоном происходили неожиданно. Читая интервью советского ученого об изобретении лазера, я натолкнулся на замечание, что человеческая мечта о создании необыкновенного луча была выражена еще в рассказе Лондона «Враг всего мира»[77] (1908 г.). Калифорнийские газеты сообщили интересную новость — при Оклендской публичной библиотеке открылся центр по исследованию жизни и творчества Джека Лондона. Здесь сосредоточены документы, связанные с жизнью и творчеством писателя. В Глен-Эллене поклонники Лондона создали музей его имени, и весь район вокруг музея назван «Деревней Джека Лондона». У тихоокеанских берегов Мексики обнаружены останки шхуны «Дженни Гелин», описанной в «Морском волке» как «Призрак». Ее капитан был прототипом Вулфа Ларсена. В номере журнала «Куба», посвященном выдающемуся кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре, также упоминался Джек Лондон. Вспоминая о героической высадке отряда Фиделя Кастро на Кубу и о своем ранении, Че Гевара писал следующее: «Я упал… И в этот момент, когда все казалось потерянным, я вдруг стал думать, как лучше умереть. Я вспомнил старый рассказ Джека Лондона о том, как герой, понимая, что должен замерзнуть в холодных краях Аляски, прислонившись к стволу дерева, готовится с достоинством проститься с жизнью. Это единственное, что я помнил»[78]. Свидетельства Че Гевары были новым и очень авторитетным подтверждением того факта, что герои нашего времени в критическую минуту берут пример с мужественных персонажей Джека Лондона. В Соединенных Штатах возрождение интереса к Лондону продолжалось. Ежегодно тысячи пилигримов приезжали в Лунную долину поклониться его могиле. Коллекционеры охотились за первыми и редкими изданиями Джека Лондона. Цены на них росли. За первое издание редкого романа «Путешествие на «Ослепительном» любители платили в триста-четыреста раз дороже его номинальной стоимости. Даже за самое крупнотиражное произведение, повесть «Зов предков», книготорговцы запрашивали до трехсот долларов. После длительного перерыва рассказы Лондона вновь появились в хрестоматиях, на этот раз уже не в школьных, а в пособиях для колледжей, как образцы для литературоведческого анализа. В Университете Южного Иллинойса началось издание журнала, целиком посвященного Джеку Лондону, «Джек Лондон ньюслеттер». Создатель журнала — составитель всемирной библиографии Лондона и преданный его поклонник Хенсли Вудбридж. Скептики выражали сомнение в жизнеспособности такого издания, посвященного одному автору. Но журнал вот уже четыре года существует. В нем выступили лондоноведы США, СССР, Англии, Японии, Дании, Финляндии. Кроме статей, рецензий и аннотированной библиографии работ о писателе, выходящих в Америке и за рубежом, «Джек Лондон ньюслеттер» печатает всевозможные новости, любопытные документы. В штате Мичиган возник соперник этого журнала — любительский сборник «Лондон коллектор», начавший печатание редких и неопубликованных вещей Джека Лондона, а затем появился еще один журнал — «Что нового о Джеке Лондоне», и в Америке заговорили о подготовке к 100-летней годовщине со дня рождения писателя, которая исполняется в январе 1976 года. Со сборником «Лондон коллектор» («Коллекционер Лондона») связан любопытный казус. Еще будучи в Соединенных Штатах, в библиотеке Генри Хантингтона я обнаружил в рукописях неизвестное стихотворение Джека Лондона «Путь войны». Стихотворение свидетельствовало о несомненном таланте Лондона-поэта и было интересно по содержанию. Это были раздумья о том, как с доисторических времен совершенствовались орудия войны. Особенно важным мне показалось одно место — шесть строк, которые несли философское обобщение. В них звучала вера писателя в безграничные возможности человеческого разума, в прогресс науки и вместе с тем ощущалась его острая тревога за судьбы цивилизации. По возвращении из США я сделал свободный перевод этих шести строк и опубликовал их в заключение очерков, в которых рассказывал о результатах поездки в Америку. Семь лет спустя после публикации отрывка профессор Фрэнклин Уокер этими же строчками решил завершить написанную им биографию Джека Лондона. Однако, не найдя оригинала стихотворения, а возможно, не имея времени на его поиски, Уокер дал эти понравившиеся ему строки в переводе с русского языка, оговорив, что стихотворение никогда не публиковалось, на английском языке, взято им из «Комсомольской правды» и переведено его коллегой на английский язык. Как оказалось, судьба переведенного вновь с русского на английский язык стихотворения Лондона на этом не завершилась. В июле 1970 года вновь созданный в США сборник «Лондон коллектор» широко оповестил своих читателей о предстоящем издании собрания всех поэтических произведений Джека Лондона (а их оказалось более тридцати и большинство неопубликованных!). Каково же было мое удивление, когда рядом с оригиналом стихотворения «Путь войны» я под номером 23 обнаружил и дважды переведенный из него отрывок. Составитель подборки стихов Лондона, взяв те самые шесть строчек из книги Уокера, не обратил внимания на примечание автора. Измененный двойным переводом, к тому же нерифмованным, отрывок теперь фигурировал как самостоятельное стихотворение. Редактор и составитель были мною извещены о досадной ошибке. Истина была восстановлена. А ведь из-за недосмотра американских литературоведов в собрании поэзии Лондона едва не появилось «новое неизвестное» стихотворение. Недавно за океаном впервые издали сборник репортажей и статей Лондона. В него вошли спортивные репортажи, корреспонденции с фронтов русско-японской и мексиканской войн и ряд очерков на разные темы: о поездке на лошадях по Калифорнии и Орегону, о землетрясении в Сан-Франциско, гавайские сюжеты и т. д. Некоторые из очерков опубликованы впервые, другие разысканы в старых журналах и газетах. Совершенно особый интерес представляют репортажи 1904 года из Кореи и Маньчжурии. Настоящей сенсацией являлось последнее сообщение из США о подготавливаемой публикации всех поэтических произведений Джека Лондона. Книга включит 31 стихотворение и одну драму. Большая часть произведений будет опубликована впервые. Кроме того, предполагается включить в сборник шесть стихотворений, приписываемых Лондону. Начиная свою литературную деятельность, Лондон намеревался стать поэтом, а не прозаиком. Он основательно и глубоко изучал стихосложение, причем проверял свои познания и способности сочинением виланелей, триолетов и других трудных по строфике поэтических произведений. Свое пристрастие к сочинению стихотворений Лондон объяснил так: «Я буду подчинять мысль технике, пока не овладею последнею, а тогда стану поступать наоборот». Став признанным прозаиком, Лондон не оставил своих поэтических упражнений. Они, по его словам, помогали ему писать настоящую прозу, оттачивали перо. Но, в общем-то, они все же скорее были для него забавой, проверкой сил, в известном роде самоутверждением. Так или иначе, но при жизни Джек Лондон напечатал не менее десяти поэтических произведений. Два-три еще появились после его смерти. А основная масса стихотворений осталась в его архивах. Наиболее значительное поэтическое творение Лондона — неизвестная у нас драма «Желудевый плантатор»(1916 г.), написанная, как и знаменитая «Гайавата» Лонгфелло, тетраметром. Отношение к поэтическому наследию Лондона может быть разным. Впрочем, по мнению некоторых американских критиков, став известным прозаиком, Джек Лондон, если бы захотел, мог занять видное место и в американской поэзии.ДОЧЬ СВОЕГО ОТЦА
После возвращения из США я поддерживал переписку с Джоан Лондон. Высылал ей напечатанные у нас книги о Джеке Лондоне, сборники его произведений. Джоан высказывала свое мнение о литературе, выходящей на ее родине, рассказала о своей младшей сестре Бесс. Она жива, живет в Окленде. Джоан прислала фотографии из семейного альбома и новое издание своей фундаментальной работы «Джек Лондон и его время». Внимательно перечитывая ее книгу, я находил ранее не замеченные любопытные факты о родителях, подробности жизни и быта Лондона. Обеденный стол в доме Лондонов застилали газетами, так как скатерть мать Джека берегла. Поступив в школу после месяцев бродяжничества, Джек встретил враждебное отношение школьников. Характерен эпизод, где рассказано, как Джек Лондон спас от ареста оратора-социалиста Уитейкера. Заметив приближение полицейского, Джек столкнул Уитейкера с ящика, откуда тот произносил «крамольную» речь, а сам встал на его место. По членскому билету Лондона Джоан называет точную дату его вступления в Социалистическую рабочую партию — апрель 1896 года. Между тем литературоведы до сего времени далеко не единодушны в этом вопросе и неуверенно указывают даже год, чаще — 1895-й. Основная задача книги «Джек Лондон и его время» состояла в том, чтобы показать социальную значимость творчества писателя, соотнести его со временем, найти его истоки. При таком подходе автор меньше внимания уделяла личным воспоминаниям. Поэтому в дополнение к прежней работе Джоан, как я уже говорил, начала писать новую книгу мемуарного характера, условно назвав ее «Джек Лондон и его дочери», или иногда она называла ее несколько иначе: «Джек Лондон как отец». С нетерпением ожидал я завершения этой книги, но работа над ней все откладывалась и откладывалась. Джоан захлестывали неотложные дела, но главной причиной задержки, как писала она, была другая книга, над которой она работала. Эта книга, с которой все никак не удавалось ей справиться, посвящена фермерам и сельскохозяйственным рабочим Калифорнии, их тяжелой судьбе и борьбе за свои права в далеком прошлом и в наши дни, «трагическая и страшная история о бесчеловечном отношении человека к человеку», писала Джоан. Ее интерес к этой теме восходил к тому времени, когда ей было двенадцать лет и она прочитала в газете статью отца о забастовочной борьбе сельскохозяйственных рабочих. В одном из писем Джоан с гордостью сообщила, что ее внучка, занимающаяся в Мексиканском институте изящных искусств, изучает русский язык и вскоре сможет помочь ей читать русские книги и газеты. «О, если бы в молодые годы я знала о том, как сложится моя жизнь, — восклицала Джоан, — я, конечно же, в первую очередь овладела бы русским языком!» Она с волнением писала о своей встрече в Сан-Франциско с членами советской женской делегации борцов за мир. Джоан признала очень верными выявленные советской критикой в творчестве Лондона жизнеутверждающий дух и укрепляющую силы особенность. Она с восторгом встретила публикацию в СССР в журнале «Детская литература» ее статьи «Джек Лондон и наше время», в которой она с фактами в руках показывала поразительную жизнестойкость большинства произведений писателя и искала ответ на вопрос о ее причинах. Джоан признавалась, что тридцать лет назад она сама ожидала падения интереса к Лондону и уж никак не предполагала роста его популярности в будущем. Однако время доказало поразительную жизнестойкость его творчества. С конца 40-х годов, по словам Джоан, началось нечто такое, что можно охарактеризовать как всемирный прилив интереса к его сочинениям, продолжающийся по сей день. Джека Лондона переводят на новые и новые языки, переиздают в тех странах, где давно не публиковали. Причины неумирающей его славы Джоан увидела в широте его взгляда, понимании им сложности жизни и в его любви к свежему воздуху, но, кроме того, и в том, что такие волновавшие писателя проблемы, как бедность, хроническая безработица, детский труд, по-прежнему существуют не только в слаборазвитых странах, но и в такой богатой стране, как США. Все книги Джека Лондона, приводит Джоан данные библиографов, за исключением четырех из общего числа 51, переведены, по крайней мере, на один, а в большинстве случаев на несколько из 58 иностранных языков, включая эсперанто… В свое время Джек Лондон, не знавший никакого другого языка, кроме родного, услыхав, что его книги читаются людьми, с которыми он не в состоянии общаться непосредственно, был тронут до глубины души. «Как бы он был теперь восхищен, — пишет Джоан, — узнав, к каким новым народам, особенно за последние десять-пятнадцать лет, нашли свой путь его книги, которые переведены на ирландский и каталонский, греческий и македонский, турецкий, еврейский и персидский; а также на китайский, японский, корейский, бенгальский, индонезийский, вьетнамский языки». Закончила Джоан статью следующими проникновенными словами: «В наши дни Джека Лондона открыло новое поколение читателей, поколение по преимуществу оптимистически настроенное, увлеченное поисками реалистических ответов на животрепещущие вопросы современности». С одним из писем Джоан прислала статью, написанную ею для американских рабочих газет, в которой она развивала свою мысль о значении творчества Лондона. Никогда не имевший профсоюзного билета, Джек Лондон, говорила Джоан, принадлежит рабочему движению, является ныне неотъемлемой частью его традиций и живого настоящего. «Кажется, что он, как провидец, проник сквозь покровы времени, заглянул в будущее и с предельной ясностью указал на те больные вопросы и те противостоящие силы, которые будут в трудовых отношениях играть ведущую роль вплоть до наших дней». Джоан Лондон подчеркивала, что Лондон боролся за сплочение рабочего класса. В одном из последних писем автору этих строк Джоан раскрывала замысел своей новой книги. «Я почти на две трети закончила личный, субъективный отчет о Джеке Лондоне — отце. Главная моя цель при создании этой книги состоит в том, чтобы защитить детей, Страдающих от разводов родителей, и выразить протест против широко применяемого в Америке положения об опеке, содержащегося в законе о разводе, который заботу о детях возлагает на мать, а отцу дает только право посещения. Развод моего отца и матери стал для всех нас трагедией. Установить разумные отношения между отцом и дочерьми, несмотря на то, что мы очень к этому стремились, оказалось невозможно». 12 декабря 1969 года Джоан сообщила, что написала большое биографическое предисловие к издаваемым сочинениям Уильяма Чэни. В свои 68 лет она была творчески активна и на редкость трудоспособна, хотя перенесла серьезную операцию. Письмо ее было обстоятельным, полторы странички убористого текста, написанного аккуратным, разборчивым почерком, с расчетом на иностранного корреспондента. Она беспокоилась о моем продолжительном молчании и с облегчением писала, что наконец-то приступает к долго откладываемой книге «Джек Лондон и его дочери». «Это не настоящее письмо, — заканчивала Джоан, — я напишу снова вскоре… надеюсь с новостями». Но… Это было последнее ее письмо. 20 января 1971 года мне позвонил из Калифорнии внук Джека Лондона Барт Эбботт. Он сообщил, что Джоан Лондон скончалась накануне от рака. Ей только что исполнилось 70 лет. И, так бывает со скромными людьми, только после ее смерти из сообщений американской прессы я узнал, что Джоан была автором романа «Сильвия Ковентри» и нескольких рассказов, опубликованных в различных журналах, что в течение всей своей сознательной жизни Джоан настойчиво боролась за дело трудящихся. В свои 65 лет она выступала перед рабочими — участниками марша в столицу штата Сакраменто, вдохновляя их на борьбу. «Своими страстными выступлениями за экономическую и социальную справедливость, — писала в некрологе калифорнийская рабочая газета, — Джоан Лондон поистине была дочерью своего отца».ПРАВНУКИ ДЖЕКА ЛОНДОНА
Минуло более полувека с той поры, как написано последнее произведение Джека Лондона. В Америке появились сотни новых писателей, но творчество Лондона живо. Его искусство и его жизнь помогают понять деятельный характер американского народа, его устремленность в счастливое будущее и мужественную решимость вести за него борьбу. Жизнь и искусство Лондона — все сильное и смелое, истинно талантливое, что содержится в его творчестве — играет свою роль в воспитании стойкости характера и мужества. Не случайно герои этого выдающегося писателя полюбились первому в мире космонавту Ю. А. Гагарину, а другой космонавт, Павел Попович, назвал книгу Лондона первой среди тех четырех книг, которые бы он «для твердости духа»[79] взял с собой в дальний космический полет. Многие советские школьники отдают предпочтение героям Лондона. Этот писатель становится их другом на всю жизнь[80]. Джек Лондон — писатель, провозгласивший важные принципы социалистического искусства. Его рассказы и романы, талантливо изобразившие жизнь трудящихся, перепечатывались и распространялись рабочими организациями, его политические статьи и публичные выступления, в которых он клеймил капитализм, приветствовались революционным крылом американских социалистов и их единомышленниками за рубежом. Он был активным общественным деятелем своего времени. Борцы за социализм в США видят в Джеке Лондоне своего предшественника. В студенческих организациях, возглавивших мощные антивоенные движения американской молодежи, стотысячные марши к Белому дому и Пентагону, призвавших к забастовкам в университетах, к борьбе за гражданские права и к свержению капитализма, помнят, что первым в Америке президентом Студенческого социалистического общества был писатель-революционер Джек Лондон. Вскоре после смерти Джоан Лондон ко мне пришли письма от ее сына Барта Эббота и его жены Элен. По моей просьбе они рассказали о своей семье. Биография внука Джека Лондона напоминает биографию его деда. Барт тоже переменил несколько профессий — был матросом, строителем, портовым грузчиком. Он принимает активное участие в забастовочной борьбе и в движении за мир. Неоднократно арестовывался. Барт написал фантастический роман об атомной катастрофе и несколько рассказов. Среди них — один о рабочем, погибшем от несчастного случая. Мне было известно о существовании правнучки Джека Лондона. Теперь я узнал, что их у него пять: у Барта пять дочерей, и четверо из них принимают активное участие в политической борьбе. Старшей, Джули, 28 лет. Она уже мать двух девочек. Младшей, Тарнел, — 18. Правнучки Лондона унаследовали его искренний интерес к прогрессивным идеям. Вся семья участвовала в демонстрациях против войны во Вьетнаме, проходивших в Беркли и Окленде, именно в том прогремевшем на весь мир шествии, которое преградило путь поезду с войсками и военным снаряжением. Дэрси и Чэни — средние дочери Барта — распространяли антивоенную литературу, были задержаны и подвергнуты допросу агентами ФБР. Дэрси и Тарнел в составе группы молодых американцев, названной по-испански «Венсеремос» («Мы победим»), ездили на Кубу помогать убирать урожай и, как пишет Элен, вернулись убежденными революционерками. Эта поездка, осуществлявшаяся вопреки запретам американского правительства, потребовала мужества. Тарнел была самой молодой в группе, тогда ей было 16 лет. Она увлекается искусством, рисует. О ее занятиях русским языком мне раньше писала Джоан. Чэни 19 лет. Имя дано ей в честь прапрадеда. Она студентка Калифорнийского университета. Филолог. Печатает стихи. Дэрси и Тарнел, пишет Элен, всеми силами стремятся ускорить наступление революции, в которую верил их великий прадед. На этом обрывается мой рассказ о пути по следам Джека Лондона. Традиции Лондона-художника продолжены представителями передового искусства разных стран мира. Его социалистические идеи развиваются коммунистами США, их единомышленниками за рубежом, подхватываются представителями «бунтующего поколения» современной Америки. На арену борьбы за счастье трудящегося человека вышли правнуки Джека Лондона.ИЛЛЮСТРАЦИИ

Джек Лондон — ученик средней школы. 1895 г.

Джек Лондон. 1905 г.

Джек Лондон в сеульской гостинице. Корея, 1904 г.

Джек Лондон в 1901 г.

Чилкутский перевал. Снимок 1898 г.

Анна Струнская

Чармейн Киттредж

Джек Лондон в 1905 г.

Джек Лондон в 1915 г.

Джек Лондон в возрасте около девяти лет.

Дом, где жила семья Лондонов в 1893 году и где был написан первый рассказ. Фото автора.

Дуб, посаженный в Окленде почитателями Джека Лондона на том месте, где писатель был в 1895 году арестован за политическое выступление. Фото автора.

Салун «Первый и последний шанс». Фото автора.

Джоан Лондон. 1959 г. Фото автора.

Джек и Чармейн (публикуется впервые).

Джек Лондон за работой. Лунная долина.

Иллюстрация к первому американскому изданию сборника рассказов «Дети Мороза».

Джек Лондон в 1903 г. (публикуется впервые)

Жена Джека Лондона Бесс с дочерьми Джоан и Бесс.

Джек Лондон с дочерьми. 1905 г.

Джек Лондон

Суперобложка английского издания сборника Джека Лондона «Революция».

Джек и Чармейн на яхте «Снарк»

Джек Лондон на одном из тихоокеанских островов (публикуется впервые).

Дом Джека Лондона в Лунной долине Фото автора.
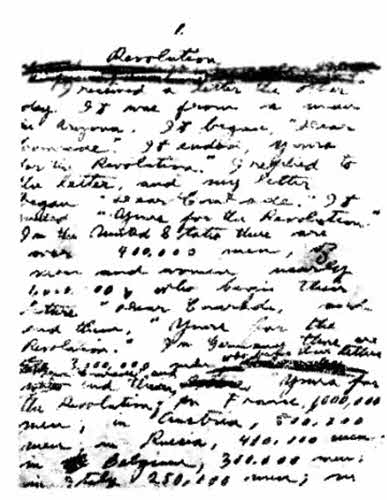
Первая страница рукописи статьи «Революция» (публикуется впервые).

Встреча с Анной Струнской. Фото автора (публикуется впервые).

Внутренний вид «Дома Волка». Фото автора (публикуется впервые).

У могилы Джека Лондона. Фото автора (публикуется впервые).

Джек Лондон на Гавайских островах. 1915 г.

Джек Лондон возле своего дома в Лунной долине.

Джек Лондон в море.

Анна Струнская, 1900 г.

Джек Лондон на яхте «Ромер». 1910 г.

Бесс Маддерн, Мэйбл Эплгарт и Джек Лондон. Около 1899 г. (фотография из семейного альбома Джоан Лондон).

Джек Лондон и Чармейн Лондон. Окленд, 1907 г.

Джек Лондон в своем рабочем кабинете. 1916 г.

Бюст Джека Лондона в Окленде, испачканный красной краской фашиствующими вандалами.

Джек Лондон с дочерью Джоан. 1903 г. (фотография из семейного альбома Джоан Лондон.
INFO
Лондон Дж. Л76 Я много жил… Пер. с англ. (Сост. и авт. критико-биографического очерка В. Быков. Илл. А. Голицына М., «Молодая гвардия», 1973. 480 с., с илл. (Тебе в дорогу, романтик) 150 000 экз. 1 р. 08 к.
7-6-3/163-72 И (Амер)
Лондон Джек Я МНОГО ЖИЛ…
Редактор М. Катаева Переплет и титул Д. Шимилиса, рисунки А. Голицына Художественный редактор В. Плешко Технический редактор Т. Цыкунова Корректоры: Г. Трибунская, А Долидзе
Сдано в набор 25/V 1972 г. Подписано к печати 8/I 1973 г. Формат 84Х108*/з2. Бумага № 1. Печ. л. 15 (усл. 25,2) + 1 вкл Уч. изд. л. 27,3. Тираж 150 000 экз. 2-й завод 100 001–150 000 экз. Цена 1 р. 08 к. Т. П. 1972 г., № 163. Зак. 882.
Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: Москва, А-30, Сущевская, 21.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023

Последние комментарии
3 часов 54 минут назад
6 часов 12 минут назад
8 часов 2 минут назад
13 часов 47 минут назад
13 часов 53 минут назад
13 часов 57 минут назад