Позывные услышаны [Рафаэль Михайлович Михайлов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
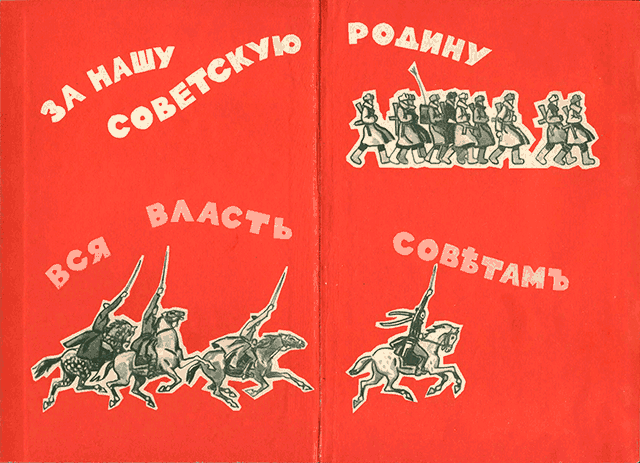
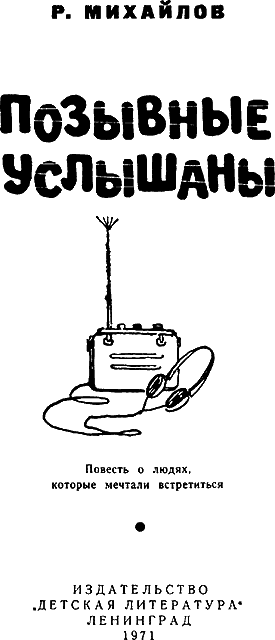
ЧИТАТЕЛЯМ
Когда я знакомился с этой книгой, перед взором опять возникли пожарища гражданской войны, страда Великой Отечественной, а главное, я вновь увидел, как миллионы людей бросили в бой сердца за ленинскую правду. Я узнавал знакомые картины, друзей «мятежной юности»… Может быть, тогда не все мы ясно видели, кому вручим эстафету революции. Но мы мечтали о золотых бесстрашных ребятах, которые сумеют не хуже нас владеть винтовкой и лучше нас чувствовать красоту стиха, рисунка, музыки. Я искренне рад знакомству с героиней повести Сильвией и ее сверстниками. Их чистые помыслы, надежды, поступки близки, дороги и нам, ветеранам, и, я думаю, нынешнему молодому читателю. В героях этой книги я узнаю что-то от наших мечтаний в первые послеоктябрьские годы и различаю новое, чего мы еще не могли предугадать. Доброго пути книге к читателям! комбриг гражданской войны
комбриг гражданской войны
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
 ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОБЕГ ОТ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
 новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.
Уже отбили двенадцать ударов массивные столовые часы, уже именитые гости графини произнесли первые тосты, весомые, как эти часы, и хозяйка решила для себя, что пора приподнять завесу над «сюрпризами», которыми славились елагинские балы. Она пригласила участников трапезы расположиться на мягких диванах, заполнявших простенки между зеркалами, звонко хлопнула в ладоши, и из боковых дверей выскочила и засеменила в центр зала стайка девочек, одетых в серые льняные юбчонки и блузы, отороченные кремовой тесьмой. Девочки образовали пирамиду, напоминающую заглавную букву «Е», вызвав благодарную улыбку графини и аплодисменты гостей. Затем они взялись за руки и, двигаясь по кругу, нестройно запели:
новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.
Уже отбили двенадцать ударов массивные столовые часы, уже именитые гости графини произнесли первые тосты, весомые, как эти часы, и хозяйка решила для себя, что пора приподнять завесу над «сюрпризами», которыми славились елагинские балы. Она пригласила участников трапезы расположиться на мягких диванах, заполнявших простенки между зеркалами, звонко хлопнула в ладоши, и из боковых дверей выскочила и засеменила в центр зала стайка девочек, одетых в серые льняные юбчонки и блузы, отороченные кремовой тесьмой. Девочки образовали пирамиду, напоминающую заглавную букву «Е», вызвав благодарную улыбку графини и аплодисменты гостей. Затем они взялись за руки и, двигаясь по кругу, нестройно запели:
 — Мне главного доктора! — сказал он, растерянный, ошеломленный и этим паркетом, и этой толпой.
— Ты откуда, мальчик? — перехватила инициативу госпожа Русанова.
— Мы из Жлобина, — сказал он, глядя исподлобья. Сделал шаг вперед, и толпа расступилась.
— Это же типичная глушь, господа! — не унималась Русанова. — Когда-то я проезжала это село… Расскажи нам, мальчик, как вы, дети и взрослые, веселитесь в своем Жлобине, как развлекаетесь?.. Есть у вас в доме игровая комната?
А он знал свой бревенчатый дом, в котором их было пятеро ребят, каждый день задававших один и тот же вопрос матери: «Мамочка Гильда, на обед мясо будет?», а когда приезжал с ярмарки отец, задававших один и тот же вопрос ему: «Батечка Петруша, у тебя хватило копеечки на леденцы?». Их любимой игрой было гадать, кто что получит с плеча старших. Они жадно прислушивались вечерами к беседам родителей: «Вот выплатим долги…», «Вот будет урожайный год…», «Вот Самоше перейдут твои чоботы, а Самошины — Шике, а Шикины — Мише, а вот тебе уж от кого перейдут — и ума не приложу…»
— Скажи нам, юный житель Жлобина, — Русанова точно декламировала, — хотел бы ты, чтобы в твоем местечке вырос театр и ты — ты сам мог быть в нем артистом? Хотел бы ты этого?..
Самоша озирался, но доктора в белом халате не было.
Елагина поняла, что мальчик думает о своем, осторожно вынула из его рук записку и улыбкой дала понять, что передаст ее по назначению. Он следил, как записку нес по залу официант, брови его прыгали, а над ухом звучал вкрадчивый голос:
— Ты выходишь на сцену, и твои земляки видят в тебе себя..
Он рванулся было за официантом, но опять его остановил резкий возглас Русановой:
— Господа, народ ценит фарс, вы почувствуете! — И, подводя мальчика к своей цели: — Смелее, юный житель Жлобина! Не иначе, как ты приехал с папочкой на ярмарку. Не иначе, как папочка заводил своего сынулю в балаган? Понравился тебе ярмарочный балаган, мальчик?
— Мне главного доктора! — сказал он, растерянный, ошеломленный и этим паркетом, и этой толпой.
— Ты откуда, мальчик? — перехватила инициативу госпожа Русанова.
— Мы из Жлобина, — сказал он, глядя исподлобья. Сделал шаг вперед, и толпа расступилась.
— Это же типичная глушь, господа! — не унималась Русанова. — Когда-то я проезжала это село… Расскажи нам, мальчик, как вы, дети и взрослые, веселитесь в своем Жлобине, как развлекаетесь?.. Есть у вас в доме игровая комната?
А он знал свой бревенчатый дом, в котором их было пятеро ребят, каждый день задававших один и тот же вопрос матери: «Мамочка Гильда, на обед мясо будет?», а когда приезжал с ярмарки отец, задававших один и тот же вопрос ему: «Батечка Петруша, у тебя хватило копеечки на леденцы?». Их любимой игрой было гадать, кто что получит с плеча старших. Они жадно прислушивались вечерами к беседам родителей: «Вот выплатим долги…», «Вот будет урожайный год…», «Вот Самоше перейдут твои чоботы, а Самошины — Шике, а Шикины — Мише, а вот тебе уж от кого перейдут — и ума не приложу…»
— Скажи нам, юный житель Жлобина, — Русанова точно декламировала, — хотел бы ты, чтобы в твоем местечке вырос театр и ты — ты сам мог быть в нем артистом? Хотел бы ты этого?..
Самоша озирался, но доктора в белом халате не было.
Елагина поняла, что мальчик думает о своем, осторожно вынула из его рук записку и улыбкой дала понять, что передаст ее по назначению. Он следил, как записку нес по залу официант, брови его прыгали, а над ухом звучал вкрадчивый голос:
— Ты выходишь на сцену, и твои земляки видят в тебе себя..
Он рванулся было за официантом, но опять его остановил резкий возглас Русановой:
— Господа, народ ценит фарс, вы почувствуете! — И, подводя мальчика к своей цели: — Смелее, юный житель Жлобина! Не иначе, как ты приехал с папочкой на ярмарку. Не иначе, как папочка заводил своего сынулю в балаган? Понравился тебе ярмарочный балаган, мальчик?
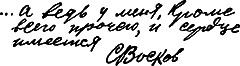 Чего это она про батечку Петрушу? Батечка тяжело занемог. Самоша — старший. Ему везти батечку в губернскую больницу. Тряская телега. Вьюга. Возчик бормочет, пугая мальчика: «Во метет! Мабуть, полтавчане господу в чем не угодили, а мабуть, он сам чарку лишнюю перехватил». Фельдшер тоже напугал: «Всех вас носит, а мест нет и не будет». Узнав, что Самоша в семье — пятый, послал мальчонку с запиской к главному доктору. Самоша плутал по ночным улицам, пока добрые люди не подвели его к розовому особняку с гипсовыми ангелочками над входом. Главный доктор здесь, а люди в цветастой одежке не понимают, что батечка Петруша корчится от боли на скамье у больничных ворот.
А голос обволакивает:
— Театр… Балаган… Ты хотел бы этого?..
— Чего вам надо, тетя? — вдруг выкрикнул мальчик. — Я баклажан не трогал… Я батечку Петрушу в больницу привез. Батечке назад не доехать!
Водворилось неловкое молчание. И вдруг с дальнего дивана раздался хохочущий бас:
— Ну и обложил вас жлобинский мужичок, господа! Взял, да и обложил! Благотворители… Балаган — баклажан… Примите и запейте. Перед употреблением… ха-ха… взбалтывать.
— Фи, вы напились, доктор Шануренко, — брезгливо сказала Елагина. — Не забывайте, что вы гость дамского общества.
Спектакль не получился. Она подала знак, и двое официантов взяли мальчика под руки, надеясь легко его выпроводить. Но он вдруг вырвался и, пересекая зал, подбежал к дивану, на котором полулежал Шануренко.
— Доктор, — закричал он. — Я вас всю ночь ищу, доктор!
— Что такое одна ночь, даже новогодняя, по сравнению с жизнью! — прервал его Шануренко; он пытался что-то разглядеть в мокрой записке, но так и не смог и, скомкав ее, отбросил в сторону. — Парадокс, а?
Русанова жарко зашептала графине, и та остановила официантов.
— Господа! — елейно воззвала Русанова. — Наш святой долг в эту новогоднюю ночь растопить сердца крестьянской семьи из Жлобина. — И, сняв со стола из стопки мелких тарелок верхнюю, протянула ее к гостям: — Расщедримся, господа!
Зазвенели полтинники, кто-то зашуршал ассигнацией. Русанова, нежно обняв за талию графиню, плавно двигалась с нею по залу, неся на вытянутой руке тарелку для пожертвований. Самоша, ничего не понимая, потянул доктора за рукав.
— Изыди, обольститель! — Шануренко еле ворочал языком. — Открой полтеатра на эти деньги. На больницу, ей-богу, не хватит.
Мальчик вдруг дернулся, быстрым шажком хотел пересечь зал, поскользнулся, упал. К нему подплыла Русанова, протягивая тарелку, он оттолкнул ее руку, и покатились по полу двугривенные и полтиннички…
— Тетя! — жалобно всхлипнул он. — Батечка там… на ветру…
— Мы поможем, — она почти пела, видя свое имя в заголовках завтрашних газет. — Мы привезем к тебе в Жлобино культуру…
— Да не доехать батечке назад в Жлобино! — вскрикнул Самоша, остро ненавидя в эту минуту и женщину в зеленом, и главного доктора, и всех этих усмехающихся, гогочущих..
Неожиданно из боковой двери заскользила выпущенная распорядителем стайка девочек в сером:
Чего это она про батечку Петрушу? Батечка тяжело занемог. Самоша — старший. Ему везти батечку в губернскую больницу. Тряская телега. Вьюга. Возчик бормочет, пугая мальчика: «Во метет! Мабуть, полтавчане господу в чем не угодили, а мабуть, он сам чарку лишнюю перехватил». Фельдшер тоже напугал: «Всех вас носит, а мест нет и не будет». Узнав, что Самоша в семье — пятый, послал мальчонку с запиской к главному доктору. Самоша плутал по ночным улицам, пока добрые люди не подвели его к розовому особняку с гипсовыми ангелочками над входом. Главный доктор здесь, а люди в цветастой одежке не понимают, что батечка Петруша корчится от боли на скамье у больничных ворот.
А голос обволакивает:
— Театр… Балаган… Ты хотел бы этого?..
— Чего вам надо, тетя? — вдруг выкрикнул мальчик. — Я баклажан не трогал… Я батечку Петрушу в больницу привез. Батечке назад не доехать!
Водворилось неловкое молчание. И вдруг с дальнего дивана раздался хохочущий бас:
— Ну и обложил вас жлобинский мужичок, господа! Взял, да и обложил! Благотворители… Балаган — баклажан… Примите и запейте. Перед употреблением… ха-ха… взбалтывать.
— Фи, вы напились, доктор Шануренко, — брезгливо сказала Елагина. — Не забывайте, что вы гость дамского общества.
Спектакль не получился. Она подала знак, и двое официантов взяли мальчика под руки, надеясь легко его выпроводить. Но он вдруг вырвался и, пересекая зал, подбежал к дивану, на котором полулежал Шануренко.
— Доктор, — закричал он. — Я вас всю ночь ищу, доктор!
— Что такое одна ночь, даже новогодняя, по сравнению с жизнью! — прервал его Шануренко; он пытался что-то разглядеть в мокрой записке, но так и не смог и, скомкав ее, отбросил в сторону. — Парадокс, а?
Русанова жарко зашептала графине, и та остановила официантов.
— Господа! — елейно воззвала Русанова. — Наш святой долг в эту новогоднюю ночь растопить сердца крестьянской семьи из Жлобина. — И, сняв со стола из стопки мелких тарелок верхнюю, протянула ее к гостям: — Расщедримся, господа!
Зазвенели полтинники, кто-то зашуршал ассигнацией. Русанова, нежно обняв за талию графиню, плавно двигалась с нею по залу, неся на вытянутой руке тарелку для пожертвований. Самоша, ничего не понимая, потянул доктора за рукав.
— Изыди, обольститель! — Шануренко еле ворочал языком. — Открой полтеатра на эти деньги. На больницу, ей-богу, не хватит.
Мальчик вдруг дернулся, быстрым шажком хотел пересечь зал, поскользнулся, упал. К нему подплыла Русанова, протягивая тарелку, он оттолкнул ее руку, и покатились по полу двугривенные и полтиннички…
— Тетя! — жалобно всхлипнул он. — Батечка там… на ветру…
— Мы поможем, — она почти пела, видя свое имя в заголовках завтрашних газет. — Мы привезем к тебе в Жлобино культуру…
— Да не доехать батечке назад в Жлобино! — вскрикнул Самоша, остро ненавидя в эту минуту и женщину в зеленом, и главного доктора, и всех этих усмехающихся, гогочущих..
Неожиданно из боковой двери заскользила выпущенная распорядителем стайка девочек в сером:
ГЛАВА ВТОРАЯ. СЛИШКОМ МНОГО СОБЫТИЙ
— Разбойник за дверью захоронился, я видела… Беги за ним, а мы с Майкой из сада подкрадемся. Разбойнику было не то семь, не то восемь лет, он уже перелезал с лестничной площадки через окно в дворовый сад, как вдруг увидел на дорожке девочку. — Бегите, пацаны! — крикнул он кому-то на лестницу. — Сивка-Бурка нас выследила. — И не пацаны, а разбойники. И не Сивка-Бурка, а Сильва, — важно поправила его девочка. — Ну что, проиграли, проиграли? Ребята посовещались, потом попрыгали в сад. И, по ритуалу поднимая руки кверху, провозглашали: — Клянусь навечно порвать с кровожадным разбойничьим атаманом и вступить в ряды красных казаков! Кровожадный атаман сдался последним. Ему очень не хотелось порывать с самим собой. — А в двадцать пятом номере, — заявила Сильва, — уже давно не играют в «казаки-разбойники». Я все разведала. Они играют в шанхайских кули и лордов. Лорды шлют на них миноносцы, а те здорово отбиваются. Чур, мы кули, а вы лорды… Пленные разбойники и разжалованные красные казаки недружно загалдели. В событиях тысяча девятьсот двадцать седьмого года маленькие владельцы дворов по улице Красных Зорь довольно легко нашли для себя классовые позиции. Наверно, они долго бы еще разбирались, кому кем быть, если бы к ребятам не подошел, как всегда важный, с метлой и при фартуке, дворник Аким Федотыч. — Так что ваше собрание тринадцати дворов, — вежливо сказал он, — по вопросу, чего делать с британской лордой, прошу маленечко отложить. Поскольку к Каляевым уже полчаса звонит — и не может, понятно, войти — товарищ из, как говорят, радиоэфира. Вон она стоит, в белом платье.
Сильва тряхнула головой и вприпрыжку понеслась к своему подъезду. Молодая стройная женщина с короткой стрижкой протянула ей руку.
— Если ты и есть Сильвия, здравствуй, — приветливо сказала она. — Я корреспондент ленинградского радио Ирина Галич. Ирина Сергеевна, — поправилась она, сообразив, что девочке неудобно будет обращаться к ней просто по имени.
Сильва молчала, но глаза ее вспыхивали.
— Мы получили твое письмо, — продолжала Галич. — Что же тебе не нравится в наших передачах? — и подзадорила девочку: — Говори, не бойся.
Сильва очень серьезно пояснила:
— А я и не боюсь, — наклонила голову, посмотрела исподлобья. — Меня мама учит не бояться. Вы рассказов для нас мало наговариваете. Стихи ваши не для нас, а рассказов мало.
— Почему не для вас? — Галич даже растерялась. — А для кого же?
Сильва ковыряла ботинком землю, раскраснелась, наконец неохотно сказала:
— А я знаю — для кого? Вот у вас читали: «Сдай в лом кастрюлей медный ряд, и десять домн заговорят…» А чего они заговорят, если нам никто кастрюли не отдал? Папа сказал: «Ты эти стихи, Сивка, наизусть не учи. Они не для вас. Они для жуликов. Кто кастрюли медные ворует». А я уже заучила. Что теперь делать?
Галич что-то записала к себе в блокнот, наклонилась к девочке и крепко ее поцеловала.
— Умница! Обещаю, что плохих стихов будет меньше, а хороших рассказов — больше.
Дворовая игра шла к концу, восставшие кули побеждали. Сильва со своей подружкой Майей возвращалась домой вместе — они жили на одной лестнице.
— Тебя записали в школу на Красных Зорях? — спросила Майя.
— Ага.
— И меня тоже. У нас будет свой сад. Густой-прегустой.
— И улицу нам разрешат переходить через трамвай и автомобили, — обрадовалась Сильва.
Сальма Ивановна уже распахнула перед дочерью дверь.
— Вот зачем тебе школа!
Сильва вбежала в комнату, удивилась.
— А почему у нас на столе цветы? У кого рождение?
— У нас у обоих, — сказала мать. — Кончили с Иваном Михайловичем институт. Мы уже не студенты. Мы доктора, Сивка.
— Ура! — закричала девочка и запрыгала на одной ноге вокруг стола. — У нас теперь докторская семья. Я к вам приведу больных со всех дворов.
Иван Михайлович помахал в воздухе конвертами.
— Да, мало для тебя сегодня событий, Сивка. Получай еще два. Целых два письма от москвичей.
Девочка очень любила получать письма. «Здравствуй, Сильва! — читала она вслух, а губы то и дело расползались в улыбке, и потому веснушки на лице прыгали. — Я очень рад, что ты такая большая и октябренок. Очень хорошо, что ты стала до некоторой степени оратором… Загадка твоя до того проста, что я, не задумываясь, ответил: „Град“. Пришли мне еще одну загадку. Витя Восков».
— А второе от Женечки! — догадалась она. — Угадала?
— «Здравствуй, дорогая Сильвочка, — писала Женя. — Я очень рада, получив твое письмо. Учусь я в 4-й гр., а Витя в 6-й. Помнишь ли ты ослика, которого я тебе подарила? Крепко целую. Ж. Воскова. Не балуйся».
— А я и не балуюсь, — вздохнула Сильва. — Я готовлюсь к школе.
Сальма Ивановна почему-то тоже вздохнула и вышла во вторую комнату.
Сильва не засыпала, пока Иван Михайлович не подсаживался к ней на краешек кровати с томиком стихов в руке. В тот год его увлечением стал Роберт Бернс. Девочка уже знала, что есть такой край — Шотландия и что в ней жил прекрасный поэт-сказочник.
— Папа, а это не там, где живут лорды? — задумчиво спросила она.
Он добродушно покачал головой.
— Почему только лорды? Там живут смелые и честные люди, и руки у них натружены. Роберт Бернс был из их числа.
Читал он мягко, напевно:
— Так что ваше собрание тринадцати дворов, — вежливо сказал он, — по вопросу, чего делать с британской лордой, прошу маленечко отложить. Поскольку к Каляевым уже полчаса звонит — и не может, понятно, войти — товарищ из, как говорят, радиоэфира. Вон она стоит, в белом платье.
Сильва тряхнула головой и вприпрыжку понеслась к своему подъезду. Молодая стройная женщина с короткой стрижкой протянула ей руку.
— Если ты и есть Сильвия, здравствуй, — приветливо сказала она. — Я корреспондент ленинградского радио Ирина Галич. Ирина Сергеевна, — поправилась она, сообразив, что девочке неудобно будет обращаться к ней просто по имени.
Сильва молчала, но глаза ее вспыхивали.
— Мы получили твое письмо, — продолжала Галич. — Что же тебе не нравится в наших передачах? — и подзадорила девочку: — Говори, не бойся.
Сильва очень серьезно пояснила:
— А я и не боюсь, — наклонила голову, посмотрела исподлобья. — Меня мама учит не бояться. Вы рассказов для нас мало наговариваете. Стихи ваши не для нас, а рассказов мало.
— Почему не для вас? — Галич даже растерялась. — А для кого же?
Сильва ковыряла ботинком землю, раскраснелась, наконец неохотно сказала:
— А я знаю — для кого? Вот у вас читали: «Сдай в лом кастрюлей медный ряд, и десять домн заговорят…» А чего они заговорят, если нам никто кастрюли не отдал? Папа сказал: «Ты эти стихи, Сивка, наизусть не учи. Они не для вас. Они для жуликов. Кто кастрюли медные ворует». А я уже заучила. Что теперь делать?
Галич что-то записала к себе в блокнот, наклонилась к девочке и крепко ее поцеловала.
— Умница! Обещаю, что плохих стихов будет меньше, а хороших рассказов — больше.
Дворовая игра шла к концу, восставшие кули побеждали. Сильва со своей подружкой Майей возвращалась домой вместе — они жили на одной лестнице.
— Тебя записали в школу на Красных Зорях? — спросила Майя.
— Ага.
— И меня тоже. У нас будет свой сад. Густой-прегустой.
— И улицу нам разрешат переходить через трамвай и автомобили, — обрадовалась Сильва.
Сальма Ивановна уже распахнула перед дочерью дверь.
— Вот зачем тебе школа!
Сильва вбежала в комнату, удивилась.
— А почему у нас на столе цветы? У кого рождение?
— У нас у обоих, — сказала мать. — Кончили с Иваном Михайловичем институт. Мы уже не студенты. Мы доктора, Сивка.
— Ура! — закричала девочка и запрыгала на одной ноге вокруг стола. — У нас теперь докторская семья. Я к вам приведу больных со всех дворов.
Иван Михайлович помахал в воздухе конвертами.
— Да, мало для тебя сегодня событий, Сивка. Получай еще два. Целых два письма от москвичей.
Девочка очень любила получать письма. «Здравствуй, Сильва! — читала она вслух, а губы то и дело расползались в улыбке, и потому веснушки на лице прыгали. — Я очень рад, что ты такая большая и октябренок. Очень хорошо, что ты стала до некоторой степени оратором… Загадка твоя до того проста, что я, не задумываясь, ответил: „Град“. Пришли мне еще одну загадку. Витя Восков».
— А второе от Женечки! — догадалась она. — Угадала?
— «Здравствуй, дорогая Сильвочка, — писала Женя. — Я очень рада, получив твое письмо. Учусь я в 4-й гр., а Витя в 6-й. Помнишь ли ты ослика, которого я тебе подарила? Крепко целую. Ж. Воскова. Не балуйся».
— А я и не балуюсь, — вздохнула Сильва. — Я готовлюсь к школе.
Сальма Ивановна почему-то тоже вздохнула и вышла во вторую комнату.
Сильва не засыпала, пока Иван Михайлович не подсаживался к ней на краешек кровати с томиком стихов в руке. В тот год его увлечением стал Роберт Бернс. Девочка уже знала, что есть такой край — Шотландия и что в ней жил прекрасный поэт-сказочник.
— Папа, а это не там, где живут лорды? — задумчиво спросила она.
Он добродушно покачал головой.
— Почему только лорды? Там живут смелые и честные люди, и руки у них натружены. Роберт Бернс был из их числа.
Читал он мягко, напевно:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВЫЙ УЧЕНИК
Владелец мельницы был коротышкой, а Гильда Воскова — сухопарой, тощей, очень высокой. Самошу забавляло, что мельник должен поминутно отбегать в сторону, чтобы увидеть, как мама Гильда укладывает зачиненный мешок на полку, и не сбиться со счета. — Шестьдесят два, — сказала женщина, уложив последний мешок. Мельник хмыкнул, достал из кармана ассигнацию. — Да что вы, Фрол Саввич! — Гильда не взяла деньги. — Чтоб мне икалось, если я не три ночи их штопала. А вы — рубль. Это и по две копейки за мешковину не выходит. Побойтесь бога. — Боги, госпожа Воскова, — хохотнул коротышка, — тоже живут на наши доходы. Женщина, разволновавшись, сорвала с головы платок, черные волосы, в которых уже проступало серебро, разметались по плечам. — Не по уговору, Фрол Саввич… Вы же знаете, я пятерых тащу. — А вы бы еще дюжину привезли из Жлобина. У нас жлобы ноне за графьями тянутся, а я в ответе должен быть? Самоша не понял, что хотел сказать мельник, но понял, что мать его обидели. Он бросился к полке, сдернул стопу мешков на пол: — Мамо, я их назад домой стащу. Мать благодарно посмотрела на сына. — Иди, Самоша. И так на урок опоздал… Не детское это дело — пятачки считать. Но он не трогался с места. — Ладно, — буркнул мельник. — Получишь по четыре копейки. Только наперед приходи без Самошки. Мальчик снял картуз, насмешливо поклонился и быстро выскочил из полутемного сарая. Вот уже три года, как они без отца. Петр Восков, привезенный Самошей в Полтаву, протянул недолго. Мать приехала со всеми детьми на похороны, да здесь и осталась. Дом ушел за долги, а в Полтаве было легче подработать. Восковы снимали две комнатенки за рынком. Гильда днем нагревала во дворе большой котел, набирала в состоятельных семьях белье для стирки, по ночам штопала мешки. Самоша уводил ребятню на Ворсклу, чтоб не мешали матери, и здесь они строили из песка крепости и мосты. Он пристрастился к дереву, научился мастерить табуреты и полочки и как-то с гордостью принес матери первый заработанный полтинник. Гильда полтинник взяла, куда-то убежала и вскоре вернулась с новой синей рубашкой. — Завтра начнешь ходить к учителю, Самоша, и чтоб мои глаза тебя ни на Ворскле, ни во дворе не видели! Он вспыхнул от радости. — А где деньги возьмем, мамо? Он слышал от соседей, что за учение платят. — Обегала и православные, и греческие школы. Не по карману нам. Один только господин Рубинов — пошли ему бог здоровья — сказал, что в «Талмуд-торэ» освобождается бесплатное место, и он тебя возьмет. Этой школы, а главное — учителя Рубинова, боялась вся полтавская ребятня. Говорили, что Рубинов крут на руку. Самоша хорошо запомнил их первую встречу. Рубинов спросил, знает ли новичок буквы, и, не дождавшись ответа, положил перед ним табличку с крупно выведенными заповедями, велел к концу урока выучить наизусть. Три фразы Самоша выговорил, на четвертой примолк. — «Если ты много сделал, — подсказал Рубинов, — то тебе награда будет большая, ибо хозяин, на которого ты работаешь, добросовестный в платеже». — Учитель, — жалобно сказал Самоша, — что вы, хозяев не знаете. Жулики они все! И мельник жулик, и… Он не успел договорить. Рубинов, ступая, как кошка, мягко подошел к новичку, схватил его за курчавую прядь и трижды стукнул лбом о парту. — За недоверие к господу, — приговаривал он, — за напрасные муки бедной мамаши твоей, за неуважение к учителю твоему. Итак: «Если ты много сделал…» — Учитель, — сказал Самоша. — Батечка Петруша не велел мне болтать, чему сам не веришь. Сказал — и чуть не остался без уха. Потом они притерпелись друг к другу. У Самоши была превосходная память, и он за урок выучивал то, что другим удавалось за два. Рубинов даже назвал как-то Воскова первым учеником по способностям и упрямству. Правда, он не скупился на затрещины, когда находил под толстой молитвенной книгой в кожаном переплете сказки про Соловья-разбойника или Хитрого Лиса. Благодетели школы изредка приглашали питомцев за город. Ни разу не видел Рубинов на этих воскресных прогулках Воскова. — Так что же ты делал вчера? — спрашивал он в понедельник мальчика.
— А я читал заповеди, — невинно отвечал Самоша.
— Благодетели хотят, — грохотал Рубинов, — чтобы мальчик подышал свежим воздухом и полюбовался нашей украинской природой. Марш за печь, стой там все уроки и любуйся природой оттуда! Воистину сказано, если тебя зовут ослом, ступай и возложи на себя седло.
Вызванная в школу, Самошина мать сказала:
— Вы не будьте сердиты, господин учитель, на моего сына. Он очень добрый мальчик. Он помогает мне по хозяйству, и если нужно что-то сделать для соседей, он тоже это делает с дорогой душой. Но за город с вами он не мог поехать — у него изодрались ботинки, а когда я дала ему деньги на новые, он пошел и купил их, но не себе, а, имейте в виду, для Мишки. Потому что Мишка пойдет первый раз в школу. Но если нужно, чтобы Самоша поехал со всеми, то я попрошу, и он поедет в драных ботинках. Как скажете, господин учитель.
Рубинов развел руками и ничего тогда не сказал.
Самоша всегда объяснял учителю, когда являлся к концу первого, а иногда и второго урока:
— Таскал мешки на мельницу.
— Мать белье относила, а сестренка ногу порезала.
А однажды не объяснил. Не помогли ни подзатыльники, ни удары лбом о парту, ни бешеный рев учителя. И второй раз промолчал. Это случилось, когда попечитель привел с собой в их класс богатого купчину, который обещал пожертвовать школе двадцать пять целковых.
— Не уважаете-с наставника своего, — назидательно произнес купец. — Это в юные годы. А дальше что станется? Смута и беззаконие сплошное. Выдрать надо бы и выгнать! Позвольте помочь на правах — хе-хе! — доброхотного благодетеля.
Самоша стоял в дверях, растерянно улыбался. Но когда купец снял с себя пояс, мальчик мотнул головой, буро покраснел.
— Боитесь? — ласково спросил купец, встав со стула и направляясь к Самоше.
Самоша вдруг извлек из кармана длинное сверкающее лезвие струганка.
— Благодетель! — громко, на весь класс сказал он. — Я только с виду послушный, а ребята за Ворсклой меня Соловей-разбойник прозвали. Нехай овцой заблею, если вру!
— Так что же ты делал вчера? — спрашивал он в понедельник мальчика.
— А я читал заповеди, — невинно отвечал Самоша.
— Благодетели хотят, — грохотал Рубинов, — чтобы мальчик подышал свежим воздухом и полюбовался нашей украинской природой. Марш за печь, стой там все уроки и любуйся природой оттуда! Воистину сказано, если тебя зовут ослом, ступай и возложи на себя седло.
Вызванная в школу, Самошина мать сказала:
— Вы не будьте сердиты, господин учитель, на моего сына. Он очень добрый мальчик. Он помогает мне по хозяйству, и если нужно что-то сделать для соседей, он тоже это делает с дорогой душой. Но за город с вами он не мог поехать — у него изодрались ботинки, а когда я дала ему деньги на новые, он пошел и купил их, но не себе, а, имейте в виду, для Мишки. Потому что Мишка пойдет первый раз в школу. Но если нужно, чтобы Самоша поехал со всеми, то я попрошу, и он поедет в драных ботинках. Как скажете, господин учитель.
Рубинов развел руками и ничего тогда не сказал.
Самоша всегда объяснял учителю, когда являлся к концу первого, а иногда и второго урока:
— Таскал мешки на мельницу.
— Мать белье относила, а сестренка ногу порезала.
А однажды не объяснил. Не помогли ни подзатыльники, ни удары лбом о парту, ни бешеный рев учителя. И второй раз промолчал. Это случилось, когда попечитель привел с собой в их класс богатого купчину, который обещал пожертвовать школе двадцать пять целковых.
— Не уважаете-с наставника своего, — назидательно произнес купец. — Это в юные годы. А дальше что станется? Смута и беззаконие сплошное. Выдрать надо бы и выгнать! Позвольте помочь на правах — хе-хе! — доброхотного благодетеля.
Самоша стоял в дверях, растерянно улыбался. Но когда купец снял с себя пояс, мальчик мотнул головой, буро покраснел.
— Боитесь? — ласково спросил купец, встав со стула и направляясь к Самоше.
Самоша вдруг извлек из кармана длинное сверкающее лезвие струганка.
— Благодетель! — громко, на весь класс сказал он. — Я только с виду послушный, а ребята за Ворсклой меня Соловей-разбойник прозвали. Нехай овцой заблею, если вру!
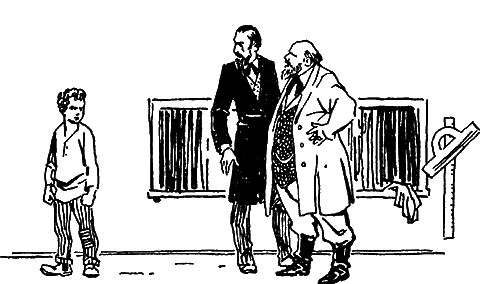 Под смешки учеников купец выскочил из класса.
Рубинов бегал между скамьями, щедро раздавая щипки и пощечины. После уроков он оставил Воскова.
— Мы могли на двадцать пять целковых весь месяц давать вам горячие завтраки, — тоскливо сказал он. — Тебе уже десять лет, и ты должен кое-что понимать. Где ты пропадаешь?
— Учитель, простите меня, — сказал Самоша. — Я бы все от вас стерпел. А от благодетеля не могу.
— Не можешь? — закричал Рубинов. — Сначала деньги научись зарабатывать, Соловей-разбойник!
Самоша наконец решился.
— Учитель, я уже год, как работаю. Хожу по домам, кому стол сбиваю, кому — стул. Нас пятеро у мамы Гильды. — Он помолчал. — А осенью в ремесленную школу обещали взять. По столярной части.
Рубинов с удивлением смотрел на мальчика.
— Жаль, ты способен к учению.
— Книги не брошу! — У Самоши даже голос дрогнул.
— Да, это я знаю, — Рубинов вздохнул. — Но тебе еще совсем мало годков…
— Нас пятеро, — тихо повторил мальчик.
Рубинов прошелся по классу, — наверное, вспомнил что-то веселое, морщины на его лице собрались в смешке.
— А как насчет заповеди про хозяина? Повторишь?
— Учитель, можно, я другую заповедь вам прочту?
Под смешки учеников купец выскочил из класса.
Рубинов бегал между скамьями, щедро раздавая щипки и пощечины. После уроков он оставил Воскова.
— Мы могли на двадцать пять целковых весь месяц давать вам горячие завтраки, — тоскливо сказал он. — Тебе уже десять лет, и ты должен кое-что понимать. Где ты пропадаешь?
— Учитель, простите меня, — сказал Самоша. — Я бы все от вас стерпел. А от благодетеля не могу.
— Не можешь? — закричал Рубинов. — Сначала деньги научись зарабатывать, Соловей-разбойник!
Самоша наконец решился.
— Учитель, я уже год, как работаю. Хожу по домам, кому стол сбиваю, кому — стул. Нас пятеро у мамы Гильды. — Он помолчал. — А осенью в ремесленную школу обещали взять. По столярной части.
Рубинов с удивлением смотрел на мальчика.
— Жаль, ты способен к учению.
— Книги не брошу! — У Самоши даже голос дрогнул.
— Да, это я знаю, — Рубинов вздохнул. — Но тебе еще совсем мало годков…
— Нас пятеро, — тихо повторил мальчик.
Рубинов прошелся по классу, — наверное, вспомнил что-то веселое, морщины на его лице собрались в смешке.
— А как насчет заповеди про хозяина? Повторишь?
— Учитель, можно, я другую заповедь вам прочту?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕДЕНЦЫ ЗАГОРЕЛИСЬ
— У нас заповедь одна: церковь людям не нужна! Эти строчки придумал Мишка Хант. Ему пришло в голову пустить по школе, потом по ближним домам вопросник: «Кто за то, чтобы закрыть церквушки на углу Большой Пушкарской и Кронверкской и по улице Воскова?» Вообще в четвертом «а» идеи плодились, как грибы после дождичка. Классная воспитательница и радовалась, и пугалась. Всех взбудоражила Майя Ратченко, предложив объявить площадь Льва Толстого, к которой был обращен фасад их школы, площадью Пионерских Игр, а машины и трамваи пустить по подземному каналу и самим его прорыть. Их не поддержали, и тогда Володя Стогов выдвинул новый проект: устраивать вечера и на них разыгрывать сцены взятия Зимнего дворца или Перекопа, только с всамделишными дымовыми шашками. Завуча больше всего напугали шашки. В том же тридцатом году им помешала церковь. — Пионеры мы или нет? — взывала Майка. — Зачем нам терпеть под носом у школы церковь? Мы лучше там свой клуб устроим. — Ленсовет будет за нас, — веско заявил Миша Хант, — если больше половины жителей будет за нас. Улица имени славного революционера Воскова тоже проживет без церкви. Решайте, ребята! Почти все высказались «за». — А ты, Сильва, — спросил Миша у девочки, которая тихо сидела за партой, думая, кажется, о чем-то своем. — Ты «за» или «против»? Ты чего молчишь? Тебя это больше касается. Раз ты случайно по фамилии тоже Воскова… Сильва отозвалась не сразу: — Когда я шла против отряда? — Помолчала. — Конечно, церковь нам не нужна. Ни на какой улице! — Ура! — деловито подвел итог Мишка. — Все «за». Можно писать в Ленсовет. — Надо попросить динамит! — загорелся Володя. — Ты это брось, — даже находчивый Мишка оторопел. — Мы пионеры, а не бандиты какие… Они держались одной компанией — Сильва, Майя, Миша Хант и еще Алла Гринева, вечно обучавшая класс «модным» песенкам. Как-то в Алкином дневнике появилась такая запись: «Учила на перемене подруг совсем недетской песне „У самовара я и моя Маша“. Обращаю внимание родителей». В группе был переполох. Мишка предложил исправить «у самовара» на «у самоката». — Меняем всего две буквы — и песня получается совсем детская, — утверждал он. Сильва возразила: — Раз попались — выкручиваться нечего. Врут только трусы и жулики. Ее прямолинейность в классе знали. Если приходила с невыученным уроком, что бывало редко, тянула руку и объявляла сразу, не дожидаясь, пока спросят. Мишку это злило, и он не то всерьез, не то в шутку предложил отказываться по очереди. Сильва его «подколола»: — Если все врать начнут, и я по очереди должна? Она участвовала во всех Мишкиных и Алкиных затеях, но дружбу понимала по-своему. Постоянным ее увлечением был спорт. В семье после кукол и кубиков традиционными подарками девочке стали коньки и лыжи. В пятом и шестом она пристрастилась к волейболу. Долго просиживала в спортивном зале, наблюдая за игрой школьных команд, пока учитель по физкультуре, который почему-то звал ее шутливо Васькой, не предложил: — А ну, Васек, стань на минутку к сетке, замени Морковкина. Через полгода она вошла в сборную школы. Позади уже много ответственных встреч: с соседними школами, сборной роно, командой трудрезервов. Играла с азартом, брала «невозможные» мячи и жутко краснела, если ей аплодировали. Одного она избегала — мешать партнеру, перехватывать летящий на него мяч. И когда команда обсуждала Морковкина, который в решающем матче со сборной района метался у сетки, забывая о «пасах» и товарищах, Сильва откровенно сказала: — Работать с мячом ты можешь, с друзьями — нет. Тебе нужно играть с дошколятами в «стеночку», там каждый за себя отвечает. Отряд их прозвали «дюжина ребусов». Никто не знал, чем они удивят школу наутро. Сильву избрали физоргом, и все знаменитые спортсмены тридцать первого года смотрели на учеников с классных стен. Мишка Хант по ночам монтировал стенновки, составлял замысловатые графики успеваемости, которые никто не понимал, и сочинял на всех эпиграммы. Майя считалась у них пламенным оратором, Алла — худруком классных вечеров, Володя Стогов — консультантом военных игр, а серьезный, старательный Юра Будыко принес в класс две пары шахматных часов и страшно огорчился, что ему не зачли на уроке физкультуры дебют Нимцовича вместо перекладины. Их общим кумиром стали книги. Классный руководитель Варвара Ивановна Бахирева, сама преподававшая литературу в старших классах, с трудом сохраняла невозмутимость под градом вопросов, которые сыпались на нее во время воспитательского часа. — Это правда, — интересовалась Алла, — что Пушкина застрелил на дуэли сам царь? — Как вы думаете, Варвара Ивановна, — глубокомысленно вопрошала Мура Шакеева, которая внешним видом смахивала на мальчишку, — имеет право пионерка полюбить французского дворянина д’Артаньяна или не имеет? И, вместо того чтобы отчитывать их за то, что берутся за книги не по возрасту, учительница обсуждала с ними проблемы французского дворянства и первой детской любви. Сделав уроки, Сильва забиралась с ногами на диван и едва умещалась между стопками нанесенных книг. Мать как-то застала ее за книгой плачущей. К ужину она вдруг выбегала со словами героя Сервантеса: — «У страха глаза велики — лев может показаться тебе даже больше половины Земли!» Я бы хотела быть такой же смелой, как Дон Кихот Ламанчский. — И такой, же фантазеркой? — слегка охлаждала ее Сальма Ивановна. — Мама, ты сама говорила, что без фантазии не было бы революции. Говорила? — Это я не говорила, — улыбалась Сальма Ивановна. — Это говорили другие люди. Но, в общем, верно. Восхищенная краснозвездным гайдаровским всадником, который спас Димку от побоев дезертира, она подкараулила до уроков Аллу и торжественно вручила ей справку, наподобие той, что красноармейцы выдали Жигану: «Есть она, Алка, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность, а потому оказывать ей, Алке, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам». — Да не буду я ходить с песнями по станциям, — перепугалась Алка, — ты что, заболела? — Может, и будешь, — смеялась Сильва. — Придет время — и будешь. А пока учи революционные песни вместо своего «самовара» и держись за мою справку. В отряде появилась вожатая Леля Пигарева. Была она маленького роста, очень энергично говорила и сразу успокоила ребят, заявив, что с ее приходом пионерская жизнь у них забьет ключом. В очередной стенновке Миша Хант разразился двустишьем: «Мы все думаем о чем? Как бы нам забить ключом!». Вожатая ничем не высказала неудовольствия, только спросила Мишу: «Почему вы в стенгазете не даете бой двоечникам?» — «А у нас нет двоечников», — удивился Миша. «Нет, но могут появиться», — веско разъяснила Леля. Подобрав на полу «гайдаровскую» справку, выяснила у Аллы, кто писал. Отозвала Сильву на перемене в сторонку, мягко сказала: — Надо уважать свой родной язык, Воскова. — Показала бумажку. — Шантрапа, шарлыган… И это — о своем товарище? — Это шутка, — Сильва удивилась. — Я использовала текст Аркадия Гайдара. Не удержалась, съязвила: — Вы его проходили? Леля стала бурой. — Я учусь в пединституте. И учти на будущее — цитаты берут в кавычки. Леля и предложила на отрядном вечере разыграть в лицах новую сказку поэта Маршака «Багаж». Переглянулись: что они — октябрята? Но… Стали готовиться. Правда, втайне. Верховодила, конечно, Алка. На спектакль пришли некоторые учителя и завуч. Вначале со сцены звучало знакомое: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую…» Тут-то хор голосов и выкликнул: «Кни-жон-ку!». А потом они начали рассказывать, как даме вместо маленькой книжечки стали выдавать большие, и в них жили, страдали и боролись их любимые герои, которых дама очень боялась… Неделю над этими стихами бился Мишка Хант и бригада его стенгазетчиков: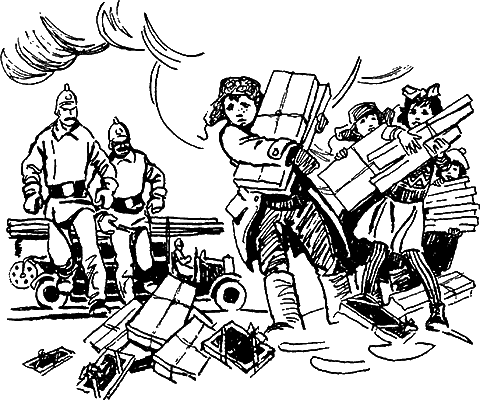 Они вернулись в вестибюль и вдруг увидели в углу Эдика Тараньева — он подавал таинственные знаки.
— Ты что это, Тарань! — возмущенно крикнул Мишка, заметив у ног Эдика коробку с тянучками.
Сильва схватила коробку, Эдик резко оттолкнул девочку, и никто не успел этого предупредить, как она дала ему затрещину, а затем и вторую. Жестко сказала:
— Сразу отнеси старику, иначе я милиции сообщу.
Ее трясло — от холода, пережитого волнения.
Они шли домой, когда их нагнала вожатая:
— За что ты, Воскова, избила Тараньева?
Сильва молчала, и все молчали.
— А, не хочешь? — вожатая тяжело задышала. — Тогда я скажу, за что… Ты узнала, что мальчик рассказал мне правду о вашем сговоре? Что он назвал мне бузотеров? Тебе не понравилось, что я поймала тебя на плохих словах? Ты хочешь оттолкнуть от меня ребят? Не выйдет. Я поставлю о тебе вопрос ребром.
Она не успела. В этот вечер у Сильвы температура подскочила до тридцати девяти. Наутро ее отвезли в больницу: врачи опасались крупозного воспаления легких. Потом оказалось, что у нее просто скарлатина.
Ребята ей написали в больницу письмо: «Пожарники прислали нам всем благодарность, директор приказ в школе вывесил. Твоя фамилия первой стоит. Быстрее вылечивайся, Сивка. На выписку придем всем классом».
Она ответила: «Только без Тарани».
Они вернулись в вестибюль и вдруг увидели в углу Эдика Тараньева — он подавал таинственные знаки.
— Ты что это, Тарань! — возмущенно крикнул Мишка, заметив у ног Эдика коробку с тянучками.
Сильва схватила коробку, Эдик резко оттолкнул девочку, и никто не успел этого предупредить, как она дала ему затрещину, а затем и вторую. Жестко сказала:
— Сразу отнеси старику, иначе я милиции сообщу.
Ее трясло — от холода, пережитого волнения.
Они шли домой, когда их нагнала вожатая:
— За что ты, Воскова, избила Тараньева?
Сильва молчала, и все молчали.
— А, не хочешь? — вожатая тяжело задышала. — Тогда я скажу, за что… Ты узнала, что мальчик рассказал мне правду о вашем сговоре? Что он назвал мне бузотеров? Тебе не понравилось, что я поймала тебя на плохих словах? Ты хочешь оттолкнуть от меня ребят? Не выйдет. Я поставлю о тебе вопрос ребром.
Она не успела. В этот вечер у Сильвы температура подскочила до тридцати девяти. Наутро ее отвезли в больницу: врачи опасались крупозного воспаления легких. Потом оказалось, что у нее просто скарлатина.
Ребята ей написали в больницу письмо: «Пожарники прислали нам всем благодарность, директор приказ в школе вывесил. Твоя фамилия первой стоит. Быстрее вылечивайся, Сивка. На выписку придем всем классом».
Она ответила: «Только без Тарани».

ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЧЬ С ДЕРЕВА
Слова полковника отдавались в ушах набатом: «Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру „Семена Петровича“ расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть». В шесть… расстреляют… не увидеть… Лжет полковник, чего-то ждет от него или и впрямь решил с ним разделаться? Как он стал «Семеном Петровичем»? Казалось, еще вчера он был Самошей, и была Полтава, и визжащие братаны. Он попытался распрямиться, но мешал низко нависший потолок камеры. Он невольно вспомнил, как совсем недавно, согнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку, входил в сенцы родного дома. Час был поздний, он старался не скрипнуть дверью. Подошел к поблескивавшему в углу сеней ведерку, зачерпнул ковшик студеной воды, выпил и даже причмокнул от удовольствия. Свет разлился по сеням, от неожиданности юноша выронил ковш. В дверях, ведущих в горницу, стояла мать, а за ней он увидел своего дядьку Ефима. Из отцовской родни он больше всего любил своего неудачливого дядьку. Сколько профессий ни сменил Ефим! У него были ладные руки, все умеющие делать, — он и столярничал, и слесарил, и даже из глины лепил. Но какие-то люди всегда вовлекали его в невероятно невыгодные сделки, из которых он выходил по уши в долгах. Ефим не унывал. Отец рассказывал, что брат в молодости три года колесил по южным губерниям России с бродячим цирком. Гильда полила сыну на руки, бросила ему жесткое полотенце, придвинула тарелку, на которой громоздились крупные, с синим отливом баклажаны. — Расскажи дяде, — устало сказала она, — где есть такие дома, чтобы люди терпели по ночам визг твоего рубанка. И откуда берутся такие нахалы, что отрывают кормильца от семьи! Он сделал вид, что его сейчас ничто, кроме баклажанов, не интересует. Да и что он мог им рассказать? Как бегал по городу в поисках заказов и ругался с владельцами лавок из-за того, что они вечно пытались его надуть? Как ночью, при дрожавшем язычке свечи, зачитывался книгами о людях, которые искали дороги к счастью? Иногда, если удавалось сдать заказ засветло, он заходил в Зал народных чтений послушать лекторов или чтецов. Но чаще всего со сцены звучали какие-то святочные рассказы. В этих рассказах к добрым и кротким детям обязательно под Новый год являлись Дед Мороз с ворохом подарков или благородный доктор с лекарствами для чахоточных от еще более благородной графини… — Где вы выкапываете всю эту шелуху? — прервал он однажды чтеца. И не ожидал, что сидевшая позади него группа веселых молодых людей бурно зааплодирует. Потом один из этих людей сменил оконфуженного лектора и заговорил совсем о другом. О том, как повсюду народ водят за нос. Как отвлекают его от насущных житейских вопросов. Как хитро действуют «отцы города», завлекая рабочих в винные лавки и втихую снижая расценки, поощряя погромы и бросая в тюрьмы бастующих. В дверях появился околоточный и молодые люди разошлись. Но Воскову оставили адресок. На другой же день он пришел к ним. Первое поручение было пустяковым: наклеить листовку на двери любого крупного магазина. Он два часа ходил по улице, присматриваясь и примеряясь. Боялся? Нет, просто ему все время казалось, что старичок с низко нахлобученной ермолкой, которого он давно приметил, подглядывает за ним. Куда бы он ни поворачивал, он встречал этого старичка. А пришлепнув листок у входа в шляпный магазин «Модный свет», вдруг явственно увидел, что старик манит его пальцем. — Молодой человек, — гаркнул старик на всю улицу, — я давно вас высмотрел. Мне для примерочной нужен красивый манекенщик… Куда же вы?.. Его друзья очень смеялись, узнав, как он выполнял свое первое поручение и как сбежал от старика проходным двором. Новая работа увлекала. Заказы, споры с лавочниками, даже выговоры матери за поздние приходы отошли куда-то назад. Единственно, чего он никогда не забывал, — отложить грошик на леденцы для младших сестренок и братишек. Он хорошо помнил, как сам ждал приездов с ярмарки отца. «…Ах, мамо, что мне ответить вам?» — И дому пользы нет, — жаловалась Гильда Ефиму, — и здоровье не бережет, и сам на подозрении. Вчера пристав приходил: «Присмотрите, госпожа Воскова, за сыном, он завел себе плохую компанию». Что ты себе думаешь, я тебя спрашиваю. Может быть, ты уже и не Восков, а прямо Галилей? Или ты уже прямо Софья Перовская? Видела я твои книжечки, от матери не спрячешь… Ефим долго смеялся, потом посуровел. — Довольно, невестушка! Дело ясное. Навостри внимание, Самоша! Это были любимые слова нашего владельца цирка, когда нужно было сматывать удочки. Тебе уже пятнадцать лет, вымахал… Соображай, значит. Пока полиция не заявлялась, мог шалить по-всякому. Теперь — не выйдет. Себя подведешь и малолеток. — Вдруг опять залился смехом: — Эх… Были среди Восковых и деловые люди, и ремесленные, даже один циркач затесался. Но чтоб власть дразнить… Вот что, племянничек, завтра же поедешь к моему дружку в Кременчуг — он тебя определит к делу. Собирай его, мать. Самоша встал из-за стола. — Не надо, дядя Ефим. Сам определюсь. В Кременчуге мне делать нечего. Новые его друзья предложение дядьки расценили иначе. — Восков, почему бы тебе не двинуть туда? Кременчужане давно у нас просят листовки. Да и от полиции здешней пора тебе схорониться. Гильда, услышав, что сын согласен уехать, всплакнула. — Ругала я тебя, а второго такого помощника нет. — Я и оттуда буду вам помогать, мамо. Сняла с полки дорожную корзину, с которой отец всегда на ярмарку ездил; две смены белья положила, рубашечку на выход, куртку отцовскую, сверху — сырники на дорогу. Провожали его мать, дядька и два брата —девчонок не взяли. Самоша в городе поотстал от своих, велел его у вагона ждать. — С учителем только попрощаюсь! — объяснил он. Пришел он скоро, запыхавшийся, корзину быстро занес в вагон, поставил на полку, вышел к своим, расцеловался. Ефим отвел его в сторону. — Ты, племяша, не осуждай… Сам я пробродяжничал житуху, пусть уж у тебя покой будет. Он сказал с вызовом: — Кто же в пятнадцать лет покоя ищет, дядя? Дорога прошла незаметно. У него была с собой «Капитанская дочка», и он глотал страницу за страницей, пока не раздался зычный басок проводника: — Станция Кременчуг. Прошу приготовиться, господа и прочие! Встал, перехватил чересчур внимательный взгляд соседа, пробормотал: «Духотища!» Опустил оконную раму. Дотянулся до корзинки, спустил ее на пол. Не увидел, а почувствовал, что сосед ерзает. Дождался, пока показалась будка стрелочника и, как было условлено на случай слежки, быстрым сильным движением выбросил корзину за окно. В ту же секунду филер[2] ткнул Воскова кулаком в лицо и пронзительно засвистел. — Ах, господин шпик, — ласково сказал Самоша. — Ведь я уже потерял из-за вас отцовскую корзину. Неужели вам этого мало? Он ударил его так, что филер покатился по проходу, и бросился к выходу, но мимо уже плыл перрон, на площадке стояли полицейские.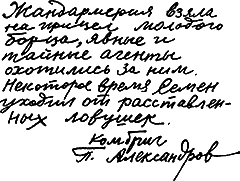 Самошу везли в пролетке. А город был зеленый, манящий..
Его сразу взяли на допрос. В углу сидел филер. Жандармский ротмистр был учтив, деловит:
— От кого ехали? Не отвечаете? К кому ехали? Не помните? Что везли? Не скажете? Где право на жительство?
Восков наконец ответил:
— У матери осталось. Мне еще шестнадцати нет.
Жандарм взглянул с любопытством:
— Как же это вы, Восков… Совершеннолетним себя не считаете, а уже в политику пустились?
Ответил, как учили:
— Наврал вам все этот, что в углу. Я на работу сюда приехал устраиваться. По рекомендации дядюшки.
Ротмистр улыбнулся, достал из стола рубашку — Самоша узнал свою, — расправил рукав, что-то нащупал в нем, вытащил забившуюся половинку листовки.
— Плохо вас учат конспирации, Восков, — сказал с жалостью. — Почитаем вместе. Гм… «Толстосумы и их божество Романов натравливают вас, братья, друг на друга…» Да-с, корзиночку вашу-с подобрали товарищи, а вот рубашечка выпала… Не будем продолжать эту комедию, господин Восков. Вы молоды и будете иметь еще много радостей. Дайте мне адрес людей, к которым вас направили, и вы свободны. Слово офицера!
Восков молчал, и ротмистр подошел поближе.
— Так как же, господин Восков? Рубашечку опознаете?
— Нет, — сказал Восков. — Этот, что в углу, вас дурачит.
Лицо ротмистра вдруг перекосилось, он вдохнул в себя воздух и наотмашь ударил юношу. Филер добавил сзади.
Самошу везли в пролетке. А город был зеленый, манящий..
Его сразу взяли на допрос. В углу сидел филер. Жандармский ротмистр был учтив, деловит:
— От кого ехали? Не отвечаете? К кому ехали? Не помните? Что везли? Не скажете? Где право на жительство?
Восков наконец ответил:
— У матери осталось. Мне еще шестнадцати нет.
Жандарм взглянул с любопытством:
— Как же это вы, Восков… Совершеннолетним себя не считаете, а уже в политику пустились?
Ответил, как учили:
— Наврал вам все этот, что в углу. Я на работу сюда приехал устраиваться. По рекомендации дядюшки.
Ротмистр улыбнулся, достал из стола рубашку — Самоша узнал свою, — расправил рукав, что-то нащупал в нем, вытащил забившуюся половинку листовки.
— Плохо вас учат конспирации, Восков, — сказал с жалостью. — Почитаем вместе. Гм… «Толстосумы и их божество Романов натравливают вас, братья, друг на друга…» Да-с, корзиночку вашу-с подобрали товарищи, а вот рубашечка выпала… Не будем продолжать эту комедию, господин Восков. Вы молоды и будете иметь еще много радостей. Дайте мне адрес людей, к которым вас направили, и вы свободны. Слово офицера!
Восков молчал, и ротмистр подошел поближе.
— Так как же, господин Восков? Рубашечку опознаете?
— Нет, — сказал Восков. — Этот, что в углу, вас дурачит.
Лицо ротмистра вдруг перекосилось, он вдохнул в себя воздух и наотмашь ударил юношу. Филер добавил сзади.
 С четверть часа продолжалось избиение. Ротмистр делал секундный перерыв только для того, чтобы повторить: «Адрес, Восков, адрес!».
Боли Самоша уже не чувствовал. Тело казалось ватным и не отвечало на удары.
Очнулся он в камере, на холодных плитах. Били его еще несколько раз, потом ротмистра куда-то отозвали, а Самошу передали в полицию. Улики были против него слабые, и кременчугский полицмейстер выслал юношу под надзор своих полтавских коллег: полтавские его проглядели — пусть с ним возятся и впредь.
Мать встретила его появление подавленной, молчаливой улыбкой, дядька хохотнул:
— Кабы знала кума, во что угодит, из дому бы и носа не показала. А ты… За ум возьмешься? Играть в политику не надоело?
— Играть надоело, — серьезно сказал он.
Группа, в которой он работал, поднимала голос лишь в случаях, когда власти разжигали национальную рознь. Им казалось, что своими листовками они уберегут украинцев от обидных кличек, евреев — от хулиганских налетов, кочевников-цыган — от преследования полицией… «Лихо пишете, мелко плаваете, — посмеялся один из его соседей по камере. — Как же, усовестите вы живодеров Романовых и всю российскую жандармерию!.. На том и держатся!»
Гильда допытывалась у Ефима:
— Что думает мальчик? Отвяжется от той шайки?
Ефим почесал за ухом.
— От одних отвяжется… Глядеть надо, чтоб к другим не пристал.
В механической мастерской Самоша давно присматривался к литейщику с лицом, усеянным оспенными вмятинами. Когда он говорил, в его зеленых глазах, казалось, бушевало пламя печи. Болотов выслушал парня, усмехнулся.
— Значит, поглубже копнуть хочешь? А мы тебя ждали. Грамотные люди нам позарез нужны. Постучись к своей старой знакомой — Анне Илларионовне. Назовешься Семеном Петровичем. Потом я тебя разыщу.
Анна Илларионовна и ее дочь Лиза обрадовались приходу Самоши, стали расспрашивать, где был, почему не показывался. Он пригнул голову: ее пересекали два больших шрама.
— Неученый был, — засмеялся он. — Пришел к вам за наукой, Анна Илларионовна.
Она нахмурилась, выслала Лизу из комнаты.
— Что болтаешь, Самоша? Какая наука?
— Я от Болотова, — пояснил он.
Женщина упрямо молчала, и тогда он спохватился:
— Простите, Анна Илларионовна. Забыл представиться. Семен Петрович.
Она покачала головой.
— Самоша Восков стал Семеном Петровичем. Удивительно… — И вдруг прыснула. — А помнишь, как Семен Петрович ворвался в благотворительное общество?
Он ушел от них с номером «Искры». Опять начались чтения при свечке. Мать однажды проснулась, спросила:
— Соседка тебя с Лизанькой приметила. Женихаешься или сызнова полиции глаза колешь? Смотри, как бы передачи мне таскать в тюрьму не пришлось.
Ответил как мог ласковее:
— Мамо Гильда, царь не хочет думать ни о вас, ни о ваших детях. Бог тоже не хочет. Кто же тогда будет думать о нас, если не вы и не я?
Передача понадобилась через месяц. Воскова схватили на кирпичном заводе, у бастующих рабочих.
— Что вы там делали? — допрашивал его полицмейстер.
— Ваше благородие, — возмущался Восков, — мог я приятеля навестить или не мог?
— Слушайте, Семен Восков, — сказал полицмейстер, — я вас заморю голодом в одиночной камере, пока вы мне не назовете своих коллег по социал-демократическому кружку.
Его снова били, бросали в карцер, передачи от матери и дядьки не принимали. Ефим записался на прием к губернатору, объяснял невнятно, пытался вызвать у нею жалость.
— Восков? — спросил губернатор. — Шестнадцать лет? Милейший, да в эти годы миски похлебки в день более чем предостаточно…
— Ваше превосходительство, — вдруг вспыхнул Ефим, — я когда-то в бродячем цирке работал. У нас укротитель одной миской похлебки восемь собачек откармливал. Только они все передохли.
У губернатора побагровела шея. Он встал.
— Господин Восков, если у нас передохнут все социал-демократы, Россия только выиграет.
— Вот и наш цирк тогда выиграл, — весело сказал Ефим. — Распался, как карточная колода. Здравия желаю, вашество…
Передач Семену не разрешили, но суд его выпустил: у полиции опять не хватило улик. На воле его долго не оставляли. Наконец по приказу Болотова Семен выехал в Ялту. Ему предстояло работать в нагорных кварталах, усеянных мелкими мастерскими и лавчонками. Он предвидел, что поднимать на борьбу ремесленников, дорожащих своими маленькими профессиональными секретами, будет куда труднее, чем полтавских кожевников или кременчугских табачников. Но он сам был мастеровым и понимал этих людей.
Две недели он готовил первое подпольное собрание. В полутемном сарае, который примыкал к эстрадной раковине, они спорили полночи. Семен потом признавался товарищам, что когда слово взял старый часовщик, он уж было решил, что все рухнуло.
— Что толку в вашем движении, например, лично для меня? — спросил часовщик. — Моя мастерская на видном месте, у меня полно заказов, до конца жизни без булки с маслом не останусь.
Вошло тревожное молчание.
— У меня тоже руки не дуры, — сказал Семен, — и говорят, что столяров таких в Полтаве не избыток. Но у меня четверо полуголодных сестер и братьев. Что будет с ними? Что будет с тысячами других детей? А хотите знать! — вдруг горько выкрикнул он. — Полицмейстер получил крупную взятку от трех компаний — галантерейной, портновской и часовой, и многих из вас через неделю-другую лишат аренды лавок под предлогом защиты монархии от бунтовщиков. Тогда вы вспомните, как держались за бублик с маслом.
Кто-то ахнул, люди зашептались.
— Завтра мы вам ответим, Семен Петрович, — кротко резюмировал мнения старый часовщик. — Лично я склоняюсь к тому, чтобы пойти с вами, но другие хотят подумать.
Когда басовито загудели пароходы, возвещая, что Ялта присоединяется к восставшему «Потемкину», на дверях мастерских и лавок уже были навешаны замки. Восков чувствовал себя приподнято, но его предупредили, что он выслежен и должен срочно покинуть город. Теперь его ждала Одесса.
Доехал без «хвостов». Когда сошел по трапу на берег, Одесса только просыпалась.
Высмотрев широкую скамью на Французском бульваре, укрытую с трех сторон листвой акаций, Восков с наслаждением уселся. Мимо него прошел раз и другой пожилой мужчина в широкополой соломке и вдруг занял место на противоположном конце скамьи.
— Если кому-нибудь очень хочется смеяться, — затейливо начал разговор прохожий, как видно страдающий бессонницей, — пусть он прочитает вчерашнюю речь нашего губернатора. Ха! Этот хитрец хочет взять одесситов на цугундер… Такие номера сейчас не проходят, господин негоциант.
Что ж, придется уходить.
Вежливо приподнял шляпу, снял со скамьи элегантный чемоданчик, плотно ступая, зашагал по бульвару. Потом свернул к Карантинной балке, выскочил на Большую Арнаутскую, прошел еще два квартала и остановился возле двухэтажного белого домика на Гимназической. Дом еще спал, но со двора слышались хлопающие звуки. Девчонка, полоскавшая белье, посмотрела на него большими глазами. Не иначе, на нем странно выглядит палевый костюм из чесучи. Он подошел к боковому флигелю и несколько раз постучал в узкую дверцу. Заспанный мужской голос спросил, кто ломится, и он ответил вполголоса:
— Семен Петрович!
— А мы вас ждали часом позже, — обрадованно сказали из-за двери. — Входи и располагайся, товарищ.
И вот он у одесских друзей. Налаживает подпольную типографию, печатает листовки, пересылает их своим полтавским, кременчугским, ялтинским друзьям. Так прошли полтора месяца напряженной, опасной, но и радостной работы.
Свой элегантный чемодан с двойным дном — подарок ялтинского мастера фурнитуры — он превратил в наборную кассу. Сколько фунтов свинцовых литер он перетаскал с одного конца города на другой! Перетаскал в маленький подвальчик за Привозом[3], где был пивной зал и за ним — две крошечные комнатушки, в которых и разместилась их типография.
Однажды, пересекая рынок со своими тяжелыми литерами, он попал в облаву и оказался прижатым к ларям. Начинался обыск. Семен вдруг почувствовал, что его подталкивает к дверям лавки сосед — тот самый господин, которого он встретил в день приезда на Французском бульваре. А затем заводит Семена в лавку и вежливо представляет сидящему у окна жандармскому ротмистру.
— Господин штабс-капитан, знакомьтесь, — мой гость, негоциант с севера.
— Пусть ваши гости лучше сидят у вас в номерах, господин Галушко! — недовольно ответил офицер, но тут же выпустил их через заднюю дверь.
Молча Восков и Галушко прошли квартал, и только тогда освободитель сказал ему:
— А я вас, представьте, запомнил, господин негоциант. Вы были тогда одеты тютя в тютю, как сейчас. Имейте только в виду, что это костюм не для богатой публики. Совсем нет!
— У меня нет другого костюма, — засмеялся Семен. — Спасибо за помощь. Только чем я вам приглянулся?
Лицо у Галушки потемнело.
— Ах, господин негоциант, — вполголоса сказал он. — Вы думаете, что владение номерами делает человека верноподданным? Я ненавидел их с детства… И мой сын, только пусть это будет нашим секретом, сейчас на «Потемкине».
В этот день Семен не дошел до наборных касс. Едва он появился в дверях пивного бара, как его чуть не сбил с ног явно захмелевший матрос, и пока Семен пытался поднять его и прислонить к стене, тот шептал:
— Уезжай. Нас накрыли. Явка в Екатеринославе. Вокзальный кассир. «Дайте восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее». Он ответит: «Могу только четыре». Литеры вывезли. Чемодан положи мне к ногам.
…И вот он в Екатеринославе. Город вовлечен в революцию. Взгляд подпольщика подмечает и солдат, охраняющих эшелоны с военными грузами, и пулеметы, расставленные на крыше вокзала, и жандармские патрули, беспокойно расхаживающие по перрону и залам ожидания.
«Кто кого боится?» — говорит себе Семен с ухмылкой.
В кассовый зал вошел не торопясь и обомлел. Касс было три. Правда, дальние поезда обслуживало двое кассиров. Делал вид, что углубился в расписание, а сам изучал их лица. Тот, что сидит слева, постарше. Смотрит насмешливо, нехотя. Явно не наш. Тот, что справа помоложе и повежливей. Пусть побеждает молодость. Наклонился к самому окошечку.
— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее.
Кассир пригладил усики, уперся в Семена колючим взглядом:
— Не шутите, господин? Это как понять — переселение народов?
В горле пересохло. Почувствовал, воздуха мало.
— Тетя везет всю свою родню на именины. А меня послала узнать: не опоздает взять билеты вечером?
Кассир что-то сказал сидевшему с ним рядом кондуктору, тот поднялся, и оба захохотали. Рубашка у Семена прилипла к телу. Не пойдет ли тот, второй, за жандармом? Бежать? Нелепо, в зале патрули, а кондуктор уже выходил из кассы.
— Пусть тетя приходит, когда ей вздумается, — сказал, наконец кассир. — Билетов полно.
— Спасибо, — Семен не спеша повернул к выходу.
Уже с привокзальной площади увидел, что на боковых улицах проверяют документы и обыскивают. Нелегальной литературы при нем не было, но справка на имя Воскова большого доверия жандармерии внушать не могла. «Придется спросить второго, — уныло подумал он. — Но барин-то уж всяко крикнет жандарма».
Еле волоча ноги, вернулся к кассам. Дождался ухода очередного пассажира, посмотрел на опущенные уголки губ кассира. Комок застрял в горле.
— Куда? — резко спросил кассир.
Сипловатый голос его совсем не вызывал доверия. Но выхода не было. Вполголоса сказал:
— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее!
Кассир выглянул из окошечка. «Сейчас крикнет!»
— Могу только четыре.
Семен даже засмеялся от радости.
— Фу ты, а я вас за чужого принял.
— Вокруг облава. Смену отсидите со мной.
Распахнул дверцу кассы, впустил его.
Вечером провел к дальнему вагону, отцепленному от состава. Здесь находилась группа людей. Представил Воскова:
— Семен Петрович. Нам в помощь.
Он слушал внимательно. Кипит рабочая Чечелевка. Готовится к баррикадам Амур-Нижнеднепровский. Людей нужно объединить, помочь добыть им оружие. Новичка послали к железнодорожникам: в депо как раз требовался столяр.
Дни и ночи он готовил людей к борьбе. И незадолго до того, как всеобщая забастовка охватила рабочие районы города и вся Чечелевка вышла на улицы и площади с флагами и винтовками, Семена выследили и схватили. На этот раз допрашивал его полковник жандармского корпуса, прибывший из Петербурга.
— Мой метод прост, — сухо сказал он. — Полная откровенность и свобода или расстрел в шесть часов поутру.
— У меня есть свой метод, господин полковник, — ответил Восков. — Я откровенен только со своими друзьями. А с расстрелом вам лучше поторопиться: мы легко можем поменяться ролями.
Страха, как ни странно, не испытывал. Была жуткая обида, что он не со своей братвой.
Полковник догадывался, что они держат одного из видных подпольщиков, и решил сломить его волю круглосуточными допросами. Воскова допрашивали попеременно два следователя: один — днем, второй — ночью. У него отняли сон, ему не давали передышки, его лишали воды. Глаза его запали, даже крутые плечи казались поникшими. Он чувствовал иногда, что уже не в силах вести этот поединок, и в такие секунды заставлял себя бросаться на следователей, чтобы прервать допрос. Они научились предупреждать его выходки, окатывали Воскова водой из шланга и мокрого, дрожащего допрашивали снова и снова. А он слизывал пересохшими губами капли воды с ворота рубашки, счастливый, что оставил жандармов опять в дураках.
И вдруг — снова вызов к полковнику из Петербурга. Знакомый Семену выцветший, безразличный взгляд, бесстрастный сухой голос:
— Стало быть, помочь нам и себе не желаете? Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру «Семена Петровича» расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть.
Поиграл карандашиком. «Что-то долго играете, господин полковник. Вам что-то нужно, что-то очень нужно».
— Не желаете ли хотя бы подать прошение на высочайшее имя? Нет-с? Или товарищам написать — горячие умы остудить? Молчаночка? Увести арестованного!.. В крайнюю!
В крайнюю — значит для смертников.
Ходил по камере, сверлил себя вопросами. Что жандарму нужно? Что нужно? К утру осенило: произошли большие события, полковнику позарез нужно кому-то доказать, что в тюрьмы были брошены виновные.
А что, если сдержит слово?
Три часа ночи, четыре…
В пять Воскова перевезли из тюрьмы на Стародворянскую, в полицейский участок, и он снова увидел полковника.
— На каких условиях, Восков, я мог бы, по вашему мнению, выпустить вас?
— Это новое, — с трудом выдавил Семен. — Что, ребята здорово жмут на вас? Мое условие — освободить всех политзаключенных. Я выйду последним.
Его вытолкнули из участка чуть ли не силой. Но у дверей Семена ждали железнодорожники и металлисты. Оказывается, уже неделю в Екатеринославе волнения. Ребята видели, что из тюрьмы выехала карета, и проследили ее путь.
Толпой вышли в парк, она росла, как снежная лавина.
Семен увидел рядом с собой друзей, ему без конца пожимали руки, он слышал со всех сторон:
— Скажи им, товарищ Семен!
Он осмотрелся. Ему помогли взобраться на дерево. И, поддерживаемый друзьями, обняв ствол орешни, он произнес свою первую речь перед таким большим скоплением людей:
— Братья… Друзья… Товарищи… Сегодня в шесть поутру меня собирались пустить в расход. И наверно, не меня одного. Они бы всех нас, кто собрался здесь, пустили поодиночке в расход. Поодиночке, а не когда мы вместе, когда спаяны великой целью и великой борьбой. Враги увидели сегодня мощь пролетарского единства в Екатеринославе, как вчера увидели в Петербурге, Москве, в Одессе. И это прекрасно, товарищи!
Толпа ликующе загудела.
— Но сейчас не время излагать палачам наши убеждения. Мы дадим им практический урок нашей солидарности. На Острожную площадь, товарищи! Все политзаключенные должны быть с нами, в нашей революции!
И, спрыгнув с дерева, он повел поющую, бурлящую, гневную толпу на штурм Екатеринославской тюрьмы.
С четверть часа продолжалось избиение. Ротмистр делал секундный перерыв только для того, чтобы повторить: «Адрес, Восков, адрес!».
Боли Самоша уже не чувствовал. Тело казалось ватным и не отвечало на удары.
Очнулся он в камере, на холодных плитах. Били его еще несколько раз, потом ротмистра куда-то отозвали, а Самошу передали в полицию. Улики были против него слабые, и кременчугский полицмейстер выслал юношу под надзор своих полтавских коллег: полтавские его проглядели — пусть с ним возятся и впредь.
Мать встретила его появление подавленной, молчаливой улыбкой, дядька хохотнул:
— Кабы знала кума, во что угодит, из дому бы и носа не показала. А ты… За ум возьмешься? Играть в политику не надоело?
— Играть надоело, — серьезно сказал он.
Группа, в которой он работал, поднимала голос лишь в случаях, когда власти разжигали национальную рознь. Им казалось, что своими листовками они уберегут украинцев от обидных кличек, евреев — от хулиганских налетов, кочевников-цыган — от преследования полицией… «Лихо пишете, мелко плаваете, — посмеялся один из его соседей по камере. — Как же, усовестите вы живодеров Романовых и всю российскую жандармерию!.. На том и держатся!»
Гильда допытывалась у Ефима:
— Что думает мальчик? Отвяжется от той шайки?
Ефим почесал за ухом.
— От одних отвяжется… Глядеть надо, чтоб к другим не пристал.
В механической мастерской Самоша давно присматривался к литейщику с лицом, усеянным оспенными вмятинами. Когда он говорил, в его зеленых глазах, казалось, бушевало пламя печи. Болотов выслушал парня, усмехнулся.
— Значит, поглубже копнуть хочешь? А мы тебя ждали. Грамотные люди нам позарез нужны. Постучись к своей старой знакомой — Анне Илларионовне. Назовешься Семеном Петровичем. Потом я тебя разыщу.
Анна Илларионовна и ее дочь Лиза обрадовались приходу Самоши, стали расспрашивать, где был, почему не показывался. Он пригнул голову: ее пересекали два больших шрама.
— Неученый был, — засмеялся он. — Пришел к вам за наукой, Анна Илларионовна.
Она нахмурилась, выслала Лизу из комнаты.
— Что болтаешь, Самоша? Какая наука?
— Я от Болотова, — пояснил он.
Женщина упрямо молчала, и тогда он спохватился:
— Простите, Анна Илларионовна. Забыл представиться. Семен Петрович.
Она покачала головой.
— Самоша Восков стал Семеном Петровичем. Удивительно… — И вдруг прыснула. — А помнишь, как Семен Петрович ворвался в благотворительное общество?
Он ушел от них с номером «Искры». Опять начались чтения при свечке. Мать однажды проснулась, спросила:
— Соседка тебя с Лизанькой приметила. Женихаешься или сызнова полиции глаза колешь? Смотри, как бы передачи мне таскать в тюрьму не пришлось.
Ответил как мог ласковее:
— Мамо Гильда, царь не хочет думать ни о вас, ни о ваших детях. Бог тоже не хочет. Кто же тогда будет думать о нас, если не вы и не я?
Передача понадобилась через месяц. Воскова схватили на кирпичном заводе, у бастующих рабочих.
— Что вы там делали? — допрашивал его полицмейстер.
— Ваше благородие, — возмущался Восков, — мог я приятеля навестить или не мог?
— Слушайте, Семен Восков, — сказал полицмейстер, — я вас заморю голодом в одиночной камере, пока вы мне не назовете своих коллег по социал-демократическому кружку.
Его снова били, бросали в карцер, передачи от матери и дядьки не принимали. Ефим записался на прием к губернатору, объяснял невнятно, пытался вызвать у нею жалость.
— Восков? — спросил губернатор. — Шестнадцать лет? Милейший, да в эти годы миски похлебки в день более чем предостаточно…
— Ваше превосходительство, — вдруг вспыхнул Ефим, — я когда-то в бродячем цирке работал. У нас укротитель одной миской похлебки восемь собачек откармливал. Только они все передохли.
У губернатора побагровела шея. Он встал.
— Господин Восков, если у нас передохнут все социал-демократы, Россия только выиграет.
— Вот и наш цирк тогда выиграл, — весело сказал Ефим. — Распался, как карточная колода. Здравия желаю, вашество…
Передач Семену не разрешили, но суд его выпустил: у полиции опять не хватило улик. На воле его долго не оставляли. Наконец по приказу Болотова Семен выехал в Ялту. Ему предстояло работать в нагорных кварталах, усеянных мелкими мастерскими и лавчонками. Он предвидел, что поднимать на борьбу ремесленников, дорожащих своими маленькими профессиональными секретами, будет куда труднее, чем полтавских кожевников или кременчугских табачников. Но он сам был мастеровым и понимал этих людей.
Две недели он готовил первое подпольное собрание. В полутемном сарае, который примыкал к эстрадной раковине, они спорили полночи. Семен потом признавался товарищам, что когда слово взял старый часовщик, он уж было решил, что все рухнуло.
— Что толку в вашем движении, например, лично для меня? — спросил часовщик. — Моя мастерская на видном месте, у меня полно заказов, до конца жизни без булки с маслом не останусь.
Вошло тревожное молчание.
— У меня тоже руки не дуры, — сказал Семен, — и говорят, что столяров таких в Полтаве не избыток. Но у меня четверо полуголодных сестер и братьев. Что будет с ними? Что будет с тысячами других детей? А хотите знать! — вдруг горько выкрикнул он. — Полицмейстер получил крупную взятку от трех компаний — галантерейной, портновской и часовой, и многих из вас через неделю-другую лишат аренды лавок под предлогом защиты монархии от бунтовщиков. Тогда вы вспомните, как держались за бублик с маслом.
Кто-то ахнул, люди зашептались.
— Завтра мы вам ответим, Семен Петрович, — кротко резюмировал мнения старый часовщик. — Лично я склоняюсь к тому, чтобы пойти с вами, но другие хотят подумать.
Когда басовито загудели пароходы, возвещая, что Ялта присоединяется к восставшему «Потемкину», на дверях мастерских и лавок уже были навешаны замки. Восков чувствовал себя приподнято, но его предупредили, что он выслежен и должен срочно покинуть город. Теперь его ждала Одесса.
Доехал без «хвостов». Когда сошел по трапу на берег, Одесса только просыпалась.
Высмотрев широкую скамью на Французском бульваре, укрытую с трех сторон листвой акаций, Восков с наслаждением уселся. Мимо него прошел раз и другой пожилой мужчина в широкополой соломке и вдруг занял место на противоположном конце скамьи.
— Если кому-нибудь очень хочется смеяться, — затейливо начал разговор прохожий, как видно страдающий бессонницей, — пусть он прочитает вчерашнюю речь нашего губернатора. Ха! Этот хитрец хочет взять одесситов на цугундер… Такие номера сейчас не проходят, господин негоциант.
Что ж, придется уходить.
Вежливо приподнял шляпу, снял со скамьи элегантный чемоданчик, плотно ступая, зашагал по бульвару. Потом свернул к Карантинной балке, выскочил на Большую Арнаутскую, прошел еще два квартала и остановился возле двухэтажного белого домика на Гимназической. Дом еще спал, но со двора слышались хлопающие звуки. Девчонка, полоскавшая белье, посмотрела на него большими глазами. Не иначе, на нем странно выглядит палевый костюм из чесучи. Он подошел к боковому флигелю и несколько раз постучал в узкую дверцу. Заспанный мужской голос спросил, кто ломится, и он ответил вполголоса:
— Семен Петрович!
— А мы вас ждали часом позже, — обрадованно сказали из-за двери. — Входи и располагайся, товарищ.
И вот он у одесских друзей. Налаживает подпольную типографию, печатает листовки, пересылает их своим полтавским, кременчугским, ялтинским друзьям. Так прошли полтора месяца напряженной, опасной, но и радостной работы.
Свой элегантный чемодан с двойным дном — подарок ялтинского мастера фурнитуры — он превратил в наборную кассу. Сколько фунтов свинцовых литер он перетаскал с одного конца города на другой! Перетаскал в маленький подвальчик за Привозом[3], где был пивной зал и за ним — две крошечные комнатушки, в которых и разместилась их типография.
Однажды, пересекая рынок со своими тяжелыми литерами, он попал в облаву и оказался прижатым к ларям. Начинался обыск. Семен вдруг почувствовал, что его подталкивает к дверям лавки сосед — тот самый господин, которого он встретил в день приезда на Французском бульваре. А затем заводит Семена в лавку и вежливо представляет сидящему у окна жандармскому ротмистру.
— Господин штабс-капитан, знакомьтесь, — мой гость, негоциант с севера.
— Пусть ваши гости лучше сидят у вас в номерах, господин Галушко! — недовольно ответил офицер, но тут же выпустил их через заднюю дверь.
Молча Восков и Галушко прошли квартал, и только тогда освободитель сказал ему:
— А я вас, представьте, запомнил, господин негоциант. Вы были тогда одеты тютя в тютю, как сейчас. Имейте только в виду, что это костюм не для богатой публики. Совсем нет!
— У меня нет другого костюма, — засмеялся Семен. — Спасибо за помощь. Только чем я вам приглянулся?
Лицо у Галушки потемнело.
— Ах, господин негоциант, — вполголоса сказал он. — Вы думаете, что владение номерами делает человека верноподданным? Я ненавидел их с детства… И мой сын, только пусть это будет нашим секретом, сейчас на «Потемкине».
В этот день Семен не дошел до наборных касс. Едва он появился в дверях пивного бара, как его чуть не сбил с ног явно захмелевший матрос, и пока Семен пытался поднять его и прислонить к стене, тот шептал:
— Уезжай. Нас накрыли. Явка в Екатеринославе. Вокзальный кассир. «Дайте восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее». Он ответит: «Могу только четыре». Литеры вывезли. Чемодан положи мне к ногам.
…И вот он в Екатеринославе. Город вовлечен в революцию. Взгляд подпольщика подмечает и солдат, охраняющих эшелоны с военными грузами, и пулеметы, расставленные на крыше вокзала, и жандармские патрули, беспокойно расхаживающие по перрону и залам ожидания.
«Кто кого боится?» — говорит себе Семен с ухмылкой.
В кассовый зал вошел не торопясь и обомлел. Касс было три. Правда, дальние поезда обслуживало двое кассиров. Делал вид, что углубился в расписание, а сам изучал их лица. Тот, что сидит слева, постарше. Смотрит насмешливо, нехотя. Явно не наш. Тот, что справа помоложе и повежливей. Пусть побеждает молодость. Наклонился к самому окошечку.
— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее.
Кассир пригладил усики, уперся в Семена колючим взглядом:
— Не шутите, господин? Это как понять — переселение народов?
В горле пересохло. Почувствовал, воздуха мало.
— Тетя везет всю свою родню на именины. А меня послала узнать: не опоздает взять билеты вечером?
Кассир что-то сказал сидевшему с ним рядом кондуктору, тот поднялся, и оба захохотали. Рубашка у Семена прилипла к телу. Не пойдет ли тот, второй, за жандармом? Бежать? Нелепо, в зале патрули, а кондуктор уже выходил из кассы.
— Пусть тетя приходит, когда ей вздумается, — сказал, наконец кассир. — Билетов полно.
— Спасибо, — Семен не спеша повернул к выходу.
Уже с привокзальной площади увидел, что на боковых улицах проверяют документы и обыскивают. Нелегальной литературы при нем не было, но справка на имя Воскова большого доверия жандармерии внушать не могла. «Придется спросить второго, — уныло подумал он. — Но барин-то уж всяко крикнет жандарма».
Еле волоча ноги, вернулся к кассам. Дождался ухода очередного пассажира, посмотрел на опущенные уголки губ кассира. Комок застрял в горле.
— Куда? — резко спросил кассир.
Сипловатый голос его совсем не вызывал доверия. Но выхода не было. Вполголоса сказал:
— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее!
Кассир выглянул из окошечка. «Сейчас крикнет!»
— Могу только четыре.
Семен даже засмеялся от радости.
— Фу ты, а я вас за чужого принял.
— Вокруг облава. Смену отсидите со мной.
Распахнул дверцу кассы, впустил его.
Вечером провел к дальнему вагону, отцепленному от состава. Здесь находилась группа людей. Представил Воскова:
— Семен Петрович. Нам в помощь.
Он слушал внимательно. Кипит рабочая Чечелевка. Готовится к баррикадам Амур-Нижнеднепровский. Людей нужно объединить, помочь добыть им оружие. Новичка послали к железнодорожникам: в депо как раз требовался столяр.
Дни и ночи он готовил людей к борьбе. И незадолго до того, как всеобщая забастовка охватила рабочие районы города и вся Чечелевка вышла на улицы и площади с флагами и винтовками, Семена выследили и схватили. На этот раз допрашивал его полковник жандармского корпуса, прибывший из Петербурга.
— Мой метод прост, — сухо сказал он. — Полная откровенность и свобода или расстрел в шесть часов поутру.
— У меня есть свой метод, господин полковник, — ответил Восков. — Я откровенен только со своими друзьями. А с расстрелом вам лучше поторопиться: мы легко можем поменяться ролями.
Страха, как ни странно, не испытывал. Была жуткая обида, что он не со своей братвой.
Полковник догадывался, что они держат одного из видных подпольщиков, и решил сломить его волю круглосуточными допросами. Воскова допрашивали попеременно два следователя: один — днем, второй — ночью. У него отняли сон, ему не давали передышки, его лишали воды. Глаза его запали, даже крутые плечи казались поникшими. Он чувствовал иногда, что уже не в силах вести этот поединок, и в такие секунды заставлял себя бросаться на следователей, чтобы прервать допрос. Они научились предупреждать его выходки, окатывали Воскова водой из шланга и мокрого, дрожащего допрашивали снова и снова. А он слизывал пересохшими губами капли воды с ворота рубашки, счастливый, что оставил жандармов опять в дураках.
И вдруг — снова вызов к полковнику из Петербурга. Знакомый Семену выцветший, безразличный взгляд, бесстрастный сухой голос:
— Стало быть, помочь нам и себе не желаете? Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру «Семена Петровича» расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть.
Поиграл карандашиком. «Что-то долго играете, господин полковник. Вам что-то нужно, что-то очень нужно».
— Не желаете ли хотя бы подать прошение на высочайшее имя? Нет-с? Или товарищам написать — горячие умы остудить? Молчаночка? Увести арестованного!.. В крайнюю!
В крайнюю — значит для смертников.
Ходил по камере, сверлил себя вопросами. Что жандарму нужно? Что нужно? К утру осенило: произошли большие события, полковнику позарез нужно кому-то доказать, что в тюрьмы были брошены виновные.
А что, если сдержит слово?
Три часа ночи, четыре…
В пять Воскова перевезли из тюрьмы на Стародворянскую, в полицейский участок, и он снова увидел полковника.
— На каких условиях, Восков, я мог бы, по вашему мнению, выпустить вас?
— Это новое, — с трудом выдавил Семен. — Что, ребята здорово жмут на вас? Мое условие — освободить всех политзаключенных. Я выйду последним.
Его вытолкнули из участка чуть ли не силой. Но у дверей Семена ждали железнодорожники и металлисты. Оказывается, уже неделю в Екатеринославе волнения. Ребята видели, что из тюрьмы выехала карета, и проследили ее путь.
Толпой вышли в парк, она росла, как снежная лавина.
Семен увидел рядом с собой друзей, ему без конца пожимали руки, он слышал со всех сторон:
— Скажи им, товарищ Семен!
Он осмотрелся. Ему помогли взобраться на дерево. И, поддерживаемый друзьями, обняв ствол орешни, он произнес свою первую речь перед таким большим скоплением людей:
— Братья… Друзья… Товарищи… Сегодня в шесть поутру меня собирались пустить в расход. И наверно, не меня одного. Они бы всех нас, кто собрался здесь, пустили поодиночке в расход. Поодиночке, а не когда мы вместе, когда спаяны великой целью и великой борьбой. Враги увидели сегодня мощь пролетарского единства в Екатеринославе, как вчера увидели в Петербурге, Москве, в Одессе. И это прекрасно, товарищи!
Толпа ликующе загудела.
— Но сейчас не время излагать палачам наши убеждения. Мы дадим им практический урок нашей солидарности. На Острожную площадь, товарищи! Все политзаключенные должны быть с нами, в нашей революции!
И, спрыгнув с дерева, он повел поющую, бурлящую, гневную толпу на штурм Екатеринославской тюрьмы.
 Когда распахнулись массивные железные ворота и из них начали выбегать исстрадавшиеся, плачущие люди, он кого-то обнял, кого-то узнал, а потом сделал несколько шагов вдоль каменной стены, прилег на траву и, закинув руки за голову, следя за бегущими облаками, тихо подпевал в такт песне, поднявшейся над площадью: «Смело, товарищи, в ногу…» Только это ему казалось, что он подпевает. Он уже видел первый сон. И наверняка бы увидел второй, если бы рядом не сказали:
— Спать будешь в поезде, Семен Петрович. Того, что было сегодня, они тебе вовек не простят.
Когда распахнулись массивные железные ворота и из них начали выбегать исстрадавшиеся, плачущие люди, он кого-то обнял, кого-то узнал, а потом сделал несколько шагов вдоль каменной стены, прилег на траву и, закинув руки за голову, следя за бегущими облаками, тихо подпевал в такт песне, поднявшейся над площадью: «Смело, товарищи, в ногу…» Только это ему казалось, что он подпевает. Он уже видел первый сон. И наверняка бы увидел второй, если бы рядом не сказали:
— Спать будешь в поезде, Семен Петрович. Того, что было сегодня, они тебе вовек не простят.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. БОЙ ЗА ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА
— Того, что было сегодня, она тебе вовек не простит. — Ну, при чем тут, «простит» — «не простит». Я говорила, что думала, и ни Евгения Онегина, ни Татьяны я ей ни за что не отдам. — Ты права, Сильва, — быстро вставил Мишка. — Но, кроме Татьяны, не мешало бы посмотреть на лицо Варвары Ивановны. — Подождите минутку! — крикнула Сильва. Она влетела в школьный подъезд и поднялась в учительскую. Оттуда доносились громкие голоса. Сильва приоткрыла дверь, ее увидела Бахирева, вышла к ней. Учительница с трудом сдерживала волнение. — Что тебе, Воскова? — Варвара Ивановна, — не сказала — выпалила, — я, наверно, вас очень подвела. Простите меня… Я не подумала… Учительница с интересом посмотрела на Сильву. — Ты… жалеешь о сказанном? Ты изменила свое мнение? — Что вы, Варвара Ивановна… Но если у вас будут неприятности… Если вы… Я пойду и в роно, и в гороно. Мы все пойдем. Нас больше. Бахирева не сдержала улыбки. — Разве я учила вас, что вопросы художественного творчества могут решаться простым голосованием? О девочка, тогда все было бы значительно проще. Не волнуйся. Этот бой не нов. Восьмиклассникам боев и турниров хватало. Вместо Пигаревой, которая должна была заканчивать педагогический институт, к ним пришла пионервожатой старшеклассница Лена Вишнякова. Держалась она просто, яростно любила спорт, сумела наполнить отрядную жизнь интересными делами. Сильва сразу почувствовала в ней человека, с которым хочется дружить. Иногда, забившись в уголок спортзала, подолгу наблюдала, как бегает по баскетбольной площадке и точно, сильно обрабатывает мяч Лена. А рядом с виртуозами мяча начали «проявляться» будущие математики, физики, географы. Подошло время «Онегина». Бахирева попросила восьмиклассников прочесть книгу и изложить свои первые впечатления в домашнем сочинении. Писали все увлеченно, они любили эти «первые впечатления». Учительница сложила работы и сказала, что вернется к ним после разбора романа в классе. Все с нетерпением ждали этого часа, и надо же: на урок явилась новый инспектор роно Алевтина Карповна Пигарева — их Леля. Инспектор Пигарева попросила разрешения присутствовать и бегло просмотрела тетрадки. Варвара Ивановна задала ученикам ряд вопросов. Инспектор сказала: — Разрешите и мне, Варвара Ивановна. Любопытно мыслит ваш класс… — Пожалуйста, спрашивайте. — Вот вы, Будыко, — инспектор говорила медленно, будто подбирая слова, — читали роман, слушали объяснения учителя. Согласны ли вы и теперь с тем, что написали? Зачитываю: «Поэт хотел показать те большие силы, которые зрели в русском обществе, но еще не пробили себе выхода». Будыко поднялся, почему-то угрюмый, подтвердил: — Угу. Согласен с собой. — А не кажется ли вам, Будыко, — продолжала инспектор, — что основная идея романа — это безусловное требование возврата в поместье? — Возврата кого? — недоуменно спросил Юра. — Дворянства, — не без гордости пояснила Леля. — Для его же оздоровления. Разве вы не говорили им об этом, Варвара Ивановна? Класс замер. — Я немного иначе понимаю основную идею романа, — спокойно пояснила Бахирева. — Возможно, возможно, — приветливо сказала инспектор. — Хотя наш советский учебник понимает основную идею «Онегина» именно так. Она выбрала еще одно сочинение. — Воскова, у меня и к вам ряд вопросов. Сильва встала. — Вот вы пишете: «Сильный, одухотворенный образ Онегина, несмотря на его сложный характер, притягивает к себе читателя, наводит на размышления о месте и назначении человека…» Ну, и так далее. Вы и сейчас, Воскова, так понимаете этот образ? Сильва сказала: — Да. И сейчас. — А не кажется ли вам, Воскова, после пояснений учителя, — продолжала инспектор, — что поэт выразил в Онегине отблеск заката дворянства как прогрессивного класса своей эпохи? Что он придал Онегину черты экономического оскудения (вспомним: «И промотался — наконец»), культурного распада (вспомним: «Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить») и моральной деградации (вспомним: «Как рано мог он лицемерить…»)? Сильва хотела было возразить, но что-то ее остановило. — Так. Значит, из пояснений учителя вы не сделали такого вывода? В классе загудели, но укоризненный взгляд Бахиревой заставил утихнуть. — И вот еще одно место в вашем сочинении, Воскова, вызывает тревогу, — упоенно продолжала Пигарева. — Вы пишете о «милом образе Татьяны», это я вас цитирую, «мечтательной русской девушке, мысль о которой всегда будет сопровождать человека в его поисках красоты, поэзии, волшебства родной природы». И это, по-вашему, пушкинская Татьяна? А где же вы оставили место для Татьяны как высокого синтеза поместных условий жизни и торжества возврата в поместье в сочетании с хозэффектом, основанным на нравственной силе? — Какой хозэффект? — прыснул Мишка. — Вам слова не дали, Хант, — пояснила Пигарева. — Я спрашиваю Воскову. Нет, Сильва больше не могла отделываться репликами. — Хорошо, я отвечу. Вы, Алевтина Карповна, увидели в Онегине отблеск заката дворянства, а я вижу молодого человека с мятущейся и сложной душой. Он очень на многое способен и многое в силах сделать. Но ему мешают узы традиций и ограниченность общества. Он не понял Татьяну, разбил ее девичьи мечтанья… И в этот момент я переживала за него не меньше, чем за Таню. Но разве нельзя Онегину многое простить ради ума, внутренних терзаний, благородных порывов! А чего стоит только одна характеристика, которую Онегин дает российскому тирану…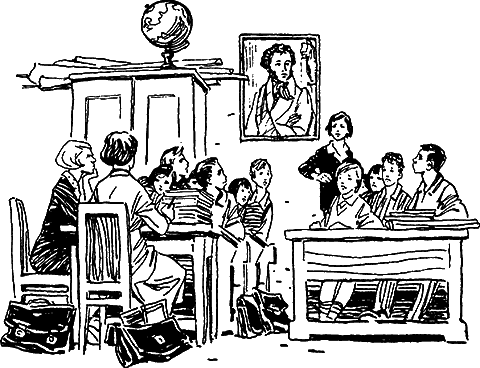 — «Путешествие Онегина» не входит в программу, — нервно перебила ее инспектор.
— И Татьяну я вам не отдам, — уже веселее сказала Сильва. — Никакой она не «синтез возврата в поместье и хозэффекта». Пушкин показал, что хотел показать. Для поэта она — «Татьяна, милая Татьяна!» А для меня она — вся в этих строчках:
— «Путешествие Онегина» не входит в программу, — нервно перебила ее инспектор.
— И Татьяну я вам не отдам, — уже веселее сказала Сильва. — Никакой она не «синтез возврата в поместье и хозэффекта». Пушкин показал, что хотел показать. Для поэта она — «Татьяна, милая Татьяна!» А для меня она — вся в этих строчках:
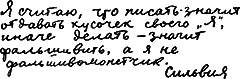 — Варвара Ивановна! — Пигарева сорвалась на крик. — Я требую, чтобы вы выставили Будыко и Восковой «неуд» по литературе в четверти. А Восковой еще и «неуд» по поведению. Предупреждаю, я проведу это через роно.
Ребята зашумели. Володя Стогов крикнул с места:
— За что? Вы не имеете права!
Бахирева потребовала:
— Немедленно замолчите. — В классе водворилась тишина. — Алевтина Карповна, — сказала она вполголоса, очень вежливо, подчеркивая, что обращается только к инспектору. — Мы с вами коллеги, я прошу вас проявить больше широты…
— О вашей широте в противовес советским учебникам будет также поставлен вопрос! — отчеканила Пигарева.
Бахирева побледнела. Она села за учительский столик и раскрыла журнал.
— За развернутый ответ я ставлю Сильвии Восковой отметку «очень хорошо», — сказала учительница.
В этот же день делегация класса побывала у заведующего районным отделом народного образования. В воздухе парили сначала восклицания, прозаизмы XX века, затем — бессмертные пушкинские строки. Прощаясь с ребятами, заведующий также процитировал из «Онегина»:
— Варвара Ивановна! — Пигарева сорвалась на крик. — Я требую, чтобы вы выставили Будыко и Восковой «неуд» по литературе в четверти. А Восковой еще и «неуд» по поведению. Предупреждаю, я проведу это через роно.
Ребята зашумели. Володя Стогов крикнул с места:
— За что? Вы не имеете права!
Бахирева потребовала:
— Немедленно замолчите. — В классе водворилась тишина. — Алевтина Карповна, — сказала она вполголоса, очень вежливо, подчеркивая, что обращается только к инспектору. — Мы с вами коллеги, я прошу вас проявить больше широты…
— О вашей широте в противовес советским учебникам будет также поставлен вопрос! — отчеканила Пигарева.
Бахирева побледнела. Она села за учительский столик и раскрыла журнал.
— За развернутый ответ я ставлю Сильвии Восковой отметку «очень хорошо», — сказала учительница.
В этот же день делегация класса побывала у заведующего районным отделом народного образования. В воздухе парили сначала восклицания, прозаизмы XX века, затем — бессмертные пушкинские строки. Прощаясь с ребятами, заведующий также процитировал из «Онегина»:
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. РУЖЬЯ, А ТАКЖЕ МАСКИ И КУКЛЫ
— Доктор принимать больше не будет, — сказала сестра, выйдя к больным. — Он себя плохо почувствовал. Да и не только доктор… Все они, собравшиеся сейчас в его кабинете, вожаки рабочих с завода «Гельферих-Саде», испытывали чувство растерянности. Вновь назначенный харьковский губернатор заявил, что революция задохнется в тюремных камерах. Начались обыски, аресты. Полиция выпустила на волю уголовников, развязала руки «черной сотне». — Хоть типографию уберечь, — помечтал кто-то. Вошла сестра. — Простите, доктор, один пациент не уходит. Называет себя Семеном Петровичем и все время улыбается. — Впустите, — сказал доктор. — О нем сообщал комитет. Он вошел, действительно улыбаясь, словно тая в упругой фигуре, крутых плечах, твердом взгляде сгусток энергии. — Вы откуда к нам, Семен Петрович? — спросил доктор. — И почему в такое грустное время? — Екатеринослав–Полтава–Харьков, — пояснил приезжий. — А время… Грустные бывают люди, а не время, доктор. Меня прислали для боевой работы. Командуйте. Но команды сразу не поступило. Разговор был долог. — Берегите людей, — сказал под конец доктор. — Нужно вырвать из тюрем лучших наших бойцов. Привлекайте к процессам сочувствующих адвокатов. Нам понадобятся средства. Подумайте об этом, Семен Петрович. Воскова решили поселить у Фишкарева. Черноглазый, суетливый Илья сразу выложил новому товарищу всю свою «шестнадцатилетнюю биографию». — Понимаете, Семен Петрович, — ораторствовал он, — отец хотел приспособить меня к своему прачечному производству, но я твердо заявил ему, что посвящу свою жизнь изъятию производства из рук капитала на всей планете и начну с его прачечной. Тогда он меня выгнал из дому, и я пошел, Семен Петрович, на штурм губернской тюрьмы. — Выходит, мы крестники, — засмеялся Семен. — Я уже брал не одну тюрьму. Слушай, Илья, — вдруг предложил он, — зови ты меня по имени, мы же одногодки. Илья даже присвистнул от удивления. — Мамоньки, и так вымахал! Илья снимал комнату на Екатеринославской, в торговом квартале. Вернее сказать, это была не комната, а крошечная квартирка с вместительным подвалом, где подпольщики хранили патроны, револьверы, динамитные палочки. — Насчет жратвы у меня похуже, — сокрушенно отметил Илья. — Могу предложить чудесный сухарь, который еще помнит начало нашей революции. Хожу в черных списках. — Вздохнул: — Пошамать бы у какого-нибудь буржуя. — Ну нет, — Семен усмехнулся. — Благодетелями сыт с детства. — А все равно придется обходить буржуев. В комитете просили не пренебрегать пожертвованиями. Семен зашагал по комнате, что-то обдумывая. — Это дело. Пришла в голову забавная мысль… …В мануфактурный магазин по Шляпному переулку вошли двое молодых людей. Один — рослый, грудь колесом, в новеньком студенческом мундире, явно тесном в плечах, второй — маленький, во фраке. Уединились с владельцем магазина в конторке. — Господин Фадеичев, — сказал студент, — мы из дружины самообороны. Взгляните на этот список, — и он достал из желтого портфеля, который держал под мышкой, отпечатанный на машинке лист бумаги. — Здесь адреса шести магазинов. По нашим сведениям хулиганы готовят на них налеты. Двое владельцев, как видите, уже внесли свой пай в фонд нашей дружины. Фадеичев схватил список, просмотрел, ткнул толстым пальцем: — А Маркелов всю сумму сразу дал? — Вот его расписка, господин Фадеичев. Фадеичев взял перо, аккуратно вписал свою фамилию. Извлек бумажник, отсчитал ассигнации. — Вы уж, господа, того… Установите пост круглосуточный. — Спите спокойно, — сказал тот, что был во фраке. — Вы под надежной охраной людей, преданных царю, отечеству и частной собственности на средства производства и мануфактурные товары. На улице Семен сердито сказал: — Зачем ты полез к нему со средствами производства? Будь он чуть образованнее — позвал бы жандарма. — Ничего, скушал. — Илья заглянул в свою записную книжку. — Двинем на Сумскую. К самому Циммерману. Узнав о цели визита, владелец маленького ресторана предложил визитерам кофе, сигары. — И не говорите, и не говорите! — согласился он. — Погромщики ведут себя так, будто они получили взятку у самого господина полицмейстера. А откуда я знаю, — спохватился Циммерман, — что вы представляете именно дружину и именно самообороны? Семен достал из портфеля чековую книжку, на которой они предварительно оттиснули самодельную печать лимонным соком, попросил у хозяина свечку, подогрел ею чек, на котором явственно проступили слова: «Харьковская дружина самообороны». — Мы вынуждены прибегать к конспирации, — пояснил он. Циммерман с жаром пожал им руки. Фокус со свечкой его покорил. Все собранные деньги они сдавали в комитет. — Будут боевые задания? — спрашивал Семен. — Переждать надо, — отвечали ему. — Идет волна арестов. Нет, он не умел и не хотел ждать. И после длинных походов, валясь на свою лежанку, с горечью говорил Илье: — Годы идут, кто-то брал Бастилию, кто-то создавал Парижскую Коммуну, а ты рискуешь ничего не взять и ничего не создать. — Ты уже брал несколько тюрем штурмом, — посмеивался Илья. — Нельзя быть революционером такого узкого профиля. Восков вдруг вскочил с лежанки. — А сейчас у меня какой профиль? — резко спросил он. — Кем я стал? Экспроприатором. Ладно бы еще заводы изымал у буржуев. А я простой мелкий экс. Почти налетчик… Получая от них очередной взнос, член комитета вдруг спросил: — Ребята, много что-то. Все добровольные пожертвования? — Почти, — засмеялся Илья. — Жертвователь стоит перед фактом: отдать нам или бандюгам. Мы ему симпатичнее. Член комитета повторил, отрубая слоги: — Нам или бан-дю-гам? — Покрылся краской. — Вы что это, товарищи, шутите? — Ну, пошутили разок-другой с богатеями, — запинаясь, отозвался Илья. — Да вы… Да вы просто… — Член комитета сдержал себя, перехватил тоскливый взгляд Воскова. — Семен Петрович, мы вас бережем для серьезного дела. Просили ждать. Как вы могли? На что это похоже? — На эксов, — грубо сказал он. — Стал заурядным эксом. Со всеми их штучками, карнавальными масками и подложными справками. Разок даже отстреливался. Член комитета достал из ящика ассигнации, швырнул их на стол. Позвал товарищей, громко сказал: — Поглядите на них. Числятся в социал-демократах, а стали эксами. Так вот — дверь открыта! Авантюристы и эксы нам не нужны. …Разговор в комитете лег тяжестью на сердце. Илья видел, как подавлен Семен. Газеты, которые подкладывал товарищу Илья, оставались нечитанными, к похлебке, над которой он колдовал весь вечер, Семен даже не притронулся. — Может быть, вы теперь обедаете, Восков, у господина Циммермана? — ехидно спросил Илья. Семен мягко сказал: — Ты замечательный парень, Илья. Возможно, я обидел тебя чем-то. Но пойми, не каждый день человек задумывается, как жить дальше. По утрам он уходил в комитет и возвращался неразговорчивым, с потемневшим лицом, на котором лихорадочно блестели глаза. — Поручений нет, — горько сообщал он Илье. — Все правильно. Нужно уметь отвечать за свои ошибки. Но однажды вернулся иным, легонько насвистывая. Поставил посреди комнаты табурет, сел, скрестил на груди руки. — Ну, вот и все, Илья. Поверили и доверили. Задание боевое — вооружить рабочие дружины. — За счет чего? — Илья растерялся. Семен ответил с усмешкой: — Я и сам долго думал. Вооружим за счет царских заказов. Начали раздобывать сведения на железной дороге. Одолжив у знакомого костюмера мундир артиллерийского прапорщика, Восков явился к начальнику крупной товарной станции в ста километрах за Харьковом, представился посланцем интендантов и строго спросил, почему тот задерживает на путях военные эшелоны. — Такого не было, клянусь честью, господин прапорщик, — залепетал испуганный начальник, хорошо знавший приказ генерал-губернатора о «зеленой улице» для составов с оружием. — Извольте взглянуть, на завтра вагоны с винтовочками ожидаем — у меня уже составлен график их продвижения. Друзья лежали в кустах за железнодорожной насыпью и прислушивались к дальним шумам. Вот просвистел ветер по сухой украинской степи, где-то нежно запела гармошка, долетело издалека тяжелое дыхание паровоза. — Нашему еще рано, — отметил Илья. Семен, с улыбкой глядя в небо, припомнил: — В комитете спросил: «Изъятие оружия не приравняете к действиям экса?» Получил еще один урок: «Товарищ Семен, — сказали мне. — Пора бы уж понять различие между эсдеками и анархистами. Читаете мало. Оставить душителей нашей революции без оружия — это не то же самое, что обчистить карман человека…» Даль озвучил гудок. — Наш, — встрепенулся Семен. — Предпоследний вагон — мой, а ты оседлаешь «хвост». В случае чего — сигналь, спрыгнем. Когда товарняк поравнялся с ними, Семен прямо с насыпи прыгнул на подножку, вцепился в поручни, дождался, пока рывки не перекрыла сила инерции, и тогда оглянулся. Илья, как видно, тоже «погрузился». Дверная скоба была опутана мотком проволоки и опечатана пломбой. Перекусил их клещами, припасенными с собой. Балансируя на узкой кромке, которую оставляла от пола дверь, изловчился и рванул скобу. Дверь легко открылась против хода движения. В вагоне в три этажа лежали продолговатые ящики. Он не поверил удаче, сорвал одну доску… Винтовки! Русские трехлинеечки! Хотелось пуститься в пляс, но время шло, и уже впереди замаячили дымки Основы[4]. Начал перетаскивать ящики к двери, потом сбрасывать их под откос — винтовки через несколько минут будут подобраны товарищами. Закатал дверь на место, помахал платком Илье и спрыгнул под откос. По Харькову были расклеены объявления, обещавшие награду «за поимку злоумышленников, кои вскрывают на станционных путях пломбированные вагоны».
— За что жандармам платят гроши? — хохотал Илья. — Они воображают, что мы проделываем это прямо на станциях!
— Они не такие простачки, — остановил его Восков.
И однажды Семен почувствовал, что к нему привязался «хвост».
Восков заметил шпика еще на путях. Выбирались из депо по одному, и мелькнувшая за ним тень была явно против уговора. Шпик, если это был шпик, сел вместе с ним в конку на Никольской площади, часто доставал из жилетного кармана часы, но косил взглядом куда-то вбок. Сел с Семеном в один трамвайный вагон, вышел с ним на одной остановке.
Семен завернул за угол, увидел свободный экипаж, быстро вскочил на подножку, укрылся под кожухом, а мимо пронесся перепуганный его исчезновением шпик.
Друзей подстерегали неожиданности. Илья как-то оказался в плену у поездного кондуктора, и туго бы ему пришлось, если бы Семен не перелез на последнюю площадку. В другой раз в товарном вагоне оказалось двое солдат, и Семен доехал с ними благополучно до Харькова, рассказывая всю дорогу смешные истории.
Они находили в вагонах винтовки, патроны, динамит. В грузах оказывались и косы, флаконы с духами, а однажды Илья и Семен, сорвав с ящика крышку, вдруг увидели огромные детские куклы.
— У тебя есть сестры, Илья? — спросил Семен, рассматривая куклу с открывающимися глазами.
— Есть. Одна. Если насчет кукол — у нее их вдосталь.
— Мои сестры этой радости были лишены, — сказал Семен. — Пришел как-то домой пораньше — ревут. В чем дело? Плюшевого зайца увидели у соседской девочки, взяли поиграть, а мать ее, лавочница, выскочила и отхлестала их мокрым веником. Ревут мои ревмя. Сел я для них зайца из дерева вырезать. Только успел уши обстругать, полиция нагрянула. Меня — в кутузку, а брусок, как вещественное доказательство, к делу приобщили. Длинные уши за жандармские приняли. Я им — про зайца, они мне — про филеров. Так и не договорились. А девчонки без зайца остались.
Семен нагнулся над ящиком и извлек какую-то этикетку.
— Тут все ясно, — сказал он. — Ее императорское величество посылает свой дар для бала Харьковского благотворительного общества. С детских лет люблю, — вырвалось у него, — всех этих благодетелей. Эх, Илья, пойти бы в ближнюю деревню. Найти девчонок… Самых что ни на есть беднячек…
— Нельзя, — сказал Илья.
— Сегодня нельзя, — яростно сказал Семен, — поглядим, что завтра от их императорских останется!
По Харькову были расклеены объявления, обещавшие награду «за поимку злоумышленников, кои вскрывают на станционных путях пломбированные вагоны».
— За что жандармам платят гроши? — хохотал Илья. — Они воображают, что мы проделываем это прямо на станциях!
— Они не такие простачки, — остановил его Восков.
И однажды Семен почувствовал, что к нему привязался «хвост».
Восков заметил шпика еще на путях. Выбирались из депо по одному, и мелькнувшая за ним тень была явно против уговора. Шпик, если это был шпик, сел вместе с ним в конку на Никольской площади, часто доставал из жилетного кармана часы, но косил взглядом куда-то вбок. Сел с Семеном в один трамвайный вагон, вышел с ним на одной остановке.
Семен завернул за угол, увидел свободный экипаж, быстро вскочил на подножку, укрылся под кожухом, а мимо пронесся перепуганный его исчезновением шпик.
Друзей подстерегали неожиданности. Илья как-то оказался в плену у поездного кондуктора, и туго бы ему пришлось, если бы Семен не перелез на последнюю площадку. В другой раз в товарном вагоне оказалось двое солдат, и Семен доехал с ними благополучно до Харькова, рассказывая всю дорогу смешные истории.
Они находили в вагонах винтовки, патроны, динамит. В грузах оказывались и косы, флаконы с духами, а однажды Илья и Семен, сорвав с ящика крышку, вдруг увидели огромные детские куклы.
— У тебя есть сестры, Илья? — спросил Семен, рассматривая куклу с открывающимися глазами.
— Есть. Одна. Если насчет кукол — у нее их вдосталь.
— Мои сестры этой радости были лишены, — сказал Семен. — Пришел как-то домой пораньше — ревут. В чем дело? Плюшевого зайца увидели у соседской девочки, взяли поиграть, а мать ее, лавочница, выскочила и отхлестала их мокрым веником. Ревут мои ревмя. Сел я для них зайца из дерева вырезать. Только успел уши обстругать, полиция нагрянула. Меня — в кутузку, а брусок, как вещественное доказательство, к делу приобщили. Длинные уши за жандармские приняли. Я им — про зайца, они мне — про филеров. Так и не договорились. А девчонки без зайца остались.
Семен нагнулся над ящиком и извлек какую-то этикетку.
— Тут все ясно, — сказал он. — Ее императорское величество посылает свой дар для бала Харьковского благотворительного общества. С детских лет люблю, — вырвалось у него, — всех этих благодетелей. Эх, Илья, пойти бы в ближнюю деревню. Найти девчонок… Самых что ни на есть беднячек…
— Нельзя, — сказал Илья.
— Сегодня нельзя, — яростно сказал Семен, — поглядим, что завтра от их императорских останется!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
— Не забудьте своих кукол, девочки. Это не стыдно — любить свои первые куклы. А «считалки» наши все помните? Она старается говорить весело, а на глаза навертываются слезы. Сегодня она прощается со школой. Ну, разве могла она не прийти именно сегодня к своим октябрятам, к своим «ежикам», как она их прозвала. — Помним, помним, Сильва Семеновна! — со смехом кричат «ежики». — А вы, Мальчиши-Кибальчиши, — обращается она к ребятам, — не таскайте девочек за косички, потому что косички — это так же красиво, как первая весенняя листва, как узоры Деда Мороза на окнах… «Коса была у Татьяны Лариной, — вдруг вспоминает она. — До свидания, милая, милая Таня! Теперь за вас будут сражаться другие девчонки и мальчишки. До свидания, Евгений Онегин! Извините, если мы вначале плохо о вас думали. Прощай и ты, мой класс, прощай, моя парта… А с вами, дорогие учителя, мы не расстанемся. Наверное, мы придем к вам расспросить, почему что-то в жизни оказалось не так, как вы и мы хотели». Сегодня выпускной бал. Интересно, кто из мальчишек пригласит ее на вальс? Она знает, ребята не очень-то смелы с нею. Ну и пусть. Кому нужны эти ухаживания, эти записочки? А все-таки жалко, что он не решился ее поцеловать. Она обходила этаж за этажом, потом снова зашла в свой класс. «Ну, здравствуй. Можно мне еще погостить у тебя пять минуточек? Помнишь, что случилось в твоем правом углу, у доски? Мы написали мелом на стене бином Ньютона, чтобы Лола Диц не засыпалась, а она прислонилась к стене и платьем стерла весь наш труд. Мы думали, Мария Никитична не заметит, а она сказала: „Лола, надо, чтобы бином у тебя не на спине был, а в голове“». Да, они умели доставлять своим учителям хлопотливые минуты. В пятом их любимым развлечением было выбрасывать за окно мел и тряпку, чтобы сократить «нелюбимый урок». В седьмом они подражали литературным героям. Саша Давтян объявил себя одним из четырех мушкетеров, и мальчишки нанесли в класс деревянные рапиры. Тогда близнецы Соня и Лола Диц, которых весь класс вечно путал, играли в «Принца и нищего», Мишка Хант читал всем отрывки из своей поэмы «Мцыри из школы номер пять». И только Ника Феноменов, бредивший алгеброй и физикой, заявлял, что его герои — «класса точности Эйнштейна или Циолковского». В девятомна смену героям пришли героини и «двойки» в дневниках. Мальчишки влюблялись. В своих же соседок по партам, в тех самых, которых восемь лет они называли «гогочками» или «финтифлюшками». Все считалось тайной, и все знали, как кто-то из ребят пригласил в кино Соню Диц, а пришла Лола Диц и как еще кто-то хотел поцеловать Сильву и получил оплеуху «со звоном». В десятом они сразу дали почувствовать в школе и дома, что стали совершенно независимыми. Иные родители должны были понять, что кашне в тридцатиградусный мороз так и останется распахнутым, иные учителя — что можно ставить «неуд», но незачем его комментировать. …Вот здесь, перед грифельной доской ее принимали в комсомол. Вначале — Аллу Гриневу. Алке припомнили «историю с географией». Она никак не могла заучить названий японских островов и придумала на модный мотив песенку, которую и спела, вызванная к карте: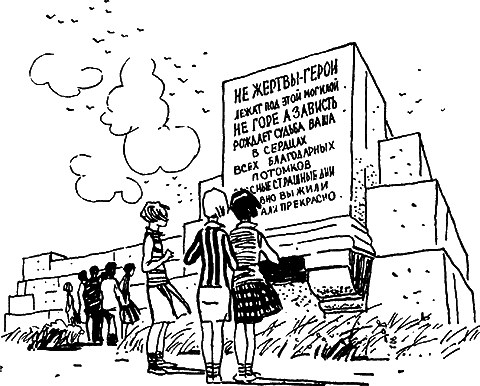 Они стояли недоуменные, сбитые с толку ее ровным голосом, не понимая, как же это они проучились десять лет рядом с дочерью такого человека и ничего об этом не знали.
— Могла бы открыться и раньше, — вздохнула Лола.
— Да, жизнь-то у твоего отца какая героическая! — поддержали ребята. — Рассказала бы нам…
Она ответила коротко:
— Видеть отца мне не довелось.
Замолчали. И только когда подошли уже к Летнему саду, Миша Хант тихо спросил:
— А Иван Михайлович?
— Это мой второй отец, Миша. Он воспитал меня и многим, очень многим я обязана ему.
Ей захотелось домой.
— Ребята, вы не сердитесь… Мне нужно к маме.
— Последняя наша ночь! — возразил кто-то.
Сальма Ивановна не спала, вышла к дочери с книгой.
— Мама, я стою перед трудным выбором. Могу стать инженером, врачом, могу идти на литфак. Что делал отец, когда ему нужно было выбирать, вот так, как мне?
Сальма Ивановна заглянула в глаза дочери.
— Ты это серьезно? Не ожидала. У Воскова никогда не было возможности для подобного выбора. Иногда случалось, он стоял перед дилеммой — бездействовать или действовать и сигануть за решетку. Я однажды попыталась подсчитать, сколько раз он сидел в тюрьмах — невозможно!
— Мама, но и в революции есть разные пути.
— Я тебя понимаю. Он рассказывал, что когда-то в Харькове его спросили в комитете: «Что ты предпочитаешь, товарищ Семен, каторгу или эмиграцию?»
— Мам, да ведь это же настоящая жизнь — из пучины в пучину, из бездны — в пламя…
— Да, ты действительно дочь Воскова.
Они стояли недоуменные, сбитые с толку ее ровным голосом, не понимая, как же это они проучились десять лет рядом с дочерью такого человека и ничего об этом не знали.
— Могла бы открыться и раньше, — вздохнула Лола.
— Да, жизнь-то у твоего отца какая героическая! — поддержали ребята. — Рассказала бы нам…
Она ответила коротко:
— Видеть отца мне не довелось.
Замолчали. И только когда подошли уже к Летнему саду, Миша Хант тихо спросил:
— А Иван Михайлович?
— Это мой второй отец, Миша. Он воспитал меня и многим, очень многим я обязана ему.
Ей захотелось домой.
— Ребята, вы не сердитесь… Мне нужно к маме.
— Последняя наша ночь! — возразил кто-то.
Сальма Ивановна не спала, вышла к дочери с книгой.
— Мама, я стою перед трудным выбором. Могу стать инженером, врачом, могу идти на литфак. Что делал отец, когда ему нужно было выбирать, вот так, как мне?
Сальма Ивановна заглянула в глаза дочери.
— Ты это серьезно? Не ожидала. У Воскова никогда не было возможности для подобного выбора. Иногда случалось, он стоял перед дилеммой — бездействовать или действовать и сигануть за решетку. Я однажды попыталась подсчитать, сколько раз он сидел в тюрьмах — невозможно!
— Мама, но и в революции есть разные пути.
— Я тебя понимаю. Он рассказывал, что когда-то в Харькове его спросили в комитете: «Что ты предпочитаешь, товарищ Семен, каторгу или эмиграцию?»
— Мам, да ведь это же настоящая жизнь — из пучины в пучину, из бездны — в пламя…
— Да, ты действительно дочь Воскова.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. КЛАД В ПОЛТАВСКОМ САДУ
Между ним и Родиной оказался океан. А еще недавно его звали к себе полтавчане, екатеринославцы, звала рабочая Одесса. Они знали, что товарищ Семен обставит жандармов там, где спасуют другие. Неожиданный вызов в комитет. — Семья большая? — Здесь один. В Полтаве — мать и четверо младшеньких. — Имей в виду, за тобою слежка. Они поставили на ноги всех своих филеров. На квартиру к Фишкареву не возвращайся. Вообще-то надо бы тебе уехать. Но… — В чем дело, товарищ? Не тяни кота за хвост. — Нам нужна типография, товарищ Семен. Мы обшарили весь Харьков — ни одной наборной кассы без надзора полиции. Кто-то из эсеров проговорился, что у них кассы зарыты в Полтаве. Это будет твое последнее задание для Харькова. Возьмешься? Задумался. — Дайте Фишкарева и еще двух ребят, владеющих оружием. Типография будет. Он начал энергично действовать. Двое парней, отданных ему под начало — совсем еще мальчишечка Родион, подносчик тары с завода «Гельферих-Саде», и второй, постарше, репортер из газеты «Волна», — обходили знакомых им эсеров, искали следы наборных касс. Семен в это время, вспоминая подарок ялтинцев, кроил чемоданы, в которых можно было бы уложить для перевозки шрифты. Илье он поручил немедленно примириться с отцом и выхлопотать себе комнатку рядом с прачечной. Илья запротестовал. — Зачем я пойду к отцу? — кричал он. — Кланяться в ножки? Мы с ним идейные враги! — Да это же прекрасно, — уговаривал его Семен, в душе искренне жалея товарища, — когда идейный враг работает на наше общее дело. — Идейный враг вообще, но не отец, — выходил из себя Илья. — Разве у теоретиков где-нибудь сказано, что революционер вправе унижать себя для пользы дела?! — Теоретики-революционеры всегда мечтали о своей типографии, — отшучивался Семен. Ежедневно он менял жилье, о котором знал только Илья. Подал о себе знать репортер. Они встретились в сквере. — Эсер Яшка Френч знает, где зарыты кассы. Знает, но молчит. Слушайте, Семен Петрович, вы не учились с этим типом? Я видел у него школьную фотографию, и вроде бы рядом с ним сидите вы. — Ну как же. Яшка — полтавчанин. Год мы отсидели на одной скамье, только школа была ремесленной. — Улыбнулся. — Вы что, по развернутым ушам[5] меня узнали? В этот же вечер Семен пошел к Френчу. Он знал, что Яшка захватывал с эсерами оружейную мастерскую, но как только началась волна арестов, быстро объявил, что заблуждался, и на всякий случай женился на дочери исправника полиции. Френч встретил Семена радушно, подал знак жене, и на столе появились дорогие вина, закуски. Семен от трапезы не отказался, с полчаса утолял голод, пока его однокашник упоенно вспоминал о «порывах восставшей юности». — А ты сейчас с кем, Самоша? — спохватился тот. — На что живешь, где лямку тянешь? Семен дал понять, что это не общий разговор. Яков Френч вскочил из-за стола, извинился, выпроводил жену из комнаты. — Говори же, — нервно предложил он. — В какой ты партии? Семен нарочно замедлил с ответом. — Наша группа пока вне всех партий, — грозно шепнул он. — Террористы-индивидуалисты. Охотимся за знатным лицом. Но это только подход, Яша, к фигуре, облаченной еще большей властью. Френч схватил рюмку, жадно выпил, глаза его недобро сверкнули: — Это что-то новое. Я думал, Самоша, у тебя хватит смекалки понять, что время уже не то. Надо же, — вырвалось у него, — террористы, да еще с уклоном в высокопоставленную фигуру. Предупреждаю, я этого не слышал. Восков аккуратно положил себе на тарелку салат. — Не слышал — и не надо. Но я думаю, старому товарищу ты не откажешься помочь. Приюти на две-три ночи. Френч встал из-за стола, для чего-то подошел к двери, прислушался. — К сожалению, Самоша, эта квартира не моя. Она принадлежит тестю, а он служит… гм… в полиции. — Видишь ли, — Семен понял, чем его взять. — Меня схватят, как только я высуну нос на улицу. — Тогда ты не имел права заходить сюда! — взвизгнул Френч. — Это элементарное нарушение конспирации! Меня тоже могут забрать. У меня боевое прошлое! — Он перехватил насмешливый взгляд Семена и вдруг жалобно застонал: — Честное слово, я все для тебя готов сделать. Только не подведи меня сейчас. Семен тоже встал, поправил галстук. — Ладно, Яшка… Я попробую уйти. Но в одном только случае: скажи, где у вас зарыта типография? Яшка вдруг почувствовал себя хозяином положения. — Это тайна моей партии, — высокомерно сказал он. Семен кивнул, снова уселся, отрезал ломоть дыни. — Нет, мне все же придется остаться у тебя, — раздумывал он вслух. — Моя последняя надежда была на то, что удастся спастись от ареста, выдав им типографию. Губы у Якова задрожали. Он достал портсигар, закурил. — Ты вынуждаешь меня нарушить клятву… Мы зарыли кассы в Полтаве… гм… в конце Почтамской, у самого Кадетского плаца. Семен искоса взглянул на него. — Кого ты хочешь надуть? Полтавчанина? Как же, поверю я, что там, где с утра до ночи шныряют гимназисты, вы рылись в земле? Френч метнулся к комоду, с грохотом выдвинул нижний ящик, выковырнул из щели клочок бумаги, бросил перед Семеном на стол: — На, подавись! Вот план. Я не соврал — Полтава. Только Ново-Кременчугская, девять. Во всех четырех углах сада копались. И сматывайся сразу. — В дверях он снова начал «играть»: — И это справедливо — шантажировать друга юности? Семен усмехнулся: — Дурачина, ты теперь всю жизнь можешь хвастать, что хоть один раз оказал услугу рабочему делу. В тот же вечер вчетвером они выехали в Полтаву. У каждого был в руках чемодан среднего размера, темной кожи. Вряд ли можно было заподозрить, что дно такого чемодана схоже с пчелиными сотами. Всегда веселая, живописная Полтава показалась мрачной. Перед серым вокзальным зданием гарцевали жандармы, у моста через Ворсклу были выставлены караульные посты. Приезжие договорились, что день проведут порознь, а ближе к полуночи встретятся на Ново-Кременчугской. Семен поднялся на гору к Соборной площади и остановился у крутого обрыва. Под ним затейливыми зигзагами тянулась железнодорожная колея, словно бы отсекавшая хуторки белых и красных мазанок друг от друга. С горы казалось, что они поддерживают тянущиеся ввысь белоснежные стены церквей и золотистые купола колоколен. В розоватой дымке утра наплывала многоколонная громада памятника Петру, увенчанная щитом и древнерусским шлемом, а слева и справа просыпались и начинали свой хлопотливый бег спадающие к реке полтавские улочки.. — Господин первый раз в нашем городе? Не спеша обернулся: высокая девушка, большие внимательные глаза. — Да, проездом. — Господину есть где остановиться? Что за надоеда! Небрежно ответил: — У меня рекомендательное письмо к графине Елагиной. — Простите, но вот уже год, как она переехала в Петербург. Так можно и засыпаться! И вдруг звонкий смех: — Семен Петрович, я же Лиза, Лиза! Не узнаете? — Лизонька, простите. Пришел полюбоваться с горушки своей Полтавой и вдруг — филер в девичьем обличье. Почему вы здесь? Где Анна Илларионовна? Она сжала губы. — Я думала, вы знаете. Маме пришлось скрыться. Ловлю вас, чтобы предупредить. И у вас под окнами жандармы. Так что… — Все это так, но я должен повидать мать. — Она ждет вас у соседки. …Они сидят за столом друг напротив друга, мать и сын. Они просто рады, что смотрят друг другу в глаза. — Самоша, вырос как… Неужто такого тебя родила? — Что вы, мама! Меня губернатор откормил. Уважает. — Не бреши, — строго предупреждает она. — Или у меня глаз нету? Щеки завалились, как плетень у твоего дяди Ефима. Домой не потянуло еще? Или как там у вас, у смутьянов, говорится: мой дом — весь шар земной… — О, вы ученая стали, мамо. А я вам денег немножко привез. Всматривается в нее с болью: волосы точно снегом посыпаны, морщин прибавилось и забот, верно, тоже. — Самоша, — она говорит резко, прямо, крутить не привыкла. — Воз тащу по привычке, сил уже ну никаких. Свалюсь — посмотри, чтобы хлопцы в люди вышли. — Постараюсь, мамо… если на воле буду. — Ну, значит, угадала мать, что тебя гложет. Или пусть меня любимый пес за пятку ухватит! Ох, и любил же он ее прибаутки. Они попрощались молча. В полночь встретились с ребятами у высокой садовой ограды. — Меньше травы вот в том углу, — сообщил Родион. — Двое будут копать, двое охранять, — приказал Семен. Начали рыть Семен и репортер. Грунт был мягкий, поддавался легко, но земля не раскрыла тайн. Илье и Родиону, которые взяли полевее, повезло больше. Лопата Ильи уперлась в доски. — Ящик! — громким шепотом позвал он Семена. — Все наверх! Их ждало разочарование: в ящике лежала переписка эсеров. Наборные кассы они обнаружили только в третьем углу сада. — Ура! — шепотом сказал Илья. — Харьковский пролетариат имеет свою типографию, а мой папаша — новое для него предприятие. Поздравь меня, Семен, я уже с ним примирился, и он разрешил мне один раз в неделю водиться с аферистами, то есть с вами. Шрифты переплыли в чемоданы. Раму для печатного станка уложили в мешок. Их никто не остановил. И через несколько дней из маленького подвального отсека через прачечную господина Фишкарева две молодые прачки начали выносить корзины, в которых вполне могло быть выстиранное и выглаженное белье, но лежали листовки. Они же разносили листовки по адресам, которыми снабдил их Семен. — Как тебе это удалось сделать? — недоумевал Илья. — Прачки дорожат своим местом у отца. — Рабочий человек прежде всего дорожит своим классом, — упрямо ответил Семен. — Кроме всего прочего, я сделал для них подставки, чтоб удобнее было стирать, и они поняли, что с ними говорит тоже рабочий человек. Прокламации писали поочередно члены комитета. Однажды попросили это сделать Воскова. Полночи он не давал Илье спать, читал ему отрывки из своего обращения к новобранцам. — Все понятно. Но просто. — Мы же не для дворян пишем, — огорчился Семен. Листовка имела успех. Но в тот же день прибежал Илья и сказал, что одну из прачек накрыли. Буквально в полчаса они вывезли типографию. Семен уходил последним, в дверях его чуть не сбили с ног ворвавшиеся в прачечную жандармы. — Вы кто? — спросил офицер, руководивший обыском. — Это наш постоянный заказчик, — ласково пояснила старшая прачка. — У них, господин офицер, белье со своей монограммой. — Проходите, — грубо сказал офицер. А потом — заседание комитета, которому Восков дает отчет в явках, связях, оружии, типографском имуществе. — Предлагаю работу товарища Семена в Харькове оценить как очень полезную, — сказал человек, сидевший в углу, и Семен вдруг узнал в нем своего старого знакомого Болотова. — Хорошо, что это ты говоришь, — заметил председатель. — Тебе и принимать от товарища Семена людей и оружие. Семен растерялся. — Почему «принимать»? А мне куда? — Испугался? — пошутил председатель. — Жандармов не пугался, а от моих слов лицом аж побелел. Ну, томить не буду. Тебя уже занесли в черные списки персональных врагов династии Романовых. Выбирай сам: каторгу или эмиграцию. В комнате наступило молчание. — А средний путь? — спросил вовсе не своим, каким-то глуховатым голосом. — Среднего пути для тебя уже нет. Пойми, товарищ. Ты нужен нам и еще больше будешь нужен, когда наша борьба разгорится. Семен молчал. — Не ты первый, не ты последний, — вздохнул председатель. — Ленин в эмиграции сражается не хуже нас. Семен молчал. — Мы будем посылать к тебе людей на выучку. Семен молчал. — Это приказ, — заключил председатель. Дороги, подводы, продуваемые ветром площадки поездов, фиктивные справки, подложные паспорта… Его обыскивали солдаты русского пограничного поста, потом австрийские жандармы, затащившие эмигранта в комендатуру. — Зачем вы пожаловали к нам, господин Се-ми-о-нов? — читая по складам его новую фамилию, спросил молоденький офицер. — Я хороший столяр, господин капитан, — миролюбиво ответил Семен. — В России сейчас мало квалифицированной работы. Хочу попытать счастья у вас. — У нас — счастье? — маленькие ежиком торчащие усики затанцевали. — Господин хороший столяр, я хочу вас проверить. Этот старинный столик хромает на трех ножках… Четвертая ножка получилась отменная, Семен постарался. — Да, вы есть столяр, — заключил офицер. — Поезжайте в Фронлейтен, там будет много работы для такого мастера, и вы станете там верноподданным нашего монарха. Маленький австрийский городок пропитан запахом свежих стружек, хвои и клея. Тускло светят уличные фонари. Гладко обструганные доски тротуара настолько глянцевиты, что их легко принять за камень. Никаких адресов у Семена с собою не было, он медленно шел по улочкам, которые то вдруг круто взбегали на холм, то вплетались в лесную просеку. Издали приплыла переливчатая мелодия губной гармошки, в окнах сидели люди, вдыхающие после обжигающего солнцем дня спасительную вечернюю прохладу. Наконец он увидел то, что искал. На дверях бревенчатой избушки был приколочен фанерный щиток: «Хольцбеарбейтерунион»[6]. Он постучал, но никто не отозвался. Сел на крылечко: без ласки встречаешь, чужбина…
В полумраке увидел, что к нему подходит невысокий, сутулящийся человек. Тот заговорил по-немецки, по-английски и вдруг — по-украински. Семен радостно отозвался:
— Та размовляю, гарно размовляю!
Оказалось, что Фердинанд Штифтер, механик пилорамы, входил в правление союза деревообделочников. Он завел приезжего в помещение союза, показал на широкий диван:
— Извините, коллега. Пружины немножко могут покусать.
Убежал и вскоре вернулся с простынями и кульком бутербродов.
— Извините, коллега, это все, что удалось найти дома.
— Данке шён, дьякую, спасибо…
Семен повеселел. И на чужбине есть славные рабочие ребята.
— К себе на работу устроите?
Штифтер уклончиво сказал:
— Это решаю не я… Каких взглядов, коллега, вы придерживались у себя в России?
Что-то не понравилось в тоне вопроса. Осторожно ответил:
— Левых. Демократических.
Секретарь союза мягко сказал:
— Династия Габсбургов тоже считает себя демократами. Может быть, вы пребывали в партии террористов или большевиков?
Семен резко сказал:
— А если бы и так?
Штифтер покраснел, потер висок.
— Вы меня плохо поняли, коллега. Мы не жандармы, чтобы преследовать человека за его убеждения. Но лично наше правление заинтересовано сохранить за работающими их места. У нас столяры, краснодеревцы, пилорамщики, даже плотники имеют недурные заработки. Мы против серьезных конфликтов с предпринимателями.
Восков понял, улыбнулся.
— Уговорили, коллега Штифтер. Я остаюсь у вас.
Семен обошел несколько мелких заводов, мастерских, но их владельцы, узнав, что он русский эмигрант, интересовались авторитетными рекомендациями и места не предлагали. Наконец Штифтер пожалел приезжего, переговорил с владельцем пилорамы, и Семена взяли в маленькую столярку.
Работать он умел толково, красиво, его быстро признали. Он снимал комнатку у вдовы офицера-кавалериста, и вечерами здесь засиживались его новые товарищи, он рассказывал о революционных событиях в России, о восстании на «Потемкине», о баррикадных боях в Екатеринославе…
Узнав о популярности приезжего, правление союза пригласило его на свое заседание с просьбой поделиться впечатлениями о русской революции.
— Слушать о революционных событиях в России, — сказал он под конец, — и не замечать, что бежавших из нее людей обсчитывают, надувают, унижают, — это мало благородно. Жить нужно жизнью мировой, мыслить масштабами не своей должности и не своего города. Не удивляйтесь, если наша столярка поднимает людей на борьбу.
Наконец он увидел то, что искал. На дверях бревенчатой избушки был приколочен фанерный щиток: «Хольцбеарбейтерунион»[6]. Он постучал, но никто не отозвался. Сел на крылечко: без ласки встречаешь, чужбина…
В полумраке увидел, что к нему подходит невысокий, сутулящийся человек. Тот заговорил по-немецки, по-английски и вдруг — по-украински. Семен радостно отозвался:
— Та размовляю, гарно размовляю!
Оказалось, что Фердинанд Штифтер, механик пилорамы, входил в правление союза деревообделочников. Он завел приезжего в помещение союза, показал на широкий диван:
— Извините, коллега. Пружины немножко могут покусать.
Убежал и вскоре вернулся с простынями и кульком бутербродов.
— Извините, коллега, это все, что удалось найти дома.
— Данке шён, дьякую, спасибо…
Семен повеселел. И на чужбине есть славные рабочие ребята.
— К себе на работу устроите?
Штифтер уклончиво сказал:
— Это решаю не я… Каких взглядов, коллега, вы придерживались у себя в России?
Что-то не понравилось в тоне вопроса. Осторожно ответил:
— Левых. Демократических.
Секретарь союза мягко сказал:
— Династия Габсбургов тоже считает себя демократами. Может быть, вы пребывали в партии террористов или большевиков?
Семен резко сказал:
— А если бы и так?
Штифтер покраснел, потер висок.
— Вы меня плохо поняли, коллега. Мы не жандармы, чтобы преследовать человека за его убеждения. Но лично наше правление заинтересовано сохранить за работающими их места. У нас столяры, краснодеревцы, пилорамщики, даже плотники имеют недурные заработки. Мы против серьезных конфликтов с предпринимателями.
Восков понял, улыбнулся.
— Уговорили, коллега Штифтер. Я остаюсь у вас.
Семен обошел несколько мелких заводов, мастерских, но их владельцы, узнав, что он русский эмигрант, интересовались авторитетными рекомендациями и места не предлагали. Наконец Штифтер пожалел приезжего, переговорил с владельцем пилорамы, и Семена взяли в маленькую столярку.
Работать он умел толково, красиво, его быстро признали. Он снимал комнатку у вдовы офицера-кавалериста, и вечерами здесь засиживались его новые товарищи, он рассказывал о революционных событиях в России, о восстании на «Потемкине», о баррикадных боях в Екатеринославе…
Узнав о популярности приезжего, правление союза пригласило его на свое заседание с просьбой поделиться впечатлениями о русской революции.
— Слушать о революционных событиях в России, — сказал он под конец, — и не замечать, что бежавших из нее людей обсчитывают, надувают, унижают, — это мало благородно. Жить нужно жизнью мировой, мыслить масштабами не своей должности и не своего города. Не удивляйтесь, если наша столярка поднимает людей на борьбу.
 Но наутро Семен из столярки был уволен. Штифтер чувствовал себя неловко, в глаза Семену не смотрел.
— Коллега, — сказал он жалко. — Не судите нас строго. Каждый из нас уже вкусил безработицу. У нас у всех дети.
— Коллега, — ответил Семен. — Я услышал у вас пословицу: «Без хорошей занозы и рука не инструмент». Кто побаивается — пусть не лезет в рабочее правление. Скоро вы услышите, что думает о вас Фронлейтен.
Они услышали. В городке появились листовки: «Правление союза в сговоре с заводчиками! Заменим его своими верными товарищами!» Три мастерских прекратили работу в знак протеста против унижения русских эмигрантов.
Жандармы ворвались к Семену в этот же вечер.
— Господин унтер-офицер, — обратился Восков к хмурому человеку, который руководил обыском. — У меня нет ни одной бомбы, у меня только идеи.
— Замолчите! — рявкнул жандарм. — У вас подложные документы. Мы отправим вас назад, в Россию!
Он очень хотел назад, но партия велела иначе. Он сбежал от жандармов по дороге в тюрьму, переезжал из одной провинции Австро-Венгрии в другую, работал среди австрийских, украинских, еврейских столяров, пока австрийская полиция не объявила розыск русского эмигранта господина Семионова.
И господин Семионов оказался среди пассажиров корабля, который вез эмигрантов в Америку.
Нью-Йорк встретил беженцев из Европы приветливо. Статуя Свободы, подаренная американцам французами, гостеприимно показывала приезжим на бесчисленное количество островов, где они могли обрести рай. На одном из них с ласковым названием Эллис они обрели райскую жизнь на две недели. В этом таможенном карантине проверяли и цель их приезда, и имущественный ценз, и их выносливость к голоду и унижениям. Его приняла поначалу артель паркетчиков. Три ночи он провел в сквере, а после первой же получки снял по совету товарищей маленькую комнатку на одной из авеню Манхаттана[7]. И опять у него вечерами набивались люди, которым он рассказывал о России, о революции, о русских социал-демократах.
От друзей письма приходили все реже и реже: он догадывался, что одни — в глубоком подполье и не всегда имеют возможность вырвать время для переписки, другие — в тюрьмах, на каторге.
На Америку надвигался «золотой кризис». Предприниматели пачками выбрасывали рабочих на улицу. Меньше всего они церемонились с эмигрантами и особенно — из России.
Восков нашел свое место. После рабочего дня он носился из одного района Нью-Йорка в другой, собирал летучие митинги русских эмигрантов-столяров. Он помог создать эмигрантскую столовую, в которой беженцы из Европы могли дешево пообедать, эмигрантскую кассу, которая спасла от самоубийства не одного кормильца семьи, эмигрантский клуб, который знакомил рабочих с положением в России. А в самый разгар борьбы за сплочение русских эмигрантов в клубе выступил представитель анархистов.
— Хватит с нас, Восков, социалистических идей! — кинул он в зал. — Мы по горло сыты были ими в России.
— Как же, помню! — откликнулся Восков с места. — Я сам однажды заделался эксом и ходил по квартирам, собирая с буржуев деньги в обмен на липовые справки. Не такие ли дела вас пресытили, господин анархист?
Зал отозвался смехом.
— Демагогия! Клевета! — раскричался анархист. — Так или иначе, но мы были движущей силой в революции. Мы потерпели поражение и теперь знаем, как и куда идти. Никакой организации! Свободное изъявление воли каждого. Никаких ограничений для личности! Все дозволено.
Этого Восков уже стерпеть не смог. Он поднялся на маленькую эстраду и, как это всегда у него было в минуты волнения, наклонился вперед, слегка вздернув кверху угловатые плечи.
— Кого вы пугаете организацией? — спросил он своим ясным сильным тенором, плавным жестом руки обводя аудиторию. — Людей, у которых ее и без того нет? Несчастных беженцев, приговоренных к ссылкам и каторге? Работяг, которых пригнали в Америку голод и безработица? Которым платят ниже всех и которых обворовывают чаще всех?
У него даже губы искривились от негодования, напряженно сомкнулись брови.
— Красиво звучит, ребята, а? «Свободное изъявление воли»… Сиди без цента в кармане и запивай водичкой из Гудзона.
Он сжал пальцы в кулак и взмахнул им в воздухе.
— Нам нужна организация, и она у нас будет. И если мне понадобится для этого всю Америку обшагать и всех русских эмигрантов в ней найти, — я обшагаю и найду!
Зал ответил горячими аплодисментами. К эстраде подошли люди, которым Семен, еще не остыв от спора, излагал свою мечту о русских рабочих союзах.
— Однако вы подросли за это время, Восков! — раздался высокий женский голос, и Семен, повернувшись, вдруг встретил так хорошо знакомые ему черные глаза.
— Лиза! — чуть не закричал он. — Первая полтавчанка за год моей жизни в Нью-Йорке! Исключительный случай! Впрочем, нет, — поправил он себя, — в любой случайности есть и доля закономерности.
— Восков, Восков, — укоризненно сказала она. — Вы уже сошли с трибуны, а продолжаете цитировать на весь зал законы диалектики. Поведите же меня куда-нибудь в более тихое место, и мы вспомним Полтаву.
Он смутился.
— Дело в том, Лиза, что я… как раз… перед получкой.
Она хохотнула.
— Ясно, Семен Петрович. Запиваем водичкой из Гудзона. У меня дела не лучше. Посидим просто в сквере.
Она рассказывала ему о том, что отец погиб в тюрьме, что мать и она подвергались беспрерывным преследованиям жандармского отделения и наконец решили уехать.
— Лиза, почему вы ничего не говорите о моей семье? — напряженно спросил Семен.
Она нахмурилась.
— Тете Гильде плохо, Семен. Ее мучают боли, она редко встает с постели. Шико и Миша работают.
Он грустно сказал:
— Поверите? Предчувствие такое было, что дома не ладится. Да и может ли в семье революционера быть благополучие?
Они договорились о встрече, но Семен надолго исчез. Потом Лиза встретила его на Третьей авеню. Он только что выступал перед собравшейся толпой, горел еще полемикой. Лизе обрадовался, начал расспрашивать, но все время подходили люди, и он перемежал беседу с ней и советы товарищам.
— Лизонька, я был уже в Чикаго и на юге… Союзы русских рабочих пускают корни… Да, да, товарищ, царская охранка будет нам мешать — Николашка понимает, что эмигранты не вечно будут эмигрантами… Перевел маме получку, Лизонька… Да не голодаю, жив… Вы учтите, дорогой товарищ, если с трибуны верещал наш русский поп — значит русская охранка не спит. Проверяйте своих людей… Когда же мы увидимся, Лизонька?
Но его уже ждали на Пятой авеню, и он не успел договориться о встрече. Его открытое, со смеющимися глазами лицо здесь знали — он выступал на уличных митингах по нескольку раз в день.
— Не морочьте людям головы! — крикнули ему из толпы. — Вам нужны кадры для баррикад в России.
— Не нужно волноваться, мистер, — зазвучал его громкий голос на перекрестке. — На баррикады насильно не тащат. Вступите в рабочий союз, и у вас прояснится в башке.
Его закидывали вопросами, ему бросали записки. Он шел навстречу спорщикам, зачитывал записки, разъяснял. И только две скрыл от митинга.
Одна — от Лизы: «Полтава теряет надежду вас увидеть, но вы знаете, что мы с мамой вам всегда будем рады».
Вторая была без подписи: «В воскресенье, украинский жлоб, ты хочешь выступить в Броунзвилле[8]. Знай, что это будет твое последнее слово».
Но наутро Семен из столярки был уволен. Штифтер чувствовал себя неловко, в глаза Семену не смотрел.
— Коллега, — сказал он жалко. — Не судите нас строго. Каждый из нас уже вкусил безработицу. У нас у всех дети.
— Коллега, — ответил Семен. — Я услышал у вас пословицу: «Без хорошей занозы и рука не инструмент». Кто побаивается — пусть не лезет в рабочее правление. Скоро вы услышите, что думает о вас Фронлейтен.
Они услышали. В городке появились листовки: «Правление союза в сговоре с заводчиками! Заменим его своими верными товарищами!» Три мастерских прекратили работу в знак протеста против унижения русских эмигрантов.
Жандармы ворвались к Семену в этот же вечер.
— Господин унтер-офицер, — обратился Восков к хмурому человеку, который руководил обыском. — У меня нет ни одной бомбы, у меня только идеи.
— Замолчите! — рявкнул жандарм. — У вас подложные документы. Мы отправим вас назад, в Россию!
Он очень хотел назад, но партия велела иначе. Он сбежал от жандармов по дороге в тюрьму, переезжал из одной провинции Австро-Венгрии в другую, работал среди австрийских, украинских, еврейских столяров, пока австрийская полиция не объявила розыск русского эмигранта господина Семионова.
И господин Семионов оказался среди пассажиров корабля, который вез эмигрантов в Америку.
Нью-Йорк встретил беженцев из Европы приветливо. Статуя Свободы, подаренная американцам французами, гостеприимно показывала приезжим на бесчисленное количество островов, где они могли обрести рай. На одном из них с ласковым названием Эллис они обрели райскую жизнь на две недели. В этом таможенном карантине проверяли и цель их приезда, и имущественный ценз, и их выносливость к голоду и унижениям. Его приняла поначалу артель паркетчиков. Три ночи он провел в сквере, а после первой же получки снял по совету товарищей маленькую комнатку на одной из авеню Манхаттана[7]. И опять у него вечерами набивались люди, которым он рассказывал о России, о революции, о русских социал-демократах.
От друзей письма приходили все реже и реже: он догадывался, что одни — в глубоком подполье и не всегда имеют возможность вырвать время для переписки, другие — в тюрьмах, на каторге.
На Америку надвигался «золотой кризис». Предприниматели пачками выбрасывали рабочих на улицу. Меньше всего они церемонились с эмигрантами и особенно — из России.
Восков нашел свое место. После рабочего дня он носился из одного района Нью-Йорка в другой, собирал летучие митинги русских эмигрантов-столяров. Он помог создать эмигрантскую столовую, в которой беженцы из Европы могли дешево пообедать, эмигрантскую кассу, которая спасла от самоубийства не одного кормильца семьи, эмигрантский клуб, который знакомил рабочих с положением в России. А в самый разгар борьбы за сплочение русских эмигрантов в клубе выступил представитель анархистов.
— Хватит с нас, Восков, социалистических идей! — кинул он в зал. — Мы по горло сыты были ими в России.
— Как же, помню! — откликнулся Восков с места. — Я сам однажды заделался эксом и ходил по квартирам, собирая с буржуев деньги в обмен на липовые справки. Не такие ли дела вас пресытили, господин анархист?
Зал отозвался смехом.
— Демагогия! Клевета! — раскричался анархист. — Так или иначе, но мы были движущей силой в революции. Мы потерпели поражение и теперь знаем, как и куда идти. Никакой организации! Свободное изъявление воли каждого. Никаких ограничений для личности! Все дозволено.
Этого Восков уже стерпеть не смог. Он поднялся на маленькую эстраду и, как это всегда у него было в минуты волнения, наклонился вперед, слегка вздернув кверху угловатые плечи.
— Кого вы пугаете организацией? — спросил он своим ясным сильным тенором, плавным жестом руки обводя аудиторию. — Людей, у которых ее и без того нет? Несчастных беженцев, приговоренных к ссылкам и каторге? Работяг, которых пригнали в Америку голод и безработица? Которым платят ниже всех и которых обворовывают чаще всех?
У него даже губы искривились от негодования, напряженно сомкнулись брови.
— Красиво звучит, ребята, а? «Свободное изъявление воли»… Сиди без цента в кармане и запивай водичкой из Гудзона.
Он сжал пальцы в кулак и взмахнул им в воздухе.
— Нам нужна организация, и она у нас будет. И если мне понадобится для этого всю Америку обшагать и всех русских эмигрантов в ней найти, — я обшагаю и найду!
Зал ответил горячими аплодисментами. К эстраде подошли люди, которым Семен, еще не остыв от спора, излагал свою мечту о русских рабочих союзах.
— Однако вы подросли за это время, Восков! — раздался высокий женский голос, и Семен, повернувшись, вдруг встретил так хорошо знакомые ему черные глаза.
— Лиза! — чуть не закричал он. — Первая полтавчанка за год моей жизни в Нью-Йорке! Исключительный случай! Впрочем, нет, — поправил он себя, — в любой случайности есть и доля закономерности.
— Восков, Восков, — укоризненно сказала она. — Вы уже сошли с трибуны, а продолжаете цитировать на весь зал законы диалектики. Поведите же меня куда-нибудь в более тихое место, и мы вспомним Полтаву.
Он смутился.
— Дело в том, Лиза, что я… как раз… перед получкой.
Она хохотнула.
— Ясно, Семен Петрович. Запиваем водичкой из Гудзона. У меня дела не лучше. Посидим просто в сквере.
Она рассказывала ему о том, что отец погиб в тюрьме, что мать и она подвергались беспрерывным преследованиям жандармского отделения и наконец решили уехать.
— Лиза, почему вы ничего не говорите о моей семье? — напряженно спросил Семен.
Она нахмурилась.
— Тете Гильде плохо, Семен. Ее мучают боли, она редко встает с постели. Шико и Миша работают.
Он грустно сказал:
— Поверите? Предчувствие такое было, что дома не ладится. Да и может ли в семье революционера быть благополучие?
Они договорились о встрече, но Семен надолго исчез. Потом Лиза встретила его на Третьей авеню. Он только что выступал перед собравшейся толпой, горел еще полемикой. Лизе обрадовался, начал расспрашивать, но все время подходили люди, и он перемежал беседу с ней и советы товарищам.
— Лизонька, я был уже в Чикаго и на юге… Союзы русских рабочих пускают корни… Да, да, товарищ, царская охранка будет нам мешать — Николашка понимает, что эмигранты не вечно будут эмигрантами… Перевел маме получку, Лизонька… Да не голодаю, жив… Вы учтите, дорогой товарищ, если с трибуны верещал наш русский поп — значит русская охранка не спит. Проверяйте своих людей… Когда же мы увидимся, Лизонька?
Но его уже ждали на Пятой авеню, и он не успел договориться о встрече. Его открытое, со смеющимися глазами лицо здесь знали — он выступал на уличных митингах по нескольку раз в день.
— Не морочьте людям головы! — крикнули ему из толпы. — Вам нужны кадры для баррикад в России.
— Не нужно волноваться, мистер, — зазвучал его громкий голос на перекрестке. — На баррикады насильно не тащат. Вступите в рабочий союз, и у вас прояснится в башке.
Его закидывали вопросами, ему бросали записки. Он шел навстречу спорщикам, зачитывал записки, разъяснял. И только две скрыл от митинга.
Одна — от Лизы: «Полтава теряет надежду вас увидеть, но вы знаете, что мы с мамой вам всегда будем рады».
Вторая была без подписи: «В воскресенье, украинский жлоб, ты хочешь выступить в Броунзвилле[8]. Знай, что это будет твое последнее слово».
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. КОМНАТА — ГОРОД — ПЛАНЕТА
— Он сказал?.. Сказал что-нибудь напоследок? — Бредил… Шуру какую-то поминал… Стометровку хотел бежать… И еще сказал: «У меня туго с векторным анализом, но я подучу…» Потом замолчал. Володя Жаринов отошел к окну и открыл фрамугу: холодный воздух ворвался в аудиторию. Володя сделал несколько быстрых коротких глотков, чтобы унять волнение, и захлопнул раму. — Ну, вот и все. Сережу похоронили там же, на Кирке[9]. Белофинны нас поливали пулеметным огнем, но ребятам уже сам черт не страшен был. А те все лезли и лезли. Когда иссякли патроны, отбивались ножами. К ночи нас осталось на высоте трое. До подхода полка чудом продержались. Лена сказала: — Мы с Сережей вместе к математике готовились. Он страшно переживал каждую свою неудачу… — Ленка, а что же мы сидим в стороне! — жалобно сказала Сильва. — Будет время, — возразил Роман, приятель Лены, студент-гидроакустик, — и нас всех позовут. — Нет, — возразила Сильва. — Ты как хочешь, а я долго ждать приглашения не собираюсь. Я уже ждала порядком. Володя посмотрел на нее с недоумением, она встретила его взгляд с вызовом, но объяснять своих слов не собиралась. Все два с половиной года занятий в институте ее преследовала тревожная мысль, что она чего-то не успевает, к чему-то не подготовлена, не обладает решительностью. Эта тревога особенно усилилась после истории с Иваном Михайловичем. Лето поступления в институт принесло и радости и заботы. Вместе с родителями она совершила поход по Военно-Осетинской дороге. В памяти остались впечатления, которые будут сопровождать еще не один год: резкие очертания гор, в которые врезаются луга всех цветов — густо-изумрудные, бирюзовые, салатные, — головокружительные спуски, на которые пастухи умудряются пригонять стада баранов и где угощают туристов у костров наперченным шашлыком, и — что больше всего поразило ее воображение — совершенно зеленый лед, который можно увидеть только на могучих вершинах. — Ну почему люди живут в комнатах? — смеялась она. В комнаты пришлось вернуться. Их, носящих звучное имя абитуриента, опрашивали в старинном здании, выходящем готическим фронтоном на Аптекарский проспект, в тех самых аудиториях, где когда-то читал курс физики изобретатель радио Попов и где скрывался от жандармских филеров Ленин. От этого становилось торжественнее и страшнее. Надо же, в разгар вступительных она подхватила ангину. «В постель! — сказала Сальма Ивановна. — И не дури, Сивка!» Но она сдурила и продолжала сдавать экзамены. Миша Хант, Володя Стогов, поступавшие вместе с нею в электротехнический, помогли Сильве пробиться сквозь толпу новичков, гудевших у стеклянных щитов со списками зачисленных, и она увидела в колонках фамилий свою: «Воскова С. С…, ЭФФ[10], группа 12». — Мальчики, — простуженно сказала она. — Смотрите. «Вишнякова Е. П.» Это не наша вожатая Лена? Вот здорово, если она! Мальчики, я, кажется, окончательно заангинила. Побегу домой. Поздравляю вас, мальчики, и себя тоже. Как всегда, новичков ошеломляло и обилие новых технических терминов, и обилие заданий, которые они получили не на день, не на неделю, а до Нового года. С замиранием сердца они взирали на знаменитых ученых, которые, как равные, шли с ними по коридору или поедали рядом с ними булочки у буфетных стоек. — Мама, — начинала уже в дверях, — сегодня один удивительный человек рассказывал нам, как он строил Волховскую ГЭС. Об этом нужно писать поэму. Решай: быть мне инженером или поэтессой? — Ты становишься поэтом или просто двоечницей, Сильва? — отозвалась Сальма Ивановна, но думала о своем. — Неприятности, мама? — Какие еще неприятности… У тебя вечером опять спортзал? Да, спортзал. И еще — важный разговор. Она собралась, наконец, подойти к Лене Вишняковой и сказать ей то, что уже давно просилось. «Лена, будем дружить, — скажет она. — Я умею хорошо дружить». — Как ты думаешь, — спросила она у Ивана Михайловича, — что главное в дружбе? Он ответил после некоторого размышления: — Вероятно, одним словом тут не отделаешься. В друге должно быть нечто такое, чего недостает тебе. Еще — требовательность. Безусловная требовательность — к себе же. И, конечно, отношение к жизни, которое ты разделяешь. — Пять шаров, — сказала она, подражая старшекурсникам. — За красивый вывод формулы и доходчивость. Нет, к Лене она так и не подошла в этот вечер. Лена, коротко подстриженная, черноволосая, смуглая, была окружена болельщиками и поклонниками. Но она еще подойдет. После встречи со сборной вузов. Прошла встреча со сборной вузов. И прошли «январские встречи со сборной экзаменаторов», как окрестил их первую сессию Миша Хант, а она все так и не могла решиться заговорить с Вишняковой. К тому же почувствовала: у родителей что-то неблагополучно. Всегда оживленно обсуждавшие события в мединституте, они сейчас говорили о войне в Испании, о папанинцах, о Сильвиных делах, но только не о своих служебных. Сосед их по лестничной площадке и сослуживец Ивана Михайловича некий Зыбин однажды постучался к ним, церемонно вошел, спросил, не готов ли отзыв на его научно-исторический труд. — История там есть, — сухо сказал Иван Михайлович, — а наукой, извините, не пахнет. Вам нужно бы в клинике поработать, Маркэл Демидович, материала побольше накопить. И потом — по поводу освещения истории. Не совсем у вас марксистский подход… Не прощаясь, Зыбин пошел к выходу. Уже в дверях, не поворачивая головы, сказал: — Вы, наверно, не знали, что я поменял свое имя на Маркэл в честь великих основоположников научного коммунизма. Сильва, слышавшая этот разговор, фыркнула. — Ваша семья еще меня вспомнит, — ровно произнес Зыбин. Встретив как-то Сильву на лестнице, он вежливо уступил ей дорогу и своим бесстрастным голосом сообщил: — Исключительно из дружеских чувств хочу проинформировать вас о деяниях вашего отчима. Его эксперименты в науке граничат с растратой и уголовно наказуемы. Ей показалось, что кто-то ее ударил. Она прислонилась к перилам, ошеломленная, растерянная, сбитая с толку этим мерным, бесцветным голосом… — Использование служебного положения в корыстных целях, — продолжал Зыбин, — статья номер… Но она уже бежала вверх по лестнице, не слыша ни его голоса, ни цитат из уголовно-процессуального кодекса, которыми этот человек, кажется, хотел заполнить и лестницу, и дворы, и город… Все были дома, она хотела что-то сказать, объяснить, спросить, но Иван Михайлович догадался. — Ты встретила Зыбина? Ну, что ж… Помнишь у Бернса? Он пошел было рядом, но она вдруг резко сказала:
— Мне налево. Будь здоров.
— Пожалуйста, — вежливо сказал он. — До свидания.
Она уладила квартирный конфликт. Управхоза даже в прокуратуру вызывали, он бегал потом извиняться «за причиненное».
Володю она встретила в институте, он помахал ей издали рукой, но не подошел. Разговорились они на гребной базе, да и то благодаря Лене. Впечатление он оставил у девушек разное.
— Не парень, а робкая газель, — смеялась Лена. — Люблю, черт возьми, когда мальчишки смеются, ухаживают и предлагают тебя проводить.
— А мне нравится в нем сдержанность, — призналась Сильва и густо покраснела. — Да нет, ты не подумай… Я в жизни с парнем в кино не пойду. Но если уж пойти, то с таким, как Володя. Это, кажется, из Шекспира: где слова редки — там они и имеют вес. Не терплю болтунов…
Лена рассмеялась.
— Тогда такую болтушку, как я, ты не должна любить.
— Тебя обожаю, — быстро сказала Сильва. — Ты исключение.
Да, Володя был сдержан, но уж если вступал в разговор… Сильва и Лена помнили, как к ним на Островах довольно развязно обратился парень, похожий на семинариста, с длинной копной волос, и Володя очень вежливо сказал ему:
— Вы ошиблись, гражданин. Девушки не работают в парикмахерской и остричь вашу гриву не сумеют.
Как-то Лена сказала, что вечер у нее занят, мужская баскетбольная пригласила их женскую баскетбольную на ужин. Роман ее проводит.
— Вот и отлично, — заметил Володя. — У меня два билета на «Сирано де Бержерака», и я уже полчаса ломаю голову, как поделить их на четыре части — даже страфантен не выходит.
Сильва, колеблясь, сказала:
— Жаль… Лично я занята… по дому.
— Жаль, — спокойно повторил Володя.
Он методично разорвал билеты, опустил клочки в карман, вежливо попрощался и ушел. Лена взглянула на Сильву.
— Ну и дичок!..
Перед отъездом в лыжный батальон Володя пришел прощаться.
— Если получите письмо, — сказал он, — с ответом больше семестра не тяните.
— Мог бы и не сомневаться! — Лена даже рассердилась. Сильва молчала, он искоса взглянул на нее.
— Значит, теперь уже после войны в кино сходим, Сильва?
Она наклонила голову, улыбнулась.
И вот сейчас — первые потери в студенческой семье.
— Ну, поболейте за меня, девочки, — прервал долгое молчание Володя. — Эпюру иду сдавать.
— А знаете, ребята, — сказала Сильва, когда они вышли из чертежного зала, — я никогда не горела жаждой получить обязательно «пять». Но ведь должна быть у нас сила воли… Хотя бы для больших жизненных барьеров.
Он пошел было рядом, но она вдруг резко сказала:
— Мне налево. Будь здоров.
— Пожалуйста, — вежливо сказал он. — До свидания.
Она уладила квартирный конфликт. Управхоза даже в прокуратуру вызывали, он бегал потом извиняться «за причиненное».
Володю она встретила в институте, он помахал ей издали рукой, но не подошел. Разговорились они на гребной базе, да и то благодаря Лене. Впечатление он оставил у девушек разное.
— Не парень, а робкая газель, — смеялась Лена. — Люблю, черт возьми, когда мальчишки смеются, ухаживают и предлагают тебя проводить.
— А мне нравится в нем сдержанность, — призналась Сильва и густо покраснела. — Да нет, ты не подумай… Я в жизни с парнем в кино не пойду. Но если уж пойти, то с таким, как Володя. Это, кажется, из Шекспира: где слова редки — там они и имеют вес. Не терплю болтунов…
Лена рассмеялась.
— Тогда такую болтушку, как я, ты не должна любить.
— Тебя обожаю, — быстро сказала Сильва. — Ты исключение.
Да, Володя был сдержан, но уж если вступал в разговор… Сильва и Лена помнили, как к ним на Островах довольно развязно обратился парень, похожий на семинариста, с длинной копной волос, и Володя очень вежливо сказал ему:
— Вы ошиблись, гражданин. Девушки не работают в парикмахерской и остричь вашу гриву не сумеют.
Как-то Лена сказала, что вечер у нее занят, мужская баскетбольная пригласила их женскую баскетбольную на ужин. Роман ее проводит.
— Вот и отлично, — заметил Володя. — У меня два билета на «Сирано де Бержерака», и я уже полчаса ломаю голову, как поделить их на четыре части — даже страфантен не выходит.
Сильва, колеблясь, сказала:
— Жаль… Лично я занята… по дому.
— Жаль, — спокойно повторил Володя.
Он методично разорвал билеты, опустил клочки в карман, вежливо попрощался и ушел. Лена взглянула на Сильву.
— Ну и дичок!..
Перед отъездом в лыжный батальон Володя пришел прощаться.
— Если получите письмо, — сказал он, — с ответом больше семестра не тяните.
— Мог бы и не сомневаться! — Лена даже рассердилась. Сильва молчала, он искоса взглянул на нее.
— Значит, теперь уже после войны в кино сходим, Сильва?
Она наклонила голову, улыбнулась.
И вот сейчас — первые потери в студенческой семье.
— Ну, поболейте за меня, девочки, — прервал долгое молчание Володя. — Эпюру иду сдавать.
— А знаете, ребята, — сказала Сильва, когда они вышли из чертежного зала, — я никогда не горела жаждой получить обязательно «пять». Но ведь должна быть у нас сила воли… Хотя бы для больших жизненных барьеров.
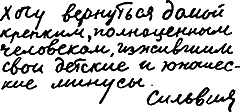 В этот вечер она сказала матери:
— Сальма Ивановна, вы были не в восторге от моих троек за прошлый семестр. Не хотите ли подписать договор: вы сдаете без троек свой кандидатский минимум, я без оных — свою шестую сессию?
— Это что-то новое, — Сальма Ивановна была довольна. — С наградой или без?
— Это будет простое пари. На верность слову и силу воли.
Сильва аккуратно вывела: «Весной у меня не будет ни одной тройки. Сильва Воскова».
И снова она начала ставить перед собой маленькие задачки, целую серию «волевых упражнений».
«Сегодня скажу Лене, что она не должна так безбожно водить мальчишек за нос». И говорила. Лена только звонко смеялась и обнимала свою Сивку: «Глупышка, а зачем они мне назначают свидание, разве я прошу их об этом?»
«Сегодня скажу Володе, что он не должен поджидать меня… нет, нас… у аудитории. Нужно беречь дорогое время». И говорила. Володя пожимал плечами: «Я не просто стою. Я рассчитываю зубчатую передачу. А как работает „мальтийский крест“, ты уловила?» Призналась: «Не очень». «Видишь, а я усвоил… в коридоре».
Приказала себе: «Ребята, которых взяли на войну, были отличными лыжниками. Ты получишь разряд». У нее уже был четвертый разряд по гимнастике. Теперь она занялась лыжами. В институт стала ходить в лыжной куртке — это никого не удивило, вообще в их группе ребята жили небогато, пиджак считался недоступной роскошью.
Изматывала себя в ежедневных тренировках, Володя как-то с сомнением заметил:
— А стоит ли так сразу?
— Время не ждет, — ответила она. — Есть еще высоты на свете.
— Меньше пафоса, Воскова, — предложил он. — К слову, в гражданскую был комиссар Восков. Слышала о таком?
— Кажется, был такой, — коротко ответила она.
Несколько дней ни Володя, ни Лена, ни Роман ее не видели. Потом вдруг сообразили, что Сильва их избегает. Кое-что объяснила им крошечная информация в «Красном электрике»: «В Кавголове прошли соревнования по лыжам на приз ДСО „Электрик“. Дистанция для мужчин была 20 км, для женщин — 5 км… Вызывал сожаление бег тов. Восковой, которая увлеклась занятием хорошего личного места, забыв, что она в первую очередь защищает спортивную честь института, как член команды…»
Лена и Володя ее изловили в читальном зале:
— Рассказывай, на кого обиделась.
— Не обиделась, — ответила она, как всегда честно, — просто недостойна настоящей дружбы. Сваляла дурочку. Оставила команду и вырвалась вперед. Получила второй разряд, а девчат своих подвела.
— Ну, не очень-то себя казни, — Володя засмеялся. — Твои двадцать восемь минут и тридцать пять секунд принесли команде немало очков. Все-таки — второе место.
— Но если бы мы шли рядом и все чуть побыстрее — команда могла вырваться и на первое место.
Лена встряхнула ее:
— Да. В спорте есть свои законы. Но ведь без азарта нет и спорта, верно?
— Не разлюбила, значит?
— И не подумала.
— И я, — Володя чуть запнулся, — и я по-прежнему к тебе хорошо отношусь. За честность. В общем — за все.
Надвигались экзамены. Сальма Ивановна попросила.
— Если ночью читаешь, баррикады вокруг лампы не строй.
Она проглатывала конспект за конспектом. Все экзамены были сданы «согласно договору». А на последнем — осечка.
— Теория проводной связи — ваше будущее, — мягко заметил экзаменатор.
— Вы правы, — сказала она. — На троечку я вытяну ответ. Но мне тройки мало. Дайте мне, пожалуйста, еще четыре дня.
Он согласился. Четыре дня и четыре ночи — это был ее экзамен…
Вышла радостная. Лена и Володя ее ждали в коридоре — помахала им зачеткой. Заторопилась домой. Володя сказал:
— У меня к тебе серьезный разговор… Осенью.
Она вспыхнула.
— Как хочешь, Володя.
Сильву ждали дома цветы и записка матери: «Не сомневаюсь, что договор успешно выполнен. Приду поздно — практиканты».
Она распахнула окно: как там — лето или весна? Захотелось написать что-то радостное для себя, матери, Ивана Михайловича и еще для одного человека.
Уже много лет спустя в Сильвиных бумагах нашли стихи, помеченные этим днем:
В этот вечер она сказала матери:
— Сальма Ивановна, вы были не в восторге от моих троек за прошлый семестр. Не хотите ли подписать договор: вы сдаете без троек свой кандидатский минимум, я без оных — свою шестую сессию?
— Это что-то новое, — Сальма Ивановна была довольна. — С наградой или без?
— Это будет простое пари. На верность слову и силу воли.
Сильва аккуратно вывела: «Весной у меня не будет ни одной тройки. Сильва Воскова».
И снова она начала ставить перед собой маленькие задачки, целую серию «волевых упражнений».
«Сегодня скажу Лене, что она не должна так безбожно водить мальчишек за нос». И говорила. Лена только звонко смеялась и обнимала свою Сивку: «Глупышка, а зачем они мне назначают свидание, разве я прошу их об этом?»
«Сегодня скажу Володе, что он не должен поджидать меня… нет, нас… у аудитории. Нужно беречь дорогое время». И говорила. Володя пожимал плечами: «Я не просто стою. Я рассчитываю зубчатую передачу. А как работает „мальтийский крест“, ты уловила?» Призналась: «Не очень». «Видишь, а я усвоил… в коридоре».
Приказала себе: «Ребята, которых взяли на войну, были отличными лыжниками. Ты получишь разряд». У нее уже был четвертый разряд по гимнастике. Теперь она занялась лыжами. В институт стала ходить в лыжной куртке — это никого не удивило, вообще в их группе ребята жили небогато, пиджак считался недоступной роскошью.
Изматывала себя в ежедневных тренировках, Володя как-то с сомнением заметил:
— А стоит ли так сразу?
— Время не ждет, — ответила она. — Есть еще высоты на свете.
— Меньше пафоса, Воскова, — предложил он. — К слову, в гражданскую был комиссар Восков. Слышала о таком?
— Кажется, был такой, — коротко ответила она.
Несколько дней ни Володя, ни Лена, ни Роман ее не видели. Потом вдруг сообразили, что Сильва их избегает. Кое-что объяснила им крошечная информация в «Красном электрике»: «В Кавголове прошли соревнования по лыжам на приз ДСО „Электрик“. Дистанция для мужчин была 20 км, для женщин — 5 км… Вызывал сожаление бег тов. Восковой, которая увлеклась занятием хорошего личного места, забыв, что она в первую очередь защищает спортивную честь института, как член команды…»
Лена и Володя ее изловили в читальном зале:
— Рассказывай, на кого обиделась.
— Не обиделась, — ответила она, как всегда честно, — просто недостойна настоящей дружбы. Сваляла дурочку. Оставила команду и вырвалась вперед. Получила второй разряд, а девчат своих подвела.
— Ну, не очень-то себя казни, — Володя засмеялся. — Твои двадцать восемь минут и тридцать пять секунд принесли команде немало очков. Все-таки — второе место.
— Но если бы мы шли рядом и все чуть побыстрее — команда могла вырваться и на первое место.
Лена встряхнула ее:
— Да. В спорте есть свои законы. Но ведь без азарта нет и спорта, верно?
— Не разлюбила, значит?
— И не подумала.
— И я, — Володя чуть запнулся, — и я по-прежнему к тебе хорошо отношусь. За честность. В общем — за все.
Надвигались экзамены. Сальма Ивановна попросила.
— Если ночью читаешь, баррикады вокруг лампы не строй.
Она проглатывала конспект за конспектом. Все экзамены были сданы «согласно договору». А на последнем — осечка.
— Теория проводной связи — ваше будущее, — мягко заметил экзаменатор.
— Вы правы, — сказала она. — На троечку я вытяну ответ. Но мне тройки мало. Дайте мне, пожалуйста, еще четыре дня.
Он согласился. Четыре дня и четыре ночи — это был ее экзамен…
Вышла радостная. Лена и Володя ее ждали в коридоре — помахала им зачеткой. Заторопилась домой. Володя сказал:
— У меня к тебе серьезный разговор… Осенью.
Она вспыхнула.
— Как хочешь, Володя.
Сильву ждали дома цветы и записка матери: «Не сомневаюсь, что договор успешно выполнен. Приду поздно — практиканты».
Она распахнула окно: как там — лето или весна? Захотелось написать что-то радостное для себя, матери, Ивана Михайловича и еще для одного человека.
Уже много лет спустя в Сильвиных бумагах нашли стихи, помеченные этим днем:
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. РАЗЪЕЗДНОЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Митинг в Броунзвилле прошел без стрельбы, без потасовок, без вмешательства полиции. Но Семен отлично понимал, что его оппоненты не собираются сдаваться. Он получал предостережения через рассыльных контор, он находил угрожающие записки в деревянном ящике с набором инструментов — неизменном спутнике в своих поездках по другим городам. В Нью-Йорке уже действовал и боролся за права эмигрантов первый русский отдел «Юниона клоакмейкеров»[11] и это приводило в ярость бизнесменов, привыкших без шума обирать эмигрантов. «Учитесь не только считать центы, — внушал Восков на рабочих митингах. — Чтоб бороться с большим бизнесом, надо быть политиками». «Мировая политика — вот что на очереди дня», — это была его излюбленная фраза. У столяров негритянских кварталов он говорил по-английски, к крестьянам из Херсонщины и Полтавщины обращался на их родном украинском наречии, а однажды его приятель услышал, как он выступает перед еврейскими ремесленниками. — Да ведь ты же сам говорил, что не мог из «Талмуд-торэ» пересказать рассказ!
— Видишь ли, — Семен растянул в улыбке губы. — Я как только пришел к ним, смекнул, что по-английски они еще понимают плохо. Я и решил с ними заговорить на их родном языке. Сначала боязно было, а потом ничего, вошел во вкус.
— Допустим… Но где ты подслушал это выражение: «Чтоб меня любимый пес за пятку ухватил, если не так»?
У Воскова даже голос осел:
— Не вспоминай… Это любимая прибаутка матери.
Он продолжал борьбу в защиту беженцев из России. Один за другим возникали «союзы русских рабочих» в Питтсбурге и Челси, Гартфорде и Провиденсе, Бостоне и Филадельфии. Во всех этих городах видели Воскова и нередко повторяли его меткие фразы: «Желудок обмануть проще — пояс затянешь, а вот рабочую совесть свою поясом не обведешь!», «Если поп за тобой океан переплыл, спроси, не царь ли ему билет купил!», «Лю́бите жизнь — так люби́те русскую революцию!».
Революция в России была его святыней, и когда ему удавалось провести на митинге сбор в пользу русских подпольщиков и узников царизма, он радовался как ребенок и всем объяснял: «Русская революция стала сильнее не на несколько долларов, а на несколько сот друзей. Хорошо бы, чтоб об этом узнал Ленин».
Его оценили как оратора, а потом — и как бойца. В предместье Нью-Йорка вместе со столярами он несколько суток оборонял большие мастерские от штрейкбрехеров. Наконец те решили взять ворота штурмом под прикрытием полиции. У рабочих не было ни ружей, ни гранат, и тогда столяры спешно извлекли из своих чемоданчиков наборы столярных инструментов. «Мне уже не впервой, — смеялся Восков, — Имею опыт Екатеринослава и Полтавы».
Полиции удалось взять верх, и Восков попал в тюрьму. Через три дня его вызвал прокурор.
— Мистер Восков, ко мне поступают протесты эмигрантов, и я приказал выпустить вас. Но можете ли вы обещать…
— Обещаю, — серьезно сказал он. — Всюду, где требуется открыть рабочим Америки глаза и отстоять их право хотя бы на свой ленч, хотя бы на ленч, — всюду будем мы, члены социалистической партии.
— Позвольте, но что вам до рабочих Америки? — с любопытством спросил прокурор. — Мало ли у вас русских забот?
— Мистер прокурор, — Семен сказал это с сожалением. — Вы образованный человек, а я всего лишь столяр. Но неужто вы не чувствуете, что повторяете запев наших русских попов: «Негры, евреи и янки вам не пара!» А потом владельцы заводов поют в уши американцам: «Не слушайте этих эмигрантов… У вас более высокие заработки». А когда надвигается кризис и выгоняют с работы и тех, и других, и третьих, то наши советчики хором взывают: «Не слушайте смутьянов! Уповайте на бога!»
Прокурор с усмешкой сказал:
— Да, я выпускаю из камеры довольно сильного политика. Кто вас сделал таким, мистер Восков?
— Жизнь и русская революция.
В Филадельфии они проводили первое собрание союза в знаменитом зале Академии музыки.
У выхода их ждал сюрприз. На перекрестке уже соорудили трибуну и собрали любопытных наймиты русской охранки. На большом фанерном щите, поднятом над трибуной, было выведено синей краской: «Господа рабочие! Не в Союзе русских голодранцев, а в лоне православной церкви обретем мы рай». Поочередно выступали священник, представитель анархистов и какой-то крикун с рыжей шапкой волос, которого представляли как «теоретика русской революции». Послушав их, Восков и его товарищи приняли вызов. Семен поднялся на трибуну. Рыжий перехватил рупор, но Семен махнул рукой.
— Ребята, у меня и без рупора глотка аршинная! — крикнул он в толпу, вызвав одобрительный смех. — Долго трещать я не буду. Вы, филадельфийцы, любите говорить, что у вас тут появились первый в Америке пароход, первый паровой автомобиль, первая публичная библиотека. Так радуйтесь: теперь у вас появился первый поп, который предал своего бога и заявил, что через национальную резню рабочих они получат рай. Хорош рай — только всех сшибай!
Площадь ответила хохотом. Вмешался «теоретик».
— Один вопрос, мистер Восков! — зарычал он в рупор, насторожив толпу. — Я спрашиваю вас от имени русской революции. Почему вы здесь, а не в России, где гибнут наши братья и сестры? Семейке своей благополучие строите на костях убиенных на русских баррикадах?
Семену было не привыкать к уколам врагов.
— Эх ты, теоретик, — презрительно сказал он. — Я уехал сюда, мистеры, потому что партия приказала мне избежать каторги. Что касается семьи… Моя мать умирает в Полтаве, не имея средств лечиться, братья и сестры пухнут с голоду. Но не о том сейчас речь. — Голос его поднялся, а жестом руки он словно отрубил слова беснующегося рыжего. — Революции можно помогать, даже находясь вдали от родины. А ты, теоретик от неизвестно чего, где ты сражался на баррикадах? Скажи Филадельфии!
Рыжий крикнул в рупор:
— Демагогия! Мы с революцией повенчаны!
— А не с охранкой? — вдруг спросил Восков и обратился к своим соотечественникам. — Ребята! Всмотритесь! Кто помнит его по тюрьмам? Киев, Харьков, Екатеринослав!
К трибуне начали пробираться люди. «Теоретик» отшвырнул рупор и быстро спустился в толпу. Филадельфийцы закричали.
— Видите, — сказал Восков, — кого сюда засылает русский царизм. Но это значит, царизм боится нас и здесь, из-за океана. Ай да мы! Да здравствует русская революция и дружба всех живущих в Америке рабочих! Ну, час поздний. До встречи, ребята!
И он воодушевленно запел, а припев подхватила вся площадь:
— Да ведь ты же сам говорил, что не мог из «Талмуд-торэ» пересказать рассказ!
— Видишь ли, — Семен растянул в улыбке губы. — Я как только пришел к ним, смекнул, что по-английски они еще понимают плохо. Я и решил с ними заговорить на их родном языке. Сначала боязно было, а потом ничего, вошел во вкус.
— Допустим… Но где ты подслушал это выражение: «Чтоб меня любимый пес за пятку ухватил, если не так»?
У Воскова даже голос осел:
— Не вспоминай… Это любимая прибаутка матери.
Он продолжал борьбу в защиту беженцев из России. Один за другим возникали «союзы русских рабочих» в Питтсбурге и Челси, Гартфорде и Провиденсе, Бостоне и Филадельфии. Во всех этих городах видели Воскова и нередко повторяли его меткие фразы: «Желудок обмануть проще — пояс затянешь, а вот рабочую совесть свою поясом не обведешь!», «Если поп за тобой океан переплыл, спроси, не царь ли ему билет купил!», «Лю́бите жизнь — так люби́те русскую революцию!».
Революция в России была его святыней, и когда ему удавалось провести на митинге сбор в пользу русских подпольщиков и узников царизма, он радовался как ребенок и всем объяснял: «Русская революция стала сильнее не на несколько долларов, а на несколько сот друзей. Хорошо бы, чтоб об этом узнал Ленин».
Его оценили как оратора, а потом — и как бойца. В предместье Нью-Йорка вместе со столярами он несколько суток оборонял большие мастерские от штрейкбрехеров. Наконец те решили взять ворота штурмом под прикрытием полиции. У рабочих не было ни ружей, ни гранат, и тогда столяры спешно извлекли из своих чемоданчиков наборы столярных инструментов. «Мне уже не впервой, — смеялся Восков, — Имею опыт Екатеринослава и Полтавы».
Полиции удалось взять верх, и Восков попал в тюрьму. Через три дня его вызвал прокурор.
— Мистер Восков, ко мне поступают протесты эмигрантов, и я приказал выпустить вас. Но можете ли вы обещать…
— Обещаю, — серьезно сказал он. — Всюду, где требуется открыть рабочим Америки глаза и отстоять их право хотя бы на свой ленч, хотя бы на ленч, — всюду будем мы, члены социалистической партии.
— Позвольте, но что вам до рабочих Америки? — с любопытством спросил прокурор. — Мало ли у вас русских забот?
— Мистер прокурор, — Семен сказал это с сожалением. — Вы образованный человек, а я всего лишь столяр. Но неужто вы не чувствуете, что повторяете запев наших русских попов: «Негры, евреи и янки вам не пара!» А потом владельцы заводов поют в уши американцам: «Не слушайте этих эмигрантов… У вас более высокие заработки». А когда надвигается кризис и выгоняют с работы и тех, и других, и третьих, то наши советчики хором взывают: «Не слушайте смутьянов! Уповайте на бога!»
Прокурор с усмешкой сказал:
— Да, я выпускаю из камеры довольно сильного политика. Кто вас сделал таким, мистер Восков?
— Жизнь и русская революция.
В Филадельфии они проводили первое собрание союза в знаменитом зале Академии музыки.
У выхода их ждал сюрприз. На перекрестке уже соорудили трибуну и собрали любопытных наймиты русской охранки. На большом фанерном щите, поднятом над трибуной, было выведено синей краской: «Господа рабочие! Не в Союзе русских голодранцев, а в лоне православной церкви обретем мы рай». Поочередно выступали священник, представитель анархистов и какой-то крикун с рыжей шапкой волос, которого представляли как «теоретика русской революции». Послушав их, Восков и его товарищи приняли вызов. Семен поднялся на трибуну. Рыжий перехватил рупор, но Семен махнул рукой.
— Ребята, у меня и без рупора глотка аршинная! — крикнул он в толпу, вызвав одобрительный смех. — Долго трещать я не буду. Вы, филадельфийцы, любите говорить, что у вас тут появились первый в Америке пароход, первый паровой автомобиль, первая публичная библиотека. Так радуйтесь: теперь у вас появился первый поп, который предал своего бога и заявил, что через национальную резню рабочих они получат рай. Хорош рай — только всех сшибай!
Площадь ответила хохотом. Вмешался «теоретик».
— Один вопрос, мистер Восков! — зарычал он в рупор, насторожив толпу. — Я спрашиваю вас от имени русской революции. Почему вы здесь, а не в России, где гибнут наши братья и сестры? Семейке своей благополучие строите на костях убиенных на русских баррикадах?
Семену было не привыкать к уколам врагов.
— Эх ты, теоретик, — презрительно сказал он. — Я уехал сюда, мистеры, потому что партия приказала мне избежать каторги. Что касается семьи… Моя мать умирает в Полтаве, не имея средств лечиться, братья и сестры пухнут с голоду. Но не о том сейчас речь. — Голос его поднялся, а жестом руки он словно отрубил слова беснующегося рыжего. — Революции можно помогать, даже находясь вдали от родины. А ты, теоретик от неизвестно чего, где ты сражался на баррикадах? Скажи Филадельфии!
Рыжий крикнул в рупор:
— Демагогия! Мы с революцией повенчаны!
— А не с охранкой? — вдруг спросил Восков и обратился к своим соотечественникам. — Ребята! Всмотритесь! Кто помнит его по тюрьмам? Киев, Харьков, Екатеринослав!
К трибуне начали пробираться люди. «Теоретик» отшвырнул рупор и быстро спустился в толпу. Филадельфийцы закричали.
— Видите, — сказал Восков, — кого сюда засылает русский царизм. Но это значит, царизм боится нас и здесь, из-за океана. Ай да мы! Да здравствует русская революция и дружба всех живущих в Америке рабочих! Ну, час поздний. До встречи, ребята!
И он воодушевленно запел, а припев подхватила вся площадь:
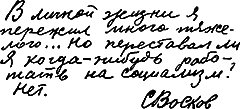 — Чудовищно! — горячился он. — Мы считаем себя социалистами, а позволяем царской охранке засорять мозги эмигрантов черносотенным «Русским словом». Да вы вспомните, с чего начал организацию партии Ленин, — с политической газеты!
— Мы бедняки, Семен, — недоумевали они. — Где ты возьмешь деньги на такую газету?
— Чепуха! Выпустим пятьсот акций по пять долларов каждую. Да неужели мы не найдем в Америке пятьсот сознательных людей, желающих узнать правду о рабочей России, о ее революции, о ее людях, о положении эмигрантов в Америке?!
— К вам гость из России, — сообщила однажды Лиза. — Называет себя почему-то эксом, такой маленький, черноглазый…
— А ну их к дьяволу, эксов!
— Двое владельцев уже внесли свой пай, — раздался голос с порога. — Вы под надежной охраной людей, преданных мануфактурным товарам…
— Илья! — радостно закричал он. — Да это же Илья Фишкарев — гроза харьковской буржуазии!
Они обнялись, Илья осторожно прикоснулся к повязкам.
— Трогательно тебя разделали… Мне говорили, что ты уже был на том свете.
— Чепуха! Как нам можно уходить на тот свет, когда на этом еще невпроворот работы. Рассказывай!
— Украина, Крым, пяток морей, и вот я в Нью-Йорке.
— Послушай, мы затеваем свою газету… «Новый мир». «Мы наш, мы новый мир построим…»
Лиза закрыла за гостями и вернулась к Семену.
— Лиза, хотите узнать, о чем думает сейчас ваш больной?
— Я индийский факир, — как-то нервно сказала она, — я знаменитый шаман из племени острова Манхаттан. Мой больной думает сейчас о волшебной газете. Угадала?
— Только наполовину.
Она почувствовала, что он вдруг стал серьезен. Повторил:
— Вы провидец наполовину. Я думаю о вас и о себе, Лиза.
Через месяц они зажили своей семьей. Свадьбу устроили скромную. Лиза посмеивалась: «Семен повенчан с газетой».
Типография и редакция «Нового мира» разместились в трех маленьких полуподвальных комнатках по Восьмой авеню в центре рабочих кварталов Нью-Йорка. Идея социалистов быстро нашла сторонников, акции газеты разошлись, в редакционную коллегию была избрана группа участников русской революции. Каждый из них нашел здесь свое место, хотя они и не обладали столь острым фельетонным даром, как уральский подпольщик, печатавшийся под псевдонимом «Джан Эллерт».
— Признайтесь, что вы и есть Марк Твен, — смеялась редакция.
— Ошибаетесь, — серьезно отвечал уралец. — Я бывший батрак, грузчик, кузнец, артист и матрос.
У Эллерта был нюх на людей, и он привлек в газету Володарского, который сразу полюбился Семену широкими знаниями и точностью своих оценок.
Восков умел ладить с людьми, но с самого начала у него сложились довольно сложные отношения с редактором газеты — известным меньшевиком Дейчем. Семен не раз упрекал себя за то, что при обсуждении этого кандидата снял возражения, уступив доводу: «Новой газете нужно имя». У Дейча, помимо имени, оказалось и много спеси.
— Кого вы ввели в редакцию? — издевательски спрашивал Дейч, не стесняясь присутствием Семена или Андрея, машиниста с Северного Кавказа. — Мастеровых, которые слово «железо» способны написать через «и»?
— Кого мы пригласили в редакторы? — не оставался в долгу Семен. — Человека, готового выбросить рабочую заметку в корзину и поставить на ее место статью для лягушачьей запруды?
— На что вы намекаете? — взрывался Дейч.
— На ваши экономические обозрения, где не остается места для политического, классового воспитания рабочих!
— Рабочий хочет кушать, Восков, а не читать политические трактаты.
— Марксист должен поднимать людей к свету, — яростно возражал Семен, — а не тыкать их носом в миску.
Разъезжая по городам, Семен присылал в газету краткие зарисовки, дополняя их своими размышлениями: «Американскому столяру выплачивают 4–5 долларов, — писал он, — за ту же работу, что эмигранту — 1½ доллара. Итак, нам хотят сказать, что один американский плотник равен четырем русским или четырем итальянским. Поверим ли мы только? Кому выгодно разжигать среди рабочих распрю?»
Приезжал в редакцию, не побывав еще дома, чаще ночью.
Если рукопись попадала к Дейчу и он, презрительно шевеля губами, комментировал: «просто», «приземисто», «в лоб», — Восков спокойно отвечал:
— Подчеркните, что вам не нравится. Я подумаю. Только не учите меня писать вычурно, Дейч. Газета наша рабочая и многие читают ее по складам. Нужно писать так, чтобы рабочий нас понимал.
Но настоящий бой произошел у них вокруг дела матроса Федора Малкова, социалиста и активного участника восстания на броненосце «Потемкин». После подавления восстания Малков бежал, долго скитался по подложному паспорту, снова был схвачен и вторично бежал. В Либаве он перехитрил жандармов, пробрался на «Бирму», а при подходе в Нью-Йоркский порт бросился в море и поплыл к берегу. Американские власти его заточили на Эллис-Айланд, а русское правительство потребовало выдачи Малкова.
— Мы должны выступить! — заявил Восков.
— Это будет выглядеть, как вмешательство в дела Америки, — возразил Дейч.
— Слушайте, Дейч, — угрожающе произнес Восков, — мы для того и создали свою газету, чтобы помогать эмигрантам, помогать революционной России. В лице Малкова — обе эти силы. Я подниму против вас все наши рабочие союзы!
Дейч вынужден был уступить. Газета открыла кампанию в защиту политического беженца.
Семен выступал на митингах по нескольку раз в день — на улицах, в мастерских, в порту, на вечерах русских отделов.
— Федор Малков должен быть на свободе! — заявлял он. — Царизм заслужил, чтобы получить эту оплеуху от международного рабочего движения.
На одном из митингов он встретил Джона Рида.
— Алло, мистер Восков, — приветствовал его Рид. — Скажите для моей газеты, как вы оцениваете действия имиграционных властей, решивших выслать мистера Малкова обратно в Россию?
— Как величайший подарок Николаю Романову и его вешателям, — громко ответил Восков.
Из толпы раздались возгласы «Позор!» «Предательство!».
Лиза однажды сказала мужу:
— О себе уже не говорю, но сына ты не видел две недели.
— Вот погоди, вернемся в Россию, — он вздохнул, — отберем у Ромашки власть и до того по-семейному заживем…
— Ну, не лги! — сердилась она. — Никогда-то Семен Восков не будет жить в четырех стенах, по-семейному, — передразнила она его.
Он засмеялся, нежно обнял жену.
— Вот видишь… Ты уже годишься в шаманы.
Поднял в воздух сына, огляделся, увидел на полу матрацы.
— Ага. Гости нас с тобой не обходят. Но в этом тоже кусочек счастья, да?
— Да, да, — ворчливо сказала она. — Ты уж рад весь свой столярный цех из одной миски накормить. Сам-то ешь?
— Когда время позволяет, — честно сказал он. — Гуд бай.
Уже сбегая с лестницы, он услышал крики маленьких газетчиков: «Федор Малков на свободе! Федор Малков на свободе!».
— До чего здорово, джентльмены! — крикнул он, разворачивая газету на трибуне. — Матроса с «Потемкина» Николашке не выдали. Вот что значит, когда мы все заодно!
К Лизе постучались через час:
— Вы только не пугайтесь. Вашего мужа немножко ранили… После собрания… Его сейчас привезут.
— Чудовищно! — горячился он. — Мы считаем себя социалистами, а позволяем царской охранке засорять мозги эмигрантов черносотенным «Русским словом». Да вы вспомните, с чего начал организацию партии Ленин, — с политической газеты!
— Мы бедняки, Семен, — недоумевали они. — Где ты возьмешь деньги на такую газету?
— Чепуха! Выпустим пятьсот акций по пять долларов каждую. Да неужели мы не найдем в Америке пятьсот сознательных людей, желающих узнать правду о рабочей России, о ее революции, о ее людях, о положении эмигрантов в Америке?!
— К вам гость из России, — сообщила однажды Лиза. — Называет себя почему-то эксом, такой маленький, черноглазый…
— А ну их к дьяволу, эксов!
— Двое владельцев уже внесли свой пай, — раздался голос с порога. — Вы под надежной охраной людей, преданных мануфактурным товарам…
— Илья! — радостно закричал он. — Да это же Илья Фишкарев — гроза харьковской буржуазии!
Они обнялись, Илья осторожно прикоснулся к повязкам.
— Трогательно тебя разделали… Мне говорили, что ты уже был на том свете.
— Чепуха! Как нам можно уходить на тот свет, когда на этом еще невпроворот работы. Рассказывай!
— Украина, Крым, пяток морей, и вот я в Нью-Йорке.
— Послушай, мы затеваем свою газету… «Новый мир». «Мы наш, мы новый мир построим…»
Лиза закрыла за гостями и вернулась к Семену.
— Лиза, хотите узнать, о чем думает сейчас ваш больной?
— Я индийский факир, — как-то нервно сказала она, — я знаменитый шаман из племени острова Манхаттан. Мой больной думает сейчас о волшебной газете. Угадала?
— Только наполовину.
Она почувствовала, что он вдруг стал серьезен. Повторил:
— Вы провидец наполовину. Я думаю о вас и о себе, Лиза.
Через месяц они зажили своей семьей. Свадьбу устроили скромную. Лиза посмеивалась: «Семен повенчан с газетой».
Типография и редакция «Нового мира» разместились в трех маленьких полуподвальных комнатках по Восьмой авеню в центре рабочих кварталов Нью-Йорка. Идея социалистов быстро нашла сторонников, акции газеты разошлись, в редакционную коллегию была избрана группа участников русской революции. Каждый из них нашел здесь свое место, хотя они и не обладали столь острым фельетонным даром, как уральский подпольщик, печатавшийся под псевдонимом «Джан Эллерт».
— Признайтесь, что вы и есть Марк Твен, — смеялась редакция.
— Ошибаетесь, — серьезно отвечал уралец. — Я бывший батрак, грузчик, кузнец, артист и матрос.
У Эллерта был нюх на людей, и он привлек в газету Володарского, который сразу полюбился Семену широкими знаниями и точностью своих оценок.
Восков умел ладить с людьми, но с самого начала у него сложились довольно сложные отношения с редактором газеты — известным меньшевиком Дейчем. Семен не раз упрекал себя за то, что при обсуждении этого кандидата снял возражения, уступив доводу: «Новой газете нужно имя». У Дейча, помимо имени, оказалось и много спеси.
— Кого вы ввели в редакцию? — издевательски спрашивал Дейч, не стесняясь присутствием Семена или Андрея, машиниста с Северного Кавказа. — Мастеровых, которые слово «железо» способны написать через «и»?
— Кого мы пригласили в редакторы? — не оставался в долгу Семен. — Человека, готового выбросить рабочую заметку в корзину и поставить на ее место статью для лягушачьей запруды?
— На что вы намекаете? — взрывался Дейч.
— На ваши экономические обозрения, где не остается места для политического, классового воспитания рабочих!
— Рабочий хочет кушать, Восков, а не читать политические трактаты.
— Марксист должен поднимать людей к свету, — яростно возражал Семен, — а не тыкать их носом в миску.
Разъезжая по городам, Семен присылал в газету краткие зарисовки, дополняя их своими размышлениями: «Американскому столяру выплачивают 4–5 долларов, — писал он, — за ту же работу, что эмигранту — 1½ доллара. Итак, нам хотят сказать, что один американский плотник равен четырем русским или четырем итальянским. Поверим ли мы только? Кому выгодно разжигать среди рабочих распрю?»
Приезжал в редакцию, не побывав еще дома, чаще ночью.
Если рукопись попадала к Дейчу и он, презрительно шевеля губами, комментировал: «просто», «приземисто», «в лоб», — Восков спокойно отвечал:
— Подчеркните, что вам не нравится. Я подумаю. Только не учите меня писать вычурно, Дейч. Газета наша рабочая и многие читают ее по складам. Нужно писать так, чтобы рабочий нас понимал.
Но настоящий бой произошел у них вокруг дела матроса Федора Малкова, социалиста и активного участника восстания на броненосце «Потемкин». После подавления восстания Малков бежал, долго скитался по подложному паспорту, снова был схвачен и вторично бежал. В Либаве он перехитрил жандармов, пробрался на «Бирму», а при подходе в Нью-Йоркский порт бросился в море и поплыл к берегу. Американские власти его заточили на Эллис-Айланд, а русское правительство потребовало выдачи Малкова.
— Мы должны выступить! — заявил Восков.
— Это будет выглядеть, как вмешательство в дела Америки, — возразил Дейч.
— Слушайте, Дейч, — угрожающе произнес Восков, — мы для того и создали свою газету, чтобы помогать эмигрантам, помогать революционной России. В лице Малкова — обе эти силы. Я подниму против вас все наши рабочие союзы!
Дейч вынужден был уступить. Газета открыла кампанию в защиту политического беженца.
Семен выступал на митингах по нескольку раз в день — на улицах, в мастерских, в порту, на вечерах русских отделов.
— Федор Малков должен быть на свободе! — заявлял он. — Царизм заслужил, чтобы получить эту оплеуху от международного рабочего движения.
На одном из митингов он встретил Джона Рида.
— Алло, мистер Восков, — приветствовал его Рид. — Скажите для моей газеты, как вы оцениваете действия имиграционных властей, решивших выслать мистера Малкова обратно в Россию?
— Как величайший подарок Николаю Романову и его вешателям, — громко ответил Восков.
Из толпы раздались возгласы «Позор!» «Предательство!».
Лиза однажды сказала мужу:
— О себе уже не говорю, но сына ты не видел две недели.
— Вот погоди, вернемся в Россию, — он вздохнул, — отберем у Ромашки власть и до того по-семейному заживем…
— Ну, не лги! — сердилась она. — Никогда-то Семен Восков не будет жить в четырех стенах, по-семейному, — передразнила она его.
Он засмеялся, нежно обнял жену.
— Вот видишь… Ты уже годишься в шаманы.
Поднял в воздух сына, огляделся, увидел на полу матрацы.
— Ага. Гости нас с тобой не обходят. Но в этом тоже кусочек счастья, да?
— Да, да, — ворчливо сказала она. — Ты уж рад весь свой столярный цех из одной миски накормить. Сам-то ешь?
— Когда время позволяет, — честно сказал он. — Гуд бай.
Уже сбегая с лестницы, он услышал крики маленьких газетчиков: «Федор Малков на свободе! Федор Малков на свободе!».
— До чего здорово, джентльмены! — крикнул он, разворачивая газету на трибуне. — Матроса с «Потемкина» Николашке не выдали. Вот что значит, когда мы все заодно!
К Лизе постучались через час:
— Вы только не пугайтесь. Вашего мужа немножко ранили… После собрания… Его сейчас привезут.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДНЕЕ МИРНОЕ ЛЕТО
— Ты ранен? — С чего ты взяла! — Уотс ронг уиз ю?[12] — Ай эм ол райт.[13] — Тогда почему ты молчишь? — Не люблю чувствовать себя беспомощным… даже перед стихией. Это было третье Сильвино знакомство с горным югом. В тридцать седьмом — пеший маршрут по Военно-Осетинской дороге, в тридцать девятом — высокогорный лагерь у подножия Эльбруса, и вот сейчас предстоял переход через перевал Донгуз-Орун с выходом на Сванетию. Были долгие колебания. Не хотелось оставлять маму, которая что-то затосковала, как это всегда случалось, когда задерживались вести о муже. Думала, что с Ленкой поедет на соревнования трех городов, но от ЛЭТИ взяли только баскетбольную команду. Володя Жаринов где-то бегал, что-то разузнавал, наконец, торжествующий, разыскал Сильву в перерыве, помахал путевками. — Порядок! Уговорил два Цека союза! Альплагерь «Молния»! Сильва его остановила: — Разве мы договаривались? — Послушай, такой случай не повторится. Думай. Ей очень хотелось поехать, но бесенка уже разбудили: — Ты не должен был решать сам. Не поеду. — А я все-таки буду ждать. Неделю, — сказал он. Ее уговаривали и Ленка, и мама. Оставшись вдвоем с Леной, Сильва высказалась напрямик: — Допустим, я приму Володино приглашение. А он возьмет и расценит это как-нибудь не так. Лена с жаром возразила: — Во-первых, это глупость. Все мы достаем друг для друга путевки, и никто от этого не женихается. Во-вторых, Володя отличный и скромный парень. А в-третьих, ты умеешь резать правду-матку, вот и предупреди Володю. В этот вечер все они собирались на свадьбу к Нине — Сильвиной приятельнице по группе. Только месяц назад эту самую Нину студенты разделывали «под орех» за пропуски занятий, пересдачи, сплошные «тройки», и Сильва сказала с места: — У меня тоже бывали тройки, но, честное слово, я после каждой психовала… Троечный инженер. Это что-то вроде плотника, который пытается сколотить скрипку. Тебе самой не противно? Помогло. Даже предстоящая свадьба не помешала сдать сессию. Молодоженов поздравили с выдумкой, песнями, по-студенчески. Володя и Сильва сидели рядом. Она вдруг тихо сказала: — Мама и Лена меня агитируют за поход. Но если я соглашусь, как ты это поймешь? Володя с досадой сказал: — Перестань, я знаю, о чем ты… Я хочу в поход, потому что это хороший случай для закалки. Кто знает, что готовит миру фашизм. Вчера Австрия, Чехословакия, Польша, сегодня Франция… Глотают, как пироги с начинкой. — Сталин говорит, что война от наших границ отведена, — вспомнила Сильва. — Знаю, — отозвался Володя. — Все докладчики его цитируют, а потом призывают нас быть готовыми. Не знаю, как ты, а я хочу быть готовым в любой момент. — Логично, — сказала Сильва. — Когда мы выезжаем? С Володей было интересно, весело и, главное, все у них было на равных: и «сухой паек», и шутки, и трудности. От селения Верхний Баксан им предстояло подняться метров двести по довольно крутому «докторскому перевалу», на вершине которого альпинистов действительно ожидал врач, определявший по дыханию и пульсу, кому дорога в альплагерь заказана, а кому нет. Сильву тронуло, что Володя не навязывался с помощью, а уже у самого плато словно невзначай обронил: — С горами ты в дружбе. Тебя пропустят. Их пропустили. Жизнь в альплагере была вовсе не сказочной. Инструктор попался требовательный. Они учились вбивать крюки в скалистые щели, намертво закрепляться на уступах, ходить на «кошках», высекать в ледовой толще ступени не только ледорубом, но и ударом ботинка. Кавказ покорил и тех, кто был здесь впервые, и тех, кто, как Сильва, уже считал себя старожилом. Они никогда не думали, что вершины могут быть и столь красивыми, и столь коварными, а звезды такими крупными, что казалось: протяни руку — и сорвешь их, как гроздь винограда. Они увидели цветы, напоминающие раскрытые огненные чаши, и боязливо выглядывающий из-под снега и по-снежному белый рододендрон. — Две недели открытий, — сказала Сильва. Она была счастлива. Особенно полюбились ей редкие минуты перед отбоем, когда они усаживались у костра в кружок — и начинались занятные истории, песни, подшучиванье. Тогда еще не было транзисторных приемников, и они, отрезанные на эти дни от мира, гадали, что же в нем происходит. — Париж? — Партизаны маки, — говорил кто-нибудь один, — ликвидировали гитлеровского гаулейтера. — Лондон? — Не спит. Готовится отбить воздушный десант гитлеровцев. Игра до того увлекала, что инструктор возвращал альпинистов к действительности одним словом: — Ленинград? И все отвечали хором: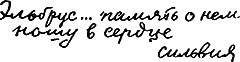 — Жаринов, на «ге»!
Володя невозмутимо подключался:
— Гора. Неровность на земле, затрудняющая движение по ней.
— Воскова, на «зе»!
— Звезды, — радостно откликалась Сильва. — Единственное вечернее освещение в альппоходе.
Ей до того понравился этот словарь, что она занесла его в дневник. Здесь были и «гигиена — экзотическое животное, редко перебегающее альпинистские тропы», и «ишак — обладающий, в отличие от альпиниста, тремя качествами: скромностью, выносливостью и молчаливостью». Маленький трудолюбивый ишак, сопровождавший их и по знаменитой Ингурской тропе, которая вела в Сванетию, был Сильвиным любимцем.
Володя, диктовавший Сильве на стоянках новые афоризмы, вдруг увидел, что из дневника выпал листок, поднял его, успел прочесть:
— Жаринов, на «ге»!
Володя невозмутимо подключался:
— Гора. Неровность на земле, затрудняющая движение по ней.
— Воскова, на «зе»!
— Звезды, — радостно откликалась Сильва. — Единственное вечернее освещение в альппоходе.
Ей до того понравился этот словарь, что она занесла его в дневник. Здесь были и «гигиена — экзотическое животное, редко перебегающее альпинистские тропы», и «ишак — обладающий, в отличие от альпиниста, тремя качествами: скромностью, выносливостью и молчаливостью». Маленький трудолюбивый ишак, сопровождавший их и по знаменитой Ингурской тропе, которая вела в Сванетию, был Сильвиным любимцем.
Володя, диктовавший Сильве на стоянках новые афоризмы, вдруг увидел, что из дневника выпал листок, поднял его, успел прочесть:
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. «ЧУДАКИ» ПРОБЬЮТСЯ
Он столярничал уже полтора десятка лет. Он владел инструментом, как виртуоз. Кто-то из друзей пустил шутку: если бы на митинге эмигрантов понадобилось сыграть на скрипке и ее бы не оказалось, мистер Восков сыграл бы на рубанке. А сейчас рубанок в руках «не играл». Он сел на ящик и задумался. Глубокая складка перерезала его лоб, шрам — след недавнего побоища — порозовел, руки непроизвольно зашевелились, словно выбирая стружку. Собственно, ничего трагичного. «Русские рабочие союзы» действуют уже в сорока городах и производственных районах Штатов. Доверие к меньшевикам и анархистам подорвано; союзами ведает Американская Социалистическая партия. В редакции «Нового мира» перемены. Дейчу пришлось уйти, редакторское кресло занял Джан Эллерт. Не все в нем Семену нравилось, но в газетной хватке Эллерту отказать нельзя. Фельетон «К 300-летию дома Романовых», над которым потрудился и Эллерт, и Восков, и все они, был хорошо принят читателями. Долго еще в рабочих кварталах будут повторять запомнившуюся им фразу: «Рука палача требует, чтобы ее целовали». Назревают крупные события и в самой России. Недолго уже им, политическим эмигрантам, работать на чужбине. Воскова выдвинули в правление союза, — это вызвало у одних радость, у других замешательство, даже недовольство. Дело было не в нем, бруклинском столяре. Он баллотировался по списку Социалистической партии — вот что явилось «сюрпризом» для Нью-Йорка. — Чудак, — сказал ему один из профсоюзных лидеров, некто Грайв. — Да будь ты хоть второй Карл Маркс, тебя на пушечный выстрел не подпустят к нашим правлениям ни в центре, ни на местах. Поверь уж мне… Тридцать пять лет существует Американский союз строительных рабочих, но социалистов в его правлении еще не было. Так что брось это дело, парень. — Почему вы так боитесь социалистов? — недоумевал Восков. — Что, интересы рабочих мы менее умело защищаем, чем вы, республиканцы или демократы? — Слушайте, мистер, — довольно откровенно пояснил Грайв. — Не забывайте, вы в Америке, а не в России. Нам ваши революционные штучки не больно нужны. У нас с большим бизнесом свой договор. — Договор за спиной рабочих? — воскликнул нарочито наивно. Лидер поспешил отшутиться: — У всякого петуха своя повадка отбиваться от лисы. Когда профсоюзные лидеры узнали, что Воскова выдвинули для баллотировки рабочий Броунзвилл и негритянский Гарлем, столярные цехи Бронкса и Бруклина, они всполошились. К Воскову на дом командировали адвоката Ричардсона — хитрейшего мастера вести рабочие дела таким образом, что не только его клиенты, но и предприниматели оставались довольны. Ричардсон выбрал время, когда Семен был в отъезде, и пришел к его жене. — Многовато у вас коек, миссис, — любезно начал он. — Большая семья? — Наследник пока один, — пояснила Лиза. — Зато друзей у Семена — не один город. — Боюсь, что друзья и города не помогут, миссис, если нам с вами не удастся отговорить вашего мужа баллотироваться в правление. Он рискует не найти хорошей работы в Америке. Лиза пересказала этот разговор Семену. — Что же ты ему ответила, Лизонька? — Сказала: «Сенк ю, мистер Ричардсон. Вся беда в том, мистер Ричардсон, что мистер Восков никогда не понимал, что значит хорошая работа без хорошей драки в пользу рабочих». Он вскочил из-за стола, закружил ее. — Это по-полтавски! Она высвободилась, дернула его за короткую прядь. — Остепенись, Восков. Сколько ребер тебе уже наломали? В тот же вечер его разыскал Ричардсон, затараторил: — Ай шант кип ю лонг, зэр из самсинг ай вонт ту аск ю.[14] — Ит-с ноу юз[15], мистер Ричардсон, — улыбнулся Восков. — Я уже дал согласие баллотироваться в правление. Такие люди, как я, дважды не решают… в особенности после тех серьезных предостережений, которые вы сделали через жену. — Вы оптимист, мистер Восков, — адвокат сверкнул зубами. — Мы знаем, что вас ценят в низах. Но выборы — вещь коварная. И если вас провалят… — Америка большая, мистер Ричардсон, и планета наша тоже. Но ему не пришлось в этот год бродить по планете. Профсоюзные боссы просчитались. Они не учли, что в городском юнионе, кроме них, объединена армия столяров и плотников. Восков получил голосов больше, чем любой другой кандидат. И на первом же заседании нового правления вступил в бой: — Джентльмены, — сказал он кратко. — Мне не нравится то, что мы делали до сих пор. Забастовки в Бронксе и в порту окончились компромиссом, который выгоднее бизнесу, чем столярам и грузчикам. Это наша вина, джентльмены, и здесь не нужно ваньку валять, как говорят у нас в России. — Еще день, и полиция бы арестовала наших лучших функционеров! — закричал краснолицый Грайв. — А что, лучше подставить под удар армию рабочих? Председатель угрюмо спросил: — У вас есть деловое предложение, мистер Восков? Семен был подготовлен к вопросу. — На прошлом заседании, — пояснил он, — вы предложили бруклинским столярам вступить в переговоры с компанией. Директорат вчера переговоры сорвал. На улице нашим делегатам нанесены ножевые ранения. Я вас спрашиваю, джентльмены: это повод для забастовки? — Позвольте, — Ричардсон даже поднял руку, защищаясь, — позвольте, мистер Восков. Если после каждой уличной потасовки мы будем бастовать… Восков даже побелел от гнева. — Ладно, гордость спрячем в карман. Но сердце у кого-нибудь здесь есть? Дискуссия продолжалась до утра. Восков спорил, доказывал, убеждал, ссылался на опыт России. На рассвете запрет бастовать, объявленный предприятиям и мастерским мощного объединения в Бруклине, был снят. Известие об этом дошло до заправил акционерного общества довольно быстро. В этот же день Воскова пригласили на банкет правления общества, на благотворительный вечер общества, на пикник общества. Он отклонил все приглашения, но, вызванный в контору к одному из директоров правления, явился в назначенный час. — Хэлло, мистер Восков, — заметил директор, когда они уселись. — Вы работаете в ателье нашей фирмы уже несколько лет, и мы смогли оценить вашу квалификацию и ваше старание. Правление решило премировать вас пакетом акций. — Ноу, ноу! — Восков поднял обе руки кверху. — Пощадите! Тем самым я перехожу из класса рабочих в класс предпринимателей. Это для меня невозможно, мистер Хаст. Хаст сочувственно покивал. — Все мы были романтиками. Надеюсь, Грайв, Ричардсон, Пелли и Траман вам известны — ваши коллеги, сэр. Вот как! И Траман тоже подкуплен? — Недоразумение, мистер Хаст. Вы говорите не о моих коллегах, а о моих идеологических противниках. Хаст даже подскочил настуле. Уже внимательнее осмотрел собеседника, оценил и его выжидательный, со смешинкой, взгляд, и твердо очерченный подбородок, выдающий упорство характера. — Ладно, ладно, мистер Восков, — улыбаясь, сказал он. — С вами, я вижу, нужно говорить напрямик. У компании — немалые затраты, мы завозим в цехи новое оборудование. Стачка нам была бы крайне нежелательна. Восков ударил по столу ребром ладони. — Мистер Хаст, у вас есть хорошая возможность ее избежать. Повысьте расценки столярам хотя бы на десять процентов и публично распустите отряд гангстеров, которых директорат нанял для запугивания рабочих функционеров. — А другой возможности, вроде той, что я вам предложил, мистер Восков, вы не видите? — Ноу, ноу! — Семен опять прибег к наивному тону. — Стать предпринимателем? Не могу, не просите… Хаст хлопнул в ладоши, и в кабинет из боковой двери вошло двое молодых людей в клетчатых безрукавках. — Вы говорили о гангстерах, мистер Восков? Знакомьтесь. Предупреждаю, вам уже не удастся никому сообщить их приметы. Может быть, вы еще раз обдумаете наше предложение? Восков полез в карман, но один из вошедших грубо схватил его за руку и в ту же секунду отлетел в угол, другой вытащил револьвер. — Не здесь! — шепотом выдохнул Хает. — Лучше вообще нигде, — усмехнулся Семен. — У меня для вас в кармане письмо, мистер Хаст. Хаст протянул руку, и Семен вложил в нее конверт. Резким движением директор его вскрыл и быстро пробежал взглядом отпечатанные на машинке строки. Правления двенадцати низовых организаций сообщали: «Члены нашего союза начинают забастовку, если вами не будут приняты условия, переданные мистером Самуэлем Питером Восковым. Для охраны нашего представителя контора директората окружена рабочим патрулем, и нами приглашен к вам на 16.00 окружной прокурор». Хаст посмотрел на ручные часы, перехватил усмешку Воскова и удалил обоих парней в безрукавках. — Забудем этот инцидент, — сказал он. — Гангстеров вышлем. Это может вас удовлетворить? — Десять процентов, — напомнил Семен. Хаст встал, дав понять, что разговор окончен. — Да, — спохватился он. — В приемной ожидает окружной прокурор. Сообщите ему, пожалуйста, что вас… что вы… Одним словом, я приношу вам извинение, мистер Восков. Поверьте, это была пустая угроза, мы пошутили. …Забастовка в Бруклине длилась около месяца. В ней участвовали тысячи рабочих: столяров и плотников, строителей и ремонтников. Ежедневно заседали правления союзов и директораты кампаний. — Вопрос идет о том, у кого крепче нервы, — говорил Восков. — И еще… У всех у нас есть дети. Я уверен, наши отделы в Филадельфии, Питтсбурге, Сант-Луисе помогут бруклинцам. — У них есть дети, — успокаивал в это же время группу директоров Хаст. — Они должны уступить. Но он не знал, что помощь из других городов Америки уже в пути. Что газета «Новый мир» оповестила трудовую Америку о тяготах бруклинцев. Директорат нанял отряды штрейкбрехеров. Но рабочие патрули преградили им дорогу. На помощь была вызвана полиция. Тогда руководители трех нью-йоркских отделений рабочих союзов заявили, что в случае вмешательства вооруженных сил прекратят всякое движение транспорта в городе и работы в порту… — А ведь мы победили! Победили! С этим возгласом вбежал в правление союза строителей адвокат Ричардсон. Он размахивал газетами и всем пожимал руки. Семен не считал, что борьба окончена. Он только приступал к разоблачению предателей из своего же союза. Он приводил точные и страшные факты. Профсоюзные боссы знали, что компромисса здесь ждать не приходится. Они пошли на отчаянный шаг. Они решили изолировать Воскова и его сторонников в дни проведения всеамериканского съезда строительных рабочих. Догадываясь, что нью-йоркскую делегацию на съезд низовые организации поручат возглавить Воскову, они заранее послали Ричардсона и Грайва в центральное правление, чтобы договориться о провокации. Выезд Воскова и других делегатов был под смехотворным предлогом «опустошенности кассы правления» задержан на сутки. …И вот в маленьком южноамериканском городке, где собрались лидеры строителей со всех концов САСШ, происходит фарс. Мистеру Воскову и его группе, оказывается, не обеспечен ночлег. Мистеру Воскову и его группе, оказывается, не хватило пригласительных билетов. — Вернемся домой, — гневно говорит один из делегатов. — Напротив, — Восков тверд и спокоен. — Чем плох для нас коридор перед залом съезда? Чем не трибуна? Они рассаживаются в коридоре, как если бы они сидели в зале. То и дело выходят делегаты, оживленно комментируя речи. Оказывается, выступал и Ричардсон, якобы представляющий делегацию штата Нью-Йорк. Они отозвались только репликой: — Увидеть бы его лицо, когда он увидит нас. Они затевают «свой» съезд — тут же. К ним стекаются любопытные — с улицы и из зала. Среди делегатов — волнение: в коридоре какая-то группа функционеров утверждает, что избрана на съезд. Боссы вынуждены прервать заседание и начать переговоры с Восковым. — Кто вы такие, джентльмены? Мы вас не знаем. — Ложь! Знаете. А не знаете — спросите у Ричардсона. — Это не меняет дела. Чего вы хотите? — Своих законных мест в зале съезда. — Джентльмены, допустим, мы исправим ошибку… О чем вы хотите говорить? — О чистке руководства в союзе. — Благодарим за прямоту. Мы вас не впустим. — Благодарим за быстрое решение. Мы возьмем зал приступом. Им не понадобилось вторгаться в зал — съезд вышел к ним. Они сказали все, что хотели, посланцы столяров американского севера. Поднялся страшный шум. Появился шериф, выслушал объяснения, пряча усмешку, заметил: — Мистер Восков, не знаю, что приведет к большим беспорядкам — силой удалить вашу делегацию или силой втолкнуть вас в зал. Семен от души рассмеялся. — Вы человек с юмором, шериф. Но после того, что вы слышали, нам уже нечего здесь делать. Мы уезжаем. Местные репортеры рассказали о съезде правду. Семен выложил газеты на стол перед членами своего правления. После долгих дебатов председатель вынес вердикт: — Мы должны извиниться перед мистером Восковым за неправомочные действия некоторых членов правления. Мы вынуждены обязать мистеров Ричардсона и Грайва, как ни прискорбно это, испросить у нас продолжительный отпуск для восстановления своего здоровья. …Илья Фишкарев, рассказывая Семену о пожертвованиях в фонд России, вдруг вспомнил: — Чудеса, да и только! Акционерное общество столярных и ремонтных мастерских предоставило Ричардсону у себя место. Адвокат рабочих стал адвокатом хозяев! — Жаль, нет Рида, — сказал Семен. — Он бы его разделал. Но Джон на Балканах или в России. Отнеси информацию Эллерту. Рид писал с фронтов. Восков жадно следил за событиями в Европе. Стал ярым приверженцем ленинской позиции о превращении империалистической войны в войну гражданскую. Написал об этом статью для «Нового мира». Но Эллерт уклончиво сказал: — Милый Восков, я не хочу стать предметом насмешек в Америке, России пока далеко до революции. — Близко, — твердо возразил Восков. — Печатайте, Эллерт! Когда он появлялся в редакции, раздавались реплики: — Сейчас нам сообщат, что вчера большевики взяли в России власть в свои руки. — Так и будет, — он тряс друзей за плечи, — потому что курс большевиков — революция. — Я с большевиками, — повторял он с трибуны. — Прочитайте, как Ленин пишет о положении детей рабочих. Илья Фишкарев отвел его в сторону. — Семен, ты все за детей печешься. У тебя самого трое. Ты когда их видел в последний раз? — Подожди, подожди, — Семен оторопел. — В воскресенье… Нет, в воскресенье я выступал в Сант-Луисе. В субботу… в субботу мы дрались с владельцами чикагских боен. В пятницу… — Он развел руками. — Ты же сам меня затащил в пятницу на вечер памяти русских каторжан… Первого марта клуб русских эмигрантов устраивал семейный пикник рабочих. Семен решил посвятить весь день детям. Илья увидел Воскова на платформе метро. Он бежал, размахивая пачкой газет, широко улыбаясь, не замечая, что становится предметом насмешливого интереса пассажиров. Чуть не налетел на Илью, схватил его за руку: — Читал «Ивнинг джорнэл»[16]? Свершилось! Свершилось! В России революция! Николашку свалили! Он обнял Илью, рассыпал по платформе пачку газет, бросился их подбирать, не переставая твердить: — Свершилось! Завтра же едем, Илья! Едем! — Не дави меня криком! — пошутил Илья и грустно сказал: — Помнишь эмигрантскую песенку: «В Россию из Америки уходит пароход. В долг нищему поверит кто? Кто в путь нас соберет?» Много ты накопил в Америке? Семен призадумался. — Пусть так, — вздохнул он. — Но у нас есть друзья. Он не ошибся. В течение трех недель знакомые и незнакомые рабочие люди собрали из своих скудных сбережений небольшую сумму. Но ее могло хватить только на несколько билетов в Россию. И первым из русских эмигрантов, которому они пожертвовали эти доллары и центы, был назван Самуэль Питер Восков. Узнав о том, что Восков готовится уехать, бруклинские столяры направили к нему большую делегацию. — Мы тут поговорили между собой, — сказал руководитель районного союза, — и решили просить тебя не уезжать, Самуэль. А чтобы ты не оставался на бобах, решено за счет отчислений рабочих заработок твой увеличить вдвое. Восков сидел за столом невеселый. — А мне, думаете, не жалко уезжать? Мало я вложил в наши баталии с дядей Долларом? Но моя родина — Россия, ребята. И у нас там революция. Долго они молчали. — Ладно, — сказал руководитель. — Надо — значит надо. Вот еще что решили. Семью твою отправим следующим пароходом — за свой счет. Молчи, Восков, молчи! Мало ты вложил в баталии? Наступает 27 марта 1917 года. Океанский лайнер «Христиане» принимает на свой борт пассажиров, мало подходящих по своим взглядам к названию судна. Поднимается по трапу группа известных большевиков, несколько сотрудников «Нового мира». Восков на палубе, но снова спускается на набережную Гудзона, одного за другим поднимает в воздух своих малышей. — До встречи в Питере, Даня, — тихо говорит он старшенькому. — Ух, и тяжеловес ты стал. — Помни отца, Витюша! — шепчет он среднему. — Говорят, ты больше на меня похож. Значит, будешь вариться в рабочем котле. — Жанна-Женя, а какие мы тебе куклы в России приготовим! — обещает он девочке. — Всю жизнь играть будешь — не наиграешься. Рейс Нью-Йорк–Галифакс–Осло проходит беспокойно. Идет война. Она и на суше, и на море. Немецкие подводные лодки шныряют вокруг корабля. Восков быстро находит общий язык с командой, и вахтенный матрос его предупреждает, что в канадском порту Галифакс уже высадились английские солдаты, русских там могут ожидать неприятности. — Чепуха! — сказал кто-то. — Россия воюет с Германией, а не с Англией. Они не посмеют поднять на нас руку. Григорий Чудновский пожал плечами: — Ошибаетесь, товарищи! Мир начинает раскалываться не по симпатиям к воюющим державам, а по отношению к нашей революции. Восков спал беспокойно; услышав топот бегущих мимо каюты, вскочил с койки, тихо раскрыл дверь, пробрался на палубу. В полумраке он разглядел высокую фигуру Чудновского, которого солдаты вели к трапу. — Меня арестовали, товарищи! — крикнул Чудновский. — Меня и еще группу наших. Сообщите, кому сумеете. На палубу высыпали пассажиры. — Мы интернируем русских, а не арестовываем, — пояснил офицер конвоя. — Закон войны, господа, и вы в военном порту. Воспользовавшись тем, что внимание солдат было отвлечено, Восков проскользнул на нижнюю палубу и отыскал рубку радиста. Нажал ручку, дверь легко поддалась. Радист привстал с койки. — Что вам? — Слушай, парень, хочешь помочь русской революции? Передай открытую депешу. Всем судам и правительствам. Наших арестовали. Радист выслушал, засмеялся и сказал: — Ноу. За это у нас отдают под суд. — Я всю жизнь хожу под угрозой ареста, — тоже засмеялся Семен. — Как видишь — ничего. Через несколько минут радист сдался. Попискивает рация. Точка–тире. Точка–тире. Потом раздается оглушительный стук в дверь… Успеть бы!ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. УДАРЫ МЕТРОНОМА
Точка–тире–точка… Все быстрее, быстрее, быстрее. Зуммер пищит, точно заведенный. Надо успеть. Кажется, в запасе еще несколько секунд. — Время! — объявил инструктор. — Воскова, вы передали четырнадцать групп. Вполне прилично. — Какое же прилично, — недовольно сказала Сильва. — Для первого класса вроде бы двадцать пять требуется. — Куда хватили! К этому идут постепенно… В окна ударил пронзительный свист, через секунду его сменил тупой удар, пол под ногами дрогнул. — На «постепенно» фрицы нам не оставили времени. Курсы радистов отнимали середину дня. А с утра она еще ходила в институт. Это был по-прежнему ее электротехнический, но он мало походил на прежний, оставшийся там, в мирной жизни, до 22 июня… Известие о войне застало их на преддипломной практике в Кронштадте. С пристани Сильва позвонила матери. — Сивка? Еще пять минут, и ты бы меня не застала. Ноги в сухом? Я тебе все приготовила — вас, наверно, отправят на рытье окопов. А сама бегу в военный госпиталь. В институте еще шли лекции, но их записывали, главным образом, девушки. Ребят резко поубавилось. Простенок, на котором всегда были вывешены красочные стенные газеты, заняли военные сводки и крупное объявление: «Комсомолец, в 15 ч. 15 м в аудитории им. Воровского — митинг, после митинга получишь путевку на оборонные работы». Сильва и Лена попали в разные бригады. Живо уговорили одну из подружек перейти на «Сильвино место» и оказались вместе. Немецкие бомбардировщики налетели неожиданно. Земля взметнулась в небо, потом они услышали пулеметные очереди, а потом все стихло. В поле осталась лежать только одна из девчат — самая что ни на есть хохотунья. Ноги у нее были в крови. Она повторяла, будто в забытьи: «Только бы танцевать могла! Только бы танцевать могла!» Немцы уже вторглись в пределы Ленинградской области. Студентов отправили в институт. «Как дальше будем?» — решительно спросила Сильва у подруги. Лена пожала плечами: «Эвакуации не подлежу по характеру!» Сильва ее с жаром поцеловала: «Молодец, я тоже! Значит — в военкомат». Военком был перегружен, шло формирование добровольческой дивизии, и у него все время просили то, что он не мог дать ополченцам: кадровиков или танков. — Проси чего-нибудь полегче! — кричал он в трубку, и, наконец, со вздохом опустил ее на рычаг. — А вам что, девочки? — Мы не девочки, товарищ военком, а без пяти минут инженеры, — вздохнула Сильва. — В действующую хотим. Он посмотрел их документы, подчеркнул слова «пятый курс», кивнул: — Желание законное. Только нам инженеры тоже потребуются. И с пятью недостающими минутами. Доучивайтесь. Все родные и близкие уходили в армию. Володя прибежал к ней около полуночи. — Извини, если разбудил. Еле упросил увольнительную на полчаса. Мы выступаем утром. Кажется, под Синявино. Они стояли на площадке лестницы, глядя в окно, за которым по свинцовому полотнищу неба шарили острые лучи прожекторов. — Володя, — сказала она вдруг. — А у нас большая радость. Ивана Михайловича оправдали. Он идет в действующую. — Поздравляю. — Он сжал ее руку. — Тебя и маму. — Володя, — она говорила робко, непривычно робко для себя. — Я хочу, чтобы ты все обо мне знал. Помнишь, ты когда-то спросил о комиссаре Воскове. Это мой отец, Володя. — Я потом услышал, — признался он. — Я тоже хочу, чтобы ты знала обо мне все. Помнишь ты спросила у меня после Сухуми, чего я больше всего хочу. А я хотел, чтобы мы… Она повернула к нему лицо — ожидая, волнуясь. Но в этот момент на площадке скрипнула дверь и показалась приземистая мужская фигура со свечкой в руке. — Кто? Посторонние? Почему в неположенное время? — Это я, товарищ Зыбин, — сказала Сильва. — Можете спать. Он поднял свечку над головой. — А с вами кто, товарищ Воскова? — Мой товарищ. У него увольнительная, и он торопится… — Слова еще не документ, — ровно произнес Зыбин. Сильва чуть не заплакала, у нее дрожали губы. — Володя, ты опаздываешь, — тихо прошептала она, — не связывайся с ним. Это ужасный человек. Из-за него Ивана Михайловича… — Подожди секунду. Володя погладил ее по голове и быстро взбежал наверх. — Почему вы не в армии, товарищ Зыбин? — спросил резко. — У меня нервное заболевание, — испуганно ответил Зыбин. — Вы точно сказали: слова еще не документ! — И кроме того, у меня будет бронь. А собственно… вам-то что? — Люди сейчас идут в армию и с нервами, — с презрением сказал Володя. Зыбин быстро отступил в квартиру и захлопнул дверь. — Скотина, — сказал Володя. — Помешать в такую минуту! Ничего, Сильвочка. Мы еще все наверстаем. Он пригнул ее голову и жарко поцеловал в лоб. Козырнул и, шагая через две-три ступени, крикнул уже из подъезда: — Клянусь, что мы еще встретимся. Спасибо за все! А потом хлопнула тяжелая дверь. Хотелось кому-то выплакаться, на кого-то пожаловаться. Бережно прикоснулась к любимым книгам: Лермонтов, Куприн, Блок, Анна Ахматова, Ольга Берггольц. Подошла к письменному столу, извлекла из ящика толстую тетрадь, написала на обложке: «Что иногда приходит в голову. Случайные, так сказать, мысли». О чем она думала в эти минуты? О будущем, в которое уходят Иван Михайлович, Володя? О мирных днях, которые безвозвратно уплывают, потому что будут, наверно, и мир, и яркие фонари на Кировском вместо черных глазниц-окон, и очереди за билетами у кинотеатра «Арс» вместо дежурства на крышах, но все это уже станет радостями другого поколения… «Вечер. Кругом постепенно все смолкает — люди после тревожного дня спешат отдохнуть перед тревожной ночью, чтобы суметь бодро прожить не менее тревожный завтрашний день. На улице стоит свежая терпкая осень, прозрачностью и звоном которой так многословно любуются поэты. Воздух облит мертвенно-бледным светом луны, равнодушно и холодно взирающей на освещаемый ею город… Людям сейчас не до осени, не до ее ярких красок. Комната моя, стол, кровать кажутся мне сейчас такими милыми, дорогими, точно они впитали в себя, как губка, и запечатлели всю мою прошедшую среди них жизнь… Вокруг уже совсем тихо. На душе покойно и светло. Бьет 12 часов»[17]. Сальма Ивановна вошла тихо, погасила лампу, раздвинула шторы. Скинула шинель и села в кресло, рядом с дочерью. Устало закрыла глаза: ночь простояла в перевязочной, а раненых все несут и несут… И сразу провалилась в пустоту. Уже несколько минут напряженный голос диктора возвещал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Но они спали. Их разбудила пронзительная сирена пожарной машины, промчавшейся по Кировскому, и глухие раскатистые взрывы. — Мама, как же так! — закричала Сильва. — Они бомбят наши улицы, наш город! «Дома все по-старому, — успокаивала она в письме Ивана Михайловича. — Нас, конечно, настигают только отзвуки войны, но и их слишком много, чтобы легко и безболезненно пропустить мимо себя…» Она посмотрела в окно: медленно плыли в небе, словно закрученные в канатные бухты, черные, без просвета, клубы дыма, огненное море плавило вечернюю мглу. Да, день 8 сентября они, ленинградцы, запомнят навечно. «Мама в это трудное время, — продолжала она письмо, — исключительно бодра и работоспособна. Она сейчас в госпитале в качестве терапевта, а порой и хирурга. Старики живы, вовсю работают… Я пока называюсь студенткой 5-го курса, но, знаешь, такого короткого, что делается чуть-чуть весело — учебный год в 2 месяца… Кроме своих академических занятий, посещаю курсы радистов для Красной Армии…» Место на этих курсах она получила не сразу. Не выходила из кабинета секретаря горкома комсомола, упорно втолковывала, что они, в горкоме, должны были подумать о боевых местах для ребят и девчат с такими наклонностями. — Ну, что ты меня пытаешь, Воскова? — со стоном сказал секретарь. — Найду я боевое место по твоей наклонности. Нашел. Удостоверение № 013: «Воскова С. С. мобилизована…» Она пишет отчиму, что уже ведет прием и передачу. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Но она будет стараться. Перечла письмо. А о главном-то ни слова. Главное сейчас дать бой фашизму. «Правда и честность всегда восторжествуют», — заканчивает она письмо. Это и для него, и для нее. Это — формула их военной жизни. Подождите, звезды и луна! Вы лишние в эти суровые дни. И нечего любоваться красками осени… А в дневник ложатся строки: Когда подошла ее очередь, Сильва пошарила в кармане пальто, но он был пуст. Продавщица догадалась о несчастье.
— Не у тебя первой! — крикнула она из-за прилавка. — Сходи в бюро заборных книжек.
В бюро стояла огромная очередь, инспекторы нервничали и требовали доказательств пропажи. Сильва послушала, потопталась и ушла. Лене сказала:
— Там опухшие люди стоят. А я еще на ногах. Мать увидишь — ни слова! Моя Сальмочка сама пухнет.
Лена затащила ее к себе на «чай с сухарными крошками». В другой раз застала Сильву, колдовавшей у «буржуйки» над миской.
— Гречка! — торжественно объявила она. — У бабушки в чулке нашла. Целых двадцать граммов. Богатство! Делить не будем. Пусть хоть один вечер станет праздничным.
Но от своей горсточной порции аккуратно отделила две ложки аппетитного варева.
— У соседей две малышки застряли, — сказала небрежно, — Сима и Зорина. Я им завтра скормлю.
— Да ведь ты сама свалишься! — крикнула Лена.
— Я на бег нажму, — улыбнулась Сильва. — Знаешь, как это помогает.
Лена быстро рассказывала последние новости. Немцы хвастаются, что, взяв Тихвин, они скоро положат Ленинград к ногам фюрера. Илья Эренбург хорошо окрестил Гитлера: бесноватый. Недолго побеснуется. Жданов заявил, что фашистским войскам под Ленинградом будет устроена могила. В порту нашли хлопковый жмых, раньше его сжигали в пароходных топках, а сейчас оказалось, что он отлично годится для выпечки хлеба, и наука доказала, что ядовитые вещества в жмыхе от температуры разрушаются.
— Когда-нибудь этот жмых выставят в музее имени блокады.
Сильва закрыла за нею и села продолжать письмо Ивану Михайловичу:
«Мы здоровы, а это пока главное.
…Музыкой я сейчас не сыта, чтобы не сказать большего. Приходится довольствоваться диапазоном звуков „тревога“ и „отбой“, последнее более приятно для уха. Зато в чтении себе не отказываю, не ставлю голодных норм».
В соседнем квартале — а может быть, это только показалось, что в соседнем — громыхнуло. Тревоги нет — значит, это от вчерашней тревоги. Говорят, фашисты сбрасывают магнитные мины замедленного действия. Ну, погодите…
Подошла к книжным полкам. «Милые вы мои друзья. Скоро мы с вами расстанемся. Подарите же в дорогу хорошие мысли».
Сколько написано о подвигах, о верности, о дружбе… Дружба — «нечто такое, чего недостает тебе…» Где ты сейчас, в какой землянке, так хорошо сказавший мне о дружбе? Но для меня в дружбе было и еще очень важное.
«Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего».
«Слова неудобны именно тем, что у них очертания резче, чем у мысли».
Володя, ты поклялся, что мы еще встретимся. Где, когда?
И снова лекции. Тренировки за столом с пискливым зуммером. Бег в парке. Страшное чувство голода. Ужасающее известие: умер дед. Пять дней подряд приходила на Богословское кладбище рыть могилу. Мороз высушил слезы, свел скулы, впился каленой хваткой в руки. С похорон разошлись быстро, мать успела ей сунуть в руку два сухарика. Жевала их медленно, с расчетом, чтобы хватило до самого дома.
В парадной стоял Зыбин. Как всегда, краснолицый, нахохлившийся, тугой. Отметила про себя: «А он не дистрофик — даже обидно». Зыбин угодливо распахнул дверь:
— Слышал о вашем горе. Соболезную. Господи, да они же уморят нас… Ходят слухи, даже отрапортовали, что обойдутся без самолетов с продовольствием…
Она сначала даже не поняла, о ком это он: думала — о фрицах. А он, истолковав ее молчание иначе, вкрадчиво продолжал:
— А у самих литера!
— Так вы — о нашей власти? — Голос был простужен, слова давались с трудом, хотелось вцепиться в его мясистые щеки и трясти их, трясти, трясти. — Да кто же вам дал право? Вы же… Вы же… Маркэлом себя переиначили!
— Вы не очень-то!
Он произнес это неуверенно и воровато оглянулся.
— А я буду очень, — уже спокойно сказала она. — Предупреждаю, буду очень. И основоположники научного коммунизма вам, Зыбин, не помогут.
Он бежал вслед за ней по лестнице, уверяя, что обмолвился, что виной всему проклятый голод.
Хотелось поскорее выбить из памяти и его грязные слова, и его самого.
— Симочка, Зорянка! — крикнула она, входя в кухню. — Будем лед греть в кастрюльке.
С плиты сползло пальто, показались два больших глаза, потом еще два. Осторожно спустились на пол две девочки, одна — лет десяти, другая поменьше, запрокинули прозрачные мордашки, улыбаясь Сильве.
— Ах вы, родные мои! — захлопотала она. — Садитесь возле времянки. Сейчас будут огонь и сказочки!
— О Бармалее? — спросила маленькая.
— А я знаю. О Мальчише-Кибальчише, — сказала старшая.
Сильва легла на пол и изо всей силы дула в узкую конфорку, стараясь вызвать к жизни пламя, которое никак не хотело разгораться на мокрых щепах.
Когда подошла ее очередь, Сильва пошарила в кармане пальто, но он был пуст. Продавщица догадалась о несчастье.
— Не у тебя первой! — крикнула она из-за прилавка. — Сходи в бюро заборных книжек.
В бюро стояла огромная очередь, инспекторы нервничали и требовали доказательств пропажи. Сильва послушала, потопталась и ушла. Лене сказала:
— Там опухшие люди стоят. А я еще на ногах. Мать увидишь — ни слова! Моя Сальмочка сама пухнет.
Лена затащила ее к себе на «чай с сухарными крошками». В другой раз застала Сильву, колдовавшей у «буржуйки» над миской.
— Гречка! — торжественно объявила она. — У бабушки в чулке нашла. Целых двадцать граммов. Богатство! Делить не будем. Пусть хоть один вечер станет праздничным.
Но от своей горсточной порции аккуратно отделила две ложки аппетитного варева.
— У соседей две малышки застряли, — сказала небрежно, — Сима и Зорина. Я им завтра скормлю.
— Да ведь ты сама свалишься! — крикнула Лена.
— Я на бег нажму, — улыбнулась Сильва. — Знаешь, как это помогает.
Лена быстро рассказывала последние новости. Немцы хвастаются, что, взяв Тихвин, они скоро положат Ленинград к ногам фюрера. Илья Эренбург хорошо окрестил Гитлера: бесноватый. Недолго побеснуется. Жданов заявил, что фашистским войскам под Ленинградом будет устроена могила. В порту нашли хлопковый жмых, раньше его сжигали в пароходных топках, а сейчас оказалось, что он отлично годится для выпечки хлеба, и наука доказала, что ядовитые вещества в жмыхе от температуры разрушаются.
— Когда-нибудь этот жмых выставят в музее имени блокады.
Сильва закрыла за нею и села продолжать письмо Ивану Михайловичу:
«Мы здоровы, а это пока главное.
…Музыкой я сейчас не сыта, чтобы не сказать большего. Приходится довольствоваться диапазоном звуков „тревога“ и „отбой“, последнее более приятно для уха. Зато в чтении себе не отказываю, не ставлю голодных норм».
В соседнем квартале — а может быть, это только показалось, что в соседнем — громыхнуло. Тревоги нет — значит, это от вчерашней тревоги. Говорят, фашисты сбрасывают магнитные мины замедленного действия. Ну, погодите…
Подошла к книжным полкам. «Милые вы мои друзья. Скоро мы с вами расстанемся. Подарите же в дорогу хорошие мысли».
Сколько написано о подвигах, о верности, о дружбе… Дружба — «нечто такое, чего недостает тебе…» Где ты сейчас, в какой землянке, так хорошо сказавший мне о дружбе? Но для меня в дружбе было и еще очень важное.
«Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего».
«Слова неудобны именно тем, что у них очертания резче, чем у мысли».
Володя, ты поклялся, что мы еще встретимся. Где, когда?
И снова лекции. Тренировки за столом с пискливым зуммером. Бег в парке. Страшное чувство голода. Ужасающее известие: умер дед. Пять дней подряд приходила на Богословское кладбище рыть могилу. Мороз высушил слезы, свел скулы, впился каленой хваткой в руки. С похорон разошлись быстро, мать успела ей сунуть в руку два сухарика. Жевала их медленно, с расчетом, чтобы хватило до самого дома.
В парадной стоял Зыбин. Как всегда, краснолицый, нахохлившийся, тугой. Отметила про себя: «А он не дистрофик — даже обидно». Зыбин угодливо распахнул дверь:
— Слышал о вашем горе. Соболезную. Господи, да они же уморят нас… Ходят слухи, даже отрапортовали, что обойдутся без самолетов с продовольствием…
Она сначала даже не поняла, о ком это он: думала — о фрицах. А он, истолковав ее молчание иначе, вкрадчиво продолжал:
— А у самих литера!
— Так вы — о нашей власти? — Голос был простужен, слова давались с трудом, хотелось вцепиться в его мясистые щеки и трясти их, трясти, трясти. — Да кто же вам дал право? Вы же… Вы же… Маркэлом себя переиначили!
— Вы не очень-то!
Он произнес это неуверенно и воровато оглянулся.
— А я буду очень, — уже спокойно сказала она. — Предупреждаю, буду очень. И основоположники научного коммунизма вам, Зыбин, не помогут.
Он бежал вслед за ней по лестнице, уверяя, что обмолвился, что виной всему проклятый голод.
Хотелось поскорее выбить из памяти и его грязные слова, и его самого.
— Симочка, Зорянка! — крикнула она, входя в кухню. — Будем лед греть в кастрюльке.
С плиты сползло пальто, показались два больших глаза, потом еще два. Осторожно спустились на пол две девочки, одна — лет десяти, другая поменьше, запрокинули прозрачные мордашки, улыбаясь Сильве.
— Ах вы, родные мои! — захлопотала она. — Садитесь возле времянки. Сейчас будут огонь и сказочки!
— О Бармалее? — спросила маленькая.
— А я знаю. О Мальчише-Кибальчише, — сказала старшая.
Сильва легла на пол и изо всей силы дула в узкую конфорку, стараясь вызвать к жизни пламя, которое никак не хотело разгораться на мокрых щепах.
 — А вот и не угадали! У меня сказка совсем новенькая. О добром волшебнике Кулинаре.
— А где он живет — в Африке?
— Нет, Зорянка, он живет у нас, в Ленинграде. Только никто не знал его адреса. А одна маленькая девочка догадалась, где его искать, и нашла. «Волшебник Кулинар, — сказала она. — Ты все умеешь делать. Я принесла тебе куклу, сделай мне, пожалуйста, из куклы пирожное…»
— А я не отдам куклу, — грустно сказала Симочка. — Не надо мне пирожное.
— Правильно, — быстро перестроилась Сильва. — Девочка принесла ему не куклу, а кубик. И тогда волшебник Кулинар сказал: «Возьми этот кубик, брось его в большой-пребольшой чан, где лежит очень много жмыхов от хлопка… И скажи: ахалай-махалай!»
Зорянка удивилась:
— Тетя Сильва, а мы еще никогда не ели… отхлопки. Это вкусно?
— А вот и не угадали! У меня сказка совсем новенькая. О добром волшебнике Кулинаре.
— А где он живет — в Африке?
— Нет, Зорянка, он живет у нас, в Ленинграде. Только никто не знал его адреса. А одна маленькая девочка догадалась, где его искать, и нашла. «Волшебник Кулинар, — сказала она. — Ты все умеешь делать. Я принесла тебе куклу, сделай мне, пожалуйста, из куклы пирожное…»
— А я не отдам куклу, — грустно сказала Симочка. — Не надо мне пирожное.
— Правильно, — быстро перестроилась Сильва. — Девочка принесла ему не куклу, а кубик. И тогда волшебник Кулинар сказал: «Возьми этот кубик, брось его в большой-пребольшой чан, где лежит очень много жмыхов от хлопка… И скажи: ахалай-махалай!»
Зорянка удивилась:
— Тетя Сильва, а мы еще никогда не ели… отхлопки. Это вкусно?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
 АДРЕСАТ ВЫБЫЛ В НЕИЗВЕСТНОЕ
АДРЕСАТ ВЫБЫЛ В НЕИЗВЕСТНОЕ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. СЕСТРОРЕЦК ПОЛУЧАЕТ ПЕСНЮ
 тесной комнатке большевистского райкома Вячеслав Зоф оживленно рассказывал товарищам:
— Народ очень пламенный, его зажигать не нужно, — он говорил с легким чешским акцентом, который усиливался, когда Зофа что-либо сильно увлекало. — И к хорошим ораторам русским рабочим не привыкать. Но когда выступил этот американец, честное слово, мне самому захотелось полезть на какую-нибудь баррикаду и шугануть оттуда британских лордов. Он сейчас придет, я вас познакомлю.
— А кто его направил к нам? — спросил Саша Андреев, рабочий столярки.
— Яков Михайлович Свердлов. И по нашей просьбе. Мы жаловались — помните? — на нехватку теоретиков.
Федор Грядинский, тоже входивший в состав большевистского комитета, потер свою бритую голову, сощурился:
— Смотри ты… И оратор, и теоретик. А как у него с практикой?
В комнату вошел мужчина выше среднего роста, в темно-зеленом пальто и небольшой шляпе, несколько уширяющей его скуластое лицо, которое сохраняло невозмутимую приветливость.
— Семен Петрович Восков, — представил его Зоф, — сам ответит на этот вопрос. Расскажите нашим товарищам о своей практике работы с коллективом.
Семен ответил широкой улыбкой.
— Стачек — штук сто провел, а вот четверть миллиона или полмиллиона с нами шли — не складывали.
Посмеялись. Он рассказал о своем возвращении в Россию. Британские военные власти собирались задержать в Галифаксе всех русских эмигрантов, сочувствующих большевикам, но в Галифакс посыпались запросы нейтральных держав, «лордам» пришлось умерить свой аппетит и разрешить «Христианам» сняться с рейда.
— Как вам удалось так быстро уговорить радиста? — недоумевал Грядинский.
— Практика работы с коллективом, — с хитринкой пояснил Семен. — Кроме того, мы с ним выяснили, что в ходе стачки в Эль-Пасо дрались на одной стороне.
— Какой вам после перерыва показалась Россия? — спросил Андреев.
Семен развел руками.
— Нужно еще пожить. Я оставил совсем другую Россию.
Что он мог сказать? О переполнявшей его радости, начиная с той минуты, как матросский патруль проверил их документы и старший козырнул им: «Добро пожаловать в революцию, товарищи жертвы царизма». О митинге у особняка балерины Кшесинской, где он рассказал о событиях в Галифаксе и потребовал освобождения своих товарищей? Или о памятном разговоре со Свердловым?
— Ну, Самуэль Питер Восков, — сказал шутливо Свердлов, — пора вам продолжать русскую революционную биографию. Нам нужен крепкий большевик для организационной партийной работы. Подойдет?
Семен задумался.
— Яков Михайлович, а ведь обидно: столько лет отдать сколачиванию рабочих коллективов в Америке и не использовать этот опыт у себя дома. Пошлите к рабочим — я среди них буду как рыба в воде.
— Ну что ж. Мы от тебя ожидали нечто такое. — Свердлов перешел на «ты». — Так вот, Семен Петрович, у Цека есть для тебя на примете еще одно огнеопасное место. Поедешь к сестрорецким оружейникам. Станешь у них своим. Сделаешься для них необходимым. Сестрорецк — это оружие. Оружием же деловые люди, а мы себя считаем деловыми людьми, никогда не должны пренебрегать. Ты уже вошел в курс?
— Вошел, — Семен был доволен.
— Тогда отлично. Приходи к нам, советуйся и побольше инициативы на месте. Райком предупредим.
…Зоф, кажется, понял, что трудно уложить в несколько слов все, что Восков увидел.
— Познакомились, — подвел он итог разговору и обратился к Андрееву. — Саша, большевикам тоже нужно есть и спать. Оформи товарища Воскова на работу в свою мастерскую и помоги найти комнатку. Андреев, — пояснил он приезжему, — у нас в революционном комиссариате. По-старому— пристав. Не надо сердиться, Саша, я пошутил. Что вам поручить для начала? Помогите нам бодро и по-пролетарски провести праздник Первомая.
Андреев повел Воскова на завод, по пути рассказывал. Рабочих здесь шесть тысяч. В первые же дни Февральской революции царских администраторов-генералов прогнали. Кое-кто из них остался, но уже на вторых ролях. После ожесточенной борьбы совет старост с одобрения Петросовета поставил во главе управления заводом технически подготовленных людей. Саботаж со стороны старых чиновников? Бывает. Большевиков около шестидесяти. В некоторых рабочих органах засели меньшевики. Несколько дней назад оружейники встречали в Белоострове вернувшегося из эмиграции Ленина. Революция только начинается — предупредил их Ленин.
…Они остановились в тупичке, у задних ворот завода. Между каменными корпусами притулилась бревенчатая столярка. Семен вдохнул в себя знакомый въедливый запах разогретого клея. Руки истосковались по красивой, точной работе. Андреев показал его будущий верстак.
— Мой — соседний. Вы тут, конечно, не засидитесь. Но, я думаю, у рабочего человека должен быть свой верстак. Верно?
Семен улыбнулся.
— Вроде бы так. А насчет «засидитесь–не засидитесь»… Ты еще молодой, товарищ Андреев. Ты еще не видел, как рабочие могут прокатить функционера на вороных. А я видел. Будем работать по совести.
Саша испытывал удивительную симпатию к приезжему. Потащил Воскова в столовую, накормил «серыми щами» из снетков, полумороженной картошкой.
— Что, Семен Петрович, в Америке повкуснее ели?
Тот удивился.
— Ты что это, товарищ Андреев?.. Я там неделями с голодным брюхом разъезжал. В эмигрантских кварталах Броунзвилла даже песенку подслушал: «Право дал господь нам — белым или маврам: не поел сегодня — не поешь и завтра».
В этот же день Андреев показал ему свою комнатку, в деревянном доме на Гагаринской. Внизу сдавалась такая же комнатка с кухней. Постройка была легкая.
— Летом ничего, а вот зимой — просвистит.
— Вот что, Александр Андреевич, — сказал Восков убежденно. — На зиму еще загадывать рано. К зиме мы, может быть, и в царских хоромах заживем. А пока для меня и моих малышей, если их лорды по дороге не устрашатся, и эта хата сгодится.
Он начал работать в столярке, говорил в эти дни мало — больше слушал. После смены его можно было увидеть в профсоюзном комитете, в группах молодых рабочих, в райкоме. Меньшевики тоже присматривались к «приезжему теоретику» и однажды пригласили его побеседовать.
— Слушайте, Восков, — обратился к нему руководитель местной меньшевистской группы. — Вы же умный человек, согласитесь, что революционная Россия должна довести войну до победы, а уже потом строить у себя будущее.
— Вот, вот, — покачал головой Восков. — Бросим весь цвет русского рабочего класса в мясорубку денежных тузов и вдвоем с вами построим будущее.
Тогда они толкнулись с другого хода:
— Неужели вы не поняли за эти дни, что наш рабочий еще не созрел, ему еще рано управлять производством?
— Капиталистов из Америки выпишем, — съязвил он и пошел к дверям.
Семен рассказывал у себя в цехе о пятом годе, о бруклинских стачках, когда вошел Зоф, прервал беседу.
— Восков, мчись на Финляндский — приезжает твоя семья.
Андреев заварил чай, у кого-то одолжил баранки, внес все это в комнату к Семену. Уже стемнело, когда на крылечке затопало несколько пар ног. Он слышал, как Семен завел детей в квартиру, начал раздевать их.
— Здесь наш дом. Это ваши кроватки, а это ваши игрушки. Жанночка, я тебе обещал куклу — вот пока малюсенькая.
И вдруг — к старшему:
— Даня! Повтори… Что с мамой?
— Папа, я не знаю. Дядя нас посадил на пароход и сказал: «Мама тяжело больна и больше с кровати не встанет».
Была ночь, когда Восков вышел на крыльцо и присел рядом с Андреевым. Несколько минут оба молчали.
— Детям молоко нужно, Семен Петрович. Думали?
— Думай — не думай, а молоко у нас сейчас, в рабочих семьях, редкость. Не будем фантазировать, Саша. Вырастут, как и мы росли. А через день демонстрацию увидят. Как думаешь, за кем пойдут люди?
— За нами, Семен Петрович. Рабочего фразой не возьмешь.
Всю ночь на первое мая он просидел в большевистском комитете и обучал молодежь международному гимну рабочих. Слов «Интернационала» еще многие в России не знали, даже партийцы. Он затягивал своим сильным чистым тенором:
тесной комнатке большевистского райкома Вячеслав Зоф оживленно рассказывал товарищам:
— Народ очень пламенный, его зажигать не нужно, — он говорил с легким чешским акцентом, который усиливался, когда Зофа что-либо сильно увлекало. — И к хорошим ораторам русским рабочим не привыкать. Но когда выступил этот американец, честное слово, мне самому захотелось полезть на какую-нибудь баррикаду и шугануть оттуда британских лордов. Он сейчас придет, я вас познакомлю.
— А кто его направил к нам? — спросил Саша Андреев, рабочий столярки.
— Яков Михайлович Свердлов. И по нашей просьбе. Мы жаловались — помните? — на нехватку теоретиков.
Федор Грядинский, тоже входивший в состав большевистского комитета, потер свою бритую голову, сощурился:
— Смотри ты… И оратор, и теоретик. А как у него с практикой?
В комнату вошел мужчина выше среднего роста, в темно-зеленом пальто и небольшой шляпе, несколько уширяющей его скуластое лицо, которое сохраняло невозмутимую приветливость.
— Семен Петрович Восков, — представил его Зоф, — сам ответит на этот вопрос. Расскажите нашим товарищам о своей практике работы с коллективом.
Семен ответил широкой улыбкой.
— Стачек — штук сто провел, а вот четверть миллиона или полмиллиона с нами шли — не складывали.
Посмеялись. Он рассказал о своем возвращении в Россию. Британские военные власти собирались задержать в Галифаксе всех русских эмигрантов, сочувствующих большевикам, но в Галифакс посыпались запросы нейтральных держав, «лордам» пришлось умерить свой аппетит и разрешить «Христианам» сняться с рейда.
— Как вам удалось так быстро уговорить радиста? — недоумевал Грядинский.
— Практика работы с коллективом, — с хитринкой пояснил Семен. — Кроме того, мы с ним выяснили, что в ходе стачки в Эль-Пасо дрались на одной стороне.
— Какой вам после перерыва показалась Россия? — спросил Андреев.
Семен развел руками.
— Нужно еще пожить. Я оставил совсем другую Россию.
Что он мог сказать? О переполнявшей его радости, начиная с той минуты, как матросский патруль проверил их документы и старший козырнул им: «Добро пожаловать в революцию, товарищи жертвы царизма». О митинге у особняка балерины Кшесинской, где он рассказал о событиях в Галифаксе и потребовал освобождения своих товарищей? Или о памятном разговоре со Свердловым?
— Ну, Самуэль Питер Восков, — сказал шутливо Свердлов, — пора вам продолжать русскую революционную биографию. Нам нужен крепкий большевик для организационной партийной работы. Подойдет?
Семен задумался.
— Яков Михайлович, а ведь обидно: столько лет отдать сколачиванию рабочих коллективов в Америке и не использовать этот опыт у себя дома. Пошлите к рабочим — я среди них буду как рыба в воде.
— Ну что ж. Мы от тебя ожидали нечто такое. — Свердлов перешел на «ты». — Так вот, Семен Петрович, у Цека есть для тебя на примете еще одно огнеопасное место. Поедешь к сестрорецким оружейникам. Станешь у них своим. Сделаешься для них необходимым. Сестрорецк — это оружие. Оружием же деловые люди, а мы себя считаем деловыми людьми, никогда не должны пренебрегать. Ты уже вошел в курс?
— Вошел, — Семен был доволен.
— Тогда отлично. Приходи к нам, советуйся и побольше инициативы на месте. Райком предупредим.
…Зоф, кажется, понял, что трудно уложить в несколько слов все, что Восков увидел.
— Познакомились, — подвел он итог разговору и обратился к Андрееву. — Саша, большевикам тоже нужно есть и спать. Оформи товарища Воскова на работу в свою мастерскую и помоги найти комнатку. Андреев, — пояснил он приезжему, — у нас в революционном комиссариате. По-старому— пристав. Не надо сердиться, Саша, я пошутил. Что вам поручить для начала? Помогите нам бодро и по-пролетарски провести праздник Первомая.
Андреев повел Воскова на завод, по пути рассказывал. Рабочих здесь шесть тысяч. В первые же дни Февральской революции царских администраторов-генералов прогнали. Кое-кто из них остался, но уже на вторых ролях. После ожесточенной борьбы совет старост с одобрения Петросовета поставил во главе управления заводом технически подготовленных людей. Саботаж со стороны старых чиновников? Бывает. Большевиков около шестидесяти. В некоторых рабочих органах засели меньшевики. Несколько дней назад оружейники встречали в Белоострове вернувшегося из эмиграции Ленина. Революция только начинается — предупредил их Ленин.
…Они остановились в тупичке, у задних ворот завода. Между каменными корпусами притулилась бревенчатая столярка. Семен вдохнул в себя знакомый въедливый запах разогретого клея. Руки истосковались по красивой, точной работе. Андреев показал его будущий верстак.
— Мой — соседний. Вы тут, конечно, не засидитесь. Но, я думаю, у рабочего человека должен быть свой верстак. Верно?
Семен улыбнулся.
— Вроде бы так. А насчет «засидитесь–не засидитесь»… Ты еще молодой, товарищ Андреев. Ты еще не видел, как рабочие могут прокатить функционера на вороных. А я видел. Будем работать по совести.
Саша испытывал удивительную симпатию к приезжему. Потащил Воскова в столовую, накормил «серыми щами» из снетков, полумороженной картошкой.
— Что, Семен Петрович, в Америке повкуснее ели?
Тот удивился.
— Ты что это, товарищ Андреев?.. Я там неделями с голодным брюхом разъезжал. В эмигрантских кварталах Броунзвилла даже песенку подслушал: «Право дал господь нам — белым или маврам: не поел сегодня — не поешь и завтра».
В этот же день Андреев показал ему свою комнатку, в деревянном доме на Гагаринской. Внизу сдавалась такая же комнатка с кухней. Постройка была легкая.
— Летом ничего, а вот зимой — просвистит.
— Вот что, Александр Андреевич, — сказал Восков убежденно. — На зиму еще загадывать рано. К зиме мы, может быть, и в царских хоромах заживем. А пока для меня и моих малышей, если их лорды по дороге не устрашатся, и эта хата сгодится.
Он начал работать в столярке, говорил в эти дни мало — больше слушал. После смены его можно было увидеть в профсоюзном комитете, в группах молодых рабочих, в райкоме. Меньшевики тоже присматривались к «приезжему теоретику» и однажды пригласили его побеседовать.
— Слушайте, Восков, — обратился к нему руководитель местной меньшевистской группы. — Вы же умный человек, согласитесь, что революционная Россия должна довести войну до победы, а уже потом строить у себя будущее.
— Вот, вот, — покачал головой Восков. — Бросим весь цвет русского рабочего класса в мясорубку денежных тузов и вдвоем с вами построим будущее.
Тогда они толкнулись с другого хода:
— Неужели вы не поняли за эти дни, что наш рабочий еще не созрел, ему еще рано управлять производством?
— Капиталистов из Америки выпишем, — съязвил он и пошел к дверям.
Семен рассказывал у себя в цехе о пятом годе, о бруклинских стачках, когда вошел Зоф, прервал беседу.
— Восков, мчись на Финляндский — приезжает твоя семья.
Андреев заварил чай, у кого-то одолжил баранки, внес все это в комнату к Семену. Уже стемнело, когда на крылечке затопало несколько пар ног. Он слышал, как Семен завел детей в квартиру, начал раздевать их.
— Здесь наш дом. Это ваши кроватки, а это ваши игрушки. Жанночка, я тебе обещал куклу — вот пока малюсенькая.
И вдруг — к старшему:
— Даня! Повтори… Что с мамой?
— Папа, я не знаю. Дядя нас посадил на пароход и сказал: «Мама тяжело больна и больше с кровати не встанет».
Была ночь, когда Восков вышел на крыльцо и присел рядом с Андреевым. Несколько минут оба молчали.
— Детям молоко нужно, Семен Петрович. Думали?
— Думай — не думай, а молоко у нас сейчас, в рабочих семьях, редкость. Не будем фантазировать, Саша. Вырастут, как и мы росли. А через день демонстрацию увидят. Как думаешь, за кем пойдут люди?
— За нами, Семен Петрович. Рабочего фразой не возьмешь.
Всю ночь на первое мая он просидел в большевистском комитете и обучал молодежь международному гимну рабочих. Слов «Интернационала» еще многие в России не знали, даже партийцы. Он затягивал своим сильным чистым тенором:
 — Братья и друзья! — кричал с трибуны меньшевистский оратор. — Не торопитесь безоговорочно осуждать Временное правительство. Только победа в войне откроет перед нами…
Восков стоял у самой трибуны, Женю он держал на руках, а мальчишки, глазея по сторонам, цеплялись за отца. Услышав над головой провокационные речи, Семен передал детей на попечение соседей и взобрался на трибуну. Многие сестроречане еще не знали нового рабочего, но другие уже помнили его по цеху, по райкому, по ночной спевке. «Русский эмигрант Восков, — передавали в толпе от группы к группе, — у него боевое прошлое. Это он нас „Интернационалу“ учил».
— Товарищи! Нам тут все твердят о победе. А на кой лях нам победа одних империалистов над другими? Нам нужна победа пролетариата. Нам нужна победа не для заводчиков и министров-капиталистов, а победа для нас, для наших детей, для счастья трудящихся.
Неожиданно задул сильный ветер, пошел снег. Но люди оставались там, где стояли, внимательно слушая нового оратора.
— Нынче пролетариат, как гордый буревестник, побеждающий и победивший, празднует свой день мировой солидарности. Он строит новую жизнь, он отвоевывает власть для себя, а не для какого-нибудь дяди. Вся власть Советам, товарищи!
— Восков, дай теперь и нам немного поговорить с народом, — засмеялся Зоф. — И собери, пожалуйста, свою юную гвардию. Она уже на пригорках в свержение царя играет.
…Это была горячая страда, когда большевики завоевывали рабочую массу.
— Братья и друзья! — кричал с трибуны меньшевистский оратор. — Не торопитесь безоговорочно осуждать Временное правительство. Только победа в войне откроет перед нами…
Восков стоял у самой трибуны, Женю он держал на руках, а мальчишки, глазея по сторонам, цеплялись за отца. Услышав над головой провокационные речи, Семен передал детей на попечение соседей и взобрался на трибуну. Многие сестроречане еще не знали нового рабочего, но другие уже помнили его по цеху, по райкому, по ночной спевке. «Русский эмигрант Восков, — передавали в толпе от группы к группе, — у него боевое прошлое. Это он нас „Интернационалу“ учил».
— Товарищи! Нам тут все твердят о победе. А на кой лях нам победа одних империалистов над другими? Нам нужна победа пролетариата. Нам нужна победа не для заводчиков и министров-капиталистов, а победа для нас, для наших детей, для счастья трудящихся.
Неожиданно задул сильный ветер, пошел снег. Но люди оставались там, где стояли, внимательно слушая нового оратора.
— Нынче пролетариат, как гордый буревестник, побеждающий и победивший, празднует свой день мировой солидарности. Он строит новую жизнь, он отвоевывает власть для себя, а не для какого-нибудь дяди. Вся власть Советам, товарищи!
— Восков, дай теперь и нам немного поговорить с народом, — засмеялся Зоф. — И собери, пожалуйста, свою юную гвардию. Она уже на пригорках в свержение царя играет.
…Это была горячая страда, когда большевики завоевывали рабочую массу.
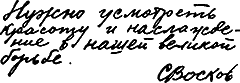 Не прошло и месяца, как шесть тысяч сестрорецких оружейников на выборах нового состава завкома отдали свои голоса кандидатам списка большевиков. Председателем завкома стал Семен Восков.
Зофу позвонил Свердлов.
— Как там наш американский соратник? — спросил он в конце разговора. — Прошел в председатели завкома? Очень хорошо. Мы были уверены, что оружейники его оценят. Доложу при случае Владимиру Ильичу. Он будет рад.
Свердлов сделал паузу и спросил:
— Уж если докладывать, Владимир Ильич захочет узнать, что они там решают.
Зоф пояснил:
— Восков на первом заседании поставил два вопроса. О полном восстановлении производства. Он сказал: «Революции во как понадобятся наши трехлинеечки!».
— А вторым, вторым вопросом?
— Об улучшении питания детей рабочих.
— Это дело, — сказал Свердлов. — Трехлинеечки для революции и детское питание. Значит, не ошиблись в выборе…
Не прошло и месяца, как шесть тысяч сестрорецких оружейников на выборах нового состава завкома отдали свои голоса кандидатам списка большевиков. Председателем завкома стал Семен Восков.
Зофу позвонил Свердлов.
— Как там наш американский соратник? — спросил он в конце разговора. — Прошел в председатели завкома? Очень хорошо. Мы были уверены, что оружейники его оценят. Доложу при случае Владимиру Ильичу. Он будет рад.
Свердлов сделал паузу и спросил:
— Уж если докладывать, Владимир Ильич захочет узнать, что они там решают.
Зоф пояснил:
— Восков на первом заседании поставил два вопроса. О полном восстановлении производства. Он сказал: «Революции во как понадобятся наши трехлинеечки!».
— А вторым, вторым вопросом?
— Об улучшении питания детей рабочих.
— Это дело, — сказал Свердлов. — Трехлинеечки для революции и детское питание. Значит, не ошиблись в выборе…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. ЛЕНИНГРАДСКИЕ СТАДИИ
— Это какая-то ошибка, недоразумение, — растерянно повторяла Сильва инструктору, который учил их «морзянке». — Нас только начали готовить… Идет война… — Вот именно, Воскова, — инструктор потерял терпение. — Война. Трамваи не ходят. Девчонки к нам добираются с трудом. Того и гляди, в сугробах останутся. Словом, прикрыты наши курсы. Военный Совет создает новые — на более перспективной базе. — Да ведь нельзя же нас на полпути оставить! — объясняла она чуть не со слезами. Он только забубнил: «Мы люди маленькие, есть решение». — Нет маленьких и больших людей, — запальчиво высказалась Сильва. — Есть люди безответственные, а есть ответственные. В горкоме комсомола, куда она прибежала, ей посоветовали заканчивать институт. Ее не забудут. — Ленка, — сказала она, когда они повторяли билеты по радиотехнике. — Вот выпустят нас из ЛЭТИ, что дальше? — Ты сначала сдай экзамен, — недовольно сказала Лена. — Вот не выпустят тебя из ЛЭТИ — что дальше? — Ленка, да я в философском плане… — В философском: ученье — свет, даже при коптилке. Учила, хотя все время ей мерещилась чуть подгорелая хлебная корка, которая однажды, еще до войны, осталась от обеда. В день, когда она получила «пять» по радиотехнике, четверо девчат свалились от голода прямо в аудиториях, да так и не поднялись. Комсомольцы делали, что могли. У соседей в Ботаническом получили несколько плиток желатина, столярного клея, старые засохшие дрожжи, из которых изобретательные ботаники научили приготовлять супы. Приходили скупые вести с фронтов. Погиб под Урицком вожак комсомольцев ЛЭТИ Андрей Грибушин. Сильва помнила, с какой настойчивостью он посылал студентов к школьникам: «Они на нас, как на Фарадеев смотрят!» Нет Андрея, нет многих других. А что предстоит им, обладателям новеньких удостоверений инженеров? «№ 349. 20 февраля 1942 г. Дано тов. Восковой С. С. в том, что она состояла студентом Ленинградского Электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) с 1937 по 1942 и окончила теоретическийкурс обучения в институте по специальности проводная связь. Согласно распоряжения Наркомата СП направлена на работу, с правом защиты дипломного проекта в последующем». Итак, в Горький. Она уже получила эвакосправку, уже мысленно уложила свой чемодан и вдруг побежала к Лене, — Ты как — решила уехать? — И не подумаю. Здесь родные, здесь все. — Здесь наш город, — задумчиво сказала Сильва. — Без нас он, конечно, проживет, но он будет скучать, я знаю. — Это все лирика, Сивка. А по существу? — В горячее хочу, а не в тыл. Пойдем снова в военкомат. Вонком был новый, обстреляный, прихрамывал. — Инженеры? Не могу. И не просите. Сильва и Лена обошли несколько воинских частей, офицерских училищ. Всюду одно и то же: «Через военкомат!» Лене удалось устроиться на завод. Сильве кто-то сказал, что в электротехническом создается спецбюро оборонных работ. Пришла на свой Аптекарский, увидела, как ребята в матросских бушлатах вносят в подъезд института рации, телефонные аппараты, свернутые в трубку карты: сюда переезжал штаб Балтфлота. Позавидовала ребятам в бушлатах: «Определились!» Поднялась наверх. Профессора она знала, он ее — нет. — С приборами управления стрельбой знакомы? — Я по проводной связи. Но готова… — Сожалею, но одной готовности сейчас мало. Оттуда пошла прямо к матери в госпиталь. Попросилась в санитарки. — Работа не из чистеньких, — строго сказала Сальма Ивановна. — А ты не могла даже видеть, если лошадь околевала на дороге. — Мама, то было в далеком голубом детстве. Поручись за меня перед начальством. Мыла, скребла, чистила, кормила, таскала на носилках раненых, домой добиралась только к ночи. «Институт я кончила (ценой легкой голодовки), — писала она Ивану Михайловичу, — получила путевку в наркомат в Горький, но уехать — не уехала, хотя имела в зубах эвакосправку и сидела на узлах. Работой обеспечиться некоторое время не смогла и пошла санитаркой в госпиталь… Хочешь, я тебе расскажу о твоей прекрасной Сальмочке? Пережила она все стадии ленинградской жизни — страшно исхудала, истощала, ноги распухли — у меня „ленинградские стадии“ проявились несколько позже — теперь опухают ноги — авитаминоз, но я научилась от своей чудесной мамаши плевать на это с самым бесшабашным видом — и пока не проигрываю в жизни… Во время ожидания учусь языкам…» Ожидание? Она спрашивала почти каждого раненого: «Как вы попали на фронт?» Привезли мальчишечку, на вид лет четырнадцати, ранили при переходе линии фронта. «А чего такого? — сказал он Сильве. — Я батьку и матку потерял, пришел к партизанам, говорю, я ловкий, пролезу к фрицам и назад. Не взяли. Тогда я сам пролез, сведения нашим доставил. Тогда взяли». Если бы она могла так! Но на ленинградских улицах партизанские отряды не расхаживали. Работала без выходных, но если раненых было мало и ее отпускали не к самой ночи, забегала к Лене. — Все не могут быть на самой передовой, — урезонивала Лена подругу. Сильва отзывалась тоскливо: — Да, твой фронт — тыл. Каждая выпущенная пуля — одним фрицем меньше. Но я даже пули не обтачиваю. — Эх ты… А больных выхаживать — это что, не тот фасон, да? — Ой, Ленка, до войны я была рассудочная, ты — шальная. Теперь — наоборот. Однажды вбежала бледная, губы дрожали, села на диван, долго не могла начать рассказывать. Встретила родственницу своей одноклассницы Мурки Шакеевой. Лена должна помнить Шакееву. Чернушка, на мальчишку смахивала. В пятом или в шестом в д’Артаньяна влюбилась, а в десятом заявила, что в любовь не верит. С первого дня войны ушла в армию, стреляла, как снайпер. Ее заслали в тыл к немцам. Она работала с партизанами. Немцы ее изловили, мучили, надругались… — Лена, что она мне сказала, ее тетка, что сказала! «А вы, девочки, все здесь? Целехоньки?» Я от нее убежала. Не могу больше. — Тетку можно понять, а тебя — нет. Случайная реплика не может унизить человека, если у него есть цель. Успокойся. — Я успокоюсь, когда встану в строй. В госпиталь привезли партизана с раздробленным суставом. Он долго не понимал Сильвиных вопросов, потом удивился: «Воевать хочешь? Проще простого. К нам прислали девчушку-радиста, после школы. Где школа? Захочешь — найдешь». Нашла. Два дня бродила, а нашла. Волнуясь, рассказала все Лене. Собрали наскоро документы, полетели на Крестовский. О них не сразу доложили начальнику школы. Сидели в вестибюле, голодные, несчастные, завидовали пробегающим мимо парням и девушкам в матросских форменках. Наконец их пригласили наверх. Начальник высокий, очень смуглое лицо, в глазах — строгость. Выслушал несмелую речь Сильвы. — Понимаю, — сказал он. — Но у нас комплект. — Товарищ Кардов, — вмешалась Лена. — Мы обе спортсменки-разрядницы. Может, это вас заинтересует? Сильва выложила на стол справки, квалификационные билеты, грамоты… Гимнастка IV разряда… Лыжница II разряда… Альпинист I ступени… Эти — ее, эти — Ленкины. Кардов бегло просмотрел, вчитался в Сильвино командировочное на курсы радистов. — Сколько групп знаков принимали? — Пятнадцать и чуть больше. Встал, походил по комнате, вызвал дежурного. — Распорядитесь накормить курсантов Вишнякову и Воскову. Приказ о зачислении пойдет с сегодняшнего дня. Дайте уж им сразу и завтрак, и обед, и ужин. Они спортсменки, сдюжат.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ПОБЕЖДАЕТ ПРОЕКТ ЛЕНИНА
Свердлов, беседовавший с делегатами-большевиками, обратился к Воскову: — Выступление Авилова слышал, товарищ Восков? Восков пожал плечами. — Типично меньшевистское соглашательство, прикрытое цитатами из Маркса. — И ты смог бы разбить его? — На материале Сестрорецкого завода, может, и смогу. Но лучше здесь выступить человеку, который больше меня знаком и с Временным правительством, и с положением дел в стране. На твердо очерченные губы Свердлова набежала улыбка. — Кто-то из нас, несомненно, выступит. — Он рассмеялся. — Недурно знакомый и с положением дел, и с цитатами из Маркса. Большие умные глаза Свердлова быстро обежали делегатов. — Вы представляете крупнейшие фабзавкомы металлистов. Было бы крайне важно, чтобы в зале раздались и ваши голоса. Разговор этот происходил 31 мая 1917 года в большом многоколонном вестибюле Таврического дворца в перерыве между заседаниями Первой петроградской конференции фабрично-заводских комитетов. Рожденные революцией, фабзавкомы под руководством большевиков устанавливали 8-часовой рабочий день, боролись за лучшее положение женщины на предприятии, налаживали рабочее снабжение. Это была сила, которую не все сразу оценили. И вот они в Таврическом дворце — посланцы революционных рабочих отрядов. В тех самых лепных «чертогах», которые в свое время привели в восхищение Державина, а позднее были использованы Павлом I под конюшни Конногвардейского полка.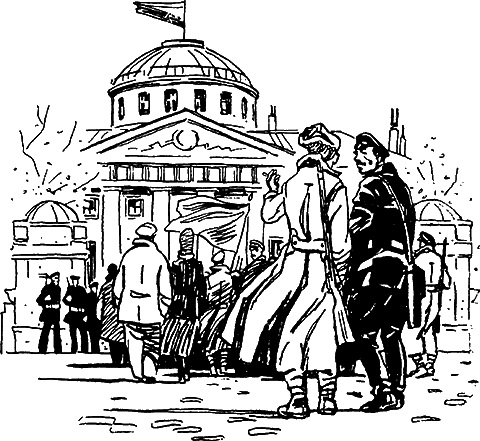 Но не судьба им была оставаться конюшнями. В суровом семнадцатом здесь прозвучали голоса первых рабочих и солдатских депутатов и из этих залов по тревожно ожидающей России разнеслись знаменитые Апрельские тезисы.
Они — в Таврическом. Они знают, зачем сюда пришли. Знают свое дело и меньшевистские лидеры. Семен припоминает. Авилов… Знакомая фамилия… Ну конечно, это он в девятьсот пятом работал в Харькове, участвовал в вооруженном восстании… Что привело его к меньшевистской позиции в таком решающем для пролетариата вопросе?
Председательствующий дает слово лидеру большевиков. Грохотом аплодисментов встречается появление на трибуне Ленина. Словно защищаясь от этого шума, который мешает сейчас сосредоточиться на очень важной для него мысли, оратор легонько поднимает вверх руку с набросками речи, и зал медленно стихает.
Первая же фраза, которую он произносит очень и очень спокойно, настораживает зал. Слушатели должны понять, сколь опасна для революции разруха.
— Катастрофа неслыханных размеров! — посылает он в зал импульс, который должен пробудить, заставить задуматься, мобилизоваться.
В чем же спасение? Владимир Ильич с легким сарказмом цитирует некоторых ораторов. Может быть, в создании учреждения с преобладанием капиталистов и чиновников? По рядам прокатывается смешок. А в зал летит второй импульс:
— Путь к спасению от катастрофы лежит только в установлении рабочего контроля за производством и распределением продуктов.
Он слегка наклоняется вперед.
— Теперь все много говорят о контроле, — иронически говорит Ленин, и делегаты знают, кому готовится удар, — даже люди, которые раньше при слове «контроль» готовы были кричать «караул», теперь признают, что контроль необходим.
В боковой ложе — шумок: кому-то не по вкусу…
— Но посредством этого общего слова «контроль» его фактически хотят свести на нет.
Ленин поворачивается к креслам, где сидят его оппоненты, во взгляде его — легкий прищур.
— Резолюция товарища Авилова проникнута полным забвением классовой позиции… — В ленинских интонациях нарастают суровость, сдержанный гнев. — Он выдвигает расплывчатую форму контроля промышленности «государственной властью» при участии широких слоев демократии. Но коалиционное правительство, в которое входят теперь «социалисты», — это слово он произносит с презрительной снисходительностью, — ничего еще не сделало в смысле осуществления этого контроля.
Резким движением он выбрасывает вперед ладонь, как бы приглашая еще раз положить на нее и взвесить деяния лиц, пробравшихся к власти.
— Почему наше новое коалиционное правительство, в которое входят теперь и «социалисты», — теперь уже откровенное презрение, — в течение трех месяцев не осуществило контроль, и не только не осуществило его, но в конфликте между горнопромышленниками юга России и рабочими правительство открыто стало на сторону капиталистов?
«Большевик должен владеть фактами, — говорит себе Восков, стараясь запомнить и ленинские интонации, и логику ленинской мысли. — Факт и обобщение. Факт и обобщение».
— Буржуа лгут, — раздается с трибуны, — выдавая за «контроль» государственно-планомерные меры обеспечения тройных, если не десятерных, прибылей капиталистам.
Он усмехается — они заслонились газетами.
— Государство наше сейчас, — продолжает свои удары Владимир Ильич, — есть государство хищничающих капиталистов. Этому государству, — подчеркивает он, — сдать дело борьбы с «хищничеством» капиталистов — значит бросить щуку в реку.
Взрыв смеха в зале. Смеется и Ленин, глаза его щурятся, искоса он бросает взгляд в сторону газет: недвижимы.
— Резолюция Авилова, — деловито подводит итог Ленин, — начавшая с того, что обещала дать все, закончила тем, что в сущности все предлагает оставить по-старому. Во всей его резолюции, — досадный взмах рукой, — нет и тени революционности. — На секунду задумывается и выдвигает свою формулу: — Регулирование и контроль не класса капиталистов над рабочими, а наоборот — вот в чем суть.
Делегациям уже роздан проект резолюции большевиков.
— Чтобы контроль над промышленностью действительно осуществлялся, он должен быть, — голос оратора поднимается, — рабочим контролем, чтобы во все ответственные учреждения входило большинство рабочих и чтобы администрация отдавала отчет в своих действиях перед всеми наиболее авторитетными рабочими организациями.
Зал реагирует бурно, шумно, всплесками.
— К делу, к делу! — весело заканчивает Ленин. — Поменьше отговорок, поближе к практике! Оставлять ли нетронутыми прибыли по военным поставкам, прибыли в размере пятисот процентов и тому подобное, да или нет? Оставлять ли в неприкосновенности коммерческую тайну, да или нет? Давать ли рабочим возможность контроля, да или нет?
— Давать! — выкрикнул Восков, и зал повторил: «Давать!».
Ленин собирает записки, весело смотрит в зал, уже собирается уйти, но — еще один взгляд в сторону меньшевиков, и чувствуется, что ему нужно нанести последний удар, прежде чем он уступит трибуну.
— Добивайтесь, товарищи рабочие, — твердо говорит он, — действительного контроля, а не фиктивного, и все резолюции и предложения такого фиктивного бумажного контроля самым решительным образом отметайте.
Эти проницательные слова делегаты повторят на заводах, в цехах, в мастерских, донесут их до «медвежьих углов» России, пройдут с ними фронтами гражданской войны и первых строек молодой республики. А сейчас 573 из них тянут руки ввысь за ленинский проект резолюции, и только тринадцать, пряча взгляды от соседей, голосуют за меньшевистскую трактовку «контроля» и тем самым за доверие Временному правительству.
Восков чувствовал себя, как на празднике. Сражение, происходившее здесь, было его стихией. Азартно беседуя с текстильщиками у одного из громадных окон бокового коридора, он и не заметил, как из группы проходивших людей отделился Свердлов, подошел, положил ему руку на плечо:
— Не горячись, Семен Петрович. Сбереги жар для Сестрорецка. — И обратился к своему спутнику: — Владимир Ильич, это и есть товарищ Восков.
— Слышал, слышал. — Ленин крепко пожал руку Воскову. — Кажется, это вы, товарищ Восков, руководили бруклинской стачкой в шестнадцатом году? И недурно руководили. Ваши впечатления о сестрорецких рабочих? У вас есть возможность сравнивать. Как вы оцениваете их революционные качества?
— Крайне высоко, Владимир Ильич. С ними можно идти до конца.
— Рад, очень рад. За наш питерский пролетариат и за ваших сестроречан, в частности. А скажите, товарищ Восков, по вашему мнению, рабочие Сестрорецка разберутся в двух точках зрения на контроль за производством?
— Отлично разберутся, Владимир Ильич. Они жизнью учены. И мы им всячески поможем в этом.
— Жизнью учены? Так, так.
Ленин на короткое время задумался.
— А теперь хорошенько подумайте и тогда ответьте, пожалуйста. Яков Михайлович говорил, что вы довольно остро поставили у себя в завкоме вопрос о производстве винтовок. Не собираемся ли мы таким образом поддерживать оборонческие позиции коалиционного правительства?
— Трехлинеечки для другой надобности, — весело отозвался Восков.
— Так, для другой, стало быть? — Из глаз Ленина заструился смех. — А эту другую надобность понимают все ваши товарищи? Можете ли вы уверить нас, что в случае такой надобности мы, большевики, сумеем опереться на фабзавкомы, как на передовую организацию рабочих? Ведь организация эта молодая, совсем молодая..
Восков посмотрел на Свердлова в поисках поддержки.
— Нет, нет, я не Якова Михайловича спрашиваю, — и опять глаза Ленина смеялись, — я спрашиваю председателя солидного фабзавкома.
Восков провел рукой по лицу.
— Фактов для обобщения пока маловато. Но сердцем чувствую…
— Сердцем, а также чутьем подпольщика и любителя острых схваток с буржуазией, — подзадорил его Ленин.
Семен широко улыбнулся.
— С таких позиций легче делать прогнозы, Владимир Ильич. Лично я очень верю в революционную стойкость фабзавкомов.
— С такой определенностью руководить легче, — засмеялся Ленин, увлекая за собой Свердлова, и уже издали громко сказал: — Значит, стоило, товарищи, вступить в сражение за фабзавкомы.
Но не судьба им была оставаться конюшнями. В суровом семнадцатом здесь прозвучали голоса первых рабочих и солдатских депутатов и из этих залов по тревожно ожидающей России разнеслись знаменитые Апрельские тезисы.
Они — в Таврическом. Они знают, зачем сюда пришли. Знают свое дело и меньшевистские лидеры. Семен припоминает. Авилов… Знакомая фамилия… Ну конечно, это он в девятьсот пятом работал в Харькове, участвовал в вооруженном восстании… Что привело его к меньшевистской позиции в таком решающем для пролетариата вопросе?
Председательствующий дает слово лидеру большевиков. Грохотом аплодисментов встречается появление на трибуне Ленина. Словно защищаясь от этого шума, который мешает сейчас сосредоточиться на очень важной для него мысли, оратор легонько поднимает вверх руку с набросками речи, и зал медленно стихает.
Первая же фраза, которую он произносит очень и очень спокойно, настораживает зал. Слушатели должны понять, сколь опасна для революции разруха.
— Катастрофа неслыханных размеров! — посылает он в зал импульс, который должен пробудить, заставить задуматься, мобилизоваться.
В чем же спасение? Владимир Ильич с легким сарказмом цитирует некоторых ораторов. Может быть, в создании учреждения с преобладанием капиталистов и чиновников? По рядам прокатывается смешок. А в зал летит второй импульс:
— Путь к спасению от катастрофы лежит только в установлении рабочего контроля за производством и распределением продуктов.
Он слегка наклоняется вперед.
— Теперь все много говорят о контроле, — иронически говорит Ленин, и делегаты знают, кому готовится удар, — даже люди, которые раньше при слове «контроль» готовы были кричать «караул», теперь признают, что контроль необходим.
В боковой ложе — шумок: кому-то не по вкусу…
— Но посредством этого общего слова «контроль» его фактически хотят свести на нет.
Ленин поворачивается к креслам, где сидят его оппоненты, во взгляде его — легкий прищур.
— Резолюция товарища Авилова проникнута полным забвением классовой позиции… — В ленинских интонациях нарастают суровость, сдержанный гнев. — Он выдвигает расплывчатую форму контроля промышленности «государственной властью» при участии широких слоев демократии. Но коалиционное правительство, в которое входят теперь «социалисты», — это слово он произносит с презрительной снисходительностью, — ничего еще не сделало в смысле осуществления этого контроля.
Резким движением он выбрасывает вперед ладонь, как бы приглашая еще раз положить на нее и взвесить деяния лиц, пробравшихся к власти.
— Почему наше новое коалиционное правительство, в которое входят теперь и «социалисты», — теперь уже откровенное презрение, — в течение трех месяцев не осуществило контроль, и не только не осуществило его, но в конфликте между горнопромышленниками юга России и рабочими правительство открыто стало на сторону капиталистов?
«Большевик должен владеть фактами, — говорит себе Восков, стараясь запомнить и ленинские интонации, и логику ленинской мысли. — Факт и обобщение. Факт и обобщение».
— Буржуа лгут, — раздается с трибуны, — выдавая за «контроль» государственно-планомерные меры обеспечения тройных, если не десятерных, прибылей капиталистам.
Он усмехается — они заслонились газетами.
— Государство наше сейчас, — продолжает свои удары Владимир Ильич, — есть государство хищничающих капиталистов. Этому государству, — подчеркивает он, — сдать дело борьбы с «хищничеством» капиталистов — значит бросить щуку в реку.
Взрыв смеха в зале. Смеется и Ленин, глаза его щурятся, искоса он бросает взгляд в сторону газет: недвижимы.
— Резолюция Авилова, — деловито подводит итог Ленин, — начавшая с того, что обещала дать все, закончила тем, что в сущности все предлагает оставить по-старому. Во всей его резолюции, — досадный взмах рукой, — нет и тени революционности. — На секунду задумывается и выдвигает свою формулу: — Регулирование и контроль не класса капиталистов над рабочими, а наоборот — вот в чем суть.
Делегациям уже роздан проект резолюции большевиков.
— Чтобы контроль над промышленностью действительно осуществлялся, он должен быть, — голос оратора поднимается, — рабочим контролем, чтобы во все ответственные учреждения входило большинство рабочих и чтобы администрация отдавала отчет в своих действиях перед всеми наиболее авторитетными рабочими организациями.
Зал реагирует бурно, шумно, всплесками.
— К делу, к делу! — весело заканчивает Ленин. — Поменьше отговорок, поближе к практике! Оставлять ли нетронутыми прибыли по военным поставкам, прибыли в размере пятисот процентов и тому подобное, да или нет? Оставлять ли в неприкосновенности коммерческую тайну, да или нет? Давать ли рабочим возможность контроля, да или нет?
— Давать! — выкрикнул Восков, и зал повторил: «Давать!».
Ленин собирает записки, весело смотрит в зал, уже собирается уйти, но — еще один взгляд в сторону меньшевиков, и чувствуется, что ему нужно нанести последний удар, прежде чем он уступит трибуну.
— Добивайтесь, товарищи рабочие, — твердо говорит он, — действительного контроля, а не фиктивного, и все резолюции и предложения такого фиктивного бумажного контроля самым решительным образом отметайте.
Эти проницательные слова делегаты повторят на заводах, в цехах, в мастерских, донесут их до «медвежьих углов» России, пройдут с ними фронтами гражданской войны и первых строек молодой республики. А сейчас 573 из них тянут руки ввысь за ленинский проект резолюции, и только тринадцать, пряча взгляды от соседей, голосуют за меньшевистскую трактовку «контроля» и тем самым за доверие Временному правительству.
Восков чувствовал себя, как на празднике. Сражение, происходившее здесь, было его стихией. Азартно беседуя с текстильщиками у одного из громадных окон бокового коридора, он и не заметил, как из группы проходивших людей отделился Свердлов, подошел, положил ему руку на плечо:
— Не горячись, Семен Петрович. Сбереги жар для Сестрорецка. — И обратился к своему спутнику: — Владимир Ильич, это и есть товарищ Восков.
— Слышал, слышал. — Ленин крепко пожал руку Воскову. — Кажется, это вы, товарищ Восков, руководили бруклинской стачкой в шестнадцатом году? И недурно руководили. Ваши впечатления о сестрорецких рабочих? У вас есть возможность сравнивать. Как вы оцениваете их революционные качества?
— Крайне высоко, Владимир Ильич. С ними можно идти до конца.
— Рад, очень рад. За наш питерский пролетариат и за ваших сестроречан, в частности. А скажите, товарищ Восков, по вашему мнению, рабочие Сестрорецка разберутся в двух точках зрения на контроль за производством?
— Отлично разберутся, Владимир Ильич. Они жизнью учены. И мы им всячески поможем в этом.
— Жизнью учены? Так, так.
Ленин на короткое время задумался.
— А теперь хорошенько подумайте и тогда ответьте, пожалуйста. Яков Михайлович говорил, что вы довольно остро поставили у себя в завкоме вопрос о производстве винтовок. Не собираемся ли мы таким образом поддерживать оборонческие позиции коалиционного правительства?
— Трехлинеечки для другой надобности, — весело отозвался Восков.
— Так, для другой, стало быть? — Из глаз Ленина заструился смех. — А эту другую надобность понимают все ваши товарищи? Можете ли вы уверить нас, что в случае такой надобности мы, большевики, сумеем опереться на фабзавкомы, как на передовую организацию рабочих? Ведь организация эта молодая, совсем молодая..
Восков посмотрел на Свердлова в поисках поддержки.
— Нет, нет, я не Якова Михайловича спрашиваю, — и опять глаза Ленина смеялись, — я спрашиваю председателя солидного фабзавкома.
Восков провел рукой по лицу.
— Фактов для обобщения пока маловато. Но сердцем чувствую…
— Сердцем, а также чутьем подпольщика и любителя острых схваток с буржуазией, — подзадорил его Ленин.
Семен широко улыбнулся.
— С таких позиций легче делать прогнозы, Владимир Ильич. Лично я очень верю в революционную стойкость фабзавкомов.
— С такой определенностью руководить легче, — засмеялся Ленин, увлекая за собой Свердлова, и уже издали громко сказал: — Значит, стоило, товарищи, вступить в сражение за фабзавкомы.
 И, рассказывая о впечатлениях этих дней сначала в своем заводском комитете, потом на шеститысячном собрании оружейников и в цехах, Восков повторял простые и убедительные ленинские слова:
— Добивайтесь, товарищи, действительного контроля, а не фиктивного, бумажного.
И сам показал, чем отличается дело от бумажки.
На первое же заседание фабзавкома был приглашен новый начальник завода капитан артиллерии Шебунин, заменивший царских администраторов. Он пришел с ворохом докладных и писем, из которых следовало, что продукция оружейников из месяца в месяц снижается.
— Куда смотрят ваши снабженцы, экономисты, конторщики? — спросил Восков. — Возьмите их за шиворот, заставьте пошевелиться. Нам нужны не «охи» и «ахи», а реальные подсчеты и конкретные меры.
— Ваши рабочие больше митингуют и пьют, чем стоят за станками, — сказал Шебунин. — Какой уж тут план может быть!
Люди зашумели. Восков остановил их.
— Митинги, капитан Шебунин, у нас были, есть и будут. Это неплохая форма волеизъявления масс. А за пьяниц возьмемся. Но не смешивайте нескольких пьяниц с рабочими. Дайте людям четкое задание, обеспечьте их материалами — и они горы своротят.
Через три дня он получил от снабженцев и экономистов все, что хотел узнать, а еще через неделю начальник завода изложил в комитете свои предложения. Заканчивая обзор, Шебунин, несколько замявшись, сообщил:
— Мерами фабзавкома по поднятию дисциплины лично я удовлетворен.
— Спиртное укараулили? — спросил кто-то.
Грохнул смех. Начальник весь месяц не мог обнаружить, кто похищает спирт из механической мастерской, пока рабочие не поймали разгильдяев и не выгнали их с завода.
Были вопросы и посерьезнее. Членам фабзавкома дали поручения объездить предприятия и договориться с рабочими о возможности переброски сырья в Сестрорецк. За топливом решено было послать в Донбасс самого председателя. Никак не удавалось решить проблему с рабочим снабжением.
— Хотя бы детей обеспечить! — сказала Мария Грядинская, браковщица оружейной мастерской.
У Семена сердце сжалось. Еще вчера Андреев и его невеста Лида твердили Семену о нездоровом виде детей. И особенно младшей, Женечки.
…Завком ждал слова Воскова.
— Слушайте, товарищи, — предложил он. — А не потрясти ли сестрорецких купцов? Объявим реквизицию продуктов, согласуем с местным Советом, и точка!
— Восков вспомнил свою молодость, — злословили меньшевики. — Фабзавкомом правит экс.
Семен не прошел мимо их выпадов:
— Когда веками грабили рабочих — это считалось узаконенным. Когда же мы хотим реквизовать часть награбленного, нам кричат: «Эксы!», «Грабители с большой дороги!». Меньше паники, господа крикуны! Мы хотим лишь уберечь от голодной смерти наше будущее — наших детей.
Но когда всем многодетным женщинам начали выдачу молочных продуктов, он постеснялся стать с ними в очередь.
— Я отец, — ответил он Лиде шуткой, — а мы приглашали матерей.
Он пропадал в Донбассе больше недели, вернулся сияющим.
— Выбил тринадцать тысяч пудов угля сверх того, что обещали. Славные ребята в Донбассе! — всмотрелся в лица встречавших его товарищей. — Вячек, Федор, что это вы как на панихиде? Дети мои здоровы?
— Дети здоровы, — ответил Федор Грядинский. — Уж мы постарались тут без тебя, чтобы молоко восковцы имели. Получено неприятное сообщение, Семен. Временное правительство готовит против нас какую-то провокацию.
— Интересно! — загорелся Семен. — Вот где наши люди получат боевую закалку. Нужно раздать оружие.
— Нет, нет, — сказал Зоф. — Стрелковую закалку пока отложим, товарищ Восков. И раздачу оружия — тоже.
Семен тяжело вздохнул:
— Наверно, я ошалел. За четверо суток и четырех часов не соснул… Какие-то загадки загадываете.
И, рассказывая о впечатлениях этих дней сначала в своем заводском комитете, потом на шеститысячном собрании оружейников и в цехах, Восков повторял простые и убедительные ленинские слова:
— Добивайтесь, товарищи, действительного контроля, а не фиктивного, бумажного.
И сам показал, чем отличается дело от бумажки.
На первое же заседание фабзавкома был приглашен новый начальник завода капитан артиллерии Шебунин, заменивший царских администраторов. Он пришел с ворохом докладных и писем, из которых следовало, что продукция оружейников из месяца в месяц снижается.
— Куда смотрят ваши снабженцы, экономисты, конторщики? — спросил Восков. — Возьмите их за шиворот, заставьте пошевелиться. Нам нужны не «охи» и «ахи», а реальные подсчеты и конкретные меры.
— Ваши рабочие больше митингуют и пьют, чем стоят за станками, — сказал Шебунин. — Какой уж тут план может быть!
Люди зашумели. Восков остановил их.
— Митинги, капитан Шебунин, у нас были, есть и будут. Это неплохая форма волеизъявления масс. А за пьяниц возьмемся. Но не смешивайте нескольких пьяниц с рабочими. Дайте людям четкое задание, обеспечьте их материалами — и они горы своротят.
Через три дня он получил от снабженцев и экономистов все, что хотел узнать, а еще через неделю начальник завода изложил в комитете свои предложения. Заканчивая обзор, Шебунин, несколько замявшись, сообщил:
— Мерами фабзавкома по поднятию дисциплины лично я удовлетворен.
— Спиртное укараулили? — спросил кто-то.
Грохнул смех. Начальник весь месяц не мог обнаружить, кто похищает спирт из механической мастерской, пока рабочие не поймали разгильдяев и не выгнали их с завода.
Были вопросы и посерьезнее. Членам фабзавкома дали поручения объездить предприятия и договориться с рабочими о возможности переброски сырья в Сестрорецк. За топливом решено было послать в Донбасс самого председателя. Никак не удавалось решить проблему с рабочим снабжением.
— Хотя бы детей обеспечить! — сказала Мария Грядинская, браковщица оружейной мастерской.
У Семена сердце сжалось. Еще вчера Андреев и его невеста Лида твердили Семену о нездоровом виде детей. И особенно младшей, Женечки.
…Завком ждал слова Воскова.
— Слушайте, товарищи, — предложил он. — А не потрясти ли сестрорецких купцов? Объявим реквизицию продуктов, согласуем с местным Советом, и точка!
— Восков вспомнил свою молодость, — злословили меньшевики. — Фабзавкомом правит экс.
Семен не прошел мимо их выпадов:
— Когда веками грабили рабочих — это считалось узаконенным. Когда же мы хотим реквизовать часть награбленного, нам кричат: «Эксы!», «Грабители с большой дороги!». Меньше паники, господа крикуны! Мы хотим лишь уберечь от голодной смерти наше будущее — наших детей.
Но когда всем многодетным женщинам начали выдачу молочных продуктов, он постеснялся стать с ними в очередь.
— Я отец, — ответил он Лиде шуткой, — а мы приглашали матерей.
Он пропадал в Донбассе больше недели, вернулся сияющим.
— Выбил тринадцать тысяч пудов угля сверх того, что обещали. Славные ребята в Донбассе! — всмотрелся в лица встречавших его товарищей. — Вячек, Федор, что это вы как на панихиде? Дети мои здоровы?
— Дети здоровы, — ответил Федор Грядинский. — Уж мы постарались тут без тебя, чтобы молоко восковцы имели. Получено неприятное сообщение, Семен. Временное правительство готовит против нас какую-то провокацию.
— Интересно! — загорелся Семен. — Вот где наши люди получат боевую закалку. Нужно раздать оружие.
— Нет, нет, — сказал Зоф. — Стрелковую закалку пока отложим, товарищ Восков. И раздачу оружия — тоже.
Семен тяжело вздохнул:
— Наверно, я ошалел. За четверо суток и четырех часов не соснул… Какие-то загадки загадываете.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ОНИ ИСЧЕЗАЛИ НОЧЬЮ
«Глаза слипаются и мысли… А он продолжает говорить что-то непонятное…» Курсант и впрямь нес околесицу: — Товарищ инструктор, я сейчас изживаю дефект слуха и обязуюсь изжить дефекты подготовки, разрешите прийти для переполучения зачета… — Отставить нытье, да еще безграмотное! — сказала Сильва. — Со слухом у тебя все в порядке — врач проверял. А на занятиях девчоночкам записочки пишешь. Учти: через неделю не освоишь — рапорт подам. Рапорта он боялся. Рапорт был равносилен изгнанию из школы. Обычно по ночам из военного округа, из штаба партизанского движения, из разведотдела присылали машину за выпускниками, и наутро койки их оказывались пустыми. Оставшиеся называли ушедших счастливчиками. Письма от «счастливчиков» приходили редко. Чаще о них рассказывали офицеры, отбиравшие радистов. Причем, довольно односложно: «Анечка? Черненькая? Уже там. Шесть раз выходила на связь в опаснейших условиях», «Эрнест? Это который из немцев Поволжья? До службы добрался». С первой минуты пребывания в школе Сильве и Лене все здесь нравилось. Они получили новенькие формы: матросскую рубашку, юбку, китель, синий берет со звездочкой. Их привели к присяге, ознакомили с распорядком дня в школе. Начальник учебно-строевой части старший лейтенант почти с грибоедовской фамилией Скалодуб перечислял все возможные взыскания с истинным удовольствием. Сильва не удержалась от бодрого замечания: — Постараемся всех видов взысканий избежать, товарищ старший лейтенант. — Не всем это удается, — сурово пообещал он. — Поете, пляшете, рифмуете? — с надеждой спрашивал новичков комиссар школы Арбатов, очень вежливый худощавый человек с короткой бородкой, испытывающий острый недостаток в клубных «талантах». — Предсказываем судьбу, — подшутила над Сильвой Лена. Комиссар улыбнулся: — Мне бы что-нибудь более атеистическое. Курсантки жили на третьем этаже — это был довольно вместительный зал с двухъярусными койками. После вечерних поверок, перед сном любили поговорить, помечтать, поспорить. Сильва развлекалась «предсказаниями». Обычно покружится по комнате, остановится, и тот, кто оказывается в кругу напротив, мог быстро задать любой вопрос. Игра привилась. — Сильва, я буду счастливая? — Будешь. Но сначала научись быть смелой. — Чего во мне больше — хорошего или плохого, и чем это для меня обернется? — У тебя баланс. Но учти, плохое никогда не оборачивается хорошим. «Спешу обрадовать себя и заодно утешить, — заносила Сильва в дневник, — идем в гору жизни бодро и весело, обретаем самих себя, обретаем до такой степени, что любуемся белыми ленинградскими ночами, гранитом, Невой, островами, отороченными свежей зеленью и… безлюдной тишью». Иронически заканчивала: «Обстановка полной отвлеченности от современных событий».
Да, они любовались белыми ночами, которые так точно описал Пушкин, но добрую треть этих ночей проводили за пе-образным столом с зуммером, «натаскивая» и перегоняя друг друга, замирая от страха, что не успеют за положенные секунды передать столько цифр, букв, кодов.
Не прошло и трех недель, как инструктор радиодела Мигалова доложила начальнику школы, что и Воскова, и Вишнякова программу усвоили и способны обучать сами.
— Что же, рад, — сказал Кардов. — Не зря их в ЛЭТИ грамотами награждали. Дадим курсанткам по взводу. Согласны, комиссар?
— Они заслужили, — ответил Арбатов.
— Возражаю, товарищ начальник, — вмешался Скалодуб. — По квалификации — не спорю, но почтительности у обеих маловато. История с плотиком — не в их пользу.
Кардов с трудом сдержал улыбку. Он знал эту историю. Неподалеку от школы на Малой Невке давно уже болтался «ничейный» плот, который вдруг решили одновременно пустить на дрова и курсанты, и моряки-соседи. Когда моряки начали привязывать к плоту веревку, курсанты подошли на катере, закрепили плот стальным тросом и поволокли его вместе со шлюпкой моряков к школе. Скалодуб, завидев это, стал подавать курсантам сигналы немедленно остановиться. То ли они не заметили его, то ли вошли в азарт, но операцию провели до конца и разбежались. Скалодуб ходил по спальням, искал «виновных» и неожиданно налетел на подруг:
— Я вас видел на катере. Вы проявили, имейте в виду, политическую незрелость. Вы оскорбили действием наш Военно-Морской Флот.
— Лично я, товарищ старший лейтенант, — вспыхнула Сильва, — действием наш флот не оскорбляла. Мы просто проявили маленькую спортивную хитрость. А по вашей логике, с моряками и в волейбол рискованно играть — можно выиграть.
И вот теперь Скалодуб напомнил об этой истории.
— Я не оправдываю курсанток, — очень вежливо заметил комиссар, — но хочу напомнить, что ваша политическая аттестация этого эпизода была слишком эмоциональной.
Воскова и Вишнякова получили по взводу.
Война развивалась стремительно. И ребята, о «морзянке» читавшие только в детективных повестях, должны были очень быстро стать виртуозами в приеме и передаче до ста–полутораста знаков в минуту — цифр и букв, русских и латинских…
С завистью смотрели инструкторы, как их лучших учеников быстро экзаменует полковник из штаба партизанского движения — человек, которого они уже знали и который любил повторять:
— Не набьете руку здесь — там набьют вам.
У него было безошибочное чутье на кандидатов. В этот заезд он отобрал большую группу.
Подруги отчего-то загрустили. Посмотрели друг на друга и, «чтоб не дразнить мечты», разошлись.
Несколько раз Сильва останавливалась у кабинета Кардова, все ждала: он выйдет. Не вышел. Она постучала.
— Докладывает инструктор Воскова…
Он сидел за столом, просматривал списки, устало сказал: — Уже знаю. Уедут и ваши. Очень трудные места.
Ее молчание насторожило. Поднял взгляд, что-то понял.
— Возможно, вам будет интересно. Я уже третий рапорт подал с просьбой — в действующую. Отказ по всем инстанциям: «Ваша работа остро необходима Ленфронту». Я вас не задерживаю, товарищ инструктор.
Вернулась в спальню. Ее окружили девчата, затормошили.
— Кто из нас уезжает? Знаешь? Скажи…
Тихо ответила:
— Предсказательница сегодня выходная.
Легла на свою койку.
Кто-то разлил по стаканам компот, кто-то предложил выпить «за тех, кто исчезнет ночью».
— Лена, тост! — раздались голоса.
— Я лучше вам спою на дорожку, — сверкнула улыбкой Лена.
— Сильва, тост! — проскандировали они. — Сильва, тост!
Сильва встала, взяла со стола стакан, высоко его подняла:
— Дорогие мои девочки! Если когда-нибудь в жизни мне было очень тепло и приятно, то это именно теперь. Сколько бы вы ни делали вступлений в самостоятельную жизнь, но шаг в самостоятельную жизнь вы делаете первый. Пусть же он будет удачливый, ведь то, перед чем стоите вы, это шаг в будущее ваше и нашей Родины. За вас, девочки, за величие вашей души. — Пригубила и попросила: — Теперь — песню. Хотя, — засмеялась, — Скалодуб услышит… Не отстучать ли ее лучше по «морзянке»?
Иронически заканчивала: «Обстановка полной отвлеченности от современных событий».
Да, они любовались белыми ночами, которые так точно описал Пушкин, но добрую треть этих ночей проводили за пе-образным столом с зуммером, «натаскивая» и перегоняя друг друга, замирая от страха, что не успеют за положенные секунды передать столько цифр, букв, кодов.
Не прошло и трех недель, как инструктор радиодела Мигалова доложила начальнику школы, что и Воскова, и Вишнякова программу усвоили и способны обучать сами.
— Что же, рад, — сказал Кардов. — Не зря их в ЛЭТИ грамотами награждали. Дадим курсанткам по взводу. Согласны, комиссар?
— Они заслужили, — ответил Арбатов.
— Возражаю, товарищ начальник, — вмешался Скалодуб. — По квалификации — не спорю, но почтительности у обеих маловато. История с плотиком — не в их пользу.
Кардов с трудом сдержал улыбку. Он знал эту историю. Неподалеку от школы на Малой Невке давно уже болтался «ничейный» плот, который вдруг решили одновременно пустить на дрова и курсанты, и моряки-соседи. Когда моряки начали привязывать к плоту веревку, курсанты подошли на катере, закрепили плот стальным тросом и поволокли его вместе со шлюпкой моряков к школе. Скалодуб, завидев это, стал подавать курсантам сигналы немедленно остановиться. То ли они не заметили его, то ли вошли в азарт, но операцию провели до конца и разбежались. Скалодуб ходил по спальням, искал «виновных» и неожиданно налетел на подруг:
— Я вас видел на катере. Вы проявили, имейте в виду, политическую незрелость. Вы оскорбили действием наш Военно-Морской Флот.
— Лично я, товарищ старший лейтенант, — вспыхнула Сильва, — действием наш флот не оскорбляла. Мы просто проявили маленькую спортивную хитрость. А по вашей логике, с моряками и в волейбол рискованно играть — можно выиграть.
И вот теперь Скалодуб напомнил об этой истории.
— Я не оправдываю курсанток, — очень вежливо заметил комиссар, — но хочу напомнить, что ваша политическая аттестация этого эпизода была слишком эмоциональной.
Воскова и Вишнякова получили по взводу.
Война развивалась стремительно. И ребята, о «морзянке» читавшие только в детективных повестях, должны были очень быстро стать виртуозами в приеме и передаче до ста–полутораста знаков в минуту — цифр и букв, русских и латинских…
С завистью смотрели инструкторы, как их лучших учеников быстро экзаменует полковник из штаба партизанского движения — человек, которого они уже знали и который любил повторять:
— Не набьете руку здесь — там набьют вам.
У него было безошибочное чутье на кандидатов. В этот заезд он отобрал большую группу.
Подруги отчего-то загрустили. Посмотрели друг на друга и, «чтоб не дразнить мечты», разошлись.
Несколько раз Сильва останавливалась у кабинета Кардова, все ждала: он выйдет. Не вышел. Она постучала.
— Докладывает инструктор Воскова…
Он сидел за столом, просматривал списки, устало сказал: — Уже знаю. Уедут и ваши. Очень трудные места.
Ее молчание насторожило. Поднял взгляд, что-то понял.
— Возможно, вам будет интересно. Я уже третий рапорт подал с просьбой — в действующую. Отказ по всем инстанциям: «Ваша работа остро необходима Ленфронту». Я вас не задерживаю, товарищ инструктор.
Вернулась в спальню. Ее окружили девчата, затормошили.
— Кто из нас уезжает? Знаешь? Скажи…
Тихо ответила:
— Предсказательница сегодня выходная.
Легла на свою койку.
Кто-то разлил по стаканам компот, кто-то предложил выпить «за тех, кто исчезнет ночью».
— Лена, тост! — раздались голоса.
— Я лучше вам спою на дорожку, — сверкнула улыбкой Лена.
— Сильва, тост! — проскандировали они. — Сильва, тост!
Сильва встала, взяла со стола стакан, высоко его подняла:
— Дорогие мои девочки! Если когда-нибудь в жизни мне было очень тепло и приятно, то это именно теперь. Сколько бы вы ни делали вступлений в самостоятельную жизнь, но шаг в самостоятельную жизнь вы делаете первый. Пусть же он будет удачливый, ведь то, перед чем стоите вы, это шаг в будущее ваше и нашей Родины. За вас, девочки, за величие вашей души. — Пригубила и попросила: — Теперь — песню. Хотя, — засмеялась, — Скалодуб услышит… Не отстучать ли ее лучше по «морзянке»?
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ДВЕ ТАЙНЫ ОЗЕРА РАЗЛИВ
И Восков, и Грядинский чувствовали, что Зоф чего-то недоговаривает, но секретарь большевистского райкома, как видно, не собирался посвящать их в свои соображения. — И не такие крепости брали, — пошутил Семен, входя через несколько дней в комитет и усаживаясь напротив Вячека. — Выкладывай. — Товарищ Восков, — маленький, смуглолицый Вячеслав выскочил из-за стола и забегал от стола к двери. — Цека и Пека[18] нам сообщают все, что нам нужно знать. Пожалуйста, Семен, без лишних вопросов. — Взял со стола газету. — Кадеты называют нас «Сестрорецкой республикой». Я полагаю, это не оскорбление, а признание нашей силы. Но только силы нужно пока поберечь. — Что это ты так осторожничаешь, Вячек? Зоф скупо улыбнулся. — Это из той же серии вопросов. Учти только, Восков, что Керенский июльских дней нам не простит. Да, Керенский вряд ли забыл, что, когда солдаты и рабочие Питера потребовали разгона Временного правительства, сестрорецкие оружейники присоединились к ним. Молодой отряд заводских красногвардейцев, сколоченный Восковым и Грядинским, занял вокзалы, телефонную станцию, почту. На расстрел июльской демонстрации сестроречане откликнулись мощной забастовкой. Временщики искали лишь повод для вооруженного вмешательства. Восков с головой ушел в завкомовские заботы. Приходили к нему по самым разным делам. Он сидел в своей обычной позе, широко расставив на столе локти и прижав пальцы к вискам, глядя прямо в глаза собеседнику с неизменной, ободряющей человека улыбкой. — Ясно, — сказал он директору детского приюта. — Мебель детишкам нужна, и обязательно новая. Пойдите в столярку. — Семен Петрович, вы бы столярам записочку написали. — А вот это уже лишнее. Они любят ребятишек не меньше меня. Он был очень обрадован, что его столяры проявили сознательность. Как-то заскочил в приют и даже посидел на детских стуликах. К нему пришла молоденькая девушка. — Подносчица я, — говорила скороговоркой. — А он слесарь. Замуж зовет, а я не знаю, идти али не идти. Семен Петрович, чего ему сказать? Восков дернул себя за ухо, вздохнул: — Труднее дела еще сегодня не было. Парень он хороший, наш, я его знаю. Любишь? — Ага. — Тогда выходи за него. Книги или газеты читаешь? — Н… некогда. — Как выйдешь замуж — начни читать. А то он разлюбит. Он парень сознательный, я его знаю. Она убежала счастливая, и он был доволен, что помог. Неожиданно к нему заявился Кондратий Емельянов, семиклассник из коммерческого училища. — Вы, товарищ Восков, объездили весь мир, помогите разобраться. Буза в школе. Начальство занятия срывает, над рабочими издевки строит. Мы супротив них, я и Ленька Шушпанов, так нас же и травят, саботажники проклятые. Восков не забыл этого дела и пригласил в ревком директора. — Послушайте, господин статский советник, — сказал он кратко. — Геометрические фигуры учите ребят строить по Евклиду или Пифагору, и тут мы не вмешиваемся. Но мозги им тухлятиной не засоряйте. Егоров язвительно спросил: — Позвольте поинтересоваться, что-с кончили? Семен ответил с улыбкой: — Начальную школу и высшую жизненную — по борьбе с вашим братом. Может быть, мне самому побывать у вас на уроке, господин статский советник? Егоров смешался, попросил время подумать. Потом Восков узнал, что Кондартий и Леонид крепко поговорили с учащимися, и саботаж им удалось сорвать. Встретив позднее Шушпанова на прогулке, он сказал ему: «Слышал о тебе, Леонид. Надумаешь к нам в партию — буду рекомендовать». Через несколько месяцев так и случилось. На Сестрорецк надвигались события посерьезнее. Начало охотничьего сезона весельчаки ознаменовали ночной пальбой из берданок. Черносотенный «Петроградский листок», ссылаясь на очевидцев-дачников, живописно расписал начало «вооруженного мятежа» в Сестрорецке. Случай был удобный, и Керенский бросил на подавление несуществующего мятежа карательную экспедицию в составе юнкеров и казаков из «дикой дивизии». Командовать ими он поручил своему любимцу капитану Гвоздеву, который копировал Керенского и внешне и истеричностью речей. Оружейников предупредил дежурный телефонист. …Медленно, во тьме, пересекают лодки широкую чашу Разлива. Ночь выдалась облачной, и только изредка, когда высветляется клочок неба, можно заметить с берега силуэты людей, сидящих на веслах. Грести тяжело, груз весомый: винтовки, патроны и даже пишущая машинка и гектограф. Все, что накопили за эти месяцы рабочие Сестрорецка, готовясь к восстанию, нужно успеть укрыть. На веслах Восков, Андреев, их товарищи по завкому, по большевистскому комитету. Оружие закапывают во дворах верных людей, на Угольном острове, а кое-что — в саду генеральской дачи, которая вряд ли заинтересует карателей. Уже под утро Семен приходит в райком. Зоф в этот «неприемный» час на месте. — Успели, Семен? — Успели, Вячек, Разлив не выдаст тайны. — Молодцы. Но есть еще одна тайна, Семен. — Зоф дружески сжимает его руку. — Ты согласен, что еще не пробил час восстания и мы должны сжать губы и вытерпеть, выстоять? — Согласен. — Даже если они будут обыскивать, грозить, издеваться? — Слушай, — сердито говорит Семен, — всему есть предел. Вячек молчит, смотрит в сторону. Наконец: — Ты выстоишь, Семен. И других убедишь выстоять. Кроме общих причин, Пека не заинтересован сейчас привлекать к Сестрорецку внимание контрреволюции… — Подожди, подожди, Вячек! Это не связано с тем, что Временное правительство вызвало Ленина на суд? — Мне об этом не докладывали, Семен, — сухо говорит Зоф. — Но дисциплина есть дисциплина. И ты, и ваш завком выстоят. Стараясь не скрипнуть половицей крыльца, ступая на носках, Семен пробирается в комнату. Обходит детские кроватки, прислушивается к дыханию ребят. — Эй, притворяха, почему не спишь? — Папа, — сообщает Даня драматическим шепотом, — все говорят, на нас солдаты идут. А тебя не арестуют? — Нет, сынок. Рабочие меня не дадут в обиду. Спи. Мальчик засыпает успокоенный. А на рассвете в рабочие дома врываются юнкера, казаки, опрокидывают шкафы, корзины, распарывают перины, подушки, ищут, ищут… Но что они могут найти, если все, в чем нуждается завтрашняя революция, уже надежно сокрыто? Оцеплены все здания, на перекрестках броневики устрашающе поводят пулеметными стволами. Оружейники проходят на завод сквозь цепь карателей, но к работе никто не приступает. Толпа застыла на площади. Большевики уговаривают, убеждают, просят: выдержка! Ежеминутно к капитану Гвоздеву, картинно взгромоздившемуся на броневик, подбегают взводные и рапортуют: — Оружие не найдено, господин капитан! — Ваше благородие, у них пусто! Гвоздев выхватывает из ножен шашку — так живописнее! — и надрывно кричит: — Что вы барабаните мне в ухо? Не принимаю. Службе не выучились? Дармоедами стали? Искать, искать до победного! Не находят. И тогда командир отряда принимает другое решение. — Даю завкому четверть часа. Либо Сестрорецк будет объявлен на осадном положении со всеми вытекающими последствиями — и предупреждаю, ни одного смутьяна не пощажу! — либо вы сложите вот сюда, перед моим взором наворованное оружие. Передайте своему председателю — четверть часа, и я начинаю Варфоломеевскую ночь при свете солнца! Четверть часа… Завком научился быстро решать вопросы. Гвоздев смотрит на ручные часы. Четверть часа истекает. Наконец-то эти смутьяны зашевелились. К его ногам падают первые увиденные им в Сестрорецке ружья. Дьявол их подери, если они сдадут оружие, можно будет, как он и дал слово, обойтись без арестов. Он вернется в Петроград победителем. Шутка ли: оружейники сдали оружие. Каламбур готов. Керенский вставит его в свою речь. Но что они бросают? Берданки, охотничьи ружья, ножи… Господи, какой-то дурень бросает даже кухонный нож. Что они, свихнулись? — Рабочие! — надрывается он. — Вас обманули. Откройте сердца законному правительству социалистов! — Социалист, — слышен высокий голос, — у нас уже перины распороты. Мало? В толпе поднимается смех. Он взбешен. — Схватить смутьянов! — приказывает Гвоздев взводным. Список составлен заранее, за людьми следят. Воскова и еще шесть рабочих активистов грубо оттесняют к броневикам, связывают им руки и вталкивают в кузов открытой грузовой машины. Толпа начинает медленно надвигаться на солдат. Голоса анархистов возбуждают людей: «Братья, мы сильнее!» Семен чувствует, сейчас произойдет непоправимое. — Винтовку наизготовку! К бою — товсь! — командует Гвоздев. Ну-ка, Семен, тут нужна хитрость подпольщика. — Одну минутку, капитан! — весело и громко говорит он. Толпа замерла, мог бы и потише. Значит, для них… — Зря, капитан, вы трудились! Вы отобрали у нас оружие, и мы под давлением военной силы и во избежание напрасного кровопролития сдали вам оружие. Лишь бы они не сдвинулись с места — навстречу пулям, провокациям, арестам! — Но знайте… пройдет несколько дней, мы вновь изготовим для себя винтовки и, если нужно будет, сами вооружимся и товарищей из Петрограда вооружим. Так, так, подает броневикам сигнал трогаться с места! В толпе — опять движение. Подарите мне еще минуту терпения, товарищи! — Я считаю, капитан, — кричит он в толпу, мысленно благодаря друзей за то, что они его поняли, за то, что выдержали, — я считаю, что вы окажетесь тогда в проигрыше! Машины медленно выезжают из заводских ворот. Громкий голос: — Мы освободим тебя, Восков!ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. «ПЕРЕХОЖУ НА ПРИЕМ»
— Хочешь, пойдем к самому? Поручимся за тебя! — Не надо, девочки. Все правильно. Шепот у замочной скважины смолк. Наверно, кто-то из начальства показался. Кто бы мог подумать — торопилась в действующую, а попала на гауптвахту. Месяц назад она писала Ивану Михайловичу: «Дорогой мой, ты когда-то мечтал, чтобы у тебя в семье был радист, и вот твоя Сивка начинает становиться радистом-оператором… Меня и мою подругу оставили инструкторами здесь, но мы очень хотим идти в часть радистами и будем решительно добиваться этой чести». Кардов непробиваем. Подкатилась к Арбатову. «Как вы считаете, товарищ комиссар, где человек приносит больше пользы — на фронте или в тылу?» Он погладил бородку, мягко заглянул ей в глаза: «Я тоже полагал, Сильвия Семеновна, что на фронте. Но когда я прочитал, что проделал еще один комиссар — ваш отец — в тылу, я заколебался». Перед шестилетней Галкой, которую безумно любила и старалась подкормить, забегая к Лене, репетировала свои диалоги с начальством, которые всегда кончались словами: «Я буду надеяться и ждать». На собрании взвода она торопит курсантов, предлагает через день проводить контрольные. Дневник запестрел фразами: «Конечно, в долгу у жизни я оставаться не намерена», «…Собираюсь полечь костьми, а добиться осуществления моих всепоглощающих мечтаний». Встретила соученицу. Вспомнили школьных друзей. Рассказала про Шакееву. Узнала, что класс понес и новые потери. Снаряд угодил в землянку, где Ника Феноменов оперировал раненых. Ники нет. И Сашка Давтян погиб — один из «мушкетеров». Какую-то из сестер Диц немцы повесили в Пятигорске… Сильва вошла в кабинет к матери, тихо села в углу, глаза воспаленные. — Что с тобой, Сивка? Переработка? — Недоработка, мама. Предстоит большой разговор с Кардовым. Разговор состоялся, в дневник легло отчаянное: «Опять и тысячу раз опять мои стремления уйти отсюда тщетно разбиваются… О, как мне не хватает деятельного настоящего при жгучем и неотвратимом стремлении к нему!»
Седьмого июля проснулась и подумала: «Просыпаться по утрам с ощущением счастья — вот это счастье!» Хорошо сказано. Почему она вспомнила эти слова сегодня? Ах да, сегодня ей стукнуло двадцать два.
Начала припоминать, каким был этот день до войны. Непременно находила под подушкой томик стихов. Володя преподнес ей букетик горных ромашек — это было в альплагере, и он лазил за цветами на рассвете по скалам. От Лены тогда пришла телеграмма: «Поздравляю люблю некогда писать целую жду».
Повернулась, под рукой зашелестела бумага. Всмотрелась — точки, тире — Ленкин почерк: «Поздравляю писать некогда люблю желаю пробить мечту».
В этот день опять приезжал полковник. Сел за пе-образный стол сам, предложил инструкторам рассадить курсантов. Сильва переглянулась с Леной и заняла место рядом с экзаменующимися.
Полковник имел возможность переговариваться по «морзянке» с любым из радистов-операторов. Послал короткие депеши двум-трем, определил их ритм работы, вызвал Сильву, задал несколько вопросов, что-то привлекло его внимание в ее стиле — то ли четкость, то ли обостренная наблюдательность. Предложил принять текст. «Перехожу на прием», — отстучала Сильва. Все ускоряя и ускоряя темп, он нанизывал кодированную цифровую вязь, попросил ее записи, всмотрелся, кивнул:
— Учителя у вас добротные.
Разговор состоялся, в дневник легло отчаянное: «Опять и тысячу раз опять мои стремления уйти отсюда тщетно разбиваются… О, как мне не хватает деятельного настоящего при жгучем и неотвратимом стремлении к нему!»
Седьмого июля проснулась и подумала: «Просыпаться по утрам с ощущением счастья — вот это счастье!» Хорошо сказано. Почему она вспомнила эти слова сегодня? Ах да, сегодня ей стукнуло двадцать два.
Начала припоминать, каким был этот день до войны. Непременно находила под подушкой томик стихов. Володя преподнес ей букетик горных ромашек — это было в альплагере, и он лазил за цветами на рассвете по скалам. От Лены тогда пришла телеграмма: «Поздравляю люблю некогда писать целую жду».
Повернулась, под рукой зашелестела бумага. Всмотрелась — точки, тире — Ленкин почерк: «Поздравляю писать некогда люблю желаю пробить мечту».
В этот день опять приезжал полковник. Сел за пе-образный стол сам, предложил инструкторам рассадить курсантов. Сильва переглянулась с Леной и заняла место рядом с экзаменующимися.
Полковник имел возможность переговариваться по «морзянке» с любым из радистов-операторов. Послал короткие депеши двум-трем, определил их ритм работы, вызвал Сильву, задал несколько вопросов, что-то привлекло его внимание в ее стиле — то ли четкость, то ли обостренная наблюдательность. Предложил принять текст. «Перехожу на прием», — отстучала Сильва. Все ускоряя и ускоряя темп, он нанизывал кодированную цифровую вязь, попросил ее записи, всмотрелся, кивнул:
— Учителя у вас добротные.
 Через час ее и Лену Вишнякову вызвали к Кардову.
— Что вы натворили, товарищ инструктор? Вы заняли место курсанта. Вы понимаете, что вы натворили?
— Меня отобрали? — спросила она, замирая от счастливого предчувствия.
Его смуглое лицо совсем потемнело.
— Да. Но одного из лучших инструкторов не отпущу.
И размашисто вычеркнул ее фамилию из списка.
— Что вы делаете? — закричала она. — Вас самого не отпускают, и вы должны понять своих подчиненных!
От неожиданности он даже выронил трубку. Встал.
— Товарищ Вишнякова, вы у нас комсорг. Ваше мнение?
— Я согласна с Восковой, товарищ начальник.
Вошли Скалодуб и Арбатов.
— Черт знает что, — сказал Кардов. — Теперь придется конфликтовать со штабом. Они затребовали Воскову. Но вы слышали, что я решил, и я не отменю свой приказ. Товарищ старший лейтенант, научите своих людей дисциплине.
Скалодуб козырнул и вышел. Девушки последовали за ним.
— Курсант Воскова, — приказал Скалодуб. — Сутки ареста за обман командования. Повторите приказание.
Она повторила.
— А вы, Вишнякова, комсорг, — поучительно заметил он, — и мы с вас спросим за покрывательство по другой линии.
— Вы извините, товарищ старший лейтенант, — отрезала Лена, — но я хочу служить своей Родине одинаково по всем линиям и различия между ними не делаю.
Когда Кардов узнал, что Сильва посажена на гауптвахту, как курсанты называли маленькую угловую комнату, он вскипел:
— За что вы ее наказали, старший лейтенант? За патриотизм?
— Да вы же сами… — Скалодуб растерялся.
— Что я сам? Что я сам? Я ее не отпустил в преисподнюю, в тыл к гитлеровцам, где гибнут другие. Потому что она отлично учит. Она инструктор по призванию, понимаете? И тем не менее правы не мы, а она. Словом, отмените свое приказание.
Они сидели молча друг против друга. Кардов вздохнул:
— Ну и характер у вас, Воскова.
Упрямо попросила:
— Отпустите.
— Не имею права. Между прочим, из вашего взвода отобрали пятерых радистов. Я даже заготовил приказ о премировании вас пачкой махорки и ста граммами спирта.
— Спасибо. Хотя я не пью и не курю.
— Знаю. Мальчики вас за это угостят шоколадкой. Но приказ зачитаем через недельку.
— А вы не боитесь, — наконец улыбнулась, — что за эту недельку я окажусь далеко-далеко?
— Не дурите, Воскова. Придет и ваше время.
Она вернулась в «кубрик», когда все уже спали. На своей койке нашла подарки девочек: плюшевый медвежонок, набор еще довоенных конвертов и томик стихов Анны Ахматовой. Наверно, от Ленки узнали, что она помешана на стихах.
«А что за окном? Моросит… Девочки спят сладко. И те пятеро, которые сегодня нырнут в ночь, как в пуховую перинку. А я остаюсь здесь».
И в дневник легла еще одна лирическая исповедь:
«Мрачные непрошеные тучи равнодушно застилают сиявшее небо… Влажная листва топорщит мокрым блеском всю поверхность, стволы деревьев намокают тушью, садовые скамьи теряют прежний лирический уют. Погода, как незнакомая музыка, невольнозаставляет прислушиваться к шорохам где-то в глубине души, достаточно явственным, чтобы их уловить, и слишком неуловимым, чтобы — осмыслить.
Среди этого размазанного, но сладкого лирического хаоса вдруг ощущаешь непобедимое и давящее желание сделать что-то большое, нужное…»
Через час ее и Лену Вишнякову вызвали к Кардову.
— Что вы натворили, товарищ инструктор? Вы заняли место курсанта. Вы понимаете, что вы натворили?
— Меня отобрали? — спросила она, замирая от счастливого предчувствия.
Его смуглое лицо совсем потемнело.
— Да. Но одного из лучших инструкторов не отпущу.
И размашисто вычеркнул ее фамилию из списка.
— Что вы делаете? — закричала она. — Вас самого не отпускают, и вы должны понять своих подчиненных!
От неожиданности он даже выронил трубку. Встал.
— Товарищ Вишнякова, вы у нас комсорг. Ваше мнение?
— Я согласна с Восковой, товарищ начальник.
Вошли Скалодуб и Арбатов.
— Черт знает что, — сказал Кардов. — Теперь придется конфликтовать со штабом. Они затребовали Воскову. Но вы слышали, что я решил, и я не отменю свой приказ. Товарищ старший лейтенант, научите своих людей дисциплине.
Скалодуб козырнул и вышел. Девушки последовали за ним.
— Курсант Воскова, — приказал Скалодуб. — Сутки ареста за обман командования. Повторите приказание.
Она повторила.
— А вы, Вишнякова, комсорг, — поучительно заметил он, — и мы с вас спросим за покрывательство по другой линии.
— Вы извините, товарищ старший лейтенант, — отрезала Лена, — но я хочу служить своей Родине одинаково по всем линиям и различия между ними не делаю.
Когда Кардов узнал, что Сильва посажена на гауптвахту, как курсанты называли маленькую угловую комнату, он вскипел:
— За что вы ее наказали, старший лейтенант? За патриотизм?
— Да вы же сами… — Скалодуб растерялся.
— Что я сам? Что я сам? Я ее не отпустил в преисподнюю, в тыл к гитлеровцам, где гибнут другие. Потому что она отлично учит. Она инструктор по призванию, понимаете? И тем не менее правы не мы, а она. Словом, отмените свое приказание.
Они сидели молча друг против друга. Кардов вздохнул:
— Ну и характер у вас, Воскова.
Упрямо попросила:
— Отпустите.
— Не имею права. Между прочим, из вашего взвода отобрали пятерых радистов. Я даже заготовил приказ о премировании вас пачкой махорки и ста граммами спирта.
— Спасибо. Хотя я не пью и не курю.
— Знаю. Мальчики вас за это угостят шоколадкой. Но приказ зачитаем через недельку.
— А вы не боитесь, — наконец улыбнулась, — что за эту недельку я окажусь далеко-далеко?
— Не дурите, Воскова. Придет и ваше время.
Она вернулась в «кубрик», когда все уже спали. На своей койке нашла подарки девочек: плюшевый медвежонок, набор еще довоенных конвертов и томик стихов Анны Ахматовой. Наверно, от Ленки узнали, что она помешана на стихах.
«А что за окном? Моросит… Девочки спят сладко. И те пятеро, которые сегодня нырнут в ночь, как в пуховую перинку. А я остаюсь здесь».
И в дневник легла еще одна лирическая исповедь:
«Мрачные непрошеные тучи равнодушно застилают сиявшее небо… Влажная листва топорщит мокрым блеском всю поверхность, стволы деревьев намокают тушью, садовые скамьи теряют прежний лирический уют. Погода, как незнакомая музыка, невольнозаставляет прислушиваться к шорохам где-то в глубине души, достаточно явственным, чтобы их уловить, и слишком неуловимым, чтобы — осмыслить.
Среди этого размазанного, но сладкого лирического хаоса вдруг ощущаешь непобедимое и давящее желание сделать что-то большое, нужное…»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. «СЕСТРОРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» ВЫХОДИТ НА ШТУРМ
Их, семерых, действительно освободили из тюрьмы сестроречане. Правда, начальник тюрьмы на другой же день сообщил арестованным, что их задержали лишь «во избежание кровопролития» и имеется циркуляр министра отправить членов завкома обратно на завод. О мощной забастовке сестроречан с требованием немедленно освободить их товарищей и паническом рапорте начальника завода в Главное артиллерийское управление о резком падении выпуска винтовок, которые позарез в это тревожное время требовал Керенский, он умолчал. Как и о том, что Гвоздев вместо ожидаемой награды за усердие получил на память от генерала Верховского ироническую фразу: «Направляя вас, капитан, в Сестрорецк, Александр Федорович надеялся ослабить в низах страсти, а отнюдь не воспламенить их. Доставленные вами кухонные ножи, видимо, заинтересуют ресторанную прислугу». Семена и его товарищей дожидалась у ворот Крестов делегация рабочих. Начальник тюрьмы лично открыл перед рабочими калитку. Завком напоминал военный штаб. Ежедневно сюда приезжали делегаты: путиловцы, лесснеровцы, матросы Кронштадта. — Требуется, товарищ Восков, пятьсот винтовок. — Урал просит триста! Решали оперативно. Однажды всех насмешил приезжий парень в кожанке и с большим в горошек шарфом. — Аркаша из Одессы, — представился он, обмахиваясь шарфом. — Партийная кличка «Музыкант». Пусть мне не видать Дерибасовской, дорогой земляк Восков, если вы не поможете нам трехлинеечками. Одесса тоже не уехала с пустыми руками. Начальник завода тревожно напоминал Воскову: — Мы подчиняемся Главному артиллерийскому управлению… — А мы подчиняемся воле революционного народа, — спокойно отвечал председатель завкома. Открытый конфликт у них произошел после депеши из Петросовета, подтвержденной Военно-революционным комитетом: отгрузить два вагона винтовок для Красной гвардии Питера. Шебунин телефонировал в артиллерийское управление, оттуда сообщили: ждать особого распоряжения. С телеграммой он прибежал в завком. — Больше ни одной винтовки толпе, — устало сказал он. — Довольно вы похозяйничали! У кладовых мои часовые. — А что, разве мы плохо хозяйничали? — удивился Семен. — Полноте, капитан. Пора бы вам понять, на чьей стороне будущее. Он прошел по цехам. Затем направился домой. — Папа пришел! — закричал Даня. — Сейчас будем разучивать песни. — Будем в солдатики играть, — предложил Витя, вытягивая из-под кровати коробки с оловянными фигурками. Но им пришлось отложить и песни, и солдатики. Раздался стук. В дверях стоял Шебунин. На него жалко было смотреть, его руки мяли в руках очередную депешу, длинное узкое лицо позеленело, глаза тревожно перебегали с предмета на предмет. — Не густо живете… Я не знал, что у вас трое маленьких. — И наконец решился. — Что же будем делать? Читайте… Восков бегло прочитал бланк, улыбнулся. Под страхом военно-полевого суда Временное правительство запрещало начальнику завода отгрузку вагонов винтовок по заявке Петросовета или ВРК. — Все закономерно, — спокойно сказал Восков. — Вам запретили, и вы не разрешаете отгрузку. — Не время для шуток! — вскипел Шебунин. — Только что я обошел все кладовые. Часовые сняты. Двухдневный запас оружия погружен вашими людьми на грузовики и невесть куда отправлен. — Но ведь это не вы сделали, капитан, — Восков пожал плечами. — Стоит ли волноваться из-за строптивости большевиков?.. Послушайте, — уже серьезно сказал он. — Вы правы. Время шуток кончилось, и двух хозяев на заводе быть не может. — Я не желаю идти под суд, — вяло сказал Шебунин. — Предупреждаю, из округа вызвана охранная команда. — Дядя, а папу больше не арестуют? — спросил Даня. — Нет, мальчик. Теперь, наверно, арестуют меня. Охранная команда прибыла в эту же ночь. Она состояла в основном из солдат, получивших на фронте тяжелые ранения. Два часа понадобилось Воскову и его товарищам, чтобы команда разобралась в делах «Сестрорецкой республики». — Ладно, — сказал ефрейтор, — отпускайте кому что надо. Только под утро, дождавшись сообщения, что оружие дошло до красногвардейцев, Семен смог заснуть. Ему показалось, что он и глаз еще не сомкнул, как его потрясли за плечо. Рядом на табурете сидел Зоф. — Сегодня двадцатое октября, — сказал Зоф. — А Петроградский комитет хотел бы, чтобы к двадцать четвертому–двадцать пятому Луга зашагала с большевиками. Придется поехать, Семен. Восков протер глаза. — Перестань меня разыгрывать, Вячек. Дел невпроворот и тут. Луга… Эсеровское гнездо… При чем тут председатель завкома? — Спроси у Свердлова. Это его предложение. Лично я думаю… Если за пару часов ты поднял на стачку весь Бруклин, то за пару дней ты вывернешь наизнанку Лугу. Логично? О детях товарищи позаботятся. А теперь собирай чемоданы и загляни по дороге в завком — там твой старый знакомый по Америке. Он вошел в завком, и его сильно хлопнул по плечу молодой человек с большими восторженными глазами. — Джон! Джон Рид! Вот не ожидал! Чертовски здорово! — Хэлло, Самуэль! Мне говорили, простой столяр Восков стал первым министром в Сестрорецке. — Чепуха! Первых у нас много. Они хлопали друг друга по плечам, вспоминали… — А помнишь, Самуэль, как тот упитанный святоша съездил тебя крестом? — Еще бы… Ребята потом говорили, ты вцепился ему зубами в икру. А помнишь, как ты в Нью-Йорке ставил спектакль о битве петерсонского пролетариата с капиталом — и тебя же не хотели впустить в Гарден-зал? — О, твои ребята тогда проложили мне дорогу… — Погоди, ты зачем здесь? — спохватился Семен. — Ваш Центральный совет фабзавкомов дал мне право на посещение предприятий. Я задумал большую книгу, Самуэль. Покажи мне для нее хотя бы одну страницу. В комнату, узнав об отъезде Семена, уже набилось полно людей. Он посмотрел на часы и развел руками. — Какая жалость, Рид. Я спешно уезжаю. Но целый час я в твоем распоряжении. Вот только с ребятами разберусь. Рид сел в угол и наблюдал, как эти люди, не кончавшие колледжей, едва ли обученные чему-либо сверх четырех действий арифметики, четко и без проволочек решают вопросы, над которыми на Западе безуспешно бьются образованнейшие политиканы. Проходя с Ридом по заводу, Семен коротко рассказал, чего удалось добиться рабочему контролю, как они сократили рабочий день с одиннадцати с половиной до восьми часов и лишние расходы — вполовину. Построили школу и больницу. — А городские власти не мешают вам? — спросил Рид. — Ты чудак, Джон. Городские власти — это мы же. В Сестрорецкий Совет провели рабочих ребят, большевиков. Не утерпел: завел Рида в приют, с гордостью показал детскую мебель. — Работа наших столяров, Рид. — О’кэй. Но кто им заплатил? — Вот эти ребятишки… Посмотри, какие у них счастливые глаза. Ты знаешь более высокие расценки? Рид хлопнул Семена по плечу. — Ты очень интересный агитатор.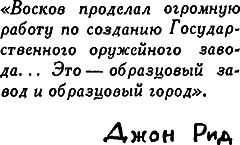 В Смольном, куда Семен прибыл за полномочиями, над старыми эмалированными дощечками — «Классная дама», «Попечительский совет Института благородных девиц» — уже были прибиты надписи: «ВРК», «Фабзавкомы», «ЦИК». Получил инструкции и, собираясь уходить, столкнулся в дверях со Свердловым. Яков Михайлович пожал Семену руку, быстро сказал:
— Мы переживаем исторические дни. Попробуй убедить в этом лужан. Тебе придется не только заматовать эсеров, но и поработать с казаками… Этот истерик Керенский способен стянуть в Питер все части, и их путь лежит через Лугу.
Убедить? Поработать?
Уже на вокзале в Луге он прочел многозначительное сообщение местного исполкома о запрещении всяческих собраний и митингов без специального его согласия. Председателя заменял вислоносый, тонкогубый человек, обвешанный наганами.
— Товарищ Семен? Слышали. В партийных кругах я звался товарищем Апостолом. Хочу предупредить. Приезд ваш несвоевременен. В нашем Совете ни одного из вашей партии. В гарнизоне большевичков тоже не жалуют. Могут быть инциденты.
— Хочу убедиться, — невозмутимо ответил Семен. — Могу я побеседовать — и там и сям?
— Только в частном порядке, — быстро проговорил Апостол. — Митинги и собрания мы временно запретили, народ от них устал.
Семен продолжал сидеть.
— Похвальная забота о народе, — заметил он после длительного молчания. — В особенности, перед выборами в Совет. Так с каким же количеством людей можно говорить одновременно, согласно вашим инструкциям?
— Пять… десять, — растерялся Апостол.
— О, больше и не требуется, — кивнул Семен. — Попрошу записочку, поскольку я приезжий, а у вас запрет…
— Вы шутите? — Апостол прикусил губу.
— Ничуть. Желаю работать в согласии с властями. Или прикажете на ваше заседание прийти и там выпрашивать записочку?
Апостол нервно царапал: «Разрешается беседовать с аудиторией в 5–10 человек в частном порядке».
— Учтите, — предупредил он. — Мы проследим…
Товарищи удивились разрешению.
— Тут нужен график, как на железной дороге, — сказал Восков. — У нас и дни и часы считанные.
Они обходили дома, учреждения, квартиры. Они беседовали с эсерами и «трудовиками», «левыми социалистами» и сочувствующими большевикам. И люди, которых им удалось убедить в том, что выход из тяжелого положения страны лежит в ленинских лозунгах о мире, о земле — крестьянам, о национализации заводов и фабрик, в свою очередь начинали обходить дома, учреждения, квартиры.
Как-то в Семена выстрелили из-за угла. Пуля только оцарапала руку.
— Стрелять, ребята, не надо, — попросил он на солдатском митинге. — Я же не для себя, для вас, голодранцев и безлошадников, стараюсь. У меня самого уже все накоплено: трое малых, три раскрытых рта, да три бутылки для молока.
Он умел заставить себя слушать.
Однажды появился и на заседании исполкома. Эсеры его встретили свистом, улюлюканьем, насмешливыми репликами: «Мира у буржуазии вымаливаете?», «Слыхали: землю — крестьянам, а хлеб — горожанам…»
Он впервые за много лет не сдержался, крикнул с отчаяньем:
— Да, да! Мир будем вымаливать! И не стыдимся. Не для вас, голубчики, а для тех, кто пулю в плече носит, кого голод, холод и тифозная вошь жрет! А насчет крестьян — поосторожнее. Кто сеятеля ценит, тот о выкупе для земельных собственников не печется. Ханжи вы, а не социалисты-революционеры.
23 октября гарнизон заявил о своей поддержке большевикам.
24 октября в Лужском Совете большевистская фракция уже насчитывала 83 человека и стала внушительной силой.
25 октября к Семену Воскову приехал курьер из Военнореволюционного комитета. Коротко передал:
— Наши идут на Зимний. Заваруха страшная. Энтузиазм выше головы. Гляди в оба за поездами с казаками.
Предупреждение было не лишним. Все казачьи части, какие только можно было перебросить в Петроград, Керенский вызвал на помощь. Восков собрал лужских большевиков.
— Товарищи, в Петрограде революция, — радостно сказал он. — С часу на час Зимний дворец будет взят. В Смольный прибыл Ульянов-Ленин.
Каждый получил задание. Чтобы помешать большевикам, эсеры вызвали из пригорода казачий полк, который должен был оцепить лужский гарнизон и прекратить всякое движение на улицах. Восков примчался с вокзала прямо в гарнизон, поднял на ноги солдат, и зная, что после корниловского наступления они были разоружены, повел их к военному складу. У входа группе эсеров что-то ожесточенно доказывал уже хорошо знакомый Воскову Апостол. При виде солдат эсеры извлекли наганы.
— Спрячьте ваши игрушки! — зычно крикнул Семен. — Товарищ по кличке Апостол, видимо, не собирается дожить ни до мировой революции, ни до общероссийской. Но вы-то не дураки! Вы называете себя революционерами и хотите костьми лечь за этого мерзавца Керенского — ставленника толстосумов.
Апостол выстрелил, и в ту же секунду толпа солдат сбила с ног эсеров, вплеснулась в склад.
Когда въехавший в город казачий полк увидел вооруженные солдатские патрули, он повернул обратно.
А Семен уже ходил по эшелонам, прибывшим на станцию. Больше пятнадцати–двадцати минут он не мог задерживаться в вагоне. Никогда еще каждое слово не приобретало для него такого веса и значения, как в эти считанные секунды.
Охрипший, с воспаленными от бессонницы глазами, в измазанных грязью сапогах, в своем старом ворсистом пальто, он сначала вызывал у казаков любопытство, какое бывает при виде человека в штатском, не побоявшегося нырнуть в гущу усталой и злой солдатской массы, потом удивлял тем, что вслух произносил их потаенные мысли; и наконец, ошеломлял правдой, которая им открывалась только сейчас:
— Кого же вы едете усмирять! Рабочую братву? Матросов, сбросивших офицеров за борт?
— Немецких шпиенов мы едем бить, — возражали ему.
— Ну, бей меня, — предлагал он. — Я полтавский столяр. С шестнадцати лет по тюрьмам путешествую и по митингам. Все за тебя вот. А чего им остается — толстосумам? Шпионом меня обзывать. А ты, ушастый черт, и развесил свои слухалки.
Смеялись, спорили, хлопали, но когда он вылезал из вагона, знал: эти повернут назад.
И они поворачивали — взвод за взводом, рота за ротой.
Сначала — они, потом — эшелоны.
Он вернулся в Военно-революционный комитет на третий день революции и доложил, что задание выполнено и что он ждет следующего. А сам в душе мечтал свалиться тут же под стол, на котором лежали карты Петрограда и пригородов, и заснуть.
— Надо бы тебе отдохнуть, товарищ Восков, — сказал Овсеенко, бывший ссыльный, — да вот корниловцы и красновцы лезут на Гатчину и лезут. Возьми своих с оружейного…
Легко сказать — возьми. Все лучшие силы сестроречан уже брали штурмом юнкерские училища, несли охрану Смольного и военных объектов на Суворовском проспекте. Но он добрался к ночи в свою «республику», обшарил с друзьями все склады в поисках винтовок, вооружил всех, кто способен был стоять под ружьем, забежал на минутку поцеловать своих малышей, и к утру сестроречане уже выехали на позиции.
В Смольном, куда Семен прибыл за полномочиями, над старыми эмалированными дощечками — «Классная дама», «Попечительский совет Института благородных девиц» — уже были прибиты надписи: «ВРК», «Фабзавкомы», «ЦИК». Получил инструкции и, собираясь уходить, столкнулся в дверях со Свердловым. Яков Михайлович пожал Семену руку, быстро сказал:
— Мы переживаем исторические дни. Попробуй убедить в этом лужан. Тебе придется не только заматовать эсеров, но и поработать с казаками… Этот истерик Керенский способен стянуть в Питер все части, и их путь лежит через Лугу.
Убедить? Поработать?
Уже на вокзале в Луге он прочел многозначительное сообщение местного исполкома о запрещении всяческих собраний и митингов без специального его согласия. Председателя заменял вислоносый, тонкогубый человек, обвешанный наганами.
— Товарищ Семен? Слышали. В партийных кругах я звался товарищем Апостолом. Хочу предупредить. Приезд ваш несвоевременен. В нашем Совете ни одного из вашей партии. В гарнизоне большевичков тоже не жалуют. Могут быть инциденты.
— Хочу убедиться, — невозмутимо ответил Семен. — Могу я побеседовать — и там и сям?
— Только в частном порядке, — быстро проговорил Апостол. — Митинги и собрания мы временно запретили, народ от них устал.
Семен продолжал сидеть.
— Похвальная забота о народе, — заметил он после длительного молчания. — В особенности, перед выборами в Совет. Так с каким же количеством людей можно говорить одновременно, согласно вашим инструкциям?
— Пять… десять, — растерялся Апостол.
— О, больше и не требуется, — кивнул Семен. — Попрошу записочку, поскольку я приезжий, а у вас запрет…
— Вы шутите? — Апостол прикусил губу.
— Ничуть. Желаю работать в согласии с властями. Или прикажете на ваше заседание прийти и там выпрашивать записочку?
Апостол нервно царапал: «Разрешается беседовать с аудиторией в 5–10 человек в частном порядке».
— Учтите, — предупредил он. — Мы проследим…
Товарищи удивились разрешению.
— Тут нужен график, как на железной дороге, — сказал Восков. — У нас и дни и часы считанные.
Они обходили дома, учреждения, квартиры. Они беседовали с эсерами и «трудовиками», «левыми социалистами» и сочувствующими большевикам. И люди, которых им удалось убедить в том, что выход из тяжелого положения страны лежит в ленинских лозунгах о мире, о земле — крестьянам, о национализации заводов и фабрик, в свою очередь начинали обходить дома, учреждения, квартиры.
Как-то в Семена выстрелили из-за угла. Пуля только оцарапала руку.
— Стрелять, ребята, не надо, — попросил он на солдатском митинге. — Я же не для себя, для вас, голодранцев и безлошадников, стараюсь. У меня самого уже все накоплено: трое малых, три раскрытых рта, да три бутылки для молока.
Он умел заставить себя слушать.
Однажды появился и на заседании исполкома. Эсеры его встретили свистом, улюлюканьем, насмешливыми репликами: «Мира у буржуазии вымаливаете?», «Слыхали: землю — крестьянам, а хлеб — горожанам…»
Он впервые за много лет не сдержался, крикнул с отчаяньем:
— Да, да! Мир будем вымаливать! И не стыдимся. Не для вас, голубчики, а для тех, кто пулю в плече носит, кого голод, холод и тифозная вошь жрет! А насчет крестьян — поосторожнее. Кто сеятеля ценит, тот о выкупе для земельных собственников не печется. Ханжи вы, а не социалисты-революционеры.
23 октября гарнизон заявил о своей поддержке большевикам.
24 октября в Лужском Совете большевистская фракция уже насчитывала 83 человека и стала внушительной силой.
25 октября к Семену Воскову приехал курьер из Военнореволюционного комитета. Коротко передал:
— Наши идут на Зимний. Заваруха страшная. Энтузиазм выше головы. Гляди в оба за поездами с казаками.
Предупреждение было не лишним. Все казачьи части, какие только можно было перебросить в Петроград, Керенский вызвал на помощь. Восков собрал лужских большевиков.
— Товарищи, в Петрограде революция, — радостно сказал он. — С часу на час Зимний дворец будет взят. В Смольный прибыл Ульянов-Ленин.
Каждый получил задание. Чтобы помешать большевикам, эсеры вызвали из пригорода казачий полк, который должен был оцепить лужский гарнизон и прекратить всякое движение на улицах. Восков примчался с вокзала прямо в гарнизон, поднял на ноги солдат, и зная, что после корниловского наступления они были разоружены, повел их к военному складу. У входа группе эсеров что-то ожесточенно доказывал уже хорошо знакомый Воскову Апостол. При виде солдат эсеры извлекли наганы.
— Спрячьте ваши игрушки! — зычно крикнул Семен. — Товарищ по кличке Апостол, видимо, не собирается дожить ни до мировой революции, ни до общероссийской. Но вы-то не дураки! Вы называете себя революционерами и хотите костьми лечь за этого мерзавца Керенского — ставленника толстосумов.
Апостол выстрелил, и в ту же секунду толпа солдат сбила с ног эсеров, вплеснулась в склад.
Когда въехавший в город казачий полк увидел вооруженные солдатские патрули, он повернул обратно.
А Семен уже ходил по эшелонам, прибывшим на станцию. Больше пятнадцати–двадцати минут он не мог задерживаться в вагоне. Никогда еще каждое слово не приобретало для него такого веса и значения, как в эти считанные секунды.
Охрипший, с воспаленными от бессонницы глазами, в измазанных грязью сапогах, в своем старом ворсистом пальто, он сначала вызывал у казаков любопытство, какое бывает при виде человека в штатском, не побоявшегося нырнуть в гущу усталой и злой солдатской массы, потом удивлял тем, что вслух произносил их потаенные мысли; и наконец, ошеломлял правдой, которая им открывалась только сейчас:
— Кого же вы едете усмирять! Рабочую братву? Матросов, сбросивших офицеров за борт?
— Немецких шпиенов мы едем бить, — возражали ему.
— Ну, бей меня, — предлагал он. — Я полтавский столяр. С шестнадцати лет по тюрьмам путешествую и по митингам. Все за тебя вот. А чего им остается — толстосумам? Шпионом меня обзывать. А ты, ушастый черт, и развесил свои слухалки.
Смеялись, спорили, хлопали, но когда он вылезал из вагона, знал: эти повернут назад.
И они поворачивали — взвод за взводом, рота за ротой.
Сначала — они, потом — эшелоны.
Он вернулся в Военно-революционный комитет на третий день революции и доложил, что задание выполнено и что он ждет следующего. А сам в душе мечтал свалиться тут же под стол, на котором лежали карты Петрограда и пригородов, и заснуть.
— Надо бы тебе отдохнуть, товарищ Восков, — сказал Овсеенко, бывший ссыльный, — да вот корниловцы и красновцы лезут на Гатчину и лезут. Возьми своих с оружейного…
Легко сказать — возьми. Все лучшие силы сестроречан уже брали штурмом юнкерские училища, несли охрану Смольного и военных объектов на Суворовском проспекте. Но он добрался к ночи в свою «республику», обшарил с друзьями все склады в поисках винтовок, вооружил всех, кто способен был стоять под ружьем, забежал на минутку поцеловать своих малышей, и к утру сестроречане уже выехали на позиции.
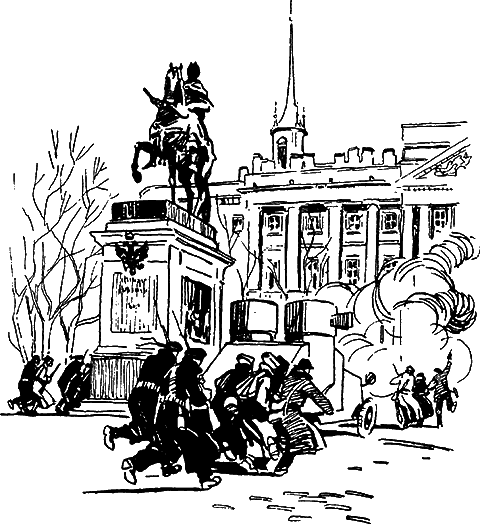 Рассказывают, что отряд Воскова, которым были подкреплены части, выдвинутые на Пулковские высоты, не пропустил ни одного боя и ни одной возможности поагитировать казачьи части. Красновские «сотни» таяли, как морская пена, выплеснутая на берег.
И снова он в ВРК. Как не вовремя лезет сон.
— Задание выполнено. Есть новые?
— Есть. Дело недолгое. Юнкера опять забузили. Вот адрес. Возьми их на идею или на мушку.
Взял. И на мушку, и на идею.
Шли седьмые сутки, и человек начинал забывать, что существуют сон, отдых, горячий чай и даже бегущие в небе облака.
Рассказывают, что отряд Воскова, которым были подкреплены части, выдвинутые на Пулковские высоты, не пропустил ни одного боя и ни одной возможности поагитировать казачьи части. Красновские «сотни» таяли, как морская пена, выплеснутая на берег.
И снова он в ВРК. Как не вовремя лезет сон.
— Задание выполнено. Есть новые?
— Есть. Дело недолгое. Юнкера опять забузили. Вот адрес. Возьми их на идею или на мушку.
Взял. И на мушку, и на идею.
Шли седьмые сутки, и человек начинал забывать, что существуют сон, отдых, горячий чай и даже бегущие в небе облака.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. РАЗГОВОР В ВОЕННОМ СОВЕТЕ
— Семь суток на ногах! Семь суток он не выходил из боя! В кабинет вошел секретарь, протянул пачку депеш: — Товарищ член Военного Совета, это срочно на подпись. — И добавил вполголоса: — Опять бьют по Фрунзенскому. С неодобрением посмотрел на посетительницу. — Вы задерживаете человека, который каждую минуту должен решать вопросы жизни и смерти блокадного города. Подумайте, так ли у вас был насыщен хотя бы сегодняшний день. И пока член Военного Совета углублялся в бумаги, она размышляла: в самом деле, как же она провела день? Получила увольнительную и могла уходить: об этом дне они уже давно сговорились с матерью. Но «кубрик» показался не очень уютным, и она заставила девочек из своего взвода произвести капитальную приборку. Пол научилась надраивать здорово и эту работу оставляла себе. Лена, провожая подругу, втолкнула ей в противогаз ломоть колбасного фарша в целлофане. — Это для бабушки. От меня. Бабушку ранило осколком, и они недавно перевезли ее из расщепленного «полюстровского» домика на Кронверкскую: теперь и Сальма Ивановна, и Сильва могли к ней чаще наведываться. Бабушка не могла представить себе, как будет обходиться без своего домика и своего огорода, и Сильва, чтобы доставить ей удовольствие, с утра поехала окучивать картофель. На обратном пути, у Финляндского, попала в обстрел, несколько минут пролежала под грудой щебня и песка, поняла, что жива, отряхнулась, почистилась и двинулась дальше. Угостила старушку деликатесами, — морскими галетами и колбасным фаршем, перебрала книги, улыбнулась дорогим именам под дарственными надписями, постояла у большого портрета Семена Воскова, такого молодого, улыбающегося, которому, казалось, только темные багеты мешали выбраться со стены и стать с ними рядом, в блокадном Ленинграде. «Как бы ты поступил на моем месте?» — спросила она. Ого, время бежит быстро. Расцеловала бабушку, соседских девчонок, припустила в госпиталь, за матерью. Выбрались на Невский, который так любили, вообразили себе мчащихся обратно к своим пьедесталам клодтовских коней, а потом вдруг надумали: в киношку! Они так и не узнали, встретились ли снова адмирал Нельсон и прекрасная леди Гамильтон, потому что экран погас и администратор привычно объявил: «Район подвергается артобстрелу. Выходите, граждане!» — Мама, — спросила Сильва. — А что отец делал, если была уж очень застойная работа? Сальму Ивановну почему-то вопрос не обрадовал. — Видишь ли… Так прямо мы не говорили об этом. Семен, наверно, не признавал за кем-либо права называть любую работу, если ее поручила партия, застойной. Но ему везло, если ты считаешь это везеньем, на быструю смену заданий. Его друзья рассказывали, что в дни Октября он семь дней не выходил из боев на самых разных позициях. А к чему вопрос? — Просто так. Засиделась я в школе. — А если я скажу, что засиделась в госпитале, а кто-нибудь другой — что засиделся на фронте? — Фронт, фронт, — с надеждой сказала Сильва. Они распрощались на неделю. В окошечке пропусков Смольного Сильве сообщили, что заявки на нее нет, но просили позвонить в приемную секретаря горкома. — Соединяю вас с членом Военного Совета, — сухо сказал секретарь, когда она назвала свою фамилию. — Только, пожалуйста, говорите коротко и по существу. Вот тогда она и сказала по существу, после чего член Военного Совета велел ей подняться к нему в кабинет. Впервые в жизни она гордо произнесла вслух имя отца, чтобы пойти по его следам. — Простите меня, — сказала она, когда крайне недовольный этим вторжением секретарь оставил ее наедине с членом Военного Совета. — Я действительно целый день сегодня гуляла по увольнительной, а вы целый день работали и решали необычайной важности вопросы. Но кто же мне поможет, если не вы? И отца я вспомнила не потому, что хочу жить легче, а потому, что хочу жить труднее. Скажите, вы понимаете меня?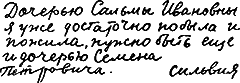 — Понимаю, — подтвердил он. — Но что бы вы, товарищ Воскова, думали о членах Военного Совета, если бы они решали вопросы за тех, кто их должен решать на местах?
— Бывают такие случаи, — не сдавалась она, — когда высший военачальник может сделать исключение. Если, конечно, он верит в человека. А это именно такой случай, — заверила его Сильва.
— Что вы умеете делать? — наконец спросил он.
Она знала, что такой вопрос будет. Но говорить о себе?..
— Я радист, — четко доложила она, быстро вскочив со стула и став как по команде «смирно». — Тридцать групп в минуту. Меня даже отобрали для партизан, но начшколы уперся. У меня разряды по трем видам спорта. Изучаю сейчас два иностранных языка. Я сильная. Физически и морально я вполне подготовлена к борьбе с фашизмом на самом трудном участке.
Он сделал пометку на календаре, задумался, спросил:
— Значит, семь суток Семен Восков не выходил из боя? Да, сильный был человек. Так вот как решим с вами. Продолжайте учить операторов — это нужная нам работа. Об остальном вас известят.
— Могу я надеяться? — волнуясь, спросила она.
— Вас известят, — повторил член Военного Совета.
Она козырнула и вышла.
Она шла по улицам и повторяла: «Вас известят… Вас известят…» И только у здания школы пришла тревожная мысль: «А если это только красивая форма отказа?»
Долго сидела у окна, искала доводы «за» и «против». Наконец занесла в дневник: «Завтра я уже не буду фигурировать на фоне этой картинки». Она, конечно, не знала, что принявший ее член Военного Совета, докладывая руководителю ленинградских большевиков Андрею Александровичу Жданову о событиях дня, назовет ее имя и скажет:
— Мало им блокады… Хотят жить еще труднее. Да, позывные революции они приняли.
— Понимаю, — подтвердил он. — Но что бы вы, товарищ Воскова, думали о членах Военного Совета, если бы они решали вопросы за тех, кто их должен решать на местах?
— Бывают такие случаи, — не сдавалась она, — когда высший военачальник может сделать исключение. Если, конечно, он верит в человека. А это именно такой случай, — заверила его Сильва.
— Что вы умеете делать? — наконец спросил он.
Она знала, что такой вопрос будет. Но говорить о себе?..
— Я радист, — четко доложила она, быстро вскочив со стула и став как по команде «смирно». — Тридцать групп в минуту. Меня даже отобрали для партизан, но начшколы уперся. У меня разряды по трем видам спорта. Изучаю сейчас два иностранных языка. Я сильная. Физически и морально я вполне подготовлена к борьбе с фашизмом на самом трудном участке.
Он сделал пометку на календаре, задумался, спросил:
— Значит, семь суток Семен Восков не выходил из боя? Да, сильный был человек. Так вот как решим с вами. Продолжайте учить операторов — это нужная нам работа. Об остальном вас известят.
— Могу я надеяться? — волнуясь, спросила она.
— Вас известят, — повторил член Военного Совета.
Она козырнула и вышла.
Она шла по улицам и повторяла: «Вас известят… Вас известят…» И только у здания школы пришла тревожная мысль: «А если это только красивая форма отказа?»
Долго сидела у окна, искала доводы «за» и «против». Наконец занесла в дневник: «Завтра я уже не буду фигурировать на фоне этой картинки». Она, конечно, не знала, что принявший ее член Военного Совета, докладывая руководителю ленинградских большевиков Андрею Александровичу Жданову о событиях дня, назовет ее имя и скажет:
— Мало им блокады… Хотят жить еще труднее. Да, позывные революции они приняли.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. «СКОЛЬЗЯЩИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК»
В Смольный вошла тревога. Только что делегаты Петросовета узнали о вероломном нарушении войсками германского кайзера условий перемирия. Немецкие дивизии, прорвав фронт и захватив Псков, двигались к Петрограду. Свердлов и Антонов-Овсеенко задержали Воскова. — Ленин настаивает на немедленном подписании мира на любых условиях, — сказал Свердлов. — Думаю, что наша точка зрения победит. Подвергать риску революцию мы не можем и не будем. Вместе с тем… — Он развернул карту и обвел карандашом Финляндию: — Буржуазия не прочь задушить под шумок восстание финляндского пролетариата. И этого мы тоже не можем допустить. — Крупный отряд белофиннов движется по перешейку с северной стороны Ладоги, — добавил Овсеенко. — Прямая угроза Питеру. Приводите свой Сестрорецк сюда, товарищ Восков, но, возможно, мы вам оформим плацкарту на север. Восков уже работал в исполкоме Петрогубсовета. Прощаясь с оружейниками, он сказал: — Я считаю себя усыновленным сестроречанином. Куда меня ни закинет судьба, Сестрорецк будет в моем сердце, товарищи, и надеюсь, в сердцах моих детей тоже. И сейчас, поймав случайный паровоз в Новой Деревне, нырнул к ним в студеную февральскую ночь восемнадцатого года. Протяжный заводский гудок собирает оружейников на площади, которая так много перевидела. Выступают члены Петросовета, большевики Сестрорецка: революция в опасности! К утру отряд в шестьсот человек был готов выступить. Здесь многие его друзья и товарищи по борьбе. Пытались оставить в завкоме Машу Грядинскую, но она только засмеялась: «Что же вы, товарищи, сами себя перевязывать будете?» И за ночь сколотила отряд «революционных фельдшериц в сорок штыков». Так их и прозвали: сорок штыков-бинтов. К Воскову подбежала Стася Тышкевич. — Хочу в фельдшерицы, Восков. Дай приказ. Он улыбнулся. Эта веселая молодая женщина, которая частенько расспрашивала его о завтрашнем дне революции, о судьбах мирового рабочего движения, как-то призналась, что мечтает работать в стане врага разведчицей. «Ты понимаешь, я уверена, что сгожусь для этого!» — Стася, — подшутил он, — а ты сгодишься для революционной медицины? — Раненых на себе снесу. Только лучше пусть их не будет, Восков. Ее взяли в отряд. …Эшелон обстреляли сразу, как только он прибыл на станцию Рауту[19]. Пулеметы белофиннов строчили с крыши кирки, местность была открытой, а бойцы пороха еще не нюхали. Выскочили прямо в снежный завал, всю ночь отстреливались. Восков полз от сугроба к сугробу, от стрелка к стрелку. За ночь он проделал по-пластунски не меньше километра и наговорил, как он потом признавался, не меньше, чем за три четверти года в завкоме. «Голову прячь, — учил он молодых ребят, — еще сгодится!», «Курок не дергай, брат, это тебе не морковку с грядки тащить», «Да ты не дрожи, милый, ты же за новый мир сражаешься!» Чтобы выбить белофиннов из села, нужно было пересечь открытое поле. На рассвете два отряда — тот, что должен был ударить с фланга, отвлечь противника, и атакующий в лоб — двинулись на засевших в домах и на кирке белофиннов. Наступила напряженная минута, когда люди, почти дошедшие до цели, не смогли заставить себя пересечь простреливаемую дорогу. Из цепи залегших бойцов с винтовкой наперевес выскочил Восков и, крикнув: «Вперед! За революцию!» — повел за собой бойцов на Рауту. Стремительная атака отряда, оглушительное русское «ура!»… Белофинны предпочли отступить за дальние холмы.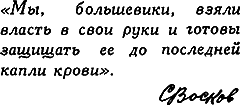 Началась многодневная маневренная война между хорошо обученными, снабженными новыми винтовками и лыжами солдатами финляндской буржуазии и сестрорецкими рабочими, у которых были лишь трехлинейки образца прошлого века. В радиусе трех верст они держали оборону в незнакомой им местности, где с каждого холма могла ежеминутно посыпаться очередь.
Восков обходил бойцов, а точнее — переползал от группы к группе, чутьем находил своих за холмами, не раз рискуя нарваться на белофиннов. И люди, среди которых он появлялся прямо из штаба со свежими вестями, голодный, измученный, но со своей широкой улыбкой, еще больше оттенявшей его резкие скулы, — эти люди прозвали его между собой «скользящим военачальником».
— Ты как гадалка, — сказал Федор Грядинский, когда, поминутно проваливаясь в сугробы, они пересекали группу холмов под двусторонним кинжальным огнем белофиннов. — Где пули свистят, там и Восков.
Они перебежали еще десяток метров, и Восков отозвался: — А ты как думал! Где еще может быть место большевика? Где соловьи свистят?
Позади раздался стон. Андреев сказал:
— Ребята, в нашего Прокофьева угодили…
Молодой белокурый паренек, совсем мальчик, которого он хорошо помнил по страстным речам в завкоме, был залит кровью. Он поднял его на руки, попросил пулеметчиков:
— Доставьте парня на санях на станцию да скажите Маше, чтоб вылечила и выходила. — По щеке его проползла и застыла слеза.
И снова они пробирались по холмам в метель и вьюгу, мешая белофиннам слить свои разрозненные группы в единый отряд. Они не думали в эти минуты, что выигрывают для революции дорогое время, не знали еще, что участники восстания в Гельсингфорсе, благодаря раутской операции, успели уйти в подполье. Они шли, повинуясь голосу своей совести и приказу своего «скользящего военачальника»:
— Вперед! За революцию!
Началась многодневная маневренная война между хорошо обученными, снабженными новыми винтовками и лыжами солдатами финляндской буржуазии и сестрорецкими рабочими, у которых были лишь трехлинейки образца прошлого века. В радиусе трех верст они держали оборону в незнакомой им местности, где с каждого холма могла ежеминутно посыпаться очередь.
Восков обходил бойцов, а точнее — переползал от группы к группе, чутьем находил своих за холмами, не раз рискуя нарваться на белофиннов. И люди, среди которых он появлялся прямо из штаба со свежими вестями, голодный, измученный, но со своей широкой улыбкой, еще больше оттенявшей его резкие скулы, — эти люди прозвали его между собой «скользящим военачальником».
— Ты как гадалка, — сказал Федор Грядинский, когда, поминутно проваливаясь в сугробы, они пересекали группу холмов под двусторонним кинжальным огнем белофиннов. — Где пули свистят, там и Восков.
Они перебежали еще десяток метров, и Восков отозвался: — А ты как думал! Где еще может быть место большевика? Где соловьи свистят?
Позади раздался стон. Андреев сказал:
— Ребята, в нашего Прокофьева угодили…
Молодой белокурый паренек, совсем мальчик, которого он хорошо помнил по страстным речам в завкоме, был залит кровью. Он поднял его на руки, попросил пулеметчиков:
— Доставьте парня на санях на станцию да скажите Маше, чтоб вылечила и выходила. — По щеке его проползла и застыла слеза.
И снова они пробирались по холмам в метель и вьюгу, мешая белофиннам слить свои разрозненные группы в единый отряд. Они не думали в эти минуты, что выигрывают для революции дорогое время, не знали еще, что участники восстания в Гельсингфорсе, благодаря раутской операции, успели уйти в подполье. Они шли, повинуясь голосу своей совести и приказу своего «скользящего военачальника»:
— Вперед! За революцию!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ВСПЛЕСК
— Вперед, вперед же!.. Они бежали впятером — комвзвода Тарханов, двое курсантов и Лена с Сильвой. Их маленький оперативный отряд по борьбе с ракетчиками еще не открыл своего счета. И каждый раз, докладывая начальнику школы, Тарханов, как подшучивали инструкторы, «округлял поражение». — Запеленгована одна ракета, пеленг продолжаем. — Молодцы, — Кардов понимал юмор, — но в следующий раз запеленгуйте и вражеского лазутчика. Сегодня лазутчик не должен уйти. Едва над улицей взлетела сигнальная ракета, они увидели тень, шмыгнувшую под арку. Двор оказался проходным. Погоня разделилась. Услышав впереди пистолетный выстрел, выскочили на набережную. — Плечо царапнуло! — крикнул курсант. — Вроде на том крылечке притаился! Тарханов первым прыгнул на крыльцо маленького деревянного домика и распахнул дверь. — Выходи! Сильва не поверила глазам: на пороге появилась массивная фигура Зыбина. — Это недоразумение, — сказал он своим ровным голосом, — здесь все уже спят.
Но когда в темном углу коридорчика курсанты подобрали портфель с ракетницей и рисованым планом микрорайона, а по распахнутому кухонному окну и грязным следам на подоконнике догадались, что лазутчик ушел, Зыбин сник.
— Он грозился меня убить… Я не смог с ним справиться…
— Молчать! — приказал Тарханов. — Вы один здесь живете?
— Один, хотя непостоянно. Остальные эвакуированы.
— Откуда ракетчик знал расположение квартиры? Как он мог войти, если вы уже спали и дверь была заперта?
— Он… Я… У него, наверно, свой ключ. Пощадите старика, — вдруг жалко пробормотал он.
Сильва не выдержала.
— А вы, Зыбин, щадили кого-нибудь в жизни? За что вас щадить?
Он всмотрелся в нее, узнал, хмыкнул:
— Запомнила меня ваша семья, мамзель? У, как я вас всех ненавижу…
— Я его сейчас пристрелю, — очень спокойно произнесла Сильва.
Он прижался к косяку, взвизгнул:
— Держите ее… Она фанатичка… Она может убить… Я не желал подохнуть. Они дали мне продкарточки… Да держите же ее!
— Кто он? Ты его знаешь? — закидали ее вопросами курсанты.
— Враг, — сказала Сильва. — И всегда был враг. Даже когда имена себе таскал из календарей. Ну-ка, назовите свое имя, Зыбин!
Но он со страхом смотрел на ее руки, хотя пистолета в них не было.
Тарханов доложил Кардову с подъемом:
— Согласно вашему указанию, лазутчик запеленгован.
Каждый день Сильва восстанавливала в памяти разговор с членом Военного Совета, пока, наконец, не сказала себе: «Забыли обо мне. Или некогда. Или отказ. Все равно нужно добиваться».
Школа готовила вечер отдыха. Лена и Сильва сочинили смешные куплеты и сценки о курсантской жизни. В разгар репетиции вошел Кардов.
— Концерт сдвигается, — объявил он. — Прибыл полковник для отбора. Разойтись по взводам.
Сильвины ученики входили к проверяющему одними из первых.
Полковник Сильву узнал, поздоровался, спросил:
— Экзаменоваться сегодня не будем?
Подумала: «Спросил без всякого интереса. Забыли».
— Да нет уж, товарищ полковник. Обжегшись на молоке, не дуть же на воду.
Полковник посмотрел уже внимательнее, не без иронии. Потом ее вызвал Кардов. Показал список «счастливчиков». Ее фамилия значилась первой.
— Опять вычеркнете? — произнесла механически, без всякого раздражения, как если бы утверждала, что снег белый.
— Прощайте, инструктор Воскова! — сказал он с сожалением в голосе. — Вы прорвались.
— Вы шутите, Алексей Константинович? — У нее даже дыхание перехватило. — Значит, там… доверили?
— Прощайте, а лучше до свидания, — грустно закончил он. — Мы все будем помнить вас.
Она ушла от него в смятении. Спустилась по «парадному трапу», забыла ответить на приветствие часовых, выскочила на набережную, села на поваленное дерево и стала пристально следить, как лунный свет разливается по мерцающей невской воде. Хотелось смеяться, петь, писать стихи, и вдруг возникли смутные очертания строф, которые потом сохранит дневник.
— Это недоразумение, — сказал он своим ровным голосом, — здесь все уже спят.
Но когда в темном углу коридорчика курсанты подобрали портфель с ракетницей и рисованым планом микрорайона, а по распахнутому кухонному окну и грязным следам на подоконнике догадались, что лазутчик ушел, Зыбин сник.
— Он грозился меня убить… Я не смог с ним справиться…
— Молчать! — приказал Тарханов. — Вы один здесь живете?
— Один, хотя непостоянно. Остальные эвакуированы.
— Откуда ракетчик знал расположение квартиры? Как он мог войти, если вы уже спали и дверь была заперта?
— Он… Я… У него, наверно, свой ключ. Пощадите старика, — вдруг жалко пробормотал он.
Сильва не выдержала.
— А вы, Зыбин, щадили кого-нибудь в жизни? За что вас щадить?
Он всмотрелся в нее, узнал, хмыкнул:
— Запомнила меня ваша семья, мамзель? У, как я вас всех ненавижу…
— Я его сейчас пристрелю, — очень спокойно произнесла Сильва.
Он прижался к косяку, взвизгнул:
— Держите ее… Она фанатичка… Она может убить… Я не желал подохнуть. Они дали мне продкарточки… Да держите же ее!
— Кто он? Ты его знаешь? — закидали ее вопросами курсанты.
— Враг, — сказала Сильва. — И всегда был враг. Даже когда имена себе таскал из календарей. Ну-ка, назовите свое имя, Зыбин!
Но он со страхом смотрел на ее руки, хотя пистолета в них не было.
Тарханов доложил Кардову с подъемом:
— Согласно вашему указанию, лазутчик запеленгован.
Каждый день Сильва восстанавливала в памяти разговор с членом Военного Совета, пока, наконец, не сказала себе: «Забыли обо мне. Или некогда. Или отказ. Все равно нужно добиваться».
Школа готовила вечер отдыха. Лена и Сильва сочинили смешные куплеты и сценки о курсантской жизни. В разгар репетиции вошел Кардов.
— Концерт сдвигается, — объявил он. — Прибыл полковник для отбора. Разойтись по взводам.
Сильвины ученики входили к проверяющему одними из первых.
Полковник Сильву узнал, поздоровался, спросил:
— Экзаменоваться сегодня не будем?
Подумала: «Спросил без всякого интереса. Забыли».
— Да нет уж, товарищ полковник. Обжегшись на молоке, не дуть же на воду.
Полковник посмотрел уже внимательнее, не без иронии. Потом ее вызвал Кардов. Показал список «счастливчиков». Ее фамилия значилась первой.
— Опять вычеркнете? — произнесла механически, без всякого раздражения, как если бы утверждала, что снег белый.
— Прощайте, инструктор Воскова! — сказал он с сожалением в голосе. — Вы прорвались.
— Вы шутите, Алексей Константинович? — У нее даже дыхание перехватило. — Значит, там… доверили?
— Прощайте, а лучше до свидания, — грустно закончил он. — Мы все будем помнить вас.
Она ушла от него в смятении. Спустилась по «парадному трапу», забыла ответить на приветствие часовых, выскочила на набережную, села на поваленное дерево и стала пристально следить, как лунный свет разливается по мерцающей невской воде. Хотелось смеяться, петь, писать стихи, и вдруг возникли смутные очертания строф, которые потом сохранит дневник.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. КОМИССАР ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Высказав впервые эту идею в Петроградском губисполкоме, Восков наткнулся на бешеное сопротивление эсеров. — Так вам и отдадут кулачки хлебушка! — издевательски пророчили они. — Или с пушечками поедете на хутора? И вот теперь комиссар продовольствия Союза коммун Северной области, в которую входили восемь самых голодных губерний, решил осуществить свое давнее намерение. Он не успел еще обосноваться в своем маленьком кабинете на Адмиралтейской набережной, как эсеры принялись уговаривать его срочно выступить на крестьянском митинге в Тихвине. Они хорошо знали, что там подняли голову кулаки. Они были уверены, что Воскова ждет полный провал. А Восков отправился в Тихвин без всякой охраны, взяв с собой всего одного молодого рабочего. — Семен Петрович, — говорил ему в дороге парень, — я нехорошие разговоры слышал. Нас там могут кокнуть. — Мы, Левушка, народ ученый, — отшутился Восков. — Не сразу в лагерь врагов сунемся. Прежде у друзей побываем. Кроме того, тебя Львом нарекли — цени! Он выступал по дороге на многих маленьких станциях. Он напоминал крестьянам, что Россия разорвана на части интервентами, что от нее временно отрезана Сибирь. — Дело сейчас в вас самих, братцы, — пояснял он. — Помогите собрать излишки у кулаков и спекулянтов. Ленин все время напоминает: «контроль» и «учет». В этом сейчас наше спасение. В Тихвин Восков приехал не один: десятки молодых парней стали его добровольными помощниками и агитаторами. — Почему тебя любят мужики? — завистливо спрашивал Лев. — Любовь, Левушка, должна быть взаимной, — отвечал Семен. — Говори людям правду, и они ее оценят. На крестьянском собрании в Тихвине председательствовал эсер. Слово предоставляли и эсерам, и анархистам, и кулачью, но только не сторонникам Ленина. Наслушавшись их вволю, человек в рабочей куртке и кепке забрался на крышу у чайной и громко крикнул: — К чему призываем? Мужику на бога уповать, дармоеду амбары запирать? На трибуне произошло замешательство. Председатель подал кому-то знак платком, и сбоку прогремел выстрел. Толпа шарахнулась. — Спокойствие! — крикнул Семен. — Пугают! Ай, доброго председателя нашли себе тихвинские купцы да кулаки! Сигналит об опасности. И правильно сигналит. Я их пушить приехал. Восков моя фамилия. Губернский комиссар по продовольствию. Стоявшие у трибуны молодчики, подкупленные кулачьем, закудахтали, замяукали, закукарекали. — Лайте, мяукайте, беситесь! — прорвался голос Воскова. — С большевистского курса меня не собьете. Он и здесь заставил себя слушать. — Когда в стране ощущается острый недостаток какого-либо продукта, — закончил Восков, — право и долг социалистического государства наложить на него свой запрет и взять его распределение в свои руки. Мы сейчас это делаем с хлебом. Льва он оставил в уезде, его самого ждали на Адмиралтейской набережной. Помощник Воскова — а их всего в комиссариате, если не считать машинистки, и было-то двое — жалобно сказал: — Семен Петрович, приходят откуда только не хотите. Всем — хлеб! А у нас только печать и право отказывать голодным. — Не согласен, — сказал он. — Зовите посетителей. Был он, как всегда, добр, приветлив и недвусмыслен. — Хлеба нет, но он будет, — говорил он одним со своей широкой заразительной улыбкой. — Перетряхните свой уезд, а сами не можете, — возьмите моих сестроречан: помогут. И действительно, помогли. — Сортовые семена не трогать! — приказывал он другим. — Надо смотреть в завтра. Вот вам записка в соседний волостпродком: они вам одолжат толику, а сортовые сдадите нам. — Посылайте верных людей в черноземные районы, — советовал третьим. — Ускорьте оформление нарядов для северян. Пришли рабочие и актеры из Народного дома. Это был не его «департамент», городом занимались Бадаев и Зоф. Он созвонился с Зофом, услышал, что тот уже выделил все, что мог. Вздохнул. — Ладно, товарищи. Сам я в театр, наверно, так никогда не выберусь, но уж детей пошлю. Вот вам записка на брюкву и репу — довольно вкусная штука. И витаминов в них хватит, — засмеялся, — на десяток спектаклей. Два-три слова, выведенные им своим неизменным химическим карандашом, приводили в действие армию заготовителей, кладовщиков и бойцов продотрядов. Узнав, что архангельские лавочники по-прежнему продают хлеб не по твердым ценам, он пришел в ярость, созвонился с архангельским губпродкомом: — Милый человек, я тебя рекомендовал на должность, от которой зависит — идти сейчас вашей губернии с нами или с беляками. И я же тебя под трибунал отдам, если ты еще хоть раз сбрешешь мне насчет местных дел. Записки мои не теряй! Пятьдесят первая комната, пока они не переехали на Тучкову набережную, стала одной из популярнейших в городе. Люди сюда уходили, как на фронт. Продотряды уже действовали в глубинах всех восьми губерний, входящих в Союз коммун. Две тысячи испытанных партийцев, рабочих, которых выделил Петросовет своему бывшему председателю, присылали вести, которые то заставляли Воскова радоваться, то собираться в дорогу. Бывало, попрощается с помощником: «До завтра» — а через полчаса звонит с вокзала: «Передумал. На четыре дня в массы укатываю… Не проморгай там…» И любил же он «укатывать в массы»! Однажды позвонил с вокзала, возбужденный, охрипший: — Дайте телеграмму в Северодвинскую и Олонецкую. Обрадуйте товарищей. Пробил для них на юге хлебный маршрут. Буду через час — вызовите специалистов по хлебопечению. Есть мысль. Пришел через час, сел за стол, серый, вдруг постаревший. — Скажите товарищам, чтоб десять минут на разминку дали… Надо же… навестил свою ребятню в приюте. Витя и Женечка в голодухе. — Сжал голову, скрипнул зубами. — Когда же мы сумеем накормить их хоть раз досыта? — Семен Петрович, — мягко сказал помощник. — Не проехать ли мне в приют? — Нам с вами, — возразил он тихо, — не моими детьми надо заниматься, а всеми детьми. Всеми, — будто продиктовал. Приняв посетителей, заперся в кабинете, велел телефонистке ни с кем его не соединять и полдня составлял обращение ко всем работникам продовольственного фонта: «Предлагаю впредь в первую очередь заботиться о систематическом снабжении детских приютов и колоний и детей рабочих, живущих у родителей, сирот — молочными продуктами, яйцами, хлебом, мясом в ущерб зажиточной части населения…» Вскоре эти строки обойдут все петроградские газеты и лягут в основу решений специальных конференций по детскому питанию. Спит Восков тревожно. Помощник его будит на рассвете. Семена лихорадит, желудок сводит голодной спазмой. Он жадно выпивает кружку воды из-под крана, жестко спрашивает:
— Вологда? Олонец? Архангельск?
— Каргополь, — сокрушенно отвечает помощник. — Кулачье обрадовалось наступлению Антанты, вылезло из нор. Звонил сначала Луначарский, потом Свердлов из Москвы… Интересовались, не едет ли туда кто от нас?
— А вы что сказали?
— Я сказал, что весь наш комиссариат туда выезжает. То есть вы и я.
— Умно сказал. Только уж извини, друг, половину комиссариата я вынужден оставить в Питере.
Каргополь, эта нора кулачья и белого офицерства, встречает комиссара настороженной тишиной. Люди стараются с темнотой не появляться на улицах. С трудом он разыскал домик, где поселился уездный комиссар продовольствия.
— Не вовремя приехали, — шепчет тот, боясь, чтобы хозяйка на печке не услышала.
— Я вас не понимаю, — резко говорит Восков. — Что же мне приезжать, когда Каргополь интервентам сдадут?
— Кулаки свой съезд готовят, — шепчет уездпродком. — Офицерье в наших запросто стреляет. Из-за угла. Обстановка для работы невыносимая. Не знаешь, на кого надеяться…
— Обидно, — говорит Восков. — Чертовски обидно, товарищ комиссар, что вы умеете высматривать врагов, а не друзей.
В дверь постучали.
— Кто до тебя приходил, Меланья? — крикнули пьяные голоса. — Не из центру?
— Вот видите, — зашептал уездный комиссар. — Ходят хозяйчиками. Оружие у вас есть?
Вытащил наган. Но пьяные голоса уже удалялись.
— Так вот, товарищ комиссар, — как ни в чем не бывало продолжал Восков. — Есть такая должность — большевик. Она требует, чтобы в гуще людей узнавать не только врага, но и друга.
Спит Восков тревожно. Помощник его будит на рассвете. Семена лихорадит, желудок сводит голодной спазмой. Он жадно выпивает кружку воды из-под крана, жестко спрашивает:
— Вологда? Олонец? Архангельск?
— Каргополь, — сокрушенно отвечает помощник. — Кулачье обрадовалось наступлению Антанты, вылезло из нор. Звонил сначала Луначарский, потом Свердлов из Москвы… Интересовались, не едет ли туда кто от нас?
— А вы что сказали?
— Я сказал, что весь наш комиссариат туда выезжает. То есть вы и я.
— Умно сказал. Только уж извини, друг, половину комиссариата я вынужден оставить в Питере.
Каргополь, эта нора кулачья и белого офицерства, встречает комиссара настороженной тишиной. Люди стараются с темнотой не появляться на улицах. С трудом он разыскал домик, где поселился уездный комиссар продовольствия.
— Не вовремя приехали, — шепчет тот, боясь, чтобы хозяйка на печке не услышала.
— Я вас не понимаю, — резко говорит Восков. — Что же мне приезжать, когда Каргополь интервентам сдадут?
— Кулаки свой съезд готовят, — шепчет уездпродком. — Офицерье в наших запросто стреляет. Из-за угла. Обстановка для работы невыносимая. Не знаешь, на кого надеяться…
— Обидно, — говорит Восков. — Чертовски обидно, товарищ комиссар, что вы умеете высматривать врагов, а не друзей.
В дверь постучали.
— Кто до тебя приходил, Меланья? — крикнули пьяные голоса. — Не из центру?
— Вот видите, — зашептал уездный комиссар. — Ходят хозяйчиками. Оружие у вас есть?
Вытащил наган. Но пьяные голоса уже удалялись.
— Так вот, товарищ комиссар, — как ни в чем не бывало продолжал Восков. — Есть такая должность — большевик. Она требует, чтобы в гуще людей узнавать не только врага, но и друга.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ОТКЛИКНИСЬ, ДРУГ
Попробуй-ка узнать в этой гуще, где друг, где враг. Кажется, уже нет свободных диапазонов, одну и ту же волну оседлали и немцы, и шведы, и наши, но ты должна все равно пробиться к своим и услышать своих — потому что иначе какой же ты радист и какой же ты оперативный работник. А в эфире мешанина. Гнусавый голос немецкого коментатора педантично повторяет: «В городе Сталинграде наши доблестные войска вышли к стенам Тракторного завода. Волжская крепость с часу на час упадет к ногам фюрера». Убежать бы от этого голоса… «Будем стоять насмерть». Это уже наши, наши… «Ахтунг! Цвай унд фирциг, цвай унд фюнф-циг…» «Арбузово[20], как меня слышите? Продержитесь еще час. Форсируем с дядей Лешей…» Это уже ближе к нам. Дорогие мои, замечательные товарищи, как приятно узнавать позывные своего инструктора. У него особый «почерк» и своя манера выходить с нами на сеанс. Он перечисляет имена из античных мифов. Ищи, Сильва, ищи, если хочешь быть там… Влезь в эту крошечную щель между шведским комментатором и радистом из-под Арбузова. Ведь где-то здесь он, где-то здесь… Прием! Прием! Цифры улавливаю! «Гермес, Геракл, Пилад, Орфей». Прием! Прием! Жила она на берегу Финского залива в большой даче, выкрашенной в голубовато-серые тона. Люди здесь не очень долго задерживались и не очень общались друг с другом, но от одной группы к следующей передавалось название «Голубая дача». Майор, доставивший ее сюда на машине, всю дорогу молчал. Сильву встретил инструктор, показал ее комнату, порекомендовал: — Прогулки — в пределах видимости, монологи — в пределах слышимости для себя одной. Меня зовут Сергей Дмитриевич. Выучите к завтрашнему дню этот код. Потом мы перейдем к рации. Постепенно она привыкла и к его лаконичной манере разговора, и к его радиопочерку, привыкла к неукоснительному распорядку дня на «Голубой даче», где редко встречались в столовой два человека. Сергей Дмитриевич не терпел, чтобы люди, проходившие подготовку в этой школе, чувствовали себя хотя бы на день «на вершине мастерства». Выходя на связь с Сильвой, он варьировал пароли, частоту передачи, но требовал, чтобы его «узнавали». Однажды при расшифровке цифрового кода она запуталась в иностранных терминах. — Нужно было приличнее изучать немецкий в школе и английский в вузе, — сердито прокомментировал он. — У меня было «пять» по языкам, — вспомнила сгрустью. — Сожалею. Ваши учителя завышали оценку по крайней мере на два балла, но война нас всех перекраивает. И она учила немецкие и английские военные термины, ускоряла темп передач, стенографировала разноголосицу эфира. Прошло около месяца, осенние ветры начали сдувать багряную листву, море вспенилось гребнями, когда инструктор, «запеленгованный» Сильвой во время очередного выхода на связь, продиктовал ей: «С завтрашнего дня будете мне помогать в инструктаже неоперенных». Она вначале обрадовалась, потом встревожилась. — Сергей Дмитриевич, — спросила она при встрече. — А это не задержит меня… для меня… в общем — мой отъезд? Он пожал плечами. — Куда вы собираетесь уезжать, Сильвия Семеновна? — На оперативную работу, — вырвалось у нее. Он нахмурился, резко сказал: — Вы теперь в звании чекиста. Пора бы понять, что оперативная работа и есть та, которую поручает вам командование. С утра начинайте знакомиться со слушателями. Ушла к себе, огорчилась. Как всегда в таких случаях, села за письмо к маме, потом — к Ленке: «…Весна так хорошо встретила наше с тобой вступление в новую жизнь. Лето было свидетелем наших успехов. А вот осень — проводит ли она нас, куда мы так рвемся. Черт ее возьми, если нет. А тут еще залив, мерные всплески, последние всплески лета, и луна, луна, луна… Серебряная лунная дорога на воде. Ну, прямо лирика непроходимая. И как тут справиться одной?..» В дверь постучали. Девичий голос: — Сильвия Семеновна, нам сказали, что утром вы с нами начнете занятия! Через несколько дней она заносит в дневник: «Ого! Меня уже называют Сильвией Семеновной! Не нравится мне это, но говорят, что так надо для пользы дела». …День выдался неудачный. Море штормило уже с утра. Но она все же поборолась с волнами. Сергей Дмитриевич ее «гонял» в эфире особенно педантично, замечаний не делал, но она почувствовала, что сработала не «классно». К беспокойству примешивалась и тоска по Володе: ни одного письма за столько месяцев. Забыл? Хорош друг. Или в самом деле он за линией фронта? А что если его… Хотелось закричать. Вечером вдруг услышала под окнами смеющиеся голоса. Слушатели где-то нашли «ничейную» грядку брюквы — приглашали полакомиться «у костра с патефоном». Веселую трапезу прервал инструктор. — Прошу разойтись всех по комнатам! — приказал он. — А вы, товарищ Воскова, задержитесь. Когда они остались вдвоем, он сказал: — Комсомолка, чекист, инструктор… Разве так держат себя с подчиненными? Наворованную брюкву делить на всех… — Да это же «ничейная», Сергей Дмитриевич. — Как вы могли поверить? И потом… Махнул рукой, пошел к даче. Она долго смотрела ему вслед. Как он не понимает? Девчонки существа молодые, юность у них войной прервана, ну пусть нарвали брюкву, ну пусть покрутят пластинку полчасика после отбоя. Да зато… А что «зато»? А может быть, он прав? И здесь опять что-то «не то»? Вышла на берег. Наконец-то небо освободилось от туч. «Не смотрите на меня, звезды, я что-то сегодня „не то“ и „не туда“». Какая ночь! «Именно такая, не запятнанная туманами, не издерганная капризными рывками ветра, как самый задушевный друг вызывает на откровенность… И если вы хотите сблизиться с человеком, понять его, то делайте это только в такую ночь. Поверьте мне, что это так, я прошла сквозь это, — запишет она часом позднее. — Дружба, завязанная под звездами, будет навсегда освящена их нежным светом… Такие ночи неповторимы! Это сейчас вот они обесценились… А были дни…» «Подожди, — прервет она сейчас этот поток воспоминаний, — оцени, что сказал инструктор и где оступилась ты. Володя однажды придумал изречение: „Лектор может знать на одну лекцию больше студента, но командир должен знать их на тысячу больше“». Да, были дни… Где-то далеко вспыхивает ракета и рассыпается световыми брызгами по заливу. «Это сентябрьское небо, расцвеченное миллиардами ярких блесток, обладает волшебной силой будить воспоминания. Первое, что выплывает перед глазами, — Эльбрус. Ты всегда напоминал мне об Эльбрусе — в разговорах, в письмах и просто на фотокарточках. Теперь и я память о нем ношу в сердце. Но ты-то где сейчас? А? Никто не знает о тебе ничего, и что всего печальней — не знаю я». И снова налетел ветер. Жадно подставила ему навстречу лицо: «Здоров, штормяга! Так и в партизанские ночки согреешь? Буду привыкать… Да, напартизанили вы, Сильвочка…» Инструктор сидел на крыльце. — Сергей Дмитриевич, молодой лектор может знать на одну лекцию больше студента, но самый молодой командир должен знать их на тысячу больше, так? — Логично, — он медленно произнес: — И еще. Вспомните, о чем я вас предупреждал у ворот «Голубой дачи». — Прогулки — в пределах видимости, монологи — в пределах… Сергей Дмитриевич, виновата. — Люди от нас уходят на очень трудную работу, — невесело сказал инструктор. — Возможны всякие неожиданности, промахи. Лишние очевидцы подготовки нежелательны, Сильвия Семеновна. Вне занятий у разведчиков есть свои комнаты. Она уже поднималась по лестнице, когда инструктор окликнул ее: — Простите… Вы просили меня созвониться с вашей матерью и узнать о письмах. Так вот, для вас письмо от Володи. Оно ждет вас на Кронверкской.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ
— Как же ты мог отпустить его одного? — председатель ревтрибунала выходил из себя. — Куда он вообще собирался? Каргопольский комиссар продовольствия запинался: — Не понравился я ему, Антоныч. Не понравился — и вся недолга. Глаза утром продрал, а его уже и след простыл. — Я тебе дам — след простыл, — председатель схватился за голову. — Большевиков у нас по пальцам пересчитать, а тут такого человека смертельному риску подвергаем. Слушай, комиссар, я тебя под трибунал отдам, если ты мне Воскова проморгаешь. Вот те крест, то есть вот те слово, под трибунал пойдешь! Уездкомпрод нашел Воскова к исходу вторых суток на маленькой станции за восемьдесят верст от Каргополя. Восков сидел прямо на полу в зале ожидания, а вокруг него расположились мужики с мешками и котомками. Завидев уездкомпрода, Восков поманил его рукой: — Подсаживайся и скажи товарищам крестьянам, какая в Каргополе обстановка? Послушал, как говорит его представитель в уезде, потом, когда они шли к поезду, заметил: — А ты на людях толковее. Тебе, как дитяти, плохо в темноте оставаться. Ну, что было — то сплыло. Будем бороться. Верный своим привычкам, он привез с собой в уездный центр целый отряд молодежи. — Дай ребятам оружие, председатель, — сказал он в трибунале. — Пусть они пошукают белых офицеров. Комсомол хотят на местах завести — надо же им себя проявить. И сам отправился вместе с ними в опасный рейд. Вечером его остановили в маленьком переулке. — Вели, кто с тобой, отойти. — Говорите, — коротко предложил он. — Уезжай, Восков, отседова до съезда. И на съезде тебя провалим, и гражданскую войну неча в Каргополе заводить. Он хрипло засмеялся, рукой нащупал холодную сталь нагана. — Слушай ты, белый гад. Каргопольщины крестьяне вам не выдадут. Это наше окончательное слово! Крестьянское, рабочее и большевистское. Каргопольским кулакам и белым офицерам, которых укрывали в купеческих и поповских семьях, удалось протащить на Пятый Чрезвычайный уездный съезд много своих ставленников. Уездная контрреволюция рассчитывала с помощью эсеров и меньшевиков сбить с толку каргопольское крестьянство, вырвать его из-под большевистского влияния. Один за другим на трибуну выпускались торгаши, богатеи, спекулянты. — Вам наши хлебные запасы для городских барынек нужны! — вопил один. — Не обведете! — Уж твои амбары рукой не обведешь, — посмеялся Восков. — Видали вы такого сеятеля? Хоть одно зерно ты бросил в землю? Вот то-то и оно. Верно, что мы стоим за сдачу хлебных излишков центральным органам. Да кто же в этих органах — Керенские, что ли? Для кого мы излишки собирать хотим? Для детей голытьбы, для малоземельных крестьян, для рабочего, который вам серпы и бороны кует. И мы говорим вслед за Лениным прямо и четко: кто не сдает излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот изменник и предатель рабочих и крестьян. Одни зааплодировали, другие зашикали. — Все обещаете, — раздался голос в зале. — А французские да аглицкие генералы объявили давеча из Архангельска: как придем, мол, на третий день все будете с лихвой получать хлеб, сахар и мануфактуру. Восков изобразил глубокое удивление: — Ай да факиры! Что же они своих-то рабочих ни на первый, ни на третий, ни на сотый день досыта накормить не могут? И снова по залу прокатился гул голосов. Терпеливо разъяснял. Закончил уверенно, приподнято: — Советская власть пускает добрые корни в Каргопольщине. Предлагаю зачитать большевистскую резолюцию. Слушали молча, взвешивали каждое слово. Председатель не успел сориентироваться — лес рук взметнулся вверх. Эсеры закричали, что у них есть поправки. Но поправки мало что изменили. Съезд высказался за верность Советам, за отпор интервенции. — Большевики рады вашему доверию, — попрощался Восков с каргопольцами. — Спасибо. Приезжайте к нам в Питер, в Смольный, в Петрокоммуну, в наши рабочие клубы, в наш рабоче-крестьянский Зимний дворец. Посмотрите, как действуют питерские пролетарии. — В Зимний и в лаптях пущают? — съязвили только что потерпевшие поражение. — В лаптях, — подтвердил он серьезно и вдруг загорелся: — А что? Мы лапотную конференцию в царских чертогах проведем. Прекрасная мысль! В Петрограде его ждали Луначарский, Бадаев, Зоф, заставили рассказывать. — Мы уже читали резолюцию. Чем ты убедил съезд? — Это была крепкая драчка! — ответил он. — Я все говорил, как оно есть, и немножко, как оно будет. — Взмолился: — Товарищи, я в детский приют на часок заеду. Потом продолжим… — Папа, — спросил его Витя. — А ты будешь с нами жить? — Кончим войну с белыми, сынку, и сразу заживем своей семьей. Даня задал вопрос посерьезнее: — Ты что делаешь на работе? Стреляешь? — Да вот что-то давно не стрелял… Гостей принимать буду. Восков энергично развернул подготовку к съезду комитетов бедноты Северной области. И снова зашевелились враги. — Вот увидите… Это будет провал… В деревнях голод, недоверие… И в этот момент — съезд? — В хорошие времена заседать просто, — бушевал Семен. — А вот когда стране тяжело, мы должны услышать, чего хотят и чего ждут от нас бедняки самых голодных губерний. Тогда тайные пособники кулачества попытались свести значение съезда на нет другим путем. Воскову уже были знакомы их уловки. — Провести съезд где-то на задворках? Не выйдет. Мы отдадим комбедам лучшие площади и лучшие залы Петрограда. — Вы еще их в Зимний впустите, — бесились противники съезда. — Они паркет на дрова разберут, а полотна на портки пустят. Он вспомнил свое давнее обещание и снова загорелся. — Ну, непременно! Непременно впустим эту массу в Зимний. Они заслужили право заседать в царских чертогах. Луначарский, улыбаясь, сказал Воскову: — Не переборщил, Семен Петрович? Музейные работники уже беспокоятся… Коллекции есть коллекции. — А вы бы решились на этот шаг, Анатолий Васильевич? Озорно блеснув глазами, Луначарский ответил: — Лично я бы решился. — Вот и я решился, — сказал Семен. — Всю жизнь я проработал с бедняками. Знаю, они оценят наше доверие. В сохранности музейных сокровищ уверен. Двадцать тысяч своих посланцев прислали комбеды в Красный Питер. В приглашениях, врученных им, многозначительные слова: «Зимний дворец, вход с площади тов. Урицкого, 1-й подъезд (бывший ее величества)». И они, люди в заплатанных зипунах и в рваных шинелях, регистрируются в дворцовых залах, получают места в гостинице, получают талоны «на обед, ужин, чай и три четверти фунта хлеба в день». И в удивлении ходят, ходят вдоль полотен прославленных мастеров кисти, вдоль витрин с драгоценностями самого большого грабительского дома России — дома Романовых.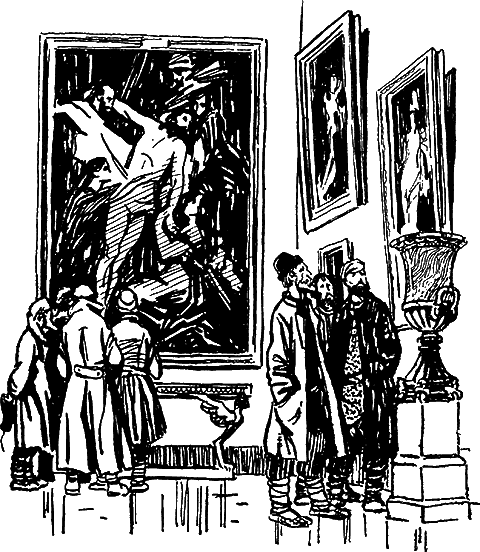 — Где же вы думаете открыть съезд, товарищи? — спросил приехавший из Москвы Свердлов. — Насколько я помню, в Петрограде зала на двадцать тысяч мест нет. Что думает по этому вопросу председатель оргбюро?
— Бюро знает такой зал, Яков Михайлович, — ответил Восков. — Все двадцать тысяч отлично разместятся на площади перед Зимним дворцом.
Оркестры играют марши. В половине четвертого пополудни третьего ноября восемнадцатого года на площадь у Зимнего вступают делегаты красноармейских полков и флотских частей, чтобы приветствовать комитеты бедноты восьми северных губерний. У подножия Александровской колонны, на помосте, задрапированном красной материей, перед бурлящей, могучей крестьянской толпой стоят главы крестьянских делегаций, организаторы съезда, прибывшие из Москвы гости, председатель ВЦИК Свердлов, народные комиссары. Председательствует Семен Восков. Он и открывает этот первый в истории съезд северного крестьянства. Выразительный голос оратора, которого уже знают, уже видели у себя в волостях эти люди, хорошо слышен на площади.
— Примите братский привет, товарищи делегаты, — говорит он, — от трудящихся Петрограда, от красных полков Советской Республики.
Площадь отозвалась звучным, раскатистым «ура!».
— Хотя съезд наш проводится впервые, — продолжает Восков, — но союз между рабочими и крестьянами заключен давно. Пусть же этот съезд всколыхнет мир и покажет всем народам, что Советская республика крепка союзом рабочих и крестьян и никаким капиталистам и империалистам ее не удастся раздавить. Да здравствует коммунизм всего мира! Да здравствует союз рабочих и крестьян всего мира!
В воздух взлетают фуражки, кепки, солдатские папахи, шлемы, ушанки, бескозырки…
От ВЦИК приветствует съезд Свердлов. Выступают руководители Союза коммун, нарком просвещения Луначарский.
Восков приглашает хлеборобов отобедать в Зимнем дворце, где для них уже накрыты столы.
Потом делегаты расходятся по залам: у каждой губернии — свой. Активисты губпродкома помогают им подготовиться к заседаниям съезда, которые будут проходить в разных помещениях города. «Скажи, товарищ, — слышится там и здесь, — а Восков где? Придет к нам Восков?»
Восков старается успеть побывать всюду, хотя двое суток тоже имеют, как ему шутливо сказал Луначарский, «революционный предел». Но его слышат и участники дискуссии по продовольственному вопросу, которые дружно записывают: «Вон из деревни мироеда, кулака и спекулянта! В первую очередь Советы должны накормить бедняка деревни, а излишки передать братьям — рабочим города и нашей Красной рабоче-крестьянской армии». Его слышат и участники заседания по текущему моменту, которые принимают поистине символическое решение: «Организовать образцовые полки деревенской бедноты, которые должны стать самым стойким заступником социалистического отечества». В эти дни он заседает, обедает и даже спит вместе с крестьянами, без конца разъясняет и спорит, шутит и бьет наповал.
— Честных торговцев ни к чему начисто добивать, — опять очередной оратор наивничает. — Которые честные торговцы, так они даже помогают хлебные излишки промеж уездов выравнивать.
— Хвалила себя кума, — бросает Восков с места, — да всю кашу съела сама.
Хохот, аплодисменты, свист.
— Отвоевались! — Кому-то не по душе предложение о красных полках. — Пусть тяперича другие под пулями вшей считают.
Восков с ходу режет:
— Нехай волк телку соседскую жрет, как до моей дойдет, я с печи опосля обеда и крикну соседу…
Так проходила эта страдная неделя. Прощаясь с делегатами, он предсказывает:
— Следующий съезд крестьян уже не будет больше съездом бедноты, так как будут лишь равные труженики на крестьянской ниве.
— Где же вы думаете открыть съезд, товарищи? — спросил приехавший из Москвы Свердлов. — Насколько я помню, в Петрограде зала на двадцать тысяч мест нет. Что думает по этому вопросу председатель оргбюро?
— Бюро знает такой зал, Яков Михайлович, — ответил Восков. — Все двадцать тысяч отлично разместятся на площади перед Зимним дворцом.
Оркестры играют марши. В половине четвертого пополудни третьего ноября восемнадцатого года на площадь у Зимнего вступают делегаты красноармейских полков и флотских частей, чтобы приветствовать комитеты бедноты восьми северных губерний. У подножия Александровской колонны, на помосте, задрапированном красной материей, перед бурлящей, могучей крестьянской толпой стоят главы крестьянских делегаций, организаторы съезда, прибывшие из Москвы гости, председатель ВЦИК Свердлов, народные комиссары. Председательствует Семен Восков. Он и открывает этот первый в истории съезд северного крестьянства. Выразительный голос оратора, которого уже знают, уже видели у себя в волостях эти люди, хорошо слышен на площади.
— Примите братский привет, товарищи делегаты, — говорит он, — от трудящихся Петрограда, от красных полков Советской Республики.
Площадь отозвалась звучным, раскатистым «ура!».
— Хотя съезд наш проводится впервые, — продолжает Восков, — но союз между рабочими и крестьянами заключен давно. Пусть же этот съезд всколыхнет мир и покажет всем народам, что Советская республика крепка союзом рабочих и крестьян и никаким капиталистам и империалистам ее не удастся раздавить. Да здравствует коммунизм всего мира! Да здравствует союз рабочих и крестьян всего мира!
В воздух взлетают фуражки, кепки, солдатские папахи, шлемы, ушанки, бескозырки…
От ВЦИК приветствует съезд Свердлов. Выступают руководители Союза коммун, нарком просвещения Луначарский.
Восков приглашает хлеборобов отобедать в Зимнем дворце, где для них уже накрыты столы.
Потом делегаты расходятся по залам: у каждой губернии — свой. Активисты губпродкома помогают им подготовиться к заседаниям съезда, которые будут проходить в разных помещениях города. «Скажи, товарищ, — слышится там и здесь, — а Восков где? Придет к нам Восков?»
Восков старается успеть побывать всюду, хотя двое суток тоже имеют, как ему шутливо сказал Луначарский, «революционный предел». Но его слышат и участники дискуссии по продовольственному вопросу, которые дружно записывают: «Вон из деревни мироеда, кулака и спекулянта! В первую очередь Советы должны накормить бедняка деревни, а излишки передать братьям — рабочим города и нашей Красной рабоче-крестьянской армии». Его слышат и участники заседания по текущему моменту, которые принимают поистине символическое решение: «Организовать образцовые полки деревенской бедноты, которые должны стать самым стойким заступником социалистического отечества». В эти дни он заседает, обедает и даже спит вместе с крестьянами, без конца разъясняет и спорит, шутит и бьет наповал.
— Честных торговцев ни к чему начисто добивать, — опять очередной оратор наивничает. — Которые честные торговцы, так они даже помогают хлебные излишки промеж уездов выравнивать.
— Хвалила себя кума, — бросает Восков с места, — да всю кашу съела сама.
Хохот, аплодисменты, свист.
— Отвоевались! — Кому-то не по душе предложение о красных полках. — Пусть тяперича другие под пулями вшей считают.
Восков с ходу режет:
— Нехай волк телку соседскую жрет, как до моей дойдет, я с печи опосля обеда и крикну соседу…
Так проходила эта страдная неделя. Прощаясь с делегатами, он предсказывает:
— Следующий съезд крестьян уже не будет больше съездом бедноты, так как будут лишь равные труженики на крестьянской ниве.
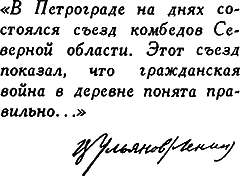 Его просят приехать вологодцы, череповчане, псковичи, хлеборобы Олонецкой и Северодвинской губерний.
— Слышь, — окликает его знакомый председатель комбеда, — ты все с нами днюешь и ночуешь. Детки-то есть у тебя?
— Есть, — грустно ответил он. — Трое. Опухли с голодухи. Их у меня трое и еще миллион.
— Богатый, — посочувствовал председатель комбеда. — Ну, раз так, есть за кого бороться и мстить мировому капиталу.
Его просят приехать вологодцы, череповчане, псковичи, хлеборобы Олонецкой и Северодвинской губерний.
— Слышь, — окликает его знакомый председатель комбеда, — ты все с нами днюешь и ночуешь. Детки-то есть у тебя?
— Есть, — грустно ответил он. — Трое. Опухли с голодухи. Их у меня трое и еще миллион.
— Богатый, — посочувствовал председатель комбеда. — Ну, раз так, есть за кого бороться и мстить мировому капиталу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ОНИ БЫЛИ СТУДЕНТЫ
Только что вернулась из дому. Семь потов пролила, квартиру убрала на славу. Мать будет довольна. И вдруг посмотрела на бабушку — сердце защемило. Бледная, с розовым шрамом на голове, чувствует себя одинокой и бессильной. В квартире пусто. Ребячьего гомону давно уже не слыхать. И вообще вокруг пусто. К институту и подойти боязно, больно много с ним горького и счастливого связано. Друзей своих порастеряла, кажется, безвозвратно. Есть за что бороться и мстить. Нет пока такой возможности. Жизнь как будто вошла в свое русло. Коды. Цифры. Латынь. Выход на связь. Купанье в заливе. Снова выход на связь. Самоучитель немецкого языка. С диска патефона плывут немецкие слова, наговоренные русскими. Потом из эфира наплывают немецкие слова, произносимые уже немцами. Выход на связь. Самоучитель английского языка. А осенняя пора — чаровница. Листва желто-красная и потому придает лесу вид опаленного зноем. Пушкин любил это время. И я люблю его. Эти дни особенно прекрасны. Дожди еще не замызгали дорогу, трава и листья еще не гниют. Прохлада и изумительная, ни с чем не сравнимая свежесть. Румяные щеки природы… А у меня жизнь пока сплошное повторение — долбежка, долбежка, долбежка. И, кроме семи слов от тебя, — ничего нового. «Жив. Здоров. Помню. При первой возможности напишу». Даже подписи нет. Учитесь, товарищ разведчик… — К вам можно, Сильвия Семеновна? — Конечно, Сергей Дмитриевич, заходите. Он не один. С ним — маленькая темноглазая девчушка. Чемоданчик держит смешно — обеими руками к себе прижимает. Носик курносый и веснушки. Ничего примечательного. Наверно, до войны десятый кончила. Где-нибудь под Лугой или Гатчиной. Застряла в эвакуации и — сюда. Хотя сюда — не просто… — Знакомьтесь, это Марина Васильевна. Будет вашей соседкой по комнате. — Очень рада. Вот новости! Одной так хорошо было. Инструктор глянул на Сильву. — Мне кажется, вам уже поднадоели занятия со мною. Для разнообразия займетесь с Мариной Васильевной. — Есть поучить. Коду? — Поучиться, — пояснил он. — Кодам. Ну, устраивайтесь, товарищ младший лейтенант. Вот это сюрприз! Десятиклассница — младший лейтенант. — Выругайте меня, Марина Васильевна, но как только вы вошли, я решила, что вам семнадцать лет и вы еще совсем-совсем зеленая… Девушка взглянула на нее, и Сильву поразил спокойный, даже чуть суровый взгляд больших карих глаз. Но девушка ничего не сказала, положила чемоданчик на стул и начала раскладывать свои вещи на тумбочке: зеркальце, одеколон, носовые платки, несколько книг, спички, распечатанную пачку папирос и, поколебавшись, достала большой финский нож, бросила его в ящик. — Зачем он вам? — Сувенир, — сухо ответила девушка. За весь вечер она не проронила и десятка фраз. Самое необходимое: «Где у вас вода?», «Табачный дым не мешает?». Утром, когда Сильва извлекла из-под кровати свою портативную рацию, готовясь отправиться с нею на берег, Марина вдруг приказала: — Отставить! Эти часы теперь будут моими. Они медленно шли между морем и соснами. — Чему я должна у вас научиться? — Сильва первая прервала затянувшееся молчание. — Во-первых, задавать меньше вопросов. Поверьте, это для вашей же безопасности… в будущем. Нужно присматриваться, а не спрашивать. — Ясно. А еще? — Это тоже посчитать за вопрос? Наконец-то инструктор улыбнулась. Налетел порыв ветра, ударил, закружил листья, взметнул песок. Марина придержала развихренные локоны, сжалась в комок, чтобы ветер обтекал. Сильва, напротив, подставила ветру лицо, грудь, слегка откинув голову назад, жадно задышала. Потом ветер стих, они обе выпрямились, прошли немного вперед. — Мы начнем вот с чего, Сильвия Семеновна, — на этот раз первая заговорила инструктор. — Представьте себя во вражеском тылу, в окружении людей, которые вами заинтересовались. Вы рассказываете о себе. С живописными деталями. Значит, пришло заветное… Милая Маринка! — Ну, вообще-то я студентка, ленинградка, — заторопилась Сильва. — Приехала погостить сюда к бабушке, а выбраться уже не смогла… — Имя? — резко спросила инструктор. — Сильва. То есть… — Где живет бабка? Шнеллер! — А вот туточки, за углом… Помолчали. — Что? Не поверят? — вырвалось у Сильвы. — Логических ошибок делать не следует, — прокомментировала Марина. — Студенты освобождаются на каникулы в июле, поэтому в июне, когда началась война, вы еще не смогли бы гостить у бабушки. Во-вторых, здоровая молодая девушка со спортивной фигурой, сознательная, раз она студентка, вероятно, нашла бы способ уйти к своим пешком. В-третьих, немцам не очень по душе, когда от них стремятся выбраться. В-четвертых, к Ленинграду и ленинградцам они относятся без больших симпатий. В-пятых, вы споткнулись на имени «Сильва». В-шестых, оно чересчур приметное. В-седьмых, слово «туточки» больше годится для такой подсолнечной мордахи, как у меня, чем для студентки ленинградского вуза. Итого — повешение без обжалования. — Марина Васильевна, где вы так здорово изучили их рассуждения? — Меня здорово натаскали. Впрочем, это не предмет нашего разговора. Будем создавать вам «легенду» с азов. Вы представляете это слово в разведывательном аспекте? — Да. Я слышала от товарищей. Марина свернула закрутку, провела спичкой по фосфорному слою, быстро опустила горящее пламя между стенками коробка, с наслаждением затянулась. — Курить на ветру — мечта. Так какое же имя вы себе возьмете? — Я еще не думала… — Чтоб было проще, возьмите имя своей ближайшей подруги. — Чудесно! Отныне я — Лена. — Хорошо, привыкайте к этому имени. — Силь-ва-а! Из рощи, приветливо махая рукой, к ним спешил офицер в летной форме. — Сильвочка! Вот это встреча! — Леша! Да ты-то как здесь очутился? Вежливо высвободилась из объятий, представила его: — Мой однокашник по ЛЭТИ, Леша Дударев. А это… моя подруга. — Капитан Дударев, — галантно козырнул Леша. — Летчик-наблюдатель его величества ВВС Ленфронта. Командую, как говорят, энской частью в районе города Л. на берегу залива Ф. И захохотал, как нельзя более довольный своей шуткой. — А вы, девочки, что здесь делаете? В местах довольно военизированных, — многозначительно произнес он. Марина предоставила выпутываться Сильве. — Гуляем, — сказала Сильва. — Морской воздух. — Странно, — сказал он. — Ну, заливай дальше. — Да что ты, Лешка, — она решила не ударить перед инструктором в грязь лицом. — У Маринки здесь дядя живет, у него своя дача, мы часто здесь бываем. Рассказывай о ребятах. Кого видел? И вдруг щеголеватый острослов Лешка, которого все на потоке звали «рупор системы Дударева», помрачнел. Он многое знал про ребят. Он знал, что Валерку Бурзи едва не схватило гестапо где-то в Одессе и теперь он ушел в подполье. Он знал, что веселых, мужественных редакторов студенческой многотиражки Колю Исакова и Сашу Белоусова уже не поднять с земли, по которой они шли в атаку. Он назвал, кто погиб под Невской Дубровкой, а кто на ораниенбаумском «пятачке». Он вспомнил, что Володю Стогова, с которым Сильва, кажется, училась еще в школе, тяжело ранило под Урицком.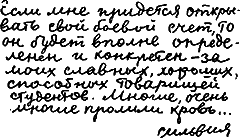 — Ясно, — глухо сказала она. — А помнишь, я дружила еще с одним Володей…
— Еще бы не помнить, — сказал Дударев. — Высокий, черный, добрые глаза и альпинистские грамоты. Весь поток обрадовался: «Наконец-то Сильва втрескалась!».
— Не может быть, — растерянно сказала она. — Я не… Но это сейчас не важно. Ты случайно не знаешь, где он?
— Не знаю, — он стал припоминать. — Кто-то говорил, что Володьку-альпиниста тяжело ранили… По ту сторону… Да, а вот Костяшку нашего разорвало начисто. И где? На самом Невском! Помнишь, как парень рвался на финскую… Не взяли. А сейчас дорвался, служил на батарее, но погиб на улице. Шальной снаряд.
Леша взглянул на часы, извинился, что должен бежать, пригласил девушек навестить его «на берегу залива Ф.», показал рукой, где это, и оставил их вдвоем. Они возвращались молча. Сильва упорно смотрела под ноги, шепотом отсчитывала шаги.
Когда они входили в бор у «Голубой дачи», Сильва сказала:
— Я буду очень хорошо заниматься по вашему предмету. Вы увидите, Марина Васильевна.
— Буду рада, Лена.
— Поче… Ясно, товарищ инструктор.
Марина вдруг сказала:
— Отыщется ваш альпинист. Я видела, как настоящие люди даже из гестапо выбирались. Так вот — насчет вашей легенды…
— Ясно, — глухо сказала она. — А помнишь, я дружила еще с одним Володей…
— Еще бы не помнить, — сказал Дударев. — Высокий, черный, добрые глаза и альпинистские грамоты. Весь поток обрадовался: «Наконец-то Сильва втрескалась!».
— Не может быть, — растерянно сказала она. — Я не… Но это сейчас не важно. Ты случайно не знаешь, где он?
— Не знаю, — он стал припоминать. — Кто-то говорил, что Володьку-альпиниста тяжело ранили… По ту сторону… Да, а вот Костяшку нашего разорвало начисто. И где? На самом Невском! Помнишь, как парень рвался на финскую… Не взяли. А сейчас дорвался, служил на батарее, но погиб на улице. Шальной снаряд.
Леша взглянул на часы, извинился, что должен бежать, пригласил девушек навестить его «на берегу залива Ф.», показал рукой, где это, и оставил их вдвоем. Они возвращались молча. Сильва упорно смотрела под ноги, шепотом отсчитывала шаги.
Когда они входили в бор у «Голубой дачи», Сильва сказала:
— Я буду очень хорошо заниматься по вашему предмету. Вы увидите, Марина Васильевна.
— Буду рада, Лена.
— Поче… Ясно, товарищ инструктор.
Марина вдруг сказала:
— Отыщется ваш альпинист. Я видела, как настоящие люди даже из гестапо выбирались. Так вот — насчет вашей легенды…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
 КОМИССАРЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
КОМИССАРЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА
 хотники довольно сознательные люди, — убежденно говорил Восков. — И у них ружья есть. Мы завоюем отличных стрелков по белякам.
Пронзительно зазвонил телефон. Воскова вызвали в Смольный.
— Продолжайте обсуждать, — сказал наркомпрод товарищам, — через час вернусь, и мы наметим докладчиков.
Но ему пришлось вернуться уже в другой должности.
В кабинете находились председатель губисполкома, командующий Западным фронтом и еще один человек, в котором Семен узнал видного большевика — члена Реввоенсовета фронта. Беседу начал командующий.
— Обстановка ясна, товарищ Восков?
— На продовольственном фронте? — спросил осторожно, прекрасно понимая, что речь идет о другом фронте, что войска австро-венгерских оккупантов откатываются из Украины, Белоруссии и наступает черед Прибалтики.
Политика всегда оставалась его стихией, и вызвавшие его люди это знали. Но он не хотел предупреждать события.
Тогда член Реввоенсовета сказал напрямик:
— Восков, в Реввоенсовет Седьмой армии войдете?
— Если отпустит партия, — сказал он, подумав. — Я уже вжился в свое дело. У меня съезд охотников на носу.
— А если смотреть дальше собственного носа? — сказал один из собеседников. — Армию нужно цементировать. Насчет вас, не скрою, были некоторые колебания. Троцкий считает вас чересчур гуманным для работы с военными. Но нам не хватает людей.
Восков не обиделся, он только улыбнулся.
— Ну, вот видите. Я еще и гуманный к тому же. — Его что-то раззадорило. — Мне в компроде тоже не хватает людей. И именно гуманных. Так что передавайте нам тех, кто не подойдет только по этим причинам товарищу наркому.
Член Реввоенсовета миролюбиво сказал:
— У вас, мы знаем, трое малышей. Возьмите завтрашний день на устройство личных дел. Послезавтра, шестнадцатого ноября, вас будут ждать в штабе Седьмой. Приказ уже подписан.
Он вернулся к товарищам задумчивый, непохоже на себя рассеянный. Когда расходились, сказал о новом назначении. Люди были встревожены, не скрывали огорчения.
— Приказ есть приказ, — вздохнул он. — В сущности, пока республику раздирают хищники, и компрод и Реввоенсовет работают на оборону. Так что мы остаемся в одном ведомстве.
Друзья уезжали на Украину, предлагали взять с собой его детей, нянька приюта обещала там за ними присмотреть и родню его разыскать. Он подумал: жизнь начинается походная, к детям и вовсе будет некогда приезжать. Может, отъедятся там, на украинском шпике. Дал согласие. Потом страшно себя обругал. А в ушах звенели слова старшего, Дани: «Папа, прогонишь белых — сразу к нам, нам только с тобой хорошо». И среднего, Вити: «Я хлебушка хочу и звездочку красную хочу». И младшей, Женечки: «Поиграй со мной в куклы и в обед… Кукла — вот, а обед понарошку».
Шестнадцатого засветло он уже обошел несколько этажей овального здания, в котором временно размещались штаб и отделы Седьмой армии. Спустился в цокольное помещение и обнаружил в политотделе машинистку и секретаря, восседавших на ящиках и изучавших списки добровольцев с заводов и фабрик. Завполитотделом еще не подобрали, и он понял, что пока это тоже его ноша. Секретарь, тоненькая, очень серьезная девушка с музыкальным именем Сальма, в нескольких словах обрисовала ему, из каких резервов сколачиваются полки.
— Хорошо, — сказал он. — Я попрошу тебя, товарищ Сальма, ежедневно составлять политсводку и особо выделять формирование полков комбедов. Тебе знакомо это слово — «комбеды»?
Проверка ее обидела. Сухо доложила все, что знала про комбеды.
— А сейчас поедешь в Смольный, — сказал он, — и возьмешь у начфина миллион рублей на путевые расходы коммунистов, которых мы будем направлять в дальние соединения. Наган имеешь?
Да, наган у нее был. Но ее ошеломило и доверие, и страшный риск.
Вернувшись, Сальма не узнала политотдел. Приходили коммунисты. Сверяясь с дислокацией частей, Восков направлял их в различные пункты Севера — от Петрозаводска до уездных центров Псковщины. Незнакомые люди вносили в подвал кипы брошюр и газет, которыми снабжались командируемые на политработу в части.
— Имейте в виду, — напутствовал он товарищей. — Просвещать бойцов — это только половина вашей работы. Вы должны разъяснять гражданскому населению, крестьянам наши идеи, наши планы, наши задачи — вот в чем соль деятельности армейских коммунистов. Армия и народ — это единое целое, военком и политотделец должны их цементировать. Везде, а в бою — особенно!
хотники довольно сознательные люди, — убежденно говорил Восков. — И у них ружья есть. Мы завоюем отличных стрелков по белякам.
Пронзительно зазвонил телефон. Воскова вызвали в Смольный.
— Продолжайте обсуждать, — сказал наркомпрод товарищам, — через час вернусь, и мы наметим докладчиков.
Но ему пришлось вернуться уже в другой должности.
В кабинете находились председатель губисполкома, командующий Западным фронтом и еще один человек, в котором Семен узнал видного большевика — члена Реввоенсовета фронта. Беседу начал командующий.
— Обстановка ясна, товарищ Восков?
— На продовольственном фронте? — спросил осторожно, прекрасно понимая, что речь идет о другом фронте, что войска австро-венгерских оккупантов откатываются из Украины, Белоруссии и наступает черед Прибалтики.
Политика всегда оставалась его стихией, и вызвавшие его люди это знали. Но он не хотел предупреждать события.
Тогда член Реввоенсовета сказал напрямик:
— Восков, в Реввоенсовет Седьмой армии войдете?
— Если отпустит партия, — сказал он, подумав. — Я уже вжился в свое дело. У меня съезд охотников на носу.
— А если смотреть дальше собственного носа? — сказал один из собеседников. — Армию нужно цементировать. Насчет вас, не скрою, были некоторые колебания. Троцкий считает вас чересчур гуманным для работы с военными. Но нам не хватает людей.
Восков не обиделся, он только улыбнулся.
— Ну, вот видите. Я еще и гуманный к тому же. — Его что-то раззадорило. — Мне в компроде тоже не хватает людей. И именно гуманных. Так что передавайте нам тех, кто не подойдет только по этим причинам товарищу наркому.
Член Реввоенсовета миролюбиво сказал:
— У вас, мы знаем, трое малышей. Возьмите завтрашний день на устройство личных дел. Послезавтра, шестнадцатого ноября, вас будут ждать в штабе Седьмой. Приказ уже подписан.
Он вернулся к товарищам задумчивый, непохоже на себя рассеянный. Когда расходились, сказал о новом назначении. Люди были встревожены, не скрывали огорчения.
— Приказ есть приказ, — вздохнул он. — В сущности, пока республику раздирают хищники, и компрод и Реввоенсовет работают на оборону. Так что мы остаемся в одном ведомстве.
Друзья уезжали на Украину, предлагали взять с собой его детей, нянька приюта обещала там за ними присмотреть и родню его разыскать. Он подумал: жизнь начинается походная, к детям и вовсе будет некогда приезжать. Может, отъедятся там, на украинском шпике. Дал согласие. Потом страшно себя обругал. А в ушах звенели слова старшего, Дани: «Папа, прогонишь белых — сразу к нам, нам только с тобой хорошо». И среднего, Вити: «Я хлебушка хочу и звездочку красную хочу». И младшей, Женечки: «Поиграй со мной в куклы и в обед… Кукла — вот, а обед понарошку».
Шестнадцатого засветло он уже обошел несколько этажей овального здания, в котором временно размещались штаб и отделы Седьмой армии. Спустился в цокольное помещение и обнаружил в политотделе машинистку и секретаря, восседавших на ящиках и изучавших списки добровольцев с заводов и фабрик. Завполитотделом еще не подобрали, и он понял, что пока это тоже его ноша. Секретарь, тоненькая, очень серьезная девушка с музыкальным именем Сальма, в нескольких словах обрисовала ему, из каких резервов сколачиваются полки.
— Хорошо, — сказал он. — Я попрошу тебя, товарищ Сальма, ежедневно составлять политсводку и особо выделять формирование полков комбедов. Тебе знакомо это слово — «комбеды»?
Проверка ее обидела. Сухо доложила все, что знала про комбеды.
— А сейчас поедешь в Смольный, — сказал он, — и возьмешь у начфина миллион рублей на путевые расходы коммунистов, которых мы будем направлять в дальние соединения. Наган имеешь?
Да, наган у нее был. Но ее ошеломило и доверие, и страшный риск.
Вернувшись, Сальма не узнала политотдел. Приходили коммунисты. Сверяясь с дислокацией частей, Восков направлял их в различные пункты Севера — от Петрозаводска до уездных центров Псковщины. Незнакомые люди вносили в подвал кипы брошюр и газет, которыми снабжались командируемые на политработу в части.
— Имейте в виду, — напутствовал он товарищей. — Просвещать бойцов — это только половина вашей работы. Вы должны разъяснять гражданскому населению, крестьянам наши идеи, наши планы, наши задачи — вот в чем соль деятельности армейских коммунистов. Армия и народ — это единое целое, военком и политотделец должны их цементировать. Везде, а в бою — особенно!
 Ни одного человека он не отпускал без этой, как он говорил, гвоздевой программы.
— Слушай, товарищ, — обратился он к юноше, почти мальчику, присланному выборжцами. — Ты мне скажи по совести, шестнадцать тебе уже есть?
— Неделю, как стукнуло, — доложил выборжец. — Да ты не беспокойся, товарищ Восков. Я политически шибко грамотный. Мы же с тобой в Петросовете почти что рядком сидели и эсеров вместе громили. Запевало моя фамилия.
— То-то я смотрю, знакомое лицо! Ты, браток, и в Петросовете говорил, что тебе неделю назад шестнадцать стукнуло.
Раздался смех, но парня это не смутило.
— Шутки не шути, — сказал Запевало. — Я революцию грудью и зубами буду защищать. Подписывай назначение.
И он подписал.
В подвальчике уже стояли три походные койки — для командарма, начштаба и для него.
— Пусть все время отдают революции, — добродушно сказал он, перехватив удивленный взгляд секретаря. — Да и совет нам удобнее держать, когда всегда рядом.
Бритоголовый, широкоплечий, громкоголосый, он в эти дни был в гуще беседующих, спорящих, колдующих над картами фронта. И как только скомплектовал большинство дивизионных политотделов, выехал на позиции.
Он был в одной из рот, когда сообщили, что приехал и разыскивает его комиссар сорок первого полка. Восков встретил его настороженно, руки не подал, резко сказал:
— У тебя полк уже трое суток из боя не выходит. Зачем здесь?
— Товарищ член Военного Совета, — начал разъяснять военком, — отступаем мы, выхода пока не вижу, чего присоветуете?
Восков окликнул двух красноармейцев и жестко сказал:
— Арестовать! Вечером разберемся.
Вечером он сам пришел в арестантскую, сел напротив комиссара и устало сказал:
— Все поняли или объяснять на пальцах?
— Судите, товарищ член Военного Совета, — глухо сказал комиссар. — Не имел я права в такие дни полк оставлять.
— Верно, большевику дано право, когда жизнь со смертью лютуют, первому лезть в огонь. Возвращайся в часть, а я к тебе приеду, когда линию фронта выпрямишь.
Прошло всего несколько дней его пребывания в Седьмой армии, но ему казалось, что минула уже целая вечность. Работа с продотрядами отодвинулась куда-то очень далеко, и только в редкие минуты отдыха ему удавалось позвонить товарищам по компроду и расспросить про своих рыбаков да охотников.
Командующий предложил ему съездить на Север, но Восков неожиданно запротестовал:
— Пора брать Псков. Беляки там совсем распоясались. Хотелось бы участвовать в операции.
Командующий раздумывал:
— Опытных военспецов у нас там много. Как вы себе представляете, что там делать члену Реввоенсовета?
— С винтовкой наперевес, — быстро сказал Восков, — идти в той точке, где решается исход сражения.
И с хитринкой добавил:
— А вот определить эту точку уже должно подсказать чутье члена Реввоенсовета.
На совещании командиров и комиссаров соединений, которыми руководил в операции «Псков» известный полководец и большевик Ян Фабрициус, намечено было одновременно два удара — на Талабском и Торошинском участках.
— Я предложил бы еще два удара, — сказал Восков. — Один со стороны псковского подполья. Нужно согласовать с ним сроки нашего наступления. Операция щекотливая. Но у меня есть верный питерский товарищ, он проберется.
— Принимается, — быстро решил Ян Фабрициус. — А еще какой удар вы имели в виду?
Восков достал из нагрудного кармана гимнастерки измятый листок.
— Это доставили бежавшие из Пскова люди. Местные помещики обратились еще пятнадцатого мая к германскому принцу Леопольду Баварскому. Разрешите зачитать… «Зная искреннюю и чистосердечную любовь вашего королевского высочества ко всему человечеству и прогрессу…» Знакомая муть… А вот: «Мы просим занятия всей территории Псковского, Островского, Опочецкого и Порховского уездов губернии…» Наконец дорвались: «Мы просим восстановления пользования и распоряжения земельной собственностью…» — И заключил: — В нашей армии много крестьян. Чуете, какая взрывная сила у этого документа, если его размножить и зачитать бойцам?
— Чуем, — улыбнулся Фабрициус. — Тоже принимается!
Восков снова объезжал полки, батальоны, роты. Ночью вернулся в Петроград, забежал в поарм[21], попросил сводку с фронтов за 24 ноября, бегло проглядел. И вдруг предательские капельки пота выступили на лбу, руки непроизвольно сжались в кулак.
— Что с вами? — спросила Сальма и заглянула через его плечо в сводку. — Ну, на Пскове это не отразится. Да и второстепенные это пункты для Украины.
— Я отослал туда своих детей, — сказал Восков. — Они не щадят и детей. А восковских детей тем более не пощадят.
Ни одного человека он не отпускал без этой, как он говорил, гвоздевой программы.
— Слушай, товарищ, — обратился он к юноше, почти мальчику, присланному выборжцами. — Ты мне скажи по совести, шестнадцать тебе уже есть?
— Неделю, как стукнуло, — доложил выборжец. — Да ты не беспокойся, товарищ Восков. Я политически шибко грамотный. Мы же с тобой в Петросовете почти что рядком сидели и эсеров вместе громили. Запевало моя фамилия.
— То-то я смотрю, знакомое лицо! Ты, браток, и в Петросовете говорил, что тебе неделю назад шестнадцать стукнуло.
Раздался смех, но парня это не смутило.
— Шутки не шути, — сказал Запевало. — Я революцию грудью и зубами буду защищать. Подписывай назначение.
И он подписал.
В подвальчике уже стояли три походные койки — для командарма, начштаба и для него.
— Пусть все время отдают революции, — добродушно сказал он, перехватив удивленный взгляд секретаря. — Да и совет нам удобнее держать, когда всегда рядом.
Бритоголовый, широкоплечий, громкоголосый, он в эти дни был в гуще беседующих, спорящих, колдующих над картами фронта. И как только скомплектовал большинство дивизионных политотделов, выехал на позиции.
Он был в одной из рот, когда сообщили, что приехал и разыскивает его комиссар сорок первого полка. Восков встретил его настороженно, руки не подал, резко сказал:
— У тебя полк уже трое суток из боя не выходит. Зачем здесь?
— Товарищ член Военного Совета, — начал разъяснять военком, — отступаем мы, выхода пока не вижу, чего присоветуете?
Восков окликнул двух красноармейцев и жестко сказал:
— Арестовать! Вечером разберемся.
Вечером он сам пришел в арестантскую, сел напротив комиссара и устало сказал:
— Все поняли или объяснять на пальцах?
— Судите, товарищ член Военного Совета, — глухо сказал комиссар. — Не имел я права в такие дни полк оставлять.
— Верно, большевику дано право, когда жизнь со смертью лютуют, первому лезть в огонь. Возвращайся в часть, а я к тебе приеду, когда линию фронта выпрямишь.
Прошло всего несколько дней его пребывания в Седьмой армии, но ему казалось, что минула уже целая вечность. Работа с продотрядами отодвинулась куда-то очень далеко, и только в редкие минуты отдыха ему удавалось позвонить товарищам по компроду и расспросить про своих рыбаков да охотников.
Командующий предложил ему съездить на Север, но Восков неожиданно запротестовал:
— Пора брать Псков. Беляки там совсем распоясались. Хотелось бы участвовать в операции.
Командующий раздумывал:
— Опытных военспецов у нас там много. Как вы себе представляете, что там делать члену Реввоенсовета?
— С винтовкой наперевес, — быстро сказал Восков, — идти в той точке, где решается исход сражения.
И с хитринкой добавил:
— А вот определить эту точку уже должно подсказать чутье члена Реввоенсовета.
На совещании командиров и комиссаров соединений, которыми руководил в операции «Псков» известный полководец и большевик Ян Фабрициус, намечено было одновременно два удара — на Талабском и Торошинском участках.
— Я предложил бы еще два удара, — сказал Восков. — Один со стороны псковского подполья. Нужно согласовать с ним сроки нашего наступления. Операция щекотливая. Но у меня есть верный питерский товарищ, он проберется.
— Принимается, — быстро решил Ян Фабрициус. — А еще какой удар вы имели в виду?
Восков достал из нагрудного кармана гимнастерки измятый листок.
— Это доставили бежавшие из Пскова люди. Местные помещики обратились еще пятнадцатого мая к германскому принцу Леопольду Баварскому. Разрешите зачитать… «Зная искреннюю и чистосердечную любовь вашего королевского высочества ко всему человечеству и прогрессу…» Знакомая муть… А вот: «Мы просим занятия всей территории Псковского, Островского, Опочецкого и Порховского уездов губернии…» Наконец дорвались: «Мы просим восстановления пользования и распоряжения земельной собственностью…» — И заключил: — В нашей армии много крестьян. Чуете, какая взрывная сила у этого документа, если его размножить и зачитать бойцам?
— Чуем, — улыбнулся Фабрициус. — Тоже принимается!
Восков снова объезжал полки, батальоны, роты. Ночью вернулся в Петроград, забежал в поарм[21], попросил сводку с фронтов за 24 ноября, бегло проглядел. И вдруг предательские капельки пота выступили на лбу, руки непроизвольно сжались в кулак.
— Что с вами? — спросила Сальма и заглянула через его плечо в сводку. — Ну, на Пскове это не отразится. Да и второстепенные это пункты для Украины.
— Я отослал туда своих детей, — сказал Восков. — Они не щадят и детей. А восковских детей тем более не пощадят.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ДВАДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ
— Видели, что дети в машинах — а все равно спикировали и на бреющем из пулеметов… Горло бы им перегрызла, фашистам проклятым!.. Сильвия Семеновна, пусть меня ускоренно готовят! — Замените батареи, — сдержанно предложила Сильва. Она обучала новенькую устранять неисправности в рации. Лена как будто углубилась в книгу и только страницы почему-то переворачивала с треском. У каждого слушателя была своя комната, но начальник школы, которую из-за ближнего леска они прозвали «лесной», зная, что Вишнякова и Воскова издавна дружат, разрешил им поселиться вместе. В этом ленинградском пригороде, где сейчас высятся многоэтажные массивы новостроек, а в войну еще тянулись заболоченные места, пустыри, свалка, и встретились подруги. — Ленка! — Сивка! Расцеловались прямо на морозце, осыпанные легким пушистым снежком. — Мы опять вместе, Лена. Вместе в хорошем и трудном! — Меньше слов, Сивка. Что ты успела? — Спроси у моего начальства. А ты, Леночка? — Как догадываешься, попасть сюда — тоже было искусством. — Еще бы! Представляю лицо Скалодуба. Начали смешным, а кончили печальным. Дистрофия не обошла отца Лены, сестренки, тяжело больна мать. Нет вестей от Романа. — Что с Володей, Сивка? — Лучше не спрашивай. Война есть война. «То, что теряешь друзей и знакомых в старое доброе мирное время, — записала Сильва, — а встречаешь в суровую пору, придает такую сердечность и нежность встрече…» А сегодня еще одно тяжелое известие. Собственно, слушатели об этом узнали из партизанской листовки — время от времени их знакомили с этим видом «лесной литературы». Школьницу из Петергофа Любу Колмакову, с которой учился кто-то из разведчиков, девчушку, здорово поработавшую в тылу у немцев и организовавшую побег из концлагеря ста пятидесяти советских военнопленных, гитлеровцы схватили на задании у деревни Понизовка под Псковом, заперли в избе и заживо сожгли. За гибель своей любимицы Любы разведывательный отряд сурово отомстил захватчикам: летели под откос фашистские эшелоны, рвались мины в гитлеровских штабах, исчезали, как в проруби, эсэсовские каратели. Но Любы-то, Любы уже не было. — Что, Воскова, раскисаем? — спросила Марина.
— Мы знали, на что идем, товарищ инструктор.
Медленно они лавировали с Сильвой между высокими, в два человеческих роста, сугробами, разговаривая то в замедленном, то в быстром темпе, и постороннему бы показалось, что они заняты какой-то шутливой детской игрой, похожей на «фанты», в которой «да» и «нет» не говорится, «черное и белое не покупается» и в которой нельзя «ни смеяться, ни улыбаться».
— Имя? Как сюда попала? Откуда?
— Елена Кависте. Из Нарвы. Пробиралась к тетке.
— А в Нарве что делала?
— Техникум кончала.
— Эстонка, русская?
— Отец эстонец. Убит коммунистами. В сороковом. Об этом даже в газетах писали. Мать из русских.
— Почему плохо говоришь по-эстонски?
— В семье говорили чаще по-русски или по-немецки.
— Почему по-немецки?
— Дед, отец матери, был из прибалтийских немцев. Жил в Вильянди. Как раз напротив руин замка. Палисадник у него голубенький.
— Чем дед занимался? Имя?
— Галантерейный магазин держал. Отто Рейнбах. Его все знали. Только в начале войны он умер.
Тяжело вздохнула.
— Ну как, пронесло?
— С газетами вы хорошо ввернули, — подытожила Марина, — пусть проверят — о Кависте писали. И с палисадником — недурно: гестаповцы и полицаи клюют на живописные детали. А то, что дед умер, похоже на страховку. Понадобится — сами поищут. Бойтесь переборщить.
Морозный воздух точно начал трескаться, долетел отдаленный гул.
— Опять обстрел, — сказала Сильва. — Почему-то ужасно тревожусь эти дни за мать.
В середине дня Воскова, Вишнякова и еще два курсанта работали с другим инструктором, большим, нескладного сложения человеком, которого все здесь между собой называли «дядей Мишей». Знали, что он партизанил и был незаменим по части организации взрывов. Дядя Миша водил курсантов в лес, и здесь они должны были закладывать под пенек или ветку толовую шашку с шнуром, поджигать шнур и быстро отбегать, пока голубая искристая дорожка не взметалась в воздух грохочущим багровым каскадом. С каждым днем инструктор усложнял для курсантов задания; шнур, бывший некогда пятиметровым, сократился в десять раз. Говорил он сжатыми отрывистыми фразами, которые были под стать его резким, точным движениям.
— Немцы любят прощупывать рельс дрезиной. А эшелон — следом. На всю операцию — двадцать-тридцать секунд. Вот когда длинный шнур — кому спасенье, а нам мученье. Получайте полметра.
Тлел голубой шнур, и каждый из них стремглав летел, стараясь не споткнуться о кочку, не расшибить лоб о дерево, отбежать как можно дальше от огнеопасной толовой шашки.
— Товарищ инструктор, — попросила Сильва. — Можно, я сегодня пойду на двадцать сантиметров?
— Мне можно, тебе нет, — ответил дядя Миша.
— Но в жизни нужно и двадцать суметь поджечь и уцелеть. Верно?
— Жизнь не день… Еще наобожжешься.
Незаметно для них подошел начальник школы, прислушался, мягко сказал:
— Разведчику Восковой можно довериться. Подорвете и сообщите по рации приметы местности. Рация на пеньке.
Инструктор остро взглянул:
— Счет до десяти — и ложись!
Поджог шнура. Бег — вихрь. Один, два… восемь, девять..
Врезалась в сугроб одновременно с командой инструктора и грохотом тола. Еще успела подметить овражек и три раскидистых ели. Встала, отряхнулась, подбежала к пеньку, раскинула рацию. Пробилась «в школу» с трудом — эфир напоминал пчелиный улей. Доложила о выполнении задания.
— Есть двадцать сантиметров!
Дядя Миша сверил время, переглянулся с начальником школы: екнуло сердце — не иначе, с выходом на связь замешкалась.
— У вас в запасе была еще минута, — отметил начальник школы.
Вечером работали с Леной на приеме и передаче.
— Странно, — говорила Сильва. — Все время в ходу операция «Сатурн».
Лена тоже выловила в эфире это слово. Потом они услышали, как фельдмаршал Манштейн клялся своему фюреру, что прорвется к армии Паулюса. И наконец, поняли: Сталинград побеждает.
— Неужели без нас обойдутся? — вздохнула Сильва.
Вошла Марина. Услышала, о чем пекутся подруги. Резко сказала:
— Работы на всех хватит. Вы только учтите, вам еще готовиться и готовиться.
Потом заговорила медленно, неторопливо:
— Жила-была одна самоуверенная девчушка. Считала себя разведчиком высокого класса. Ей доверили позывные Центра, партизанские явки и много чего еще. Сбросили ее в маленький городок. Все она учла, все знала наперед. Не заметила только, что шелковый лоскуток от парашюта — да какой там лоскуток, так — две-три нитки — зацепился за пуговицу куртки. Ее задержали.
— Погибла?
— Спаслась. Но человек, который шел к ней на связь, остался лежать на мостовой. Я и сейчас его вижу перед собой.
Приказала:
— Одеться. Полный десантный комплект. Подучимся скрывать на снегу следы парашютной высадки.
— Что, Воскова, раскисаем? — спросила Марина.
— Мы знали, на что идем, товарищ инструктор.
Медленно они лавировали с Сильвой между высокими, в два человеческих роста, сугробами, разговаривая то в замедленном, то в быстром темпе, и постороннему бы показалось, что они заняты какой-то шутливой детской игрой, похожей на «фанты», в которой «да» и «нет» не говорится, «черное и белое не покупается» и в которой нельзя «ни смеяться, ни улыбаться».
— Имя? Как сюда попала? Откуда?
— Елена Кависте. Из Нарвы. Пробиралась к тетке.
— А в Нарве что делала?
— Техникум кончала.
— Эстонка, русская?
— Отец эстонец. Убит коммунистами. В сороковом. Об этом даже в газетах писали. Мать из русских.
— Почему плохо говоришь по-эстонски?
— В семье говорили чаще по-русски или по-немецки.
— Почему по-немецки?
— Дед, отец матери, был из прибалтийских немцев. Жил в Вильянди. Как раз напротив руин замка. Палисадник у него голубенький.
— Чем дед занимался? Имя?
— Галантерейный магазин держал. Отто Рейнбах. Его все знали. Только в начале войны он умер.
Тяжело вздохнула.
— Ну как, пронесло?
— С газетами вы хорошо ввернули, — подытожила Марина, — пусть проверят — о Кависте писали. И с палисадником — недурно: гестаповцы и полицаи клюют на живописные детали. А то, что дед умер, похоже на страховку. Понадобится — сами поищут. Бойтесь переборщить.
Морозный воздух точно начал трескаться, долетел отдаленный гул.
— Опять обстрел, — сказала Сильва. — Почему-то ужасно тревожусь эти дни за мать.
В середине дня Воскова, Вишнякова и еще два курсанта работали с другим инструктором, большим, нескладного сложения человеком, которого все здесь между собой называли «дядей Мишей». Знали, что он партизанил и был незаменим по части организации взрывов. Дядя Миша водил курсантов в лес, и здесь они должны были закладывать под пенек или ветку толовую шашку с шнуром, поджигать шнур и быстро отбегать, пока голубая искристая дорожка не взметалась в воздух грохочущим багровым каскадом. С каждым днем инструктор усложнял для курсантов задания; шнур, бывший некогда пятиметровым, сократился в десять раз. Говорил он сжатыми отрывистыми фразами, которые были под стать его резким, точным движениям.
— Немцы любят прощупывать рельс дрезиной. А эшелон — следом. На всю операцию — двадцать-тридцать секунд. Вот когда длинный шнур — кому спасенье, а нам мученье. Получайте полметра.
Тлел голубой шнур, и каждый из них стремглав летел, стараясь не споткнуться о кочку, не расшибить лоб о дерево, отбежать как можно дальше от огнеопасной толовой шашки.
— Товарищ инструктор, — попросила Сильва. — Можно, я сегодня пойду на двадцать сантиметров?
— Мне можно, тебе нет, — ответил дядя Миша.
— Но в жизни нужно и двадцать суметь поджечь и уцелеть. Верно?
— Жизнь не день… Еще наобожжешься.
Незаметно для них подошел начальник школы, прислушался, мягко сказал:
— Разведчику Восковой можно довериться. Подорвете и сообщите по рации приметы местности. Рация на пеньке.
Инструктор остро взглянул:
— Счет до десяти — и ложись!
Поджог шнура. Бег — вихрь. Один, два… восемь, девять..
Врезалась в сугроб одновременно с командой инструктора и грохотом тола. Еще успела подметить овражек и три раскидистых ели. Встала, отряхнулась, подбежала к пеньку, раскинула рацию. Пробилась «в школу» с трудом — эфир напоминал пчелиный улей. Доложила о выполнении задания.
— Есть двадцать сантиметров!
Дядя Миша сверил время, переглянулся с начальником школы: екнуло сердце — не иначе, с выходом на связь замешкалась.
— У вас в запасе была еще минута, — отметил начальник школы.
Вечером работали с Леной на приеме и передаче.
— Странно, — говорила Сильва. — Все время в ходу операция «Сатурн».
Лена тоже выловила в эфире это слово. Потом они услышали, как фельдмаршал Манштейн клялся своему фюреру, что прорвется к армии Паулюса. И наконец, поняли: Сталинград побеждает.
— Неужели без нас обойдутся? — вздохнула Сильва.
Вошла Марина. Услышала, о чем пекутся подруги. Резко сказала:
— Работы на всех хватит. Вы только учтите, вам еще готовиться и готовиться.
Потом заговорила медленно, неторопливо:
— Жила-была одна самоуверенная девчушка. Считала себя разведчиком высокого класса. Ей доверили позывные Центра, партизанские явки и много чего еще. Сбросили ее в маленький городок. Все она учла, все знала наперед. Не заметила только, что шелковый лоскуток от парашюта — да какой там лоскуток, так — две-три нитки — зацепился за пуговицу куртки. Ее задержали.
— Погибла?
— Спаслась. Но человек, который шел к ней на связь, остался лежать на мостовой. Я и сейчас его вижу перед собой.
Приказала:
— Одеться. Полный десантный комплект. Подучимся скрывать на снегу следы парашютной высадки.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ЯВЬ И СОН КОМИССАРА
Он ворвался в город с полком, который встретили ожесточенными пулеметными очередями белогвардейцы, засевшие в гостинице и на колокольне церкви Михаила Архангела. В грохоте стрельбы было трудно различать отдельные команды. — Товарищ член Реввоенсовета! — крикнул над его ухом молоденький командир роты. — Вы меня не узнали, а я вас узнал. Запевало моя фамилия. Комполка просил, чтобы вы не лезли в кашу. — Что ж мне, кашу в котелке варить? — крикнул Восков. — Слушай, Запевало, бери полроты и сгони их с колокольни, а я со второй половиной гостиницу вытряхну! — Есть, товарищ Реввоенсовет!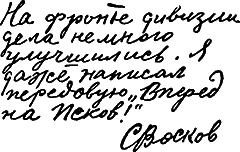 Отдал команду. Рота лежала, прижатая к земле, под плотной сеткой визжавшихпуль. Не видя тех, кто находился за его спиной, Восков крикнул: «На белых гадов, за мной!» Сделал короткую перебежку, не упал, а вонзился в землю, слыша над головой захлебывающий лай пулемета.
Новые перебежки. Рядом застонали.
Семен сделал несколько крупных прыжков и бросил гранату в стекло подъезда. Они были уже вне досягаемости пулеметных очередей и, подождав, пока рассеется дым, ворвались в гостиницу, потом по боковой лестнице выбрались на крышу. Двумя-тремя метрами ниже них, на балконах, лежали за пулеметами белогвардейцы, оставленные для прикрытия бежавшей банды Булак-Балаховича. Восков взглядом измерил расстояние, прыгнул вниз, выстрелил, ударил наганом, отшвырнул ногой… Схватки шли уже на всех балконах. Пулеметы смолкли. Еще несколькими минутами позже замолчала и колокольня. Мощные раскаты «ура!» возникали то там, то здесь.
— На телеграф! — закричал Восков.
Они встретились с Запевало у телеграфа и разом ударили в двери. Послышался дребезжащий голос:
— Господа, вы от кого?
— Мы от революционной власти, — солидно сообщил Запевало. — Открывайте, папаша!
— Тогда прошу через окно, господа-товарищи, — произнес тот же голос, — меня здесь привязали к дверной ручке, а дверь заминировали. Лучше без взрывов, раз вы власть.
В пять часов утра Воскова видели в перестрелке у вокзала. Начдив его нашел на маленькой кривой улочке. Красноармейцы окружили большой сад, где укрывались белые.
— Товарищ Восков, — он взял его за руку, — вас ищут в штабе.
Восков вставил в затвор патрон и, разгоряченный боем, почерневший от пороховой гари, отозвался:
— В штабе только после боя, дорогой начдив! Только после боя!
Час спустя он телеграфировал в Петроград: «Ноябрь 25. Наши войска с боем вступили в Псков. На улицах, из домов кучки белогвардейцев пытаются оказать сопротивление. Рабочие к моменту вступления красноармейцев восстали. Взято много пленных и ценного военного имущества. От Военнореволюционного совета армии — Восков».
Теперь он мог заняться наведением революционного порядка в городе. Перед шеренгами только что вышедших из боя красноармейцев Седьмой армии, партизан, бойцов Особого коммунистического отряда и собравшимися на площади псковичами он сказал коротко:
— Будем строить новый Псков — советский.
В небольшом зале, принадлежавшем раньше архиву, Восков и Ян Фабрициус, назначенный чрезвычайным военнополитическим комиссаром на этом участке фронта, сдвинули в центр два огромных стола и, сидя друг против друга, занялись сочинительством… Обращения, приказы, записки… Окружить отряд Булак-Балаховича… Помочь семьям, пострадавшим от террора белых банд… Взять под охрану винные лавки и склады…
К ночи окончательно выдохлись. Фабрициус первым отбросил в сторону карандаш, засмеялся:
— А вы не находите, Семен Петрович, что из нас вышли бы отличные делопроизводители?
— Нет, нет, — живо возразил Восков, показывая на завалившие стол распоряжения. — Это не канцелярщина, дорогой комиссар, это наше оружие. И я собираюсь его широко применять для того, чтобы жизнь на Псковщине вошла в свое нормальное русло.
— А кем бы вы хотели стать, — задумчиво спросил Фабрициус, — когда вся Россия войдет в нормальное русло?
Семен покрутил головой:
— Ну и задали вы мне задачку, комиссар… Честное слово, за последние полтора десятка лет у меня и минуты свободной не было, чтоб насчет себя так далеко загадывать… Кем стал бы? Ну, поначалу — обыкновенным спящим человеком. Хоть на двое суток. К верстаку меня всегда тянет. Наверно, красивые вещи из дерева вытачивать мог бы… Детей воспитывать в нашем духе — хотя, чего там, к тому времени у них уже свои дети будут… Вечерами про революцию в молодежных клубах буду рассказывать. Чтоб у ребят и девчат глаза разгорались. А понадобится революции в мировом плане помочь — меня в поход долго упрашивать не надо.
— Восков всегда останется собою, — засмеялся Фабрициус. — Нет, вам просто необходимо, чтобы революция продолжалась вечно.
— Она и будет вечной, — убежденно сказал Семен. — Даже когда мы винтовки на склад сдадим. А теперь — спать, комиссар.
Спать им не дали. Пришел рабочий, сказал, что по распоряжению ВРК всех призывают выйти на расчистку завалов у хлебопекарни и больницы.
— Не хватает рук, товарищ комиссар. Чего это нам с местной буржуазией нянчиться? Призовите ее именем революции.
Комиссары дружно засмеялись. Приказ был подписан сразу. Фабрициуса разбудили утром громкие голоса, Восков пояснял владельцу мануфактурной лавки:
— Во-первых, у нас мало свободных рук. Во-вторых, вы отхватили недурные прибыли при немцах, и нужно же как-то замаливать свои грехи перед рабоче-крестьянской властью. В-третьих, поработать физически — полезно каждому, и я сам рядом с вами буду таскать камни.
— Вы прирожденный полемист, — отметил Фабрициус. — Вам бы в газету, Семен Петрович.
Он и о газетах думал. Стал частым гостем в «Псковском набате», рассказывал репортерам, как был разъездным рабочим корреспондентом, снабжал их интересной информацией из частей. А услышав, как они ломают голову над текстом оповещения местной буржуазии о том, что в ее квартиры начинается вселение рабочих, сел и тут же набросал несколько едких фраз: «Буржуа, не забудьте на новоселье одеть калоши, открыть зонтик — там холодно, там сыро и тесно, в рабочих подвалах, там пахнет смертью и страданием. Но… в галошах, с зонтиком — там можно жить». Этими словами, набранными крупным кеглем, открывался номер газеты.
Седьмая продолжала наступать, и он не мог долго засиживаться на месте. Восков возвращался в штаб ночью, диктовал Сальме несколько распоряжений, наскоро съедал свой ужин — ломоть хлеба, запивая его кружкой воды, и засыпал на рваном диване, а если диван бывал занят, устраивался на столе, за которым только что рассматривал с начштаба карту. Через час-два поднимался освеженный, разыскивал на рассвете секретаря и извиняющимся голосом говорил:
— Ты уж, товарищ Сальма, не ругай простого столяра… но только мне показалось, что наш последний приказ составлен очень уж деликатно. Давай покрепче завернем.
И «заворачивали»: «Поменьше прав и побольше обязанностей… Подальше от котлов, поближе к огню».
— Это обидит честных политработников, — предположила Сальма.
— Честные не примут на свой счет, — отрезал он. — Воспитывать могут только люди высокой личной ответственности. Размножь приказ, товарищ.
В эти первые дни девятнадцатого года, когда Седьмая армия, растекаясь по просторам Севера, отжимала германских оккупантов и белогвардейские части, Восков старался укреплять связь армии с населением, находил новые решения. Началось с Новгорода, где он собрал группу безработных репортеров и предложил им основать новую газету.
— Ее будут выпускать местный Совет и наш политотдел, — предложил он. — Информацию из полков мы вам обеспечим, а вы нам обеспечьте материалы из глубинок уезда. Только уговор: писать так, чтоб у людей глаза разгорались!
Так возникли «Новгородская звезда», «Олонецкая звезда», «Повенецкая звезда» — до самых отдаленных деревень доходили эти небольшие исчитанные странички. Восков по пути заезжал в редакции, отмечал каждую газетную удачу. Резолюцию 6-й роты 171-го полка комментировал с особым удовольствием.
— «Мы, стрелки 6-й роты, заявляем всем социал-предателям и защитникам иностранного капитала: прочь с нашей дороги!.. Мы не допустим, чтобы на нас опять надели цепи рабства. Да не будет этого никогда, пока мы, стрелки 6-й роты, живы!» Чуете? Шестая рота бросает вызов империализму! А сколько у нас таких рот!
С рассказа о молодых газетах начал он свое выступление на Первой конференции коммунистов Седьмой армии, которая избрала его председателем, а затем командировала на VIII съезд партии.
Делегатов Седьмой было свыше полутора тысяч. Заседали в большом зале Смольного. Объявив перерыв, Семен ненароком положил голову на руки и моментально уснул. Он уже не слышал, как по залу пронеслось солдатское «тс!..», как замахали руками на фотографа, щелкнувшего не вовремя затвором…
Что ему снилось? Малыши, которых он сам же отправил в степи, истоптанные махновцами? Запевало, который клялся, что ему уже «с неделю назад шестнадцать»? Или начдив, который звал его из «каши» и которому он ответил: «В штабе только после боя…»
Прозвенел колокольчик.
Двое суток передышки революция не могла ему дать, но десять минут подарила.
Отдал команду. Рота лежала, прижатая к земле, под плотной сеткой визжавшихпуль. Не видя тех, кто находился за его спиной, Восков крикнул: «На белых гадов, за мной!» Сделал короткую перебежку, не упал, а вонзился в землю, слыша над головой захлебывающий лай пулемета.
Новые перебежки. Рядом застонали.
Семен сделал несколько крупных прыжков и бросил гранату в стекло подъезда. Они были уже вне досягаемости пулеметных очередей и, подождав, пока рассеется дым, ворвались в гостиницу, потом по боковой лестнице выбрались на крышу. Двумя-тремя метрами ниже них, на балконах, лежали за пулеметами белогвардейцы, оставленные для прикрытия бежавшей банды Булак-Балаховича. Восков взглядом измерил расстояние, прыгнул вниз, выстрелил, ударил наганом, отшвырнул ногой… Схватки шли уже на всех балконах. Пулеметы смолкли. Еще несколькими минутами позже замолчала и колокольня. Мощные раскаты «ура!» возникали то там, то здесь.
— На телеграф! — закричал Восков.
Они встретились с Запевало у телеграфа и разом ударили в двери. Послышался дребезжащий голос:
— Господа, вы от кого?
— Мы от революционной власти, — солидно сообщил Запевало. — Открывайте, папаша!
— Тогда прошу через окно, господа-товарищи, — произнес тот же голос, — меня здесь привязали к дверной ручке, а дверь заминировали. Лучше без взрывов, раз вы власть.
В пять часов утра Воскова видели в перестрелке у вокзала. Начдив его нашел на маленькой кривой улочке. Красноармейцы окружили большой сад, где укрывались белые.
— Товарищ Восков, — он взял его за руку, — вас ищут в штабе.
Восков вставил в затвор патрон и, разгоряченный боем, почерневший от пороховой гари, отозвался:
— В штабе только после боя, дорогой начдив! Только после боя!
Час спустя он телеграфировал в Петроград: «Ноябрь 25. Наши войска с боем вступили в Псков. На улицах, из домов кучки белогвардейцев пытаются оказать сопротивление. Рабочие к моменту вступления красноармейцев восстали. Взято много пленных и ценного военного имущества. От Военнореволюционного совета армии — Восков».
Теперь он мог заняться наведением революционного порядка в городе. Перед шеренгами только что вышедших из боя красноармейцев Седьмой армии, партизан, бойцов Особого коммунистического отряда и собравшимися на площади псковичами он сказал коротко:
— Будем строить новый Псков — советский.
В небольшом зале, принадлежавшем раньше архиву, Восков и Ян Фабрициус, назначенный чрезвычайным военнополитическим комиссаром на этом участке фронта, сдвинули в центр два огромных стола и, сидя друг против друга, занялись сочинительством… Обращения, приказы, записки… Окружить отряд Булак-Балаховича… Помочь семьям, пострадавшим от террора белых банд… Взять под охрану винные лавки и склады…
К ночи окончательно выдохлись. Фабрициус первым отбросил в сторону карандаш, засмеялся:
— А вы не находите, Семен Петрович, что из нас вышли бы отличные делопроизводители?
— Нет, нет, — живо возразил Восков, показывая на завалившие стол распоряжения. — Это не канцелярщина, дорогой комиссар, это наше оружие. И я собираюсь его широко применять для того, чтобы жизнь на Псковщине вошла в свое нормальное русло.
— А кем бы вы хотели стать, — задумчиво спросил Фабрициус, — когда вся Россия войдет в нормальное русло?
Семен покрутил головой:
— Ну и задали вы мне задачку, комиссар… Честное слово, за последние полтора десятка лет у меня и минуты свободной не было, чтоб насчет себя так далеко загадывать… Кем стал бы? Ну, поначалу — обыкновенным спящим человеком. Хоть на двое суток. К верстаку меня всегда тянет. Наверно, красивые вещи из дерева вытачивать мог бы… Детей воспитывать в нашем духе — хотя, чего там, к тому времени у них уже свои дети будут… Вечерами про революцию в молодежных клубах буду рассказывать. Чтоб у ребят и девчат глаза разгорались. А понадобится революции в мировом плане помочь — меня в поход долго упрашивать не надо.
— Восков всегда останется собою, — засмеялся Фабрициус. — Нет, вам просто необходимо, чтобы революция продолжалась вечно.
— Она и будет вечной, — убежденно сказал Семен. — Даже когда мы винтовки на склад сдадим. А теперь — спать, комиссар.
Спать им не дали. Пришел рабочий, сказал, что по распоряжению ВРК всех призывают выйти на расчистку завалов у хлебопекарни и больницы.
— Не хватает рук, товарищ комиссар. Чего это нам с местной буржуазией нянчиться? Призовите ее именем революции.
Комиссары дружно засмеялись. Приказ был подписан сразу. Фабрициуса разбудили утром громкие голоса, Восков пояснял владельцу мануфактурной лавки:
— Во-первых, у нас мало свободных рук. Во-вторых, вы отхватили недурные прибыли при немцах, и нужно же как-то замаливать свои грехи перед рабоче-крестьянской властью. В-третьих, поработать физически — полезно каждому, и я сам рядом с вами буду таскать камни.
— Вы прирожденный полемист, — отметил Фабрициус. — Вам бы в газету, Семен Петрович.
Он и о газетах думал. Стал частым гостем в «Псковском набате», рассказывал репортерам, как был разъездным рабочим корреспондентом, снабжал их интересной информацией из частей. А услышав, как они ломают голову над текстом оповещения местной буржуазии о том, что в ее квартиры начинается вселение рабочих, сел и тут же набросал несколько едких фраз: «Буржуа, не забудьте на новоселье одеть калоши, открыть зонтик — там холодно, там сыро и тесно, в рабочих подвалах, там пахнет смертью и страданием. Но… в галошах, с зонтиком — там можно жить». Этими словами, набранными крупным кеглем, открывался номер газеты.
Седьмая продолжала наступать, и он не мог долго засиживаться на месте. Восков возвращался в штаб ночью, диктовал Сальме несколько распоряжений, наскоро съедал свой ужин — ломоть хлеба, запивая его кружкой воды, и засыпал на рваном диване, а если диван бывал занят, устраивался на столе, за которым только что рассматривал с начштаба карту. Через час-два поднимался освеженный, разыскивал на рассвете секретаря и извиняющимся голосом говорил:
— Ты уж, товарищ Сальма, не ругай простого столяра… но только мне показалось, что наш последний приказ составлен очень уж деликатно. Давай покрепче завернем.
И «заворачивали»: «Поменьше прав и побольше обязанностей… Подальше от котлов, поближе к огню».
— Это обидит честных политработников, — предположила Сальма.
— Честные не примут на свой счет, — отрезал он. — Воспитывать могут только люди высокой личной ответственности. Размножь приказ, товарищ.
В эти первые дни девятнадцатого года, когда Седьмая армия, растекаясь по просторам Севера, отжимала германских оккупантов и белогвардейские части, Восков старался укреплять связь армии с населением, находил новые решения. Началось с Новгорода, где он собрал группу безработных репортеров и предложил им основать новую газету.
— Ее будут выпускать местный Совет и наш политотдел, — предложил он. — Информацию из полков мы вам обеспечим, а вы нам обеспечьте материалы из глубинок уезда. Только уговор: писать так, чтоб у людей глаза разгорались!
Так возникли «Новгородская звезда», «Олонецкая звезда», «Повенецкая звезда» — до самых отдаленных деревень доходили эти небольшие исчитанные странички. Восков по пути заезжал в редакции, отмечал каждую газетную удачу. Резолюцию 6-й роты 171-го полка комментировал с особым удовольствием.
— «Мы, стрелки 6-й роты, заявляем всем социал-предателям и защитникам иностранного капитала: прочь с нашей дороги!.. Мы не допустим, чтобы на нас опять надели цепи рабства. Да не будет этого никогда, пока мы, стрелки 6-й роты, живы!» Чуете? Шестая рота бросает вызов империализму! А сколько у нас таких рот!
С рассказа о молодых газетах начал он свое выступление на Первой конференции коммунистов Седьмой армии, которая избрала его председателем, а затем командировала на VIII съезд партии.
Делегатов Седьмой было свыше полутора тысяч. Заседали в большом зале Смольного. Объявив перерыв, Семен ненароком положил голову на руки и моментально уснул. Он уже не слышал, как по залу пронеслось солдатское «тс!..», как замахали руками на фотографа, щелкнувшего не вовремя затвором…
Что ему снилось? Малыши, которых он сам же отправил в степи, истоптанные махновцами? Запевало, который клялся, что ему уже «с неделю назад шестнадцать»? Или начдив, который звал его из «каши» и которому он ответил: «В штабе только после боя…»
Прозвенел колокольчик.
Двое суток передышки революция не могла ему дать, но десять минут подарила.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. РАССТАВАНИЕ
— Дали бы нашим ученикам отпуск, а нас, — мечтательно проговорила Сильва, — туда! — Рапорт, Сивка, подать, что ли? — раздумывала вслух Лена. — С другой стороны, нас еще шлифуют… — Отшлифуют, когда наши уже в Берлин войдут! Миновали зима, весна и лето насыщенного боями сорок третьего. Учащиеся «лесной» школы многое пережили, многое узнали. Никогда из их памяти не изгладится ночь с 18 на 19 января, когда не спал раскованный от блокады Ленинград и не спали они, люди, которых готовили к трудной судьбе и у которых наша армия «перехватывала» плацдарм за плацдармом. Они радовались сводкам Совинформбюро и относились к ним ревниво. — После войны будем себе объяснять: «Нас шлифовали», — горячилась Сильва. — Так, что ли? Программа тренировки усложнялась. Их знакомили и с новыми языковыми оборотами, вошедшими в обиход рейха, и с новыми образцами немецких мин. Случилось непредвиденное. Дядя Миша заметил, что один из новичков взял для опробования мину еще не проверенного действия, когда тот уже отбегал. Инструктор успел только броситься ему наперерез и прикрыть его своим телом. Юношу взрыв только оглушил. Но дядя Миша не поднимался. Когда его брали на носилки, он открыл глаза и шепотом сказал: — У разведчика руки на втором месте, на первом — ум. Да, они узнали и поняли многое. А главное — что в их работе всегда надо находить повод и случай что-то узнавать. Марина Васильевна зашла к Сильве, оставила план незнакомого города. Небрежно сказала: «Ознакомьтесь, Воскова!». Отсутствовала всего несколько минут, возвратилась, свернула план в трубочку. — У меня только три вопроса, товарищ разведчик. Сколько вокзалов в городе? Далеко ли от центра до пароходной пристани? Каким видом транспорта можно добраться от полицейпрезидиума к городской ратуше? Сильва стала пунцовой, призналась: — Я только успела понять, что город стоит на судоходной реке, а жителей порядка трехсот тысяч. Но то, о чем вы спрашиваете, наверное, нельзя изучить и за час… Марина предложила: — У вас есть записная книжка, там адреса друзей. Можете мне ее показать на пять минут? Через пять минут она отвечала Сильве на вопросы: — Майя Ратченко жила с вами в одном доме, сейчас — в Сибири. Ника Феноменов отлично успевал по алгебре. Наверное, его уже нет. Телефон вашего классного воспитателя: Ве-два-двадцать девять-шестьдесят шесть. — Все правильно. Память у вас натренированная. Понимаю. Но откуда вы знаете, что Ника был математик? — Против его фамилии карандашиком проставлены номера нерешенных вами примеров с пометкой «Ш. и В.», то есть из «Шапошникова и Вальцева». — Вы знали, что Ника убит на войне? — Нет. Но его телефонный номер обведен вами в траурную рамку. — А кто вам сказал, что Изабелла Юльевна нас выпускала? — Ее телефон записан под буквой «ш» — «школа». Обычно домашних телефонов учителя школьникам не дают. Теперь беритесь за план города и будем учиться его читать. Прошла неделя, и Сильва методично читала планы и карты. — В городе пять мостов. Один — железнодорожный. К ратушной площади ведет шесть улиц. Благоустроенного пляжа, очевидно, нет. — Верно. Как догадались? — Ни один вид транспорта не подвозит к реке. — Верно. А где может находиться гестапо? — Вероятно, рядом с тюрьмой или полицией. — А если вчитаться в план? Задумалась. Вспомнила: — Транспорт пущен в обход Грюненплац. Наверное, в связи с размещением на площади служб безопасности. Все это было слишком серьезно, чтобы казаться детской игрой. Инструктор, с которой они в последнее время перешли на «ты» и стали друг для друга «Мариной» и «Сильвой-Леной», ни разу не похвалила Сильву. Большей частью она что-то прикидывала для себя и очень сухо изрекала: «Не поверят» или: «Сойдет с очень большой натяжкой». Но 8 сентября 1943 года — Сильва хорошо запомнила число потому, что в этот день капитулировала фашистская Италия и по этому поводу кто-то из ребят сострил, что на берег Средиземного моря их уже не забросят, — Марина, выслушав очередную Сильвину «легенду», притянула ее к себе и поцеловала. Заметив недоумение Сильвы, фыркнула: — Не возомни о себе. Это не оценка, а знак расставания. — Ты уезжаешь? Куда? Как же мы без тебя? — Не я уезжаю, а ты. Начальник школы тебя вызывает — узнаешь все от него. Сильва закружилась на месте. — Не верится… Еду… Ты только скажи: за линию? — Пока нет. Но поближе к ней. Поедешь в небольшой районный центр, близ которого формируются отряды для заброски в тыл к немцам. Поучишься еще кое-чему. Возможно, я приеду туда натаскивать тебя и других. Начальник школы сообщил ей то же самое. Не назвал ни конечного пункта, ни цели отправки. Она только спросила: — С Еленой Вишняковой… разлучаете? Он с сожалением отметил: — Увы, товарищ Воскова, воинские подразделения комплектуются не по дружеским связям. Но полагаю, ваши пути с подругой еще скрестятся. И она, и Лена всплакнули. — Ничего трагичного, — сказала Лена. — Не важно, где нас шлифуют, важно, что для одной цели. — До свидания, моя хорошая. Хочешь — договоримся? — предложила Сильва. — Если после войны потеряем друг друга из виду или скоро окажемся там и… поймем, что в мирное возврата нет и что, словом, все уже, — подадим друг другу весть через Центр: «Ленсил» — «Лена и Сильва». Идет? — Идет, но без потерь. Пиши и почаще. Разыскала свой эшелон, он стоял на самом дальнем пути, предъявила документы начальнику, он бегло просмотрел. — Порядок. — Взглянул на часы. — Отправка в двадцать четыре ноль-ноль. Не исключено, что задержат. Но быть вовремя. Сядете в шестой вагон. Там теплее. — Спасибо. Не опоздаю. Стремглав домой. Застала одну бабушку. — Сильвочка… Вот хорошо… А я тебе носки теплые вяжу. — Бабушка, милая, спасибо. Только мне все выдадут. Бабушка, я уезжаю. Мама не заходила? — Навещала давеча. Пять минуток погостевала: «У нас, — говорит, — приток раненых». Пожалела я Сальму. В мое время притоки мы на карте находили и очень даже это славно было… — Бабушка, никто меня не спрашивал? — А как же, приятель твой давеча был. — Какой приятель? Миша? Володя? — Владимир Жаринов, — строго пояснила старушка. — Красивый такой и в форме. Я что могла? Я ему твой почтовый ящик дала. Обещал наведаться, если не передвинут куда в согласии с предписанием товарища генерала. — Бабушка, да откуда же он взялся?! Ты не спутала?.. — Я твоего Володьку на всех южных карточках видела, — с обидой сказала бабушка. — Что еще старухе делать тут? Вязать да карточки разглядывать. Объявился! Объявился! И сразу пропал. Эх, Володенька.. — Бабушка, а вдруг он снова появится? Я на седьмом пути воинской платформы стою. До ночи. Бабушка, повтори, пожалуйста. — А чего же повторять. Обыкновенные русские слова. Седьмая, воинская путь. В точности передам. Бережно положила на полку дневник, оставила бабушке банку сгущенного молока и банку американской тушенки, попрощалась и выбежала. Времени было в обрез, чтобы успеть в госпиталь и на вокзал. Начмед ее обескуражил: — Сожалею. Сальма Ивановна Каляева только что начала переливание крови. Как назло. Тяжелый случай. Получасом располагаете? С досадой сказала: — Мне на поезд… Ну, ничего. Вы скажите маме — я напишу. Как прибуду на место — сразу напишу. — Будет передано.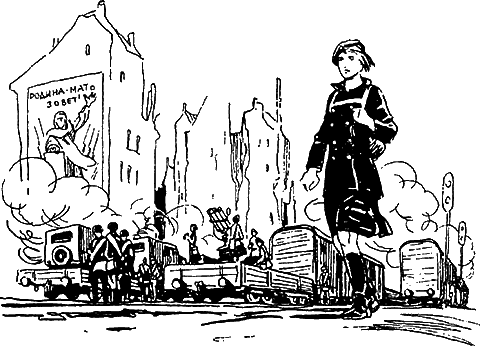 Эшелон стоял по-прежнему без паровоза. Сильва разыскала свое место, легла на верхнюю полку, вещмешок — под голову и стала думать. О маме, о Лене, о Володе. Когда она всех увидит? И когда она снова встретится с Ленинградом? Наверно, заснула, потому что вдруг увидела себя у обезьяньего питомника в Сухуми и рядом — Володю, который говорил почему-то голосом дяди Миши: «У разведчика руки на втором месте…»
Ее разбудил яркий солнечный луч, скользнувший по лицу. Кто-то в другом конце вагона сердито басил: «Держат тут, а чего держат?» Ему отвечал высокий смешливый фальцет: «Не торопись, кавалерия! А до смерти, может, четыре шага».
По вагону прошел начальник эшелона, предупредил, чтоб далеко не отходили, отбытие «вот-вот». Это «вот-вот» протянулось до вечера. Сильва дважды бегала в дежурку звонить в госпиталь, но все был занят номер, на третий раз дежурный по станции ее просто выставил: «С военного объекта звонить более не дам!» Вернулась злая-презлая. Внизу резались в карты, позвали ее, презрительно сказала:
— Вы бы еще плевали — кто дальше.
Завалилась на полку. И вдруг снизу — басок сержанта: — Здравия желаю, товарищ капитан.
— Сидите, сидите, товарищи!
Она скатилась вниз, не веря себе:
— Володя!
— Сивка! А я уж думал, не найду…
Сержант мигнул соседям, и они освободили купе.
— Хорошие у тебя соседи.
Володя говорил медленно, точно ему было тяжело двигать челюстями, ртом. Лицо потемнело, шрам на шее, а глаза — те же, довоенные, удивленные и радостные.
— Хорошие, — подтвердила она. — Как же ты меня нашел?
— Бабушку твою проведал… Потом — сюда. Уже три эшелона обошел. Как ты сюда попала? Кто ты теперь?
— А пока никто, Володечка. Но делаю все, чтобы попасть на передовую. Трудно это нам, девчонкам!
— Подожди. А разве в Ленинграде не проходил и не проходит фронт?
— Проходил. Проходит. Настоящий. Трудный. Но я воевать хочу. В точном смысле слова. Может, ты думаешь, для успокоения совести? Чтоб не назвали потом тыловой крысой? Чушь! Там, где речь идет об интересах Родины, самолюбие к черту, мужество, гордость человеческая идет по большому счету, по Горькому. Что говорить, иных устраивает звание «боец фронтового тыла». Знаю — необходимо. Но для меня лично существует первый эшелон, фронт, бой, смертельный поединок с чумой. Это — аксиома. Пошел — и все! — глубоко вздохнула. — Вот и выговорилась.
Он нежно провел ладонью по ее разгоряченному лбу.
— Там трудно. И девчоночкам, и обстрелянным. Кто ты? Куда ты едешь?
— Адрес пришлю на Кронверкскую. Узнаешь у бабушки. Только не потеряйся снова. Правда, что ты был за линией?..
Володя вдруг схватил ее под локти, поднял на воздух.
— Ну, раз Сивка не отвечает на вопрос, значит, она чего-то добилась.
— Володя, я же тебя спросила, ты был…
— А раз Володя не отвечает на вопрос, — засмеялся он, — значит, нужно взять у экзаменатора второй билет.
— Ладно, я еще тебе подкину вопросик. Кто ты там? Как с людьми уживаешься? Любят тебя или только уважают?
— Кто их знает, — сказал он смешливо, — Жаровней прозвали. В честь новой профессии и, наверно, характера.
Она напряженно спросила:
— Есть кто-нибудь, кто тебе очень нравится? Очень!
Он медленно сказал:
— Да, есть. Помнишь?
Эшелон стоял по-прежнему без паровоза. Сильва разыскала свое место, легла на верхнюю полку, вещмешок — под голову и стала думать. О маме, о Лене, о Володе. Когда она всех увидит? И когда она снова встретится с Ленинградом? Наверно, заснула, потому что вдруг увидела себя у обезьяньего питомника в Сухуми и рядом — Володю, который говорил почему-то голосом дяди Миши: «У разведчика руки на втором месте…»
Ее разбудил яркий солнечный луч, скользнувший по лицу. Кто-то в другом конце вагона сердито басил: «Держат тут, а чего держат?» Ему отвечал высокий смешливый фальцет: «Не торопись, кавалерия! А до смерти, может, четыре шага».
По вагону прошел начальник эшелона, предупредил, чтоб далеко не отходили, отбытие «вот-вот». Это «вот-вот» протянулось до вечера. Сильва дважды бегала в дежурку звонить в госпиталь, но все был занят номер, на третий раз дежурный по станции ее просто выставил: «С военного объекта звонить более не дам!» Вернулась злая-презлая. Внизу резались в карты, позвали ее, презрительно сказала:
— Вы бы еще плевали — кто дальше.
Завалилась на полку. И вдруг снизу — басок сержанта: — Здравия желаю, товарищ капитан.
— Сидите, сидите, товарищи!
Она скатилась вниз, не веря себе:
— Володя!
— Сивка! А я уж думал, не найду…
Сержант мигнул соседям, и они освободили купе.
— Хорошие у тебя соседи.
Володя говорил медленно, точно ему было тяжело двигать челюстями, ртом. Лицо потемнело, шрам на шее, а глаза — те же, довоенные, удивленные и радостные.
— Хорошие, — подтвердила она. — Как же ты меня нашел?
— Бабушку твою проведал… Потом — сюда. Уже три эшелона обошел. Как ты сюда попала? Кто ты теперь?
— А пока никто, Володечка. Но делаю все, чтобы попасть на передовую. Трудно это нам, девчонкам!
— Подожди. А разве в Ленинграде не проходил и не проходит фронт?
— Проходил. Проходит. Настоящий. Трудный. Но я воевать хочу. В точном смысле слова. Может, ты думаешь, для успокоения совести? Чтоб не назвали потом тыловой крысой? Чушь! Там, где речь идет об интересах Родины, самолюбие к черту, мужество, гордость человеческая идет по большому счету, по Горькому. Что говорить, иных устраивает звание «боец фронтового тыла». Знаю — необходимо. Но для меня лично существует первый эшелон, фронт, бой, смертельный поединок с чумой. Это — аксиома. Пошел — и все! — глубоко вздохнула. — Вот и выговорилась.
Он нежно провел ладонью по ее разгоряченному лбу.
— Там трудно. И девчоночкам, и обстрелянным. Кто ты? Куда ты едешь?
— Адрес пришлю на Кронверкскую. Узнаешь у бабушки. Только не потеряйся снова. Правда, что ты был за линией?..
Володя вдруг схватил ее под локти, поднял на воздух.
— Ну, раз Сивка не отвечает на вопрос, значит, она чего-то добилась.
— Володя, я же тебя спросила, ты был…
— А раз Володя не отвечает на вопрос, — засмеялся он, — значит, нужно взять у экзаменатора второй билет.
— Ладно, я еще тебе подкину вопросик. Кто ты там? Как с людьми уживаешься? Любят тебя или только уважают?
— Кто их знает, — сказал он смешливо, — Жаровней прозвали. В честь новой профессии и, наверно, характера.
Она напряженно спросила:
— Есть кто-нибудь, кто тебе очень нравится? Очень!
Он медленно сказал:
— Да, есть. Помнишь?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ПРИКАЗ ОПРОТЕСТОВАН
Он почувствовал что-то неладное, отставил в сторону стул, обитый китайским шелком, прошелся по толстому упругому ковру, глушившему шаги, поймал в зеркале взгляды следивших за ним людей, резко обернулся. — Я здесь представитель Реввоенсовета и хочу знать, что мешает Сводной дивизии действовать решительно и, черт побери, отважно? Сводная Балтийская была укомплектована моряками, курсантами, добровольцами Питера в поддержку измотанным в боях частям 7-й армии. Она появилась на свет в середине мая, когда Северный корпус Юденича и белоэстонская дивизия пробились в бреши между Чудским озером и Нарвой на ближние подступы к Петрограду. «Сводная» обороняла важнейший участок от Финского залива через Копорье до Балтийской железной дороги, но что-то стряслось, и линия фронта здесь начала трещать. — А может, вы просто заспались в помещичьих хоромах? — спросил Восков, желая пронять собеседников. Начдив, лениво рисовавший амурчиков, отшвырнул карандаш в сторону, встал и с достоинством ответил: — Я отказался от хоромов добровольно, товарищ член Реввоенсовета. Они сидели втроем в зале старой помещичьей усадьбы — мызы[22] Гостилицы, где начдив Сводной Балтийской расквартировал свой штаб. Восков знал, что Тарасов-Родионов, офицер царской армии, отличался всегда смелостью и независимостью суждений. Пренебрегая выпадами своих бывших друзей, он примкнул к революции и даже принимал участие в аресте царской семьи. Начдив — «военная косточка» и отлично понимал, чем чреват прорыв фронта. В третьем участнике их беседы Семен был уверен, как в самом себе. Комиссар дивизии Николай Карпов вел большевистскую пропаганду еще в старой армии, за что был перед строем разжалован в рядовые, впоследствии участвовал в создании Красной гвардии, выполнял личные директивы Ленина. Что же случилось, почему молчат эти люди? Наконец заговорил Карпов: — Семен Петрович, мы просили в штабе хотя бы небольшое подкрепление, но начдиву ответили так, что больше уж не захотелось разговаривать. — Не успеваем мы толком изучить один рубеж, как нас перебрасывают на другой, — с раздражением заметил Тарасов-Родионов. — Для опытных штабников это непростительная ошибка. Восков покачал головой. — А все же дивизию надо укреплять снизу. Займитесь этим, чаще будьте с бойцами, пусть помнят, что Петроград в большой опасности. Пополнение дивизии — моя забота. Я остаюсь у вас надолго. Сразу же он выехал в штабарм. Начальник штаба выслушал его, фыркнул: — Ваш Тарасов-Родионов стишки пописывал, к салонному обращению привык, а у меня здесь не салон… — Вы тоже, кажется, из салонной среды, — насмешливо сказал Восков, которого уже насторожило поведение штабников. — Извольте говорить с людьми так, чтобы они понимали вас и мотивы вашего отказа, а не отбивать у них охоту к вам обращаться. Есть у вас свободные люди для сводной дивизии? — Только я, — раздраженно сказал начштаба. — У нас даже связные отправлены на позиции. — Хорошо, я обращусь к питерцам. Но не вздумайте снова перебрасывать моряков. Впоследствии подозрения Воскова подтвердились. Начальник штаба был разоблачен как предатель. И снова его друзья-сестроречане разъезжали по заводам, сколачивали отряды. Он приехал в компрод.
— Ребята! — весело сказал он. — Вот и пришла пора нам слиться в один организм. Кого можно из нашего уездного актива — под ружье и в сводную?
Он сам встречал группы добровольцев на дорогах и в селах, тут же устраивал короткие митинги.
— Послушай, товарищ, — обращался к кому-нибудь в толпе. — Ты стадо коров до революции имел?
— Да ни боже мой! — смущался парень.
— А может, у тебя фабрика была? — допекал его Восков.
Люди смеялись, и он поднимал кулак кверху:
— Затем мы и идем с вами в бой и, может, на смерть, товарищи, чтобы и стада, и фабрики у нас были — вот у тебя и у него!
Карпов как-то ему сказал:
— И черт его знает, откуда вы таких хороших парней добываете, Семен Петрович?
— Ими земля полнится, — ответил тот. — Да ты не крути, комиссар, что-то еще попросить хочешь, по глазам вижу.
— Целый батальон питерцы прислали, — вздохнул Карпов, — а на каждые сто человек всего одна пара нижнего белья. Помыть бы их да одеть, а у нас ни рубах, ни мыла.
И опять он уехал в Петроград. Пришел к чекистам, добился разрешения для рабочих провести несколько облав на спекулянтов. В дивизию вернулся в сопровождении двух грузовых машин.
— Это вам подарок от чекистов и рабочих, — сказал он гордо. — Белье и мыло. Объявляйте по дивизии «банный час». Только чтоб по очереди, а то нам белые поддадут пару…
Услышал далекую пальбу, тут же сел в коляску к мотоциклисту. Карпов догнал его в воротах усадьбы.
— Погодите, товарищ член Реввоенсовета. Вы куда?
— А туда, где стреляют. Где место комиссара?
— Вы не шутите, Семен Петрович. Я только с батареи. Курсанты уже бьют прямой наводкой. Беляки наступают.
— Ну, раз ты смог, Карпов, у них погостить, чем я хуже?
Уехал. Вернулся к ночи, измазанный в глине, — видно, лежал в окопе, — помрачневший, морщины на лбу опять прорезались.
— Плохо, начдив, плохо. Сдрейфили курсанты. Батарея фронт оголила.
— Послать туда роту?
— Пока держим, хочу заставить паршивцев рубеж обратно взять. Как отдали — так пусть и возьмут. Это район Копорья, самый что ни на есть важнецкий.
Двое суток, метр за метром, курсанты продвигались вместе с батареей обратно на исходный рубеж. Пока были холмы и ложбины, двигались. А вышли на ровное место — и застряли.
— Мы не можем тут остановиться, — объяснял он молодым бойцам. — Нас же через час отсюда сгонят. Больше храбрости!
А они не могли подняться. Даже вслед за ним.
Но тут на дороге показался рабочий отряд. Пригнувшись, побежал навстречу, хрипло закричал Карпову:
— Молодец, что привел их. Придется сразу в бой, товарищи! Юнцы должны увидеть, что значит любить свою власть.
Он знал, что делает. Один за другим курсанты начали подниматься из наскоро сделанных окопчиков. На ровной, хорошо простреливаемой местности они ринулись вместе с подкреплением в стремительную атаку. Белые усилили огонь. Восков на ходу приказал рабочему отряду наступать с флангов, а курсантов повел напрямик. В этот момент наперерез им из ложбинки выскочил небольшой конный разъезд белогвардейцев и стал оттеснять группу курсантов, в которой был и Восков. Успевшие вырваться вперед остановились, хотели поспешить на выручку.
— Вперед! — крикнул Восков. — Гнать их, гадов!
Они услышали, поняли, продолжили атаку. А он приказал товарищам не стрелять, ждать, пока всадники приблизятся.
«Пора бы, а?» — жалобно всхлипнул рябой паренек, с ужасом наблюдавший, как круг сжимается. «Живыми выйдем, — шептал Восков, — а кто поспешит, тут и ляжет». Белоконники решили, что у красных кончились патроны, стали полукругом, двое спешились, и вот тогда по знаку Воскова ребята закидали их гранатами.
И снова его друзья-сестроречане разъезжали по заводам, сколачивали отряды. Он приехал в компрод.
— Ребята! — весело сказал он. — Вот и пришла пора нам слиться в один организм. Кого можно из нашего уездного актива — под ружье и в сводную?
Он сам встречал группы добровольцев на дорогах и в селах, тут же устраивал короткие митинги.
— Послушай, товарищ, — обращался к кому-нибудь в толпе. — Ты стадо коров до революции имел?
— Да ни боже мой! — смущался парень.
— А может, у тебя фабрика была? — допекал его Восков.
Люди смеялись, и он поднимал кулак кверху:
— Затем мы и идем с вами в бой и, может, на смерть, товарищи, чтобы и стада, и фабрики у нас были — вот у тебя и у него!
Карпов как-то ему сказал:
— И черт его знает, откуда вы таких хороших парней добываете, Семен Петрович?
— Ими земля полнится, — ответил тот. — Да ты не крути, комиссар, что-то еще попросить хочешь, по глазам вижу.
— Целый батальон питерцы прислали, — вздохнул Карпов, — а на каждые сто человек всего одна пара нижнего белья. Помыть бы их да одеть, а у нас ни рубах, ни мыла.
И опять он уехал в Петроград. Пришел к чекистам, добился разрешения для рабочих провести несколько облав на спекулянтов. В дивизию вернулся в сопровождении двух грузовых машин.
— Это вам подарок от чекистов и рабочих, — сказал он гордо. — Белье и мыло. Объявляйте по дивизии «банный час». Только чтоб по очереди, а то нам белые поддадут пару…
Услышал далекую пальбу, тут же сел в коляску к мотоциклисту. Карпов догнал его в воротах усадьбы.
— Погодите, товарищ член Реввоенсовета. Вы куда?
— А туда, где стреляют. Где место комиссара?
— Вы не шутите, Семен Петрович. Я только с батареи. Курсанты уже бьют прямой наводкой. Беляки наступают.
— Ну, раз ты смог, Карпов, у них погостить, чем я хуже?
Уехал. Вернулся к ночи, измазанный в глине, — видно, лежал в окопе, — помрачневший, морщины на лбу опять прорезались.
— Плохо, начдив, плохо. Сдрейфили курсанты. Батарея фронт оголила.
— Послать туда роту?
— Пока держим, хочу заставить паршивцев рубеж обратно взять. Как отдали — так пусть и возьмут. Это район Копорья, самый что ни на есть важнецкий.
Двое суток, метр за метром, курсанты продвигались вместе с батареей обратно на исходный рубеж. Пока были холмы и ложбины, двигались. А вышли на ровное место — и застряли.
— Мы не можем тут остановиться, — объяснял он молодым бойцам. — Нас же через час отсюда сгонят. Больше храбрости!
А они не могли подняться. Даже вслед за ним.
Но тут на дороге показался рабочий отряд. Пригнувшись, побежал навстречу, хрипло закричал Карпову:
— Молодец, что привел их. Придется сразу в бой, товарищи! Юнцы должны увидеть, что значит любить свою власть.
Он знал, что делает. Один за другим курсанты начали подниматься из наскоро сделанных окопчиков. На ровной, хорошо простреливаемой местности они ринулись вместе с подкреплением в стремительную атаку. Белые усилили огонь. Восков на ходу приказал рабочему отряду наступать с флангов, а курсантов повел напрямик. В этот момент наперерез им из ложбинки выскочил небольшой конный разъезд белогвардейцев и стал оттеснять группу курсантов, в которой был и Восков. Успевшие вырваться вперед остановились, хотели поспешить на выручку.
— Вперед! — крикнул Восков. — Гнать их, гадов!
Они услышали, поняли, продолжили атаку. А он приказал товарищам не стрелять, ждать, пока всадники приблизятся.
«Пора бы, а?» — жалобно всхлипнул рябой паренек, с ужасом наблюдавший, как круг сжимается. «Живыми выйдем, — шептал Восков, — а кто поспешит, тут и ляжет». Белоконники решили, что у красных кончились патроны, стали полукругом, двое спешились, и вот тогда по знаку Воскова ребята закидали их гранатами.
 На четвертые сутки, когда Тарасов-Родионов и Карпов беседовали на мызе с начальником разведки дивизии, распахнулась дверь — и в штаб вошел Восков. Вид у него был подтянутый, портупеи аккуратно сидели.
— Прорыв ликвидировали, — проговорил он с трудом. — Вот не знаю, надолго ли… Очень жмут, мерзавцы.
И как стоял — упал.
— Доктора или сестру милосердия! — крикнул Карпов.
Ворвалась худенькая остроносая девчушка, легко пробежала пальцами по голове лежачего, растегнула куртку, осмотрела его, приложила ухо к сердцу.
— Пулевого отверстия нет. Человек элементарно спит. Дикое переутомление.
Через два часа он поднялся как ни в чем не бывало. Отстегнул портупею, кобуру, сбросил бушлат, подошел к умывальнику, тщательно растер холодной водой лицо, бритую голову, шею, с удовольствием похлопал себя шершавым полотенцем, и тогда подошел к столу, за которым сидели молчаливые, нахохлившиеся комиссар и начдив.
— Что за траур? — бодро спросил он. — Какие новости у разведки?
— Копорье нам не удержать, — бесстрастно сказал начдив, — как бы мы с вами ни старались и какой бы личный пример солдатам ни являли. Разведка сообщила о неожиданных подкреплениях, которые получают на нашем участке войска Юденича. Не думаю, что при этом имело бы смысл держаться за любой населенный пункт вне учета общей стратегии фронта и возможных тяжелых потерь в людской силе, которой нам и без того недостает.
Восков видел, что комиссар с трудом себя сдерживает, чтобы не крикнуть, не нагрубить.
— Я решил сдать Копорье, — заключил Тарасов-Родионов. — Приказ заготовлен. И штабарм как будто не возражает.
— А что скажет комиссар? — спокойно спросил Восков.
— Приказа такого не подпишу, — медленно сказал Карпов. — Сдать Копорье — значит откатиться к Петергофу. А Петергоф на сегодня — это морские ворота в Питер. Не подпишу!
— У вас нет военного образования, товарищ комиссар, — вежливо сказал начдив. — Нас обложат с четырех сторон и завяжут на мешочке узелочек.
— До прихода подкрепления нужно стоять насмерть! — закричал Карпов. — Питер за нами, товарищ начдив. Питер нам дороже престижа начштабарма. Питер — это революция.
Начдив пожал плечами, ожидая ответа Воскова.
— Да, — сказал Семен, — наверно, ничего не выйдет с вашим приказом, товарищ начдив. Даже если и Карпов подпишет, я опротестую. Хотя и нет у меня военного образования.
— Вы превышаете данные вам полномочия, — вспылил начдив. — Я обращусь в Реввоенсовет Западного фронта.
Семен глубоко вобрал в себя воздух:
— До чего же вы сейчас недальновидны, начдив… Или штабники вас запутали? А может быть, проще — ваше военное образование не опиралось на такой фактор, как пролетарский энтузиазм?
Встал. Застегнул портупею.
— Ну, пусть я не в счет, Карпов не в счет… А дивизия? Балтийцы? Отступят они сейчас? Ну-ка, зачитайте свой приказ в любой роте — отступят? Советую еще раз подумать.
— Я все обдумал.
Начдив ушел, хлопнув дверью.
Копорье не было сдано. В Реввоенсовете Западного фронта, узнав о разногласиях в Сводной Балтийской, начдива отозвали.
И снова Восков был с курсантами, отбивая пятидесятую или шестидесятую — он уже потерял счет — атаку белых.
— Товарищ комиссар, — сказали ему, — начдив-шесть вас спрашивает. Новый.
— Кто такой?
— Петр Солодухин. Шенкурск[23] брал.
Он пополз окопчиками к ложбине, потом выбрался в рощу. Там стояла группа людей, рассматривая в бинокль позиции. Восков подошел, представился. От группы отделился плотного сложения человек с живым любопытным взглядом, крепко сжал ему руку.
— Солодухин. Когда-то в Смольном виделись. Будем воевать вместе. — Заметил лихорадочный блеск в глазах Воскова, тяжелое дыхание. — Заменить вас, комиссар? Голодны?
Восков облизал пересохшие губы.
— Глоток воды, начдив. И обратно потопаю.
На четвертые сутки, когда Тарасов-Родионов и Карпов беседовали на мызе с начальником разведки дивизии, распахнулась дверь — и в штаб вошел Восков. Вид у него был подтянутый, портупеи аккуратно сидели.
— Прорыв ликвидировали, — проговорил он с трудом. — Вот не знаю, надолго ли… Очень жмут, мерзавцы.
И как стоял — упал.
— Доктора или сестру милосердия! — крикнул Карпов.
Ворвалась худенькая остроносая девчушка, легко пробежала пальцами по голове лежачего, растегнула куртку, осмотрела его, приложила ухо к сердцу.
— Пулевого отверстия нет. Человек элементарно спит. Дикое переутомление.
Через два часа он поднялся как ни в чем не бывало. Отстегнул портупею, кобуру, сбросил бушлат, подошел к умывальнику, тщательно растер холодной водой лицо, бритую голову, шею, с удовольствием похлопал себя шершавым полотенцем, и тогда подошел к столу, за которым сидели молчаливые, нахохлившиеся комиссар и начдив.
— Что за траур? — бодро спросил он. — Какие новости у разведки?
— Копорье нам не удержать, — бесстрастно сказал начдив, — как бы мы с вами ни старались и какой бы личный пример солдатам ни являли. Разведка сообщила о неожиданных подкреплениях, которые получают на нашем участке войска Юденича. Не думаю, что при этом имело бы смысл держаться за любой населенный пункт вне учета общей стратегии фронта и возможных тяжелых потерь в людской силе, которой нам и без того недостает.
Восков видел, что комиссар с трудом себя сдерживает, чтобы не крикнуть, не нагрубить.
— Я решил сдать Копорье, — заключил Тарасов-Родионов. — Приказ заготовлен. И штабарм как будто не возражает.
— А что скажет комиссар? — спокойно спросил Восков.
— Приказа такого не подпишу, — медленно сказал Карпов. — Сдать Копорье — значит откатиться к Петергофу. А Петергоф на сегодня — это морские ворота в Питер. Не подпишу!
— У вас нет военного образования, товарищ комиссар, — вежливо сказал начдив. — Нас обложат с четырех сторон и завяжут на мешочке узелочек.
— До прихода подкрепления нужно стоять насмерть! — закричал Карпов. — Питер за нами, товарищ начдив. Питер нам дороже престижа начштабарма. Питер — это революция.
Начдив пожал плечами, ожидая ответа Воскова.
— Да, — сказал Семен, — наверно, ничего не выйдет с вашим приказом, товарищ начдив. Даже если и Карпов подпишет, я опротестую. Хотя и нет у меня военного образования.
— Вы превышаете данные вам полномочия, — вспылил начдив. — Я обращусь в Реввоенсовет Западного фронта.
Семен глубоко вобрал в себя воздух:
— До чего же вы сейчас недальновидны, начдив… Или штабники вас запутали? А может быть, проще — ваше военное образование не опиралось на такой фактор, как пролетарский энтузиазм?
Встал. Застегнул портупею.
— Ну, пусть я не в счет, Карпов не в счет… А дивизия? Балтийцы? Отступят они сейчас? Ну-ка, зачитайте свой приказ в любой роте — отступят? Советую еще раз подумать.
— Я все обдумал.
Начдив ушел, хлопнув дверью.
Копорье не было сдано. В Реввоенсовете Западного фронта, узнав о разногласиях в Сводной Балтийской, начдива отозвали.
И снова Восков был с курсантами, отбивая пятидесятую или шестидесятую — он уже потерял счет — атаку белых.
— Товарищ комиссар, — сказали ему, — начдив-шесть вас спрашивает. Новый.
— Кто такой?
— Петр Солодухин. Шенкурск[23] брал.
Он пополз окопчиками к ложбине, потом выбрался в рощу. Там стояла группа людей, рассматривая в бинокль позиции. Восков подошел, представился. От группы отделился плотного сложения человек с живым любопытным взглядом, крепко сжал ему руку.
— Солодухин. Когда-то в Смольном виделись. Будем воевать вместе. — Заметил лихорадочный блеск в глазах Воскова, тяжелое дыхание. — Заменить вас, комиссар? Голодны?
Восков облизал пересохшие губы.
— Глоток воды, начдив. И обратно потопаю.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕВУШКА В ШТАТСКОМ
Глоток воды бы! И можно продолжать дальше. Но она знает — инструктор сощурится, посмотрит многозначительно на часы и скажет: «Не уверен, что в ходе рукопашной схватки гитлеровец любезно предложит вам стакан воды!» Все верно! И что десять потов с них сходит — тоже верно. Сейчас от тебя требуется пустяк: с рацией на плече бесшумно подкрасться за семь — десять секунд к инструктору, зажать ему рот кляпом, «обезвредить» ударом пистолета или, судя по обстоятельствам, финки, успеть в последующие пять секунд добежать до распахнутого окна домика, перекинуть свое тело через подоконник и, едва обернувшись, выстрелить из своего «ТТ», поразив с двадцати метров чучело в голову. Успеешь и поразишь цель — хорошо, опоздаешь или промахнешься — будешь подкрадываться снова и снова, «обезвреживать» снова и снова, стрелять снова и снова. — С вами все ясно, Воскова. Будем отрабатывать технику прыжка. По-моему, рацией вы задели за подоконник. А рацию надо беречь — как? — Как жизнь, товарищ инструктор. — С теорией у вас лучше. Значит, сейчас — прыжки с «Северком» и без него. Вечером поработаем с «ТТ». — А разве?.. — Нет, нет, при свете дня вы бьете метко. Но мне нужно, чтобы вы попадали, так сказать, на звук голоса. Прыжки. Наверное, они ночью приснятся. И не раз, и не два. Тело стало послушным. И «Северком» ты ни за что не задеваешь. Но инструктор еще не говорит спасительного «Вольно!». Пять секунд… шесть… десять… Теперь резко обернись и молниеносно вскинь пистолет… — Вольно. Отработано. До вечера. Вечером, в подвале, без света, она бьет по квакающей механической лягушке, которая движется то вдоль стенки, то под самым потолком, и только когда вспыхнет свет, они с инструктором снимают с игрушки лист мишени и подсчитывают вмятины. — Восемь из десяти. Неплохо, а? — торжествует Сивка. — От души желаю, — инструктор не уступает позиций, — чтобы встреч с невоображаемым противником было не больше восьми. — Намек понят и принят! — Теперь «око видит, да зуб неймет», — предлагает инструктор. Это — формула еще одной тренировки. Пистолет — под курткой и ты спускаешь курок тоже под курткой. Глаз подает команду руке, и она должна видеть, засечь и подсечь «врага». А затем наступает самый тяжелый момент, когда все эти операции ты должна проделать в полумраке, и лучше отогнать от себя ненужную мысль о том, может ли это пригодиться и в каких условиях. — Неплохо… А поточнее? Еще поточнее! «Дорогая мамочка! — писала она в этот вечер. — Городок, где я сейчас, мне очень нравится — чем-то напоминает наш альпинистский Нальчик, с которым было связано столько светлого. Расположен он на горе, довольно зеленый, много больших и хороших зданий. И главное, бросается в глаза много публики, спокойной и не нервной. Я думала, что не замечу этого, однако ловила себя на этой мысли даже в городской бане, где бабы спокойно пропускают без очереди спешащих девушек, не ругаются из-за шаек и воды. Сказать, что войны не чувствуется, вроде нельзя, но в общем — что-то вроде этого…» А мы в таких изматывающих тренировках, мамочка! Но об этом я не буду писать. «Все очень интересуются Ленинградом, но, рассказывая, приходится следить, чтобы особо не сгущать краски — уж очень слушают, да и думают, что у нас там ад кромешный. Ведь нет…» — Воскова! На работу с рацией! — Есть! Бегу! Маленький ящичек со скромным названием «Север» великолепно принимает сигналы. Но сегодня сплошные трески. Черт возьми, не иначе, инструктор повынимала проводнички. Поставим новые. — Воскова, время! — Есть время! А оно уже на исходе. Кажется, успела. — Отфильтруйте шумы! Знаю, знаю. Но сегодня в эфире ураган. Идут победные сводки Совинформбюро. Весь мир настроен на наши волны. Но сейчас мне нужно выделить из них всего лишь скромненький позывной: «Лесная… Лесная…» Настоящая «Лесная» осталась там, в осажденном городе, но дорогое имя нашей военной альма матер мы привезли с собой… «…Милым местом, — пишет она Лене, — является лес, в который я часто хожу одна, часто брожу по холмам, с жадностью вдыхая осенний воздух. Много ягод…» Интересно, такие же у вас адские тренировки и адски муштрующие вас инструктора? Но об этом ты вряд ли напишешь…А с одной тренировкой я чуть не оконфузилась. Но об этом тоже не напишу. Когда она прибыла в этот зеленый городок, близкий к фронтовой полосе, ей сказали: — В городок можете выходить, но помните: вы сугубо штатская. Опробуйте разные варианты своей легенды на знакомых, кто встретится. Дайте волю фантазии. Неплохая тренировка. Встретила подругу. Когда-то играли в одной волейбольной команде. Та страшно обрадовалась, затащила Сильву к себе домой, познакомила с родителями, сели все вместе обедать. Папа, бухгалтер исполкома, поинтересовался: — Какими судьбами у нас? — К тете приехала погостить. Отъедаться. И сразу поняла, что сморозила глупость. Из осажденного города в этот прифронтовой гостить не приезжали и не эвакуировались. Попыталась поправить дела: — Родных больше нигде нет, на «авось» ехать страшно было. Глава семьи аккуратно вытер рот салфеточкой: — Далеко поселились? — В Угловке тетя живет. Швея. Помолчала. Еще спросил: — Чем заняты? — Тоже швеей на днях взяли. Он встал из-за стола, поблагодарил за обед, прихрамывая, вышел в соседнюю комнату, вызвал туда дочь, долго говорил о чем-то, та вернулась расстроенная, только на улице пояснила Сильве: — Ты показалась отцу подозрительной. Он сказал, что в твоих разговорах концы с концами не сходятся. — Что же не сходится? — спросила спокойно. — Ну, ты швея, новенькая, а пальцы не исколоты. В Угловке поселилась, а сапожки начищены, будто ты улицу только перешла. А от Угловки до нас грязь морем разлитая. — А еще, еще что? — Да брось ты, — утешала ее подруга. — Папка у меня партизанил. С полгода, как демобилизовался. Он и ко мне придирается — всегда знает, когда я вру. — Значит, ты тоже думаешь, что я вру? — Да брось ты… Мало ли что кому покажется. Она пришла в часть и честно рассказала инструктору, что на первой же встрече «провалилась». — Бывает, — засмеялся он. — Ваше счастье, что нет Марины Васильевны. А вообще «легендочка» должна быть проработана. — Я исправлю, — вдруг пообещала она. — Я заставлю его поверить. Пришла к подруге с ворохом тряпок, предложила сделать ей к платьям разные вставочки. Увлеченно продолжала этот разговор за столом. Увидев висевшую «на честном слове» пуговицу на тужурке у папы-партизана, сказала, что это вызывает у нее «профессиональное раздражение». Выдернув иголку с ниткой с отворота своей блузки, несколькими наметанными движениями укрепила пуговицу, прочла письмо от матери, благодарившей незнакомую ей семью за внимание к дочери… — Вот сегодня вы, Сильвия Семеновна, — сказал с легкой улыбкой папа, — совсем не такое скрытное существо, как показались мне при первой встрече. Девочки, приглашаю вас обеих в театр. Шли «Русские люди» Симонова. Перед началом второго акта один из актеров, в гриме, вышел перед занавесом и, волнуясь, путая слова, объявил: — Товарищи зрители… То есть радиослушатели… То есть просто товарищи! По радио только что передали. Сегодня освобожден город Новороссийск. Восемнадцатой армией и черноморским десантом! Люди поднялись с мест, зааплодировали. Соседи пожимали друг другу руки. «Сегодня такой мировой день, — писала Сильва домой, — сообщили о взятии Новороссийска, да еще так торжественно, в антракте между двумя действиями… Слова здесь нужны такие чудесные, могучие, чтобы говорить о развертывающейся Победе…» Она не написала только, что отец подруги, крепко пожав ей руку, сердечно сказал: — Для нас двоих это особенный праздник. Для меня — как вчерашнего партизана, для вас — как завтрашнего. Угадал, не угадал — молчите, все равно сказать не можете. И вот что, коллега, сегодня вы «работали» с огоньком, с выдумкой — не то, что в день нашего знакомства.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. ЗАПЕВАЛА ОСТАЕТСЯ С ПЕТРОГРАДОМ
— Не разглядел я комиссара, — рассказывал молодой балтиец под смех товарищей. — Мы уже на форту, а бронелетучка все шпарит да шпарит. Я ему кричу, Воскову, значит: «Беги, братишка, на бронелетучку, прекращай огонь». Что ты думаешь? Побежал! А потом вернулся и доложил: «Твой приказ, братишка, исполнен. Чего еще надо? Командуй!» С балтийскими моряками Восков брал штурмом Красную Горку, с бойцами Солодухина шел на Ямбург. В один из летних дней девятнадцатого года Реввоенсовет Западного фронта предложил комиссару взять на себя управление тылом Междуозерного участка. — Нам нужно быть спокойными за подступы к Петрограду, — пояснили ему. — И еще учти: в Межозерье полно укрывающихся от мобилизации и дезертиров. Каждая пара рук сейчас на счету. — Полк мне придадите? — спросил он. — А хоть дивизию, — засмеялся член Совета. — Что скомплектуешь — все твое. Потому тебя и направляем, товарищ Восков, что умеешь ты на пустом месте армию создавать. Огорчение скрыл за шуткой: — Мужик на ярмарку телку возил, да в хлев за ней забежать забыл. Так и я — командарм без армии. Зашел в политотдел попрощаться с товарищами. Поискал Сальму, но она была в отъезде. Боясь признаться себе, что ему нравится эта смелая и самолюбивая девушка, сел за письмо к ней. Старался соблюсти сугубо деловой тон. Пора, пора ей взяться за самостоятельную работу. Какие у нее сомнения? «Позвольте, дорогой товарищ, — писал он своим размашистым почерком, — возмутиться категорическим отказом быть комиссаром санчасти. Считаю эту работу более важной и интересной…» Они знали — должность военного комиссара была для него самой прекрасной на земле. Вспомнил вдруг оброненную Сальмой фразу: «А если душа в лирику ударилась?» Задумался, дописал в письме к секретарю политотдела: «Мой долг тебя предупредить, что настроение чепуха. Да так оно и есть. Долой, долой лирику, настроение, да здравствует борьба, беспощадная, суровая, безграничная и многогранная, классовая революционная борьба. В ней должна потонуть наша личность, наше „я“, наши личные мечты, думы и желания. Иначе она ослабеет…» Заклеил конверт и грустно улыбнулся: что же ты, Семен проходишь мимо своего счастья… Ты, наверно, большой чудак, Семен. Порви письмо, пока не поздно. Но он задремал. А когда проснулся, увидел, что почта со стола связным штабарма уже взята и, скорее всего, отправлена. Обругал себя «старым утюгом», хотя ему еще тридцати не стукнуло, а поехал — куда? — конечно же, к сестроречанам. На заводе были уже новые люди, прежних его товарищей раскидало по фронтам. Он узнавал в членах завкома, в партийных активистах ребят, которых два года назад учил ремеслу и искусству революционных боев, гимназистов, которым помог встать на ноги в борьбе с «бывшими». Имя Воскова здесь знали и помнили. Идти с ним в поход по Межозерью вызвались многие. Он отобрал два десятка рекомендованных ему молодых рабочих и выехал с ними на перешеек. Несколько красноармейцев выделил под его команду расквартированный здесь полк и с этой первой ячейкой будущей армии петроградского тыла Восков начал поход. — Вот что, товарищи, — предупредил он. — Нам предстоит очень скучная и, как бы это лучше сказать, нудная работа. Вылавливать дезертиров, отправлять в армию колеблющихся, улучшать продовольственное снабжение фронтовых частей. Но тем и отличаются коммунисты, что за любой черновой работой они способны усмотреть красоту и наслаждение нашей великой борьбы. У кого слабые нервы — не держим. Отряд «прочесывал» уездные и волостные центры, села, хутора. И всюду Восков начинал с бесед. Крестьяне любили его слушать. Он рассказывал о своих встречах с Лениным, о боях и победах Красной Армии, о том, как преодолеваются продовольственные затруднения. — Знамо как! — крикнули в толпе — Масленницу отмените, вот на блинах и економия будя. — Как недавний комиссар продовольствия, — отбрил он пустомелю, — заявляю: блины большевики не отменят. Отменят только дурачье, которое хочет, чтобы блины сами в рот прыгали. Мы не фокусники, уважаемые. Мы люди дела. Случалось, после этих летучих митингов к нему подходили группами и поодиночке дезертиры, просили «записать обратно» в армию. Отряд отправлял их с «сопроводиловкой» в Петроград, и Восков знал, что конвоира им не нужно. Обнаружив в одном из сараев группу дезертиров, он собрал семьи, отдавшие своих сыновей фронту. Привел их к сараю и сказал: — Как порешите — так тому и быть. Можно, чтоб гнили у вас на соломе, можно их с конвоем в город отправить. — Зачем в город? — сказал высокий седобородый крестьянин: — Здесь порешим. — И вдруг к плетню подошел, кол не спеша выдрал, затрясся в ярости. — Три похоронных бумаги получил. На Федьку, Йорика и Сильвестра. За вас, шкуры, они полегли? Подходи по одному на суд народный и скорый. Вылазь из сарая, дезертирия! Парни выскочили, не зная куда глаза спрятать. Выступили чуть ли не все односельчане. Каждый второй говорил: «Смерть ползучим!». Потом на пенек встал один из тех, кого судили: — Мы что ж? — сказал он тоскливо. — Ошиблись. Домой потянуло. Пощадите, односельчане. Воевать будем не за страх, а за совесть. Восков посылал вагоны с продовольствием в Петроград, и на вагонах размашисто расписывался мелком: «В фонд разгрома Юденича. С. Восков». Душа его была со своей Седьмой, измотанной в боях под Псковом, Копорьем, Ямбургом. И вдруг — новый перевод. В июле действия Седьмой активизировались на эстонском плацдарме, отсюда красные полки развертывали наступление на Порхов–Псков, оттесняя белогвардейцев в мешок, уготованный другими частями. Восков приехал, как любил подшучивать, в самый раз, чтоб не прозевать бой. Вел в наступление часть через деревню Щучья Гора. Вел по растоптанным посевам, полевым цветам. Душа не могла смириться. Крикнул соседу: — Если б не война, Сафаров! Видишь, природа-то налилась как! Сколько счастья можно бы найти. — Ты чего? — опешил Сафаров. — Ты эту лирику того, выбрось из головы. Ишь размечтался… Восков ответил смехом — это были его же слова: долой лирику, да здравствует беспощадная… Но лирика продолжала вторгаться. На привале оказался со своими «политотдельцами», увидел Сальму, обрадовался встрече, засыпал вопросами, поздравил с тем, что одно время она успешно действовала как завполитотделом 6-й дивизии. — Хватит обо мне, — сказала Сальма. — Расскажи о себе, Семен Петрович. В письмах ты больше о мировой революции печешься. — А что о себе? Вот Псков возьмем, и буду на деникинский фронт проситься. Там сейчас горячее. Многие товарищи со мной хотят ехать. Запевало настроился. — Помню, — сказала она, посмотрела ему в глаза, — а я тоже хочу проситься на деникинский фронт. Он растерялся, сказал, что не забудет, крепко пожал ей руку, мешковато влез на коня, ускакал. Верно, не забыл. Ночью проснулся, радостно сказал себе: «А Запевало и Каляева будут полезны на Южном фронте». Но случилось немного иначе. Бронепоезд, в котором оказался Восков, застрял у полуразрушенного моста. Можно было рискнуть поехать, но только убедившись, что пролет не минирован. И вот двух человек, спрыгнувших с поезда на разведку, белогвардейцы подбили. Наступило короткое затишье — обе стороны выжидали. Восков вдруг увидел, как с задней платформы бронепоезда прыгает под насыпь очень знакомый боец, нацепляет на себя каску, обвешивается гранатами, и, подождав, пока к нему подкатится с насыпи все отделение, отправляется через реку вброд, чтобы ударить на белых с тыла. — Запевало! — вырвалось у Семена.
— А вы откуда его знаете, товарищ военком? Ну да, он у нас во всем запевала: и в бою, и в песнях.
— Да нет, это фамилия у него такая — Запевало.
Яростная перестрелка. Пулеметные очереди. Видно, как на противоположном берегу Кэби белые выбираются из окопов и карабкаются вверх по склону.
Через четверть часа приносят Запевало. Он ранен навылет в живот. Стонет, хрипит, мечется. Открыл глаза, узнал военкома, слабо улыбнулся.
— Вот и все, комиссар. Запевало с тобою не поедет, Запевало остается с Петроградом.
— Запевало! — вырвалось у Семена.
— А вы откуда его знаете, товарищ военком? Ну да, он у нас во всем запевала: и в бою, и в песнях.
— Да нет, это фамилия у него такая — Запевало.
Яростная перестрелка. Пулеметные очереди. Видно, как на противоположном берегу Кэби белые выбираются из окопов и карабкаются вверх по склону.
Через четверть часа приносят Запевало. Он ранен навылет в живот. Стонет, хрипит, мечется. Открыл глаза, узнал военкома, слабо улыбнулся.
— Вот и все, комиссар. Запевало с тобою не поедет, Запевало остается с Петроградом.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. РАПОРТЫ И СТИХИ
Она поедет. Полетит. Поползет. Куда прикажут. Только прикажите! «Время непростительно пусто уходит, — жалуется она подруге. — Но удочка закинута, время должно вытащить какую ни на есть рыбешку». Кривая настроения движется большими зигзагами: «Ленка, знаешь что, мне кажется, что ничего у нас с тобой так и не выйдет… Что-то больно дорожат нами». Просвет! «Пообещали мне это дело быстро сделать — как получится, то сразу извещу тебя». Но извещать пока не о чем. Ни Лену, ни маму, ни Ивана Михайловича, который что-то давно не подает о себе вестей. «Теперь убеждена, — пишет она матери, — что самое трудное дело в жизни — осуществление своей мечты в самых неблагоприятных для нее условиях». И наконец, многообещающее Лене: «Рапорт я написала… Попробуй подгадать со своим. Дух такой: если не туда, то в действующую Красную Армию». А лучше бы туда. Оттуда иногда прилетают молчаливые, безмерно усталые ребята и девчата, отдают короткие рапорта командованию и валятся спать: на сутки, а то и на двое. Сейчас Сильва уже не в городе, она — на перевалочной базе. Начальство сочло, что ей нужно пообщаться с теми, кто уже побывал в тылу у гитлеровцев. Собственно, решила так Марина, а Марину здесь уважают. Она очень редко рассказывает о себе, разве что проговорится, как сегодня. Сегодня она, например, сказала: «Выпутаться можно умеючи из любого положения… Даже если приземлишься на немецкие костры». А где ее костры, Сильвины? Сентябрьские сводки оставляют так мало надежд… Войска Центрального и Воронежского фронтов начали форсирование Днепра… Войска Степного фронта освободили город Полтаву. Полтава — юность ее отца… Освобожден Кременчуг. Кременчуг — город, где ее отец испытал первую радость ареста. Ты обмолвилась, Сивка, какая же может быть радость от ареста? Горечь? Нет, это тоже не то слово. В общем, здесь началось становление личности. Сводки, мечты, рапорта… — Воскова, нужный вам человек приехал. — Есть, выхожу! Приезжий с той стороны линии фронта хмур, согбен, его все время изводит кашель. Служил переводчиком в гестапо, но работал на партизан. Его просили еще раз «обкатать» Елену Кависте. Вопросы задает то по-немецки, то по-русски. В глаза не смотрит. В общем, малоприятный разговор. — Дед, говорите, немец, фройлен? Подарки имели от него? — Только однажды… В посылочке лежали сласти, плюшевые зверюшки и… — Неправдоподобно, фройлен. Немцы практичны. Старик мог прислать отрез на юбку, даже поношенные тапки. А зверюшки, да еще во множественном числе… А что, фройлен, не желаете ли в гестапо переводчиком? — Я… я… недостаточно знаю язык. — Научим, фройлен. — Я хотела бы продолжить образование. — Эту честь у нас надо заслужить, фройлен, — так вам скажут. — Я боюсь допросов, я нервная… — Это уже лучше, фройлен. Только поделикатнее бы: «После суда над отцом я сама не своя на допросах…» Он устал, закрыл глаза. Сильва тихо вышла из палатки. Да, век живи — два века учись… — Воскова, вас вызывают! — Есть! Ее знакомят с совсем юным парнишкой. Он только что оттуда. — Здравствуй. Как, была уже на задании? — Все держат здесь. — Это тоже нужно. Значит, инструктор ты классный. Слушай, меня просили рассказать, где я рацию устанавливал. Раз у хозяйки в подполье, раз в стог сена влез, а один раз пришлось даже на бадье в колодец спуститься… В городок они возвращаются с Мариной вместе. — Почему мы сегодня такие молчальники-отшельники? — Скажи прямо: меня когда-нибудь пошлют в дело? — Тебя готовят не просто к высадке в тыл, не просто к бою. И твои бесчисленные рапорты, дружок, для понимающих людей звучат наивно. — Так и война кончится. — Дай-то бог! Они проезжают села, города, снова села, — Сильва приглядывается, запоминает характерные здания, пейзажи, людей. «Проходя по единственному Боровичскому мосту, — напоминает она Лене, — представляю, что шагаю по бесконечно дорогому Кировскому мосту. Это для меня теперь прекрасная сказка, которую я заставлю сделаться счастливой явью». А явь пока что голосами инструкторов приказывает: — Воскова! На метание гранаты! — Воскова, ваш выход на связь! Воспоминания и письма помогают ждать и надеяться. Но письма вдруг прервались. Замолчали Лена, Иван Михайлович, скупыми строками стала отделываться мать. Случайность или что-то стряслось? «Пишите правду, я жду правду». И чтобы сгладить остроту ожидания, она посылает маме свои стихи о родном городе.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. НИ ШАГУ НАЗАД!
Сальму Ивановну разбудила тишина. Не сновали по коридорам курьеры, не слышался лязг затворов, не передавалось от бойца к бойцу: «К начдиву!», «К военкому!». Она вскочила с парты, на которой вздремнула, найдя пустой класс; вдела руки в кожанку, выбралась в коридор. Пусто было в соседних комнатах, где еще два часа назад политотдельцы горячо спорили у двухверстки, пустовала учительская с оборванными телефонными проводами. И только очутившись во дворе, откуда выезжали повозки, на ходу принимая связных бойцов, она догадалась, что в город ворвались белые. Только несколько часов назад они прибыли с Семеном в Орел, получив в Серпухове, в штабе Южного фронта, назначение: он — военкомом Девятой стрелковой, она — в эту же дивизию на политработу. Вместе с ними получили назначение десятки коммунистов, командированные Петроградом, Москвой, Тулой на борьбу с Деникиным. Все понимали — момент критический. Деникинцы рвались к столице. Командующий белой армией Май-Маевский заявил, что его люди войдут в Москву не позднее декабря. 20 сентября пал Курск, 6 октября — Воронеж. Орел и Тула оказались в угрожающем положении. Попав к вечеру в Орел, который держала Девятая стрелковая, Семен и Сальма сразу поняли, что до порядка здесь далеко, между полками нет связи, никто толком не знает, где штадив, где подив. Наконец они обнаружили школу, в которой еще сидели работники политотдела и единственный оперативный сотрудник штаба, с отчаяньем вопрошавший каждого нового человека: «Из какой бригады? Где она?» Войдя в комнату, где собралось несколько инструкторов политотдела, Восков громко сказал: — Считаю недопустимым, чтобы политсостав сидел в четырех стенах, когда отдельные красноармейцы и целые роты без приказа покидают город. — Вы, собственно, кто такой? — с вызовом спросил молодой, весь в веснушках инструктор. — Я, собственно, новый военком дивизии, — отрекомендовался Восков. И вот среди ночи еще одна неожиданность. С южной окраины доносилась ожесточенная стрельба. Где-то за забором ржали вспуганные кони. На бричке подлетел к крыльцу знакомый веснушчатый инструктор. — Сальма Ивановна, садитесь. Бумаг там не оставили? — Какие там бумаги… Шифры дивизии и печать при мне. Где Восков? — Он сколотил группу командиров и бросился блокировать дорогу. Садитесь же, если не хотите попасть к белякам… Никто еще не знал, что произошла измена. Что группа штабных офицеров во главе с генералом Найденовым перешла в стан Деникина и открыла белым ворота города. Вместе с горсткой коммунистов Восков предпринимал усилия, казавшиеся безнадежными, чтобы задержать бежавшие роты, организовать на дорогах заслоны, закрепиться на ближних рубежах под Орлом. — У которых ноги драпать устали! — хрипло взывал он, врезаясь в толпу людей, бегущих во тьме. — Ложись и закрепляй за собой эту высотку! Потом его сильный голос слышался в другом месте: — Да обернитесь же вы, черти! Никто за вами не гонится, кроме вашей совести. Он разослал всех, кого только мог разыскать в этом столпотворении, по дорогам и деревням с приказом: вгрызаться в землю, стоять насмерть. Но только в пятнадцати километрах к северу от Орла основную массу красноармейцев отступавшей в беспорядке дивизии удалось остановить, задержать, собрать в единый действующий кулак.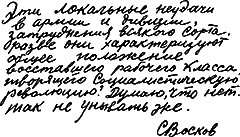 Это случилось 13 октября, а на другой день к вечеру на станции Отрада, где обосновались уцелевшие штабисты и политотдел, Восков встречал нового начдива и присланных с ним штабармом командиров.
— Петро!
— Семен!
О многом хотелось поговорить давним боевым соратникам Солодухину и Воскову. В памяти были живы летние бои под Петроградом, штурм Красной Горки.
— Показывай карту, Семен. — Упрямо смотрели из-под черных бровей глаза Солодухина, слова слетали с сухих сжатых губ. — Да с таким прицелом, чтоб в ближайшие дни повернуть Девятую на врага!
— Прицел такой имеется, — на лицо Воскова набежала улыбка, — еще из Питера его вез.
«Даешь Орел!», «Смерть врагам!», «Ни шагу назад!» — эти слова, которые только что произносились в штабном вагоне на станции Отрада, где обосновались начдив и военком, повторяли стяги на станционном здании, эшелонах, перекрестках дорог. В вагон все время входили вызванные люди, на платформах разгружалось вооружение, вокруг станции строились маршевые роты, связные начдива и инструкторы политотдела беспрерывно курсировали между полками и штадивом. Белое офицерство не подозревало, что в часы, когда оно развязало грабеж города, в полутора десятках верст вызревал план мощного контрудара по орловской группировке деникинской армии.
На первом же совещании, после кратких докладов комбригов Локтионова, Шишковского и Куйбышева, новый начдив четко наметил задачи дивизии или, как их в шутку прозвали комбриги, «четыре кита Солодухина».
— Первое: кончить с отступлением, — сказал он. — Победа или смерть — иного решения нет. Второе: у нас так тылы распухли, что не поймешь, кто кого обслуживает. Кончать с этой неразберихой. Третье: наши злейшие враги — паникерство и дезертирство. Четвертое: повысить бдительность, покончить с ротозейством…
Подтянутый, молодцеватый, с орденом Красного Знамени на френче — редкостью еще для той поры, начдив внимательно оглядел лица боевых командиров. Уже мягче сказал
— Мы приехали с Петроградского фронта. Здесь враг, пожалуй, посильнее. Вижу, что среди вас много опытных командиров. Будем бить врага вместе.
Слово за ним взял Восков. Что добавить к словам начдива?
— Пусть каждый коммунист сплотит вокруг себя группу красноармейцев, которые будут его опорой и в бою, и в походе. Помните, что за битвой под Орлом пристально следит вся наша партия, судьбами Орла живет в эти дни Ленин. За битвой под Орлом наблюдают и наши враги, ожидая военного поражения и гибели Советской республики. Так дадим же клятву, что уже завтра мы развеем надежды врагов. Завтра мы умрем или сокрушим врага.
Командиры расходились далеко за полночь. А Восков, поспав после их ухода два-три часа, вдруг поднялся, собрал в планшет несколько газет, брошюр.
— Ты куда это собрался, Семен Петрович? — скосил в его сторону сонный взгляд начдив. — Для командования связные есть.
— Твое дело, Петр Адрианович, командовать, — засмеялся Восков, — а наше, комиссарово, вести людей вперед. Поеду к своим землякам-конникам.
Он узнал, что в подчинение дивизии передан конный партизанский отряд, в котором много полтавчан. Комиссар отряда, раздражительный темнолицый сибиряк, встретил его без большого радушия:
— В дивизию, значит, нас подбираете? А где же эта дивизия и ее командование? В Серпухове или подальше?
Восков спокойно разъяснил положение дивизии.
— Увидите вы скоро и командование, и победы, — пообещал он конникам и пошутил: — А пока глядите на военкомдива — вашего земляка. В девятьсот пятом меня судили в полтавском окружном суде. Так что я ваш земляк со стажем.
Разговор завязался, конники подобрели.
— Что же это, товарищи конники! — Семена осенило. — Бьемся мы за новую жизнь, а зовем вас по-старому. Не назвать ли ваш отряд Червонной кавалерийской бригадой? Чтоб весь мир услышал о красных кавалеристах.
Он не забыл об этом, и такой приказ, к большому удовольствию вчерашних партизан, был разослан по дивизии.
Восков круглые сутки объезжал части, проверял работу комиссаров, подоспел к атаке на офицерский корниловский батальон, который беспечно выдвинулся вперед и не ожидал, что его довольно быстро отбросят. Известие об отступлении деникинцев на участке 80-го полка облетело дивизию и приободрило бойцов. Солодухин все время рассылал по полкам записки с просьбой вызвать Воскова и наконец приехал за ним сам.
— Поменяемся, Семен, местами, — ворчливо сказал он, — побалакай по двадцать часов в сутки с народом в штабе, а я за тебя по двадцать верст в сутки исхожу.
— А я и здесь балакаю, — посмеялся военком.
Всего несколько дней прошло со времени отхода дивизии из Орла. Но это была уже не прежняя дивизия. К командованию батальонами и ротами пришли люди, готовые стоять насмерть, в состав политработников влились молодые энергичные коммунисты, растерянность бойцов уступила место нетерпеливому ожиданию: «Когда же?..» В маленькой комнате политотдела круглосуточно горел свет.
— Никогда я столько не писала, — жаловалась Сальма.
— Никогда не было таких жестоких боев, — возражал ей Восков. — Да, кстати, все хочу тебя спросить… Что это за новый секретарь политотдела появился — Каляева?
Сальма только рукой махнула. Начдив несколько раз, зачитывая вслух телефонограммы, спотыкался на ее фамилии, и не то всерьез, не то в шутку переделывал «Конвиллем» на «Каляеву». С его легкой руки все, даже в политотделе, начали называть ее товарищем Каляевой.
— А, ладно, — засмеялась она. — Каляева — так Каляева! Скажи лучше, скоро ли мы двинемся из Отрады?
— Политработникам положено знать раньше других, — отшучивался он. — Но по секрету скажу, что у нас уже все есть для наступления: люди, которые верят в победу, умный план и даже анализ собственных неудач. А знаешь, как это важно — дать правильную оценку неудачам?
Это случилось 13 октября, а на другой день к вечеру на станции Отрада, где обосновались уцелевшие штабисты и политотдел, Восков встречал нового начдива и присланных с ним штабармом командиров.
— Петро!
— Семен!
О многом хотелось поговорить давним боевым соратникам Солодухину и Воскову. В памяти были живы летние бои под Петроградом, штурм Красной Горки.
— Показывай карту, Семен. — Упрямо смотрели из-под черных бровей глаза Солодухина, слова слетали с сухих сжатых губ. — Да с таким прицелом, чтоб в ближайшие дни повернуть Девятую на врага!
— Прицел такой имеется, — на лицо Воскова набежала улыбка, — еще из Питера его вез.
«Даешь Орел!», «Смерть врагам!», «Ни шагу назад!» — эти слова, которые только что произносились в штабном вагоне на станции Отрада, где обосновались начдив и военком, повторяли стяги на станционном здании, эшелонах, перекрестках дорог. В вагон все время входили вызванные люди, на платформах разгружалось вооружение, вокруг станции строились маршевые роты, связные начдива и инструкторы политотдела беспрерывно курсировали между полками и штадивом. Белое офицерство не подозревало, что в часы, когда оно развязало грабеж города, в полутора десятках верст вызревал план мощного контрудара по орловской группировке деникинской армии.
На первом же совещании, после кратких докладов комбригов Локтионова, Шишковского и Куйбышева, новый начдив четко наметил задачи дивизии или, как их в шутку прозвали комбриги, «четыре кита Солодухина».
— Первое: кончить с отступлением, — сказал он. — Победа или смерть — иного решения нет. Второе: у нас так тылы распухли, что не поймешь, кто кого обслуживает. Кончать с этой неразберихой. Третье: наши злейшие враги — паникерство и дезертирство. Четвертое: повысить бдительность, покончить с ротозейством…
Подтянутый, молодцеватый, с орденом Красного Знамени на френче — редкостью еще для той поры, начдив внимательно оглядел лица боевых командиров. Уже мягче сказал
— Мы приехали с Петроградского фронта. Здесь враг, пожалуй, посильнее. Вижу, что среди вас много опытных командиров. Будем бить врага вместе.
Слово за ним взял Восков. Что добавить к словам начдива?
— Пусть каждый коммунист сплотит вокруг себя группу красноармейцев, которые будут его опорой и в бою, и в походе. Помните, что за битвой под Орлом пристально следит вся наша партия, судьбами Орла живет в эти дни Ленин. За битвой под Орлом наблюдают и наши враги, ожидая военного поражения и гибели Советской республики. Так дадим же клятву, что уже завтра мы развеем надежды врагов. Завтра мы умрем или сокрушим врага.
Командиры расходились далеко за полночь. А Восков, поспав после их ухода два-три часа, вдруг поднялся, собрал в планшет несколько газет, брошюр.
— Ты куда это собрался, Семен Петрович? — скосил в его сторону сонный взгляд начдив. — Для командования связные есть.
— Твое дело, Петр Адрианович, командовать, — засмеялся Восков, — а наше, комиссарово, вести людей вперед. Поеду к своим землякам-конникам.
Он узнал, что в подчинение дивизии передан конный партизанский отряд, в котором много полтавчан. Комиссар отряда, раздражительный темнолицый сибиряк, встретил его без большого радушия:
— В дивизию, значит, нас подбираете? А где же эта дивизия и ее командование? В Серпухове или подальше?
Восков спокойно разъяснил положение дивизии.
— Увидите вы скоро и командование, и победы, — пообещал он конникам и пошутил: — А пока глядите на военкомдива — вашего земляка. В девятьсот пятом меня судили в полтавском окружном суде. Так что я ваш земляк со стажем.
Разговор завязался, конники подобрели.
— Что же это, товарищи конники! — Семена осенило. — Бьемся мы за новую жизнь, а зовем вас по-старому. Не назвать ли ваш отряд Червонной кавалерийской бригадой? Чтоб весь мир услышал о красных кавалеристах.
Он не забыл об этом, и такой приказ, к большому удовольствию вчерашних партизан, был разослан по дивизии.
Восков круглые сутки объезжал части, проверял работу комиссаров, подоспел к атаке на офицерский корниловский батальон, который беспечно выдвинулся вперед и не ожидал, что его довольно быстро отбросят. Известие об отступлении деникинцев на участке 80-го полка облетело дивизию и приободрило бойцов. Солодухин все время рассылал по полкам записки с просьбой вызвать Воскова и наконец приехал за ним сам.
— Поменяемся, Семен, местами, — ворчливо сказал он, — побалакай по двадцать часов в сутки с народом в штабе, а я за тебя по двадцать верст в сутки исхожу.
— А я и здесь балакаю, — посмеялся военком.
Всего несколько дней прошло со времени отхода дивизии из Орла. Но это была уже не прежняя дивизия. К командованию батальонами и ротами пришли люди, готовые стоять насмерть, в состав политработников влились молодые энергичные коммунисты, растерянность бойцов уступила место нетерпеливому ожиданию: «Когда же?..» В маленькой комнате политотдела круглосуточно горел свет.
— Никогда я столько не писала, — жаловалась Сальма.
— Никогда не было таких жестоких боев, — возражал ей Восков. — Да, кстати, все хочу тебя спросить… Что это за новый секретарь политотдела появился — Каляева?
Сальма только рукой махнула. Начдив несколько раз, зачитывая вслух телефонограммы, спотыкался на ее фамилии, и не то всерьез, не то в шутку переделывал «Конвиллем» на «Каляеву». С его легкой руки все, даже в политотделе, начали называть ее товарищем Каляевой.
— А, ладно, — засмеялась она. — Каляева — так Каляева! Скажи лучше, скоро ли мы двинемся из Отрады?
— Политработникам положено знать раньше других, — отшучивался он. — Но по секрету скажу, что у нас уже все есть для наступления: люди, которые верят в победу, умный план и даже анализ собственных неудач. А знаешь, как это важно — дать правильную оценку неудачам?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. «ХОЧУ ЗНАТЬ ПРАВДУ»
Что он делал при неудачах? Были же у отца и просчеты, и ошибки, просто невезенье. Что он делал в таких случаях? Да, ей не повезло. Ее придерживают. Теперь, после разговора с радистом, который прибыл оттуда, это очевидно. Радиста она помнила. Николай разузнал что она делала все это время. Присвистнул: — Обо всех-то ты знаешь. Потому тебя, Воскова, и держат здесь. Она не сразу поняла, переспросила. — Ясно как дважды два, — он пожал плечами. — Представь, там провал. Любой командир группы или радист знает только про своих. А попадись ты… У тебя же вся наша разведка в голове. Инструктор двух специальных школ — не шутка! У нее даже голос изменился. — Ты что, Колька, спятил? — Подожди, Воскова. Не горячись. Ты меня правильно пойми. Одно дело — доверие, другое — предосторожность, законы работы в тылу у противника. А может, тебя еще пошлют… «Нет, не пошлют. Колька сказал правду. Военная неудача! Что ты делал, отец, в таких случаях?» В книгах о гражданской войне имя Семена Воскова в связи с неудачами встречалось редко, но ей подвезло: как раз в военную пору вышли воспоминания о битве за Орел, и она представила себе, в каких тяжелых условиях Солодухин и Восков готовили дивизию к сражениям. Если хватило воли у отца, почему должна быть слабее дочь? Ладно, Марина, ты была не в восторге от Сильвиной манеры перерезать стропы парашюта после «приземления». Пять вечеров будут посвящены вам, стропы. Пусть девочки смотрят киноленты, а она поработает на первом пуховом снежке с финкой. Так и так! Нужно еще точнее, еще быстрее… Как-то инструктор обронил замечание, что нужно уметь поражать цель и во время пробежки. Она избрала мишенью не очень толстый ствол ели, сутки вокруг нее кружилась, рассчитывала поправку на свой же разгон, ствол изрешетила, но била без промаха. Привыкла попадать в монету, стреляя из пистолета сквозь пилотку, скрывая его под плащом… Ко многому привыкла. Инструктор радиодела решил запутать ее быстрой сменой соседних волн. Что ж, и такая ситуация в жизни возможна. «Путайте, меняйте частоту волны — честное слово, я все равно узнаю ваш „почерк“». Марина, обычно скупая на похвалы, вдруг сказала: — Тебе все чертовски хорошо стало удаваться… Можно подумать, что ночи напролет тебя тренирует мой дублер. Она засмеялась. Ночи — не ночи, а уж вечерами… В дни, когда наши войска один за другим брали Запорожье, Днепропетровск, Мелитополь, Керчь, Киев, в часть приехал из Центра полковник. Она давно дожидалась этого часа, попросила ее принять и выслушать. Полковник ее помнил и по «лесной школе», и по бесчисленным рапортам. — Знаю. Читал, — прервал он ее. — Что еще хотите вы добавить, Воскова, к написанному вами? — Я вправе знать свою судьбу, — спокойно пояснила она. — Я хочу знать правду. — Судьба у вас будет не из легких, это могу обещать. — Товарищ полковник, — она старалась, чтобы слова ее были убедительными, вескими. — Прошло уже восемьсот шестьдесят шесть дней войны. За это время я еще ни разу не была в настоящем деле. — Не сказал бы… Десятки, если не сотни, ваших учеников — в деле по обе стороны фронта. — Это ученики. А я? — А вы еще обучаетесь, Воскова. Высказала то, что мучило, искало ответа. Он слушал терпеливо, отмечал для себя слабые и сильные стороны ее доводов. Потом предложил сесть. — Побеседуем. Не как командир и подчиненный, а как партнеры по трудной чекистской службе. О недоверии, Сильвия Семеновна, не может быть и речи, иначе мы просто демобилизовали бы вас, и все. В нашей работе стесняться не приходится. Скажу честно, тот факт, что вы знаете наш состав, как вам правильно кто-то сказал, конечно, не в пользу лица, которого готовят для работы в тылу у немцев…
Он увидел, что она потемнела, и едва заметно улыбнулся.
— Ну, ну, Сильвия Семеновна, вы ведь хотели правды без утайки?
— Так точно, товарищ полковник.
— Вот и получайте ее. Да, как я и сказал, не в пользу лица… если бы на вашем месте было другое лицо. Но мы находим вашу подготовку по всем статьям годной для работы во вражеском тылу.
Сердце, наверно, имеет крылья.
— То, что я сейчас вам скажу, — продолжал полковник, — пока не является вполне определенным и не должно быть предметом разговора с кем бы то ни было.
Нетерпеливо наклонилась вперед, взглядом подтвердила: «Понимаю вас».
— Даже с инструктором, — педантично подчеркнул он. — Так вот, близится освобождение Прибалтики. Мы полагаем, что в дни, когда гитлеровцы начнут в этом районе повально «выравнивать линию фронта», а заодно угонять с собой местное население, минировать объекты и сжигать посевы, чекистам там найдется работа. И вот тогда классный радист-разведчик нам будет нужнее рядового радиста-оператора. У меня все, товарищ Воскова. Вы свободны.
— Спасибо за доверие, товарищ полковник.
— Спасибо за службу. И еще… От души поздравляю вас с награждением медалью «За оборону Ленинграда».
— Разве я заслужила?
— А радисты-операторы? — напомнил он. — А блокадные дни?
— Побеседуем. Не как командир и подчиненный, а как партнеры по трудной чекистской службе. О недоверии, Сильвия Семеновна, не может быть и речи, иначе мы просто демобилизовали бы вас, и все. В нашей работе стесняться не приходится. Скажу честно, тот факт, что вы знаете наш состав, как вам правильно кто-то сказал, конечно, не в пользу лица, которого готовят для работы в тылу у немцев…
Он увидел, что она потемнела, и едва заметно улыбнулся.
— Ну, ну, Сильвия Семеновна, вы ведь хотели правды без утайки?
— Так точно, товарищ полковник.
— Вот и получайте ее. Да, как я и сказал, не в пользу лица… если бы на вашем месте было другое лицо. Но мы находим вашу подготовку по всем статьям годной для работы во вражеском тылу.
Сердце, наверно, имеет крылья.
— То, что я сейчас вам скажу, — продолжал полковник, — пока не является вполне определенным и не должно быть предметом разговора с кем бы то ни было.
Нетерпеливо наклонилась вперед, взглядом подтвердила: «Понимаю вас».
— Даже с инструктором, — педантично подчеркнул он. — Так вот, близится освобождение Прибалтики. Мы полагаем, что в дни, когда гитлеровцы начнут в этом районе повально «выравнивать линию фронта», а заодно угонять с собой местное население, минировать объекты и сжигать посевы, чекистам там найдется работа. И вот тогда классный радист-разведчик нам будет нужнее рядового радиста-оператора. У меня все, товарищ Воскова. Вы свободны.
— Спасибо за доверие, товарищ полковник.
— Спасибо за службу. И еще… От души поздравляю вас с награждением медалью «За оборону Ленинграда».
— Разве я заслужила?
— А радисты-операторы? — напомнил он. — А блокадные дни?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. НЕЖДАННАЯ ПАУЗА В АТАКЕ КОРНИЛОВЦЕВ
Среди ночи комиссара 80-го стрелкового полка Тарана спешно вызвали в штаб дивизии. От деревни, где был расквартирован 80-й, до станции Отрада расстояние порядочное, к тому же ночь выдалась дождливой, дороги развезло, конь плелся медленно. Таран добрался во втором часу ночи, в окнах штабного вагона горел свет, за большим, грубо сколоченным столом сидел подтянутый человек, как показалось, в летах, а глаза молодые, с кожанкой внакидку, подписывал приказы. Рядом кто-то лежал, накрытый шубой. Тот, что бодрствовал, пригласил Тарана сесть, назвал себя. — Военкомдив Восков. Начдив крепок, а свалился. Не стоит будить. Потер озябшие руки, с улыбкой сказал: — Молчите, а про себя небось думаете: ну сам комиссар не спит, так людям бы дал передохнуть… Только Таран подумал: «К чему бы это комиссар комиссара на „вы“ величает», как из угла подошел к ним высокий худолицый человек, сухо представился: — Комбриг Александров. — Комиссар Восьмидесятого Григорий Таран, — отозвался вновь вошедший, улыбнулся: — Рад знакомству, тем более, что входим в вашу Центральную группу, товарищ комбриг. Военкомдив пригласил их к столу, провел на карте несколько стрелок, перехватил удивленный взгляд комиссара полка. — Теперь понял, почему ночью вызвал? На ваш полк возложен первый лобовой удар по засевшим в Орле корниловцам. Первый — с севера. Одновременно с трех сторон вас поддержат другие части дивизии и Южного фронта. — Есть! — быстро сказал Таран. — Но полк нуждается в укреплении. Мы и двух батальонов штыков не насчитаем… Растеряли людей. Выслушав его соображения, Восков сверился со своими бумагами, исправил несколько цифр, подумал, непреклонно сказал: — Если бы мне доверили первому ворваться в Орел, я бы считал это высокой честью и ответил «есть!» без «но». Будем считать, что «но» сказал я. А людей мы вам добавим. Из пятьдесят пятой, из сводной дивизии, за счет мобилизованных коммунистов с Севера. Формированием ударного полка поручено заняться комбригу войск ВЧК Павлу Николаевичу Александрову, и я хотел подключить к этому важному делу, — обратился он к Тарану, — тебя, Григорий Тимофеевич. Выкладывай о своих личных недостатках. Высокий, кряжистый, с длинной, жгуче-черной бородой, отращенной еще в партизанах, Григорий Таран, которому всего было двадцать восемь лет, развел руками. — Эге, комиссар без недостатков — это же чистое золото, — шутливо прокомментировал Восков. — Но я слышал, Павел Николаевич, что одним недостатком товарищ Таран обладает. Не успеешь ему отдать приказ, он уже докладывает о его выполнении. — Подумал, попросил: — Товарищу Тарану и мне нелишне поближе познакомиться с вами, Павел Николаевич. — Докладывать даты или движение души? — осведомился комбриг. Восков засмеялся. — Комиссарове дело — души. — Что ж, — Александров провел по коротко подстриженным усам. — Время позднее. Позвольте немногословно. Поступил в Курскую учительскую семинарию, но чаще бывал в Лазаретном саду, на нелегальных партийных встречах. В девятьсот пятом — демонстрация, стычка с полицией, обыск. На моем прошении о допуске к экзаменам губернатор начертал: «Отказать по мотивам политической неблагонадежности». Спустя одиннадцать лет с мандатом Феликса Эдмундовича Дзержинского сам проверял «благонадежность» курских буржуев. — А одиннадцать лет куда дели? — Доучивался, учительствовал, нес армейскую службу. В феврале избрали председателем солдатского комитета, Тянулся к большевикам, вступил в партию. Вел культурную работу, создавал рабочий театр. В августе девятнадцатого направлен Дзержинским в район Курска формировать бригаду ВЧК. Все. — Хорошо доложили, — одобрительно сказал Восков. — Учись, Григорий Тимофеевич. — Есть! Без всяких «но», — добродушно ответил Таран. — И дружите, товарищи, — мягко напутствовал их Восков. — Братство солдат — это почище любого оружия! Они ушли в ночь, а Восков продолжал беседовать с вызванными командирами и политработниками. Москвич Евсей Леонтьев, назначенный новым начальником политотдела, внешне неторопливый, очень спокойный, предложил военкому выпустить перед началом боев за Орел воззвание к бойцам, окна РОСТа, выделить в ротах политбеседчиков и песенников. — Как же, — отозвался со скамьи Солодухин, — так я вам и позволю себя штыков лишать за счет ваших беседчиков. — Товарищ начдив, — заметил Леонтьев, — знаете, как иногда умное слово, сказанное перед боем, в бою помогает! — Кого учите — Солодухина? — начдив скинул с себя шубу и поднялся. — Ну как, Семен Петрович, все мои приказы заутвердили? Леонтьев понял, что он здесь лишний, собрал бумаги и вышел. Восков очень добродушно сказал: — По-моему, ты обидел начподива, Петр Адрианович. Но это еще куда бы ни шло… По-моему, ты обидел самую идею политической работы в армии. Нам нужны и штыки, и беседчики. — И увидев, что начдив собирается вспылить, улыбаясь, добавил: — Да ты и сам понимаешь это, Петр Адрианович. Солодухин остыл и только сказал: — Ох и хитрый же ты мужик, Семен. — А у нас все в Полтаве такие, — не остался в долгу Восков и добавил, как будто это было дело решенное: — Так что при случае авторитет свой перед начподивом поправишь. Ну, будь здоров, поеду к Борисенко, в семьдесят восьмой. Им тоже выступать. Они оделись и вышли из вагона вместе. К станции подходила колонна людей. — Откуда? — крикнул начдив. — Маршевые роты, — доложил начштаба. — Посланцы трудящихся Петрограда и Тулы. Начдив не удержался, выступил перед бойцами. — Речист, — напомнил ему потом Восков. — К чему бы это? — Политбеседа, — ткнул его в бок Солодухин. В 78-м полку, бывшем Революционном грайворонском[24], его сразу провели к командиру. — Антон Борисенко, — представился комполка. — Слышали о вас, товарищ военкомдив: «До встречи в Орле!» — точно? — Точно! — засмеялся Восков. — И мы о вас наслышаны. «Грайворонские партизаны не отступают». Ваши слова? На Орле и проверим. — Вот как? — удивился Борисенко. — Готовились к встрече, значит? — А без ухвата и добрую кашу в печи не сваришь, — ответил шуткой и сразу перешел к делу: — Показывай своих людей, товарищ Борисенко. Он сразу понял: весь комсостав состоит из вчерашних подростков. Война косила быстро и столь же быстро выдвигала людей. Иван Шевченко, который показался ему мальчиком и уже выполнял в полку обязанности начальника штаба, догадавшись о мыслях Воскова, серьезно сказал ему: — Вы не смотрите, что все мы молоды, товарищ военком. Наша революция тоже молодая. А я вас познакомлю с Федей Макаровым, ему и вовсе тринадцать, а вы мне покажите, кто его в разведке переплюнет. От грайворонцев уехал довольный, в одной из рот застал инструктора от Леонтьева. Словно невзначай спросил: — Где будете во время наступления? — Здесь же, товарищ военком. С ротой и в бой пойдем. Приехал в штаб, обо всем поведал Солодухину. Начдив мрачно выслушал рассказ о маленьком разведчике, о том, как на его глазах корниловские офицеры вырезали на спинах рабочих ругательства. Потемнел Солодухин, папаху сорвал с себя. — Ну, пусть держатся корниловские графья. Мы им попомним! Все попомним. Об этом надо в частях рассказать. Послал бы своих беседчиков! — Встретил сощуренный взгляд Семена. — Коммунист я все-таки или не коммунист! Нам надо все использовать для взятия Орла. Давай приказ сочиним Восьмидесятому ударному. Им начинать завтра. — Посмотрел на часы. — Какой там завтра… Уже сегодня. Восков написал несколько строк, показал начдиву: «Шлем братские поздравления героям-красноармейцам, комсоставу и политкомам 80-го полка. Надеемся, что они оправдают наше доверие и возьмут Орел. Начдив Солодухин, политком Восков. 19 октября 12 ч. 45 м.». Солодухин кивнул, спрятал в карман. — Лично продиктую по телефону. Часом позже Сальма, когда Семен пришел проститься, сказала: — Начдив не шибко в ладу с грамматикой. Подписи — две, а глаголы в единственном числе. Восков бросил взгляд на депешу. Так и есть: «шлем» переправил на «шлю», «надеемся» — на «надеюсь». И слова «возьмут Орел» ему недостаточными показались, добавил: «возьмут Орел сегодня». Подумал: несущественно, зато в решительности начдиву не откажешь. — Семен, будет бой — ты береги… Запнулась, густо покраснела. Он кивнул. — Правильно. Комиссар должен беречь своих бойцов. До встречи в Орле, дорогой товарищ Каляева. — Засмеялся, дружески обнял ее и сразу уехал на позиции. В крошечной деревушке, в бревенчатом домике, вблизи от передовой, командиры дивизии собрались на последний совет. Солодухин говорит будто диктует — быстро, четко, у него уже все продумано: — Деникин приглашал главарей Антанты на обед в Москву. Так мы ему обед под Орлом закатим… Справа наступают полки семьдесят шестой и семьдесят восьмой, слева — восьмидесятый ударный… Твои червонные кавалеристы, товарищ Попов, ударят по белякам с тылу… Вопросы есть? Вопросы были. И о численности деникинцев в Орле, и о развитии мировой революции. Восков отвечал с цифрами в руках, закончил по-своему: — Коммунисты, вперед! До встречи в Орле. 19 октября войска 13-й армии взяли Орел в клещи и заставили деникинцев некоторые свои части перебросить в узкий коридор по линии Орел–Стишь, чтобы избежать окружения. Правда, их дивизии продолжали прочно удерживать город. Первые атаки полков 9-й стрелковой захлебнулись, но основные силы еще не были пущены в бой. Ночь на 20 октября принесла неистовый холод. Сырую мглу прорезывали одиночные ракеты, с позиций корниловцев изредка доносились пулеметные очереди, то и дело на юго-западе вспыхивала и затихала перестрелка. Бойцы ударных частей скрытно накапливались в кустарнике по левому берегу реки Оптухи. От станции Отрада к передовой бесшумно двинулся поток обозов. Еще не забрезжил рассвет, как на позициях 80-го полка появились Солодухин и Восков. Восков собрал коммунистов, требовательно спросил: «Настроение бойцов?» Солодухин прошелся по цепям, отдал приказ: наступать! С победными возгласами «ура!» полки с двух сторон ринулись на корниловские окопы. Под бешеным пулеметным огнем противника комбат Романенко со своими товарищами первым ворвался в расположение корниловцев. — Здесь дела пойдут, — сказал Солодухин. Он уже успел сделать с бойцами несколько перебежек и остановить фланговую атаку корниловцев. Вытащил Воскова из цепи бойцов. — Едем в семьдесят шестой! Стрелки 76-го уже вырвались к западной окраине Орла и готовились к решительному штурму. Начдив и военком появились вовремя. Отборные корниловские офицеры под ритмичный барабанный бой довольно широким фронтом наступали короткими перебежками на позиции красного полка. — Страшенная атака! — крикнул кто-то в цепи. — Тикать надо, хлопцы. Восков прикинул на глазок расстояние до залегших бойцов и вдруг бросился на крик. — Убьют, комиссар! — комбат хотел ринуться за ним. — В «страшенной» сразу не стреляют, — отозвался Восков. Через две минуты его крепкая ловкая фигура уже скатилась в окопчик, и Солодухин с облегчением вздохнул: — Вот чертяка! В сорочке родился. Корниловские офицеры все надвигались, и вдруг строй их выпрямился. Уже видны были темно-защитные шинели из ладного английского сукна. «Там-м-м… там-м-м…» — гремели барабаны. Сверкающие ваксой сапоги крупно печатали шаг по земле, подернутой инеем. — Знаем мы эти фокусы, — громко сказал Семен. — Глядите, мол, какие мы ладные, да сильные, да неистребимые. А мы вас сегодня же истребим. Пролетарская выдержка, товарищи! Ни одного выстрела до сигнала комбата! Те припустили шаг, готовясь к штурму. Стали видны зажатые в золотистую тесьму белые кокарды на их фуражках. А Солодухин вместе с группой полковых командиров молча отсчитывал метры. — Подпустить еще ближе! — приказал начдив.
— Двести метров! — сказал кто-то из комбатов.
— Ждать еще!
— Сто восемьдесят!
— Еще!
Надвигаются, с хрипом дышащие, влекомые ненавистью…
— Огонь!
Забили пулеметы, заговорили сестрорецкие и тульские трехлинеечки, а строй белого офицерства продолжал свою рысцу на позиции 76-го полка.
— Ничего! — кричит Восков, стреляя из карабина. — Сейчас поглядим, добро ли у вас смазаны пятки.
Новые залпы. И вот, как копна на ветру, вдруг рассыпается вытянутый только что в строгую нитку строй корниловцев. Громкое тысячное «Ур-ра-а!» взмывает в воздух. Еще задние ряды белых офицеров продолжают перебежки, но вот их опрокидывают, мнут, топчут только что бежавшие впереди, и сейчас эти отборные батальоны истязателей и убийц должны повернуть свое движение с севера на юг и отползти, откатиться, раствориться, пользуясь туманом.
— Преследовать! — скомандовал Солодухин. — Сидеть на плечах у корниловцев!
Связные уже донесли, что 80-й полк пробивается к вокзалу. В бинокль видно, как на помощь отступающим корниловцам спешит белая артиллерия.
Бои идут упорные, с переменным счастьем. Резервные части белых непрерывно контратакуют. Солодухин берет командование полком на себя. Батальон за батальоном выходят на поединок с корниловскими смертниками, а с тыла уже рубят белых «червонные кавалеристы» Федора Попова и с юга штурмуют Орел полки Южного фронта.
— Подпустить еще ближе! — приказал начдив.
— Двести метров! — сказал кто-то из комбатов.
— Ждать еще!
— Сто восемьдесят!
— Еще!
Надвигаются, с хрипом дышащие, влекомые ненавистью…
— Огонь!
Забили пулеметы, заговорили сестрорецкие и тульские трехлинеечки, а строй белого офицерства продолжал свою рысцу на позиции 76-го полка.
— Ничего! — кричит Восков, стреляя из карабина. — Сейчас поглядим, добро ли у вас смазаны пятки.
Новые залпы. И вот, как копна на ветру, вдруг рассыпается вытянутый только что в строгую нитку строй корниловцев. Громкое тысячное «Ур-ра-а!» взмывает в воздух. Еще задние ряды белых офицеров продолжают перебежки, но вот их опрокидывают, мнут, топчут только что бежавшие впереди, и сейчас эти отборные батальоны истязателей и убийц должны повернуть свое движение с севера на юг и отползти, откатиться, раствориться, пользуясь туманом.
— Преследовать! — скомандовал Солодухин. — Сидеть на плечах у корниловцев!
Связные уже донесли, что 80-й полк пробивается к вокзалу. В бинокль видно, как на помощь отступающим корниловцам спешит белая артиллерия.
Бои идут упорные, с переменным счастьем. Резервные части белых непрерывно контратакуют. Солодухин берет командование полком на себя. Батальон за батальоном выходят на поединок с корниловскими смертниками, а с тыла уже рубят белых «червонные кавалеристы» Федора Попова и с юга штурмуют Орел полки Южного фронта.
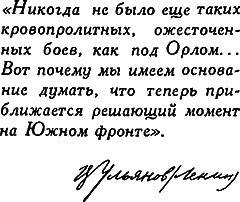 С двух сторон врываются первыми в город 76-й и 80-й и с ними, конечно же, начдив и военком Девятой стрелковой, а скоро к ним присоединится Серго Орджоникидзе, вошедший в город с передовыми частями южной ударной группы.
— Немедленный приказ по дивизии, — предлагает сияющий Восков.
И тут же, на площади кладет планшет на тумбу и, присев на корточки, набрасывает поздравление бойцам: «…Радуемся, что можем поздравить вас со взятием города, в котором только несколько дней назад враг праздновал преждевременную победу. Знаем и надеемся, что взятие Орла — это начало конца наших врагов. Солодухин. Восков». Разыскивает на площади Солодухина, дает ему приказ на подпись. Взмокший, радостный, начдив расписывается и… исправляет глагольные формы на «радуюсь», «знаю» и «надеюсь». Восков смеется:
— Характерец!
— Комиссару положено убеждать, — не сдается Солодухин, — а начдиву приказывать.
И вдруг оба, не сговариваясь, произносят слово «Петроград». Послали-то их сюда питерцы! Летит телеграмма в Петросовет с вестью и признательностью: «Дивизия приносит глубокую признательность Питерскому Совету и комитету партии за оказанную помощь мобилизованными коммунистами… Мы же клянемся в самый кратчайший срок уничтожить банды генерала Деникина… Вперед, в решительный бой. Начдив Солодухин, военком Восков».
На окраинах еще идут бои, а в центре города на фургон взбирается инициатор «немедленных митингов» Семен Восков, а с ним — Орджоникидзе, Солодухин, комбриги, бравшие Орел. Зачитывается подоспевшее в самый раз ленинское письмо «К товарищам красноармейцам». А потом слово — военкому:
— Этот славный русский город, захваченный неделю назад белыми, — говорит Восков, — штурмовали сыны русского, украинского, латышского, эстонского и других народов нашей Родины. На полях битв гражданской войны выковывается и закаляется в несокрушимую сталь великий Союз трудящихся.
После митинга Солодухин приглашает весь комсостав в «Метрополь», прищуривается:
— Нужно отметить…
Но что-то никак ему не удается собрать всех своих соратников вместе. Комбриги размещают батальоны, Восков организует с политотделом ревком, комендатуру, военный трибунал. Наконец все в сборе, и Солодухин собирается произнести застольный тост.
— Совещание командиров частей, участников наступления, по вопросу стратегии и тактики ближайших дней, — поспешно, чересчур поспешно объявляет Восков, — по поручению нашего славного начдива товарища Солодухина объявляю открытым.
Начдив в перерыве ему говорит:
— Опять перехитрил меня, Семен?.. До чего же ты любишь, Восков, людей перевоспитывать. А может, в этом и есть наше пролетарское счастье, что в трудную минуту рядом с нами комиссары.
С двух сторон врываются первыми в город 76-й и 80-й и с ними, конечно же, начдив и военком Девятой стрелковой, а скоро к ним присоединится Серго Орджоникидзе, вошедший в город с передовыми частями южной ударной группы.
— Немедленный приказ по дивизии, — предлагает сияющий Восков.
И тут же, на площади кладет планшет на тумбу и, присев на корточки, набрасывает поздравление бойцам: «…Радуемся, что можем поздравить вас со взятием города, в котором только несколько дней назад враг праздновал преждевременную победу. Знаем и надеемся, что взятие Орла — это начало конца наших врагов. Солодухин. Восков». Разыскивает на площади Солодухина, дает ему приказ на подпись. Взмокший, радостный, начдив расписывается и… исправляет глагольные формы на «радуюсь», «знаю» и «надеюсь». Восков смеется:
— Характерец!
— Комиссару положено убеждать, — не сдается Солодухин, — а начдиву приказывать.
И вдруг оба, не сговариваясь, произносят слово «Петроград». Послали-то их сюда питерцы! Летит телеграмма в Петросовет с вестью и признательностью: «Дивизия приносит глубокую признательность Питерскому Совету и комитету партии за оказанную помощь мобилизованными коммунистами… Мы же клянемся в самый кратчайший срок уничтожить банды генерала Деникина… Вперед, в решительный бой. Начдив Солодухин, военком Восков».
На окраинах еще идут бои, а в центре города на фургон взбирается инициатор «немедленных митингов» Семен Восков, а с ним — Орджоникидзе, Солодухин, комбриги, бравшие Орел. Зачитывается подоспевшее в самый раз ленинское письмо «К товарищам красноармейцам». А потом слово — военкому:
— Этот славный русский город, захваченный неделю назад белыми, — говорит Восков, — штурмовали сыны русского, украинского, латышского, эстонского и других народов нашей Родины. На полях битв гражданской войны выковывается и закаляется в несокрушимую сталь великий Союз трудящихся.
После митинга Солодухин приглашает весь комсостав в «Метрополь», прищуривается:
— Нужно отметить…
Но что-то никак ему не удается собрать всех своих соратников вместе. Комбриги размещают батальоны, Восков организует с политотделом ревком, комендатуру, военный трибунал. Наконец все в сборе, и Солодухин собирается произнести застольный тост.
— Совещание командиров частей, участников наступления, по вопросу стратегии и тактики ближайших дней, — поспешно, чересчур поспешно объявляет Восков, — по поручению нашего славного начдива товарища Солодухина объявляю открытым.
Начдив в перерыве ему говорит:
— Опять перехитрил меня, Семен?.. До чего же ты любишь, Восков, людей перевоспитывать. А может, в этом и есть наше пролетарское счастье, что в трудную минуту рядом с нами комиссары.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ. ЛЮБОВЬ
— Хочу тебе помочь. Скажи же что-нибудь! Марина не узнает Сильву. Что с нею стряслось? Еще сегодня утром все они, настроенные довольно бодро, выехали из «партизанского городка». Так они называли лагерь, раскинувшийся в хвойном лесу, по соседству с суворовским имением. Это были две недели усиленных тренировок в условиях, близких к походным. Спали в землянках, участвовали в «партизанских рейдах», которые, может быть, придется повторить на «службе», ориентировались по компасу и по лесным приметам, поднимались ночью по тревоге «Каратели!», выходили на связь в считанные секунды перед тем, как в лагерь должны были вступить «чужаки»… Сильва находчиво действовала в довольно сложной обстановке, успевала тренировать приданных ей операторов, казалось, еще больше исхудала в эти дни и даже схватила на морозце легкий загар. На обратном пути преподнесла Марине еще один сюрприз. Взяла у подруги гитару и, легонько тронув надрывные струны, вдруг игриво спела строфу из популярной песенки немецких солдат: Осторожный стук в дверь: это — Марина.
— Послушай, Сильва. Я подумала, что ты вкладываешь в немецкую песенку чересчур много сантимента. У них это делается попроще, чуточку погрубее. Я слышала, попробуй еще разок.
Послушно взяла гитару.
Осторожный стук в дверь: это — Марина.
— Послушай, Сильва. Я подумала, что ты вкладываешь в немецкую песенку чересчур много сантимента. У них это делается попроще, чуточку погрубее. Я слышала, попробуй еще разок.
Послушно взяла гитару.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. …И ПЕРВЫМ ВСТУПИЛ В ГОРОД
В политотделе 9-й стрелковой разгорелись страсти. Армии предстояла «партийная неделя». Сальма Каляева, кажется уже привыкшая к своей новой фамилии, и еще два инструктора отстаивали право вступления в партию каждого красноармейца. Кто-то твердил, что право на это дает только воинский подвиг. Восков, вернувшись из района станции Стишь, за которую шли бои, примирил обе стороны. — Подвигов на всех хватит. Вид у него был измученный, лицо посерело, глаза запали, и Сальма старалась на него не смотреть. — Хватит с избытком, — повторил он, налил из графина воду в кружку, жадно выпил. — Вся неделя пройдет в битве за Курск, отличатся наши ребята. Куда ты, товарищ Леонтьев, намечаешь послать свой ударный отряд? Он всегда с гордостью говорил о политработниках, и они ценили это доверие. Поднялся этажом выше, где размещался штаб и откуда разносился, кажется по всей гостинице, громкий голос начдива. Новые штабисты Петр Ярчевский и Павел Смирнов сидели за картой. Солодухин ходил из угла в угол и, размахивая правой рукой, точно сжимая в ней шашку, держал речь: — Вы мне паузы и передышки разные на карте не обозначайте. Это дело начдива — давать паузы бойцам или не давать. Вы мне атаки рисуйте и разгром деникинцев по линии Стишь–Становой Колодезь–Малоархангельск. Вот дело штабистов! — Подожди, Петр Адрианович, — вмешался Восков. — Я только что из Стиши. Люди паузы не просят — ученые. Кони просят. У Солодухина даже рука в воздухе замерла. Он круто повернулся, хотел сказать что-то резкое, глубоко задышал и вдруг заговорил спокойно и тихо. — Эх, товарищ комиссар, ты ведь сейчас думаешь: зарвался начдив, обстановки не видит. Бойцы уже неделю спят урывками. — Подумал. — Вот Стишь возьмем — и пошлем конников отдохнуть в балки… ненадолго только. — Бросил сердитый взгляд в сторону штабистов и широко улыбнулся: — Люблю я вас, чертяк, только паузы мне затяжные не рисуйте. Курск, Курск нас ждет. Потом они сидели вдвоем, в углу, на стареньком, повидавшем виды гостиничном диване, и штабисты с удивлением наблюдали, как два этих человека, очень уж разных, но оба с громкими голосами, беседовали шепотом и притом с огромным интересом. И говорили они не о грядущих боях, а о трудных минутах в своей жизни и вспоминали о встречах с людьми, которые помогли им многое оценить заново. Восков вспомнил свою встречу с Лениным в фойе Таврического дворца. — Ленин после тридцатилетней работы, должно быть, счастлив внутренне. — Восков говорил убежденно. — Его лицо всегда пышет весельем, радостью и бодростью. Не знаю, Петро, — добавил он, — выйдем ли мы целехонькими из этой битвы, не знаю, насколько старше станем… Не беда! Дела, которые нами не переделаны, радости, которые неизведанны, будут наверстаны сторицей. Не нами, так другими. Так они говорили, чтобы снова вернуться к двухверстке, к размытым осенью дорогам, к бешеным контратакам корниловских полков. Рубеж октября и ноября был ознаменован взятием узловых пунктов на пути к Курску — Стиши, Станового Колодезя, а в день второй годовщины революции — Малоархангельска. На исходе второй декады ноября Павел Николаевич Александров, вступивший по приказу начдива в командование второй бригадой и стремительно продвигавший ее по дороге Орел–Курск, получил телефонограмму: «ТОВ. АЛЕКСАНДРОВ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ТРЕБУЕТ ВЗЯТЬ КУРСК СЕГОДНЯ ЖЕ ТРЯХНИ БРИГАДУ КУРСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЗЯТ ВОСКОВ». Догадавшись, что отсутствие второй подписи означает спешный выезд начдива на передовые позиции другой ударной группы, Александров бросил бригаду в форсированное наступление вдоль железнодорожного полотна. Белогвардейцы открыли яростный заградительный огонь, но он не остановил продвижение красных полков. Комбриг получил ранение, остался в строю и первым врывался в деревни, которые тщетно пытались удержать дроздовские офицеры. Только в деревне Уколое, близ окраины Курска, сделали небольшую передышку. Перевязали раненых, в большой избе собрались командиры полков. Распахнулась дверь: Восков, за ним — ординарец. Вид у военкома подтянутый, бравый, но шинель прострелена в нескольких местах. Александров, которому боец бинтовал руку, заметил это, быстро спросил: — Товарищ военком, может быть, заодно и вам нужна фельдшерская помощь? — Еще чего, — отшутился Восков. — Мы кабинетные работники, третьего эшелона… — Трое суток как есть не выходим из боя, — доложил ординарец. — Ну-ка, Сергеев, — остановил его Восков, — тут люди обстрелянные, сами уже неделю огонь на себя вызывают, и хвастуны им горше редьки. Я приехал, чтобы разъяснить вам приказ о наступлении, товарищи. Присел к столу, извлек из планшета карту, сообщил, что Реввоенсовет Южного фронта предусматривает разгром корпусов генералов Кутепова, Мамонтова и Шкуро, охватом двух армий и конного корпуса Буденного по сходящимся эллипсам на Курск. — Курск вы должны занять сегодня же ночью. К нему придвинули кружку с кипятком, краюху хлеба. — Не откажусь, — хотел улыбнуться, но лицо, губы, щеки еще были прихвачены морозом. Полчаса не отсидел, поднялся. — Итак, до встречи в Курске. Это будет добрый подарок нашей революции. Ординарец уже дал корма лошадям, оседлал их. Схитрил: — Как прикажете, Семен Петрович — в штаб или куда? — Куда, куда, — улыбнулся Восков. — В третью бригаду едем. К Куйбышеву. — Так там же заваруха, Семен Петрович, — принялся его уговаривать Сергеев, — а вы уже трое суток в седле, и начдив говорит, вам комиссарить надо, а не мотаться с горячей сковороды на раскаленную. — Хороший из тебя агитатор будет, Сергеев, — засмеялся Восков. — Только место комиссара знаешь где? — Знаю, — хмуро подтвердил Сергеев. — А раз знаешь, туда и коняку правь. Третьей бригаде предстояло прорвать фронт противника на центральном участке курской обороны. Бригаду Куйбышев, пользовавшийся особой любовью солдат, принял в дни битвы за Орел. Когда Восков с ординарцем подъезжали к Горелому лесу, уже вечерело, крутилась поземка. Стыли руки, за шиворот забивались мокрые комья снега, осыпавшиеся с веток. Лошади поминутно спотыкались. Их негромко окликнули, Восков сказал: «Свои. Ромашка» и услышал отзыв: «Полынь. Сверните на косую, а потом возьмите прямочко, тут вам и будет изба лесничего». Но ему хотелось попасть сначала к конникам, и он «на косую» не сворачивал, а сразу углубился в чащу леса и, поплутав еще с четверть часа, наткнулся на кавалерийский лагерь. Бойцы сидели или лежали прямо на ветках, прислонившись к мшистым стволам, а кони бродили тут же, между деревьями, тщетно пытаясь раскопать под тонким снежным покровом травинку. — Здорово, червонная кавалерия, — бодро приветствовал людей комиссар. Ответили вяло, нестройно. Он спешился, расспросил о потерях. Подошли командир кавалеристов Попов и комиссар Грузинский. — Приказ мы получили, товарищ комиссар, — доложил Федор Попов, — в тыл белым у Золотухина ударим своевременно. — Готовится другой приказ, — сказал Восков. — Обстановка сложилась такая, что к утру мы должны взять Курск. В состоянии ли бригада сегодня с наступлением ночи пройти сорок верст и налетом ворваться в город с юга? Стрелковые полки вас поддержат ударом отсюда. — Бойцы засыпают в седлах, — хмуро сказал Грузинский. — А вы, товарищи, не торопитесь с ответом, — предложил Восков. — Продумайте все сами, посоветуйтесь с командирами эскадронов, а я подожду… Сел на пенек, увидел, что рядом лежит боец, лихорадочно стонет, сбросил с себя шинель, накрыл его. В одной кожаной куртке было зябко, походил, снова сел, изредка поглядывая на совещавшихся командиров, но не желал мешать их беседе. Не заметил, как и задремал. Подошли командиры, сна будто и не было. — Что решили? — Приказ командования будет выполнен. Он даже засмеялся от радости, обнял командиров, достал из планшета приказ, вручил им. — Завтра увидимся в Курске, но я еще у вас погощу. Есть о чем поговорить. А сейчас командиров и комиссаров попрошу в штаб восьмидесятого полка. В маленьком домике лесничего собрались боевые командиры, вошел Восков, поздоровался, уточнил план атаки. — В бой пойдем вместе, если доверяете. — Уже один комиссар тут есть, — лукаво заметил военком полка Таран. — Не получится переизбыток? — У тебя будет своя работа, комиссар, — засмеялся Восков, — у меня своя. Поделимся. А сейчас проведи-ка меня на позиции. …Горелый лес. Обходил роты. Потом — к конникам. — Пора вам в путь, ребята. Провожу вас немного. Поднялся буран. Ветер и снег забивали глаза, нос, уши. Ноги казались ледяшками. Лошадей вели под уздцы. Сбились с дороги — компас подвел: тогда еще не знали о Курской магнитной аномалии. У полотна натолкнулись на отряд дроздовцев, завязали бой. Рубились страшно. Попов и Грузинский вначале оберегали военкома, потом вошли в азарт рубки, забыли обо всем, а он повел группу бойцов на фланги, оттуда ударил по белякам. Так кавалеристы прорвались через полотно. Восков вернулся с ординарцем назад, в Горелый лес. И снова буран валил их с ног, и снова ординарец кричал: «В штаб или куда?» — «Куда! — кричал ему Восков. — Куда!» Полк уже начал продвижение, но перед деревней Долгая Клюква застрял. Дроздовские офицеры вгрызлись в землю — повезло им, здесь тянулись овраги — и поливали атакующих непрерывным пулеметным огнем. Комбат Нестер Иванов сумел неприметно обойти Клюкву и навалиться на заслоны деникинцев сзади в тот момент, когда Восков с двумя ротами другого батальона атаковал белое офицерье в лоб. Сотни пленных, пулеметы, винтовки, снаряды… Считать все это некогда. Нужно идти вперед. И нельзя даже выделить конвой для отправки пленных в свой тыл. «В расход бы их!» — предложил комбат. «Это проще всего, Нестер! А ты подумай. На одного офицера приходится десяток обманутых мужиков… Сделаем так. Легко раненные пусть их покараулят. Начнут смуту заводить — не стесняться, к стенке!» Вот и железная дорога Курск–Белгород. Свинцовый ливень прижал людей к земле. Они знали, что это агония полуразбитых деникинских орд в районе Курска, что с юга и северо-запада уже должны врываться в город другие части дивизии, но кто хочет умирать за час до победы.
— Передать по цепи! — кричит Восков. — Дорога сейчас — это наша жизнь. За революцию — вперед!
Он бросился в гущу огня, вскарабкался на насыпь, стреляя из пистолета в упор по откатывающимся офицерам. Поскользнулся и едва не свалился на их пулеметные гнезда. Могло быть хуже. Чувствовал, что кровь заливает лицо, подбородок, а все равно бежал вперед, стреляя и крича, зная, что нет сейчас другого дела и другого пути для комиссара, когда нужно поднять людей на жизнь и, может быть, на смерть. И люди бежали за ним и рядом с ним, а потом и обогнали его. Через час восьмидесятый уже с боем ворвался в Стрелецкую слободу, еще через час в рукопашной схватке с деникинцами пробился на городскую площадь.
Здесь они встретились с начдивом, оба еще прерывисто дышали, разгоряченные боем, оба в пороховой копоти, со следами прилипшей грязи, пятен крови.
Вот и железная дорога Курск–Белгород. Свинцовый ливень прижал людей к земле. Они знали, что это агония полуразбитых деникинских орд в районе Курска, что с юга и северо-запада уже должны врываться в город другие части дивизии, но кто хочет умирать за час до победы.
— Передать по цепи! — кричит Восков. — Дорога сейчас — это наша жизнь. За революцию — вперед!
Он бросился в гущу огня, вскарабкался на насыпь, стреляя из пистолета в упор по откатывающимся офицерам. Поскользнулся и едва не свалился на их пулеметные гнезда. Могло быть хуже. Чувствовал, что кровь заливает лицо, подбородок, а все равно бежал вперед, стреляя и крича, зная, что нет сейчас другого дела и другого пути для комиссара, когда нужно поднять людей на жизнь и, может быть, на смерть. И люди бежали за ним и рядом с ним, а потом и обогнали его. Через час восьмидесятый уже с боем ворвался в Стрелецкую слободу, еще через час в рукопашной схватке с деникинцами пробился на городскую площадь.
Здесь они встретились с начдивом, оба еще прерывисто дышали, разгоряченные боем, оба в пороховой копоти, со следами прилипшей грязи, пятен крови.
 — Все знаю! — крикнул ему Солодухин. — Золото ты, а не комиссар. К награде тебя представлю.
— Представление отправлять не разрешу! — отозвался Восков. — Пока не заслужил. Представляй бойцов, комбатов, комбригов… Пяти полкам, взявшим Курск, красные знамена вручать будем…
К нему подбежали кавалеристы Феди Попова.
— Товарищ Восков… Ворвались в Курск, как положено. Только комиссар наш помирает… Видеть вас хочет.
Грузинский лежал в сгустках крови, взглядом попросил военкома подойти поближе.
— Я тебя плохо встретил, Восков, — шепнул он. — Мы партизаны… сам знаешь… Ты скажи, мировая революция скоро будет?
— За всю мировую не скажу, — вздохнул Семен, — а что белую нечисть скоро выгоним из России — за это ручаюсь.
— И еще скажи… нас, комиссаров, дети вспомнят?
— А как же! — уверенно ответил Восков. — Памятник поставят военным комиссарам. Комиссары — кто? Цемент, скрепляющий армию и народ.
— Только видишь, и цемент разрушается…
Грузинский закрыл глаза, Восков поцеловал его, вышел, на крыльце присел, — обмороженные за ночь ноги начали опухать.
Федя Попов его подхватил под мышки, поднял, помог добраться до штаба.
Штаб дивизии обосновался на Сергиевской, в доме предводителя дворянства. Воскова обступили молодые командиры.
— А уж у нас партийная прослойка больше чем вдвое выросла, — с гордостью отрапортовал батальонный политкомиссар. — Как деникинцы ни грозили нам в листовках, что перевешают всех большевиков, ребята идут в партию. Шутку пустили: «Кандидатами на деникинскую виселицу записываемся».
Потом эти слова всплывут в донесении Воскова и снова появятся в отчете ЦК партии об итогах «партийной недели».
Семен осмотрелся, Солодухин — за столом, старательно пишет.
— Петро, полки Александрова ворвались в Курск в одно время с ударной группой. К ордену Павла Николаевича представим. Согласен?
Начдив не слышал — писал. Восков заглянул через его плечо, бегло прочел: «Ходатайствую о непременном награждении комиссара дивизии Воскова за его выдающуюся храбрость… во время операции под Курском… несмотря на ураганную бурю и мороз, вел части в наступление… При всей дальнейшей операции, при двух атаках на Курск товарищ Восков всегда был вдохновителем бойцов и первым вступил в город. Начдив-9 Солодухин».
— Отправлять не разрешу! — сказал Восков. — Не заслужил пока. Есть более достойные.
— Все знаю! — крикнул ему Солодухин. — Золото ты, а не комиссар. К награде тебя представлю.
— Представление отправлять не разрешу! — отозвался Восков. — Пока не заслужил. Представляй бойцов, комбатов, комбригов… Пяти полкам, взявшим Курск, красные знамена вручать будем…
К нему подбежали кавалеристы Феди Попова.
— Товарищ Восков… Ворвались в Курск, как положено. Только комиссар наш помирает… Видеть вас хочет.
Грузинский лежал в сгустках крови, взглядом попросил военкома подойти поближе.
— Я тебя плохо встретил, Восков, — шепнул он. — Мы партизаны… сам знаешь… Ты скажи, мировая революция скоро будет?
— За всю мировую не скажу, — вздохнул Семен, — а что белую нечисть скоро выгоним из России — за это ручаюсь.
— И еще скажи… нас, комиссаров, дети вспомнят?
— А как же! — уверенно ответил Восков. — Памятник поставят военным комиссарам. Комиссары — кто? Цемент, скрепляющий армию и народ.
— Только видишь, и цемент разрушается…
Грузинский закрыл глаза, Восков поцеловал его, вышел, на крыльце присел, — обмороженные за ночь ноги начали опухать.
Федя Попов его подхватил под мышки, поднял, помог добраться до штаба.
Штаб дивизии обосновался на Сергиевской, в доме предводителя дворянства. Воскова обступили молодые командиры.
— А уж у нас партийная прослойка больше чем вдвое выросла, — с гордостью отрапортовал батальонный политкомиссар. — Как деникинцы ни грозили нам в листовках, что перевешают всех большевиков, ребята идут в партию. Шутку пустили: «Кандидатами на деникинскую виселицу записываемся».
Потом эти слова всплывут в донесении Воскова и снова появятся в отчете ЦК партии об итогах «партийной недели».
Семен осмотрелся, Солодухин — за столом, старательно пишет.
— Петро, полки Александрова ворвались в Курск в одно время с ударной группой. К ордену Павла Николаевича представим. Согласен?
Начдив не слышал — писал. Восков заглянул через его плечо, бегло прочел: «Ходатайствую о непременном награждении комиссара дивизии Воскова за его выдающуюся храбрость… во время операции под Курском… несмотря на ураганную бурю и мороз, вел части в наступление… При всей дальнейшей операции, при двух атаках на Курск товарищ Восков всегда был вдохновителем бойцов и первым вступил в город. Начдив-9 Солодухин».
— Отправлять не разрешу! — сказал Восков. — Не заслужил пока. Есть более достойные.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. МОСТ ДОЛЖЕН ВЗЛЕТЕТЬ
«Есть же мастера этого дела… Будь они сейчас на моем месте, этот проклятый мост уже давно бы лежал в сугробах». Пока же лежала в сугробах она. У самого основания моста. Все, чему научили ее дядя Миша и другие инструкторы по борьбе самбо, подрывному делу, стрельбе, разведке, — она должна вложить в это задание. Взорвать мост. Только и всего! Небольшой одноарочный мост с сечением двутавровой балки. Это она определила сразу. Инструкторы далеко. Ее работу, ее решение, ее план действий они оценят позднее. Интересно, как это проделывал ты, Володя? Наверно, у тебя это здорово получалось. Не зря тебя прозвали Жаровней. …Часовых — всего двое. Можно снять бесшумно. Нужно только не угодить в смену караула. Придется понаблюдать. Она ползала, смотрела, ждала около двух часов, пока не наступил развод караула. Значит, по крайней мере два часа в ее распоряжении будет. Подходы к мосту просматриваются — придется действовать на рассвете, в тумане… А можно и ночью. В зависимости от расписания поездов. Правда, ночью хуже, ночью часовые бдительнее, чем на рассвете, когда бодрствующих окутывает дрема.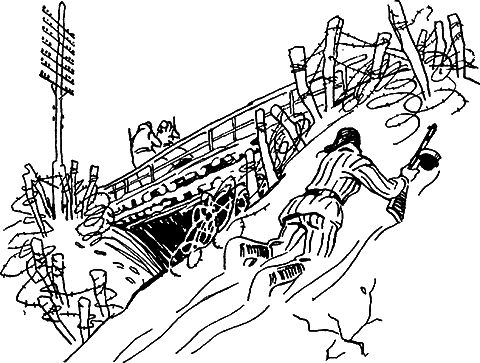 Сколько здесь понадобится взрывчатки? Килограммов шесть–восемь. Можно будет подсчитать точнее. Как ее уложить? Наискосок насыпи, чтобы при взрыве образовался завал. В скольких местах? В двух-трех…
Взрывчатку все же притащила ночью. Ящичек зарыла в снегу. Отмерила число шагов от насыпи — взглядом. Убралась в ближний лес. На рассвете вернулась назад.
На ней было надето все, что содержалось в партизанском комплекте. Иначе нельзя. Чувствуя себя неуклюжей в меховой телогрейке и ватнике, вжалась в снег, поползла по-пластунски. Сначала — вниз, потом — вверх, по склону насыпи. Что-что, а ползать она умела еще в альпинистских походах. Часовые на мосту расхаживали, переговаривались. Она дождалась момента, когда один из них подошел к поручням, нагнулся над озером; подкралась, точным свингом лишила его сознания, заткнула рот кляпом, связала и, по какому-то наитию, в открытую пошла навстречу другому. Он заметил ее, когда она была в трех шагах, насторожился, поднял автомат, велел остановиться. Мелким шажком подбежал, закрутил ей руку за спину, но в ту же секунду потерял равновесие и был переброшен через перила в мягкий сугроб, что было весьма предусмотрительно подготовлено архитекторами этого учебного «партизанского края».
С вышки, на которой расположились инструктора с биноклями, замигали фонарики: поединок окончен.
— Я же самбист! А ты кто? Инструктор? — восхищенно спросил парень, выбираясь из снега.
— А я сама не знаю, кто я, — засмеялась Сильва.
Втроем они зашагали к инструкторам. Ребят отругали за беспечность, а Сильву — за открытое столкновение со вторым «часовым», но она заставила их согласиться, что и такой прием возможен.
— Считайте, что мост взлетел, — сказали ей.
Сколько здесь понадобится взрывчатки? Килограммов шесть–восемь. Можно будет подсчитать точнее. Как ее уложить? Наискосок насыпи, чтобы при взрыве образовался завал. В скольких местах? В двух-трех…
Взрывчатку все же притащила ночью. Ящичек зарыла в снегу. Отмерила число шагов от насыпи — взглядом. Убралась в ближний лес. На рассвете вернулась назад.
На ней было надето все, что содержалось в партизанском комплекте. Иначе нельзя. Чувствуя себя неуклюжей в меховой телогрейке и ватнике, вжалась в снег, поползла по-пластунски. Сначала — вниз, потом — вверх, по склону насыпи. Что-что, а ползать она умела еще в альпинистских походах. Часовые на мосту расхаживали, переговаривались. Она дождалась момента, когда один из них подошел к поручням, нагнулся над озером; подкралась, точным свингом лишила его сознания, заткнула рот кляпом, связала и, по какому-то наитию, в открытую пошла навстречу другому. Он заметил ее, когда она была в трех шагах, насторожился, поднял автомат, велел остановиться. Мелким шажком подбежал, закрутил ей руку за спину, но в ту же секунду потерял равновесие и был переброшен через перила в мягкий сугроб, что было весьма предусмотрительно подготовлено архитекторами этого учебного «партизанского края».
С вышки, на которой расположились инструктора с биноклями, замигали фонарики: поединок окончен.
— Я же самбист! А ты кто? Инструктор? — восхищенно спросил парень, выбираясь из снега.
— А я сама не знаю, кто я, — засмеялась Сильва.
Втроем они зашагали к инструкторам. Ребят отругали за беспечность, а Сильву — за открытое столкновение со вторым «часовым», но она заставила их согласиться, что и такой прием возможен.
— Считайте, что мост взлетел, — сказали ей.
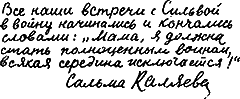 «Тебе, Володя!» — мысленно адресовала она сегодняшний день человеку, который уже никогда об этом не узнает. А может быть, узнает. Ведь писал же Константин Симонов: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». То поэзия, а это — жизнь. Не всюду они сходятся. Вот и у Лены так… Был верный друг — Роман, и нет его. Месяц молчала, потом написала Сильве вскользь, между строчками. Они всегда понимали друг друга. О боли не расписывают, больного места не касаются… Скорее бы в дело! Везет же некоторым людям. Ее сводный брат Даня летает на бомбардировщиках, а пишет об этом так, будто речь идет о завтраках и обедах.
«Вчера объявили о взятии Гомеля, — писала она маме. — Эта горячая боевая волна все ближе и ближе к нашей области и к нашему городу, и желанный час уже недалеко, я уже слышу бой этих больших огневых часов». Мама, наверное, долго будет раздумывать над этими строчками и искать в них потайной смысл. Милая мама, даже тебе я не могу сказать, что после освобождения Ленинградской области наступит очередь Прибалтики… Мама, мама, чем тебя порадовать?
«С тлетворными изменениями настроения научилась бороться, жаль только, что в легкой обстановке. Пусть это будет генеральной репетицией для возможных, могущих случиться, трудностей… Все крепче и яснее я ощущаю потребность стать тебе хорошей дочерью, достойной твоей мечты».
Пока же на вопрос Ивана Михайловича, получила ли медаль «За оборону Ленинграда», ответила кратко: «Получила. Это наша семейная гордость. — И поспешила добавить: — Есть куда более достойные».
Так сказала и на вручении. Член Военного Совета пожал ей руку, как всем другим, но вдруг что-то вспомнил, всмотрелся:
— Так. Значит, не пропала моя рекомендация?
— Не пропала, товарищ член Военного Совета.
— Желаю большого счастья.
— Есть быть счастливой!
Оба улыбнулись. Разве такое бывает по команде? По команде бывает другое.
…Вошла Марина. Села на лежанку.
— Продолжим, товарищ разведчик… Подпольная группа уходит на задание, предлагает радисту присоединиться к ней.
— Радист отвечает, — Сильва сказала, не дожидаясь вопроса: — «Центр не разрешает радисту-разведчику участвовать в коллективных операциях».
«Тебе, Володя!» — мысленно адресовала она сегодняшний день человеку, который уже никогда об этом не узнает. А может быть, узнает. Ведь писал же Константин Симонов: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». То поэзия, а это — жизнь. Не всюду они сходятся. Вот и у Лены так… Был верный друг — Роман, и нет его. Месяц молчала, потом написала Сильве вскользь, между строчками. Они всегда понимали друг друга. О боли не расписывают, больного места не касаются… Скорее бы в дело! Везет же некоторым людям. Ее сводный брат Даня летает на бомбардировщиках, а пишет об этом так, будто речь идет о завтраках и обедах.
«Вчера объявили о взятии Гомеля, — писала она маме. — Эта горячая боевая волна все ближе и ближе к нашей области и к нашему городу, и желанный час уже недалеко, я уже слышу бой этих больших огневых часов». Мама, наверное, долго будет раздумывать над этими строчками и искать в них потайной смысл. Милая мама, даже тебе я не могу сказать, что после освобождения Ленинградской области наступит очередь Прибалтики… Мама, мама, чем тебя порадовать?
«С тлетворными изменениями настроения научилась бороться, жаль только, что в легкой обстановке. Пусть это будет генеральной репетицией для возможных, могущих случиться, трудностей… Все крепче и яснее я ощущаю потребность стать тебе хорошей дочерью, достойной твоей мечты».
Пока же на вопрос Ивана Михайловича, получила ли медаль «За оборону Ленинграда», ответила кратко: «Получила. Это наша семейная гордость. — И поспешила добавить: — Есть куда более достойные».
Так сказала и на вручении. Член Военного Совета пожал ей руку, как всем другим, но вдруг что-то вспомнил, всмотрелся:
— Так. Значит, не пропала моя рекомендация?
— Не пропала, товарищ член Военного Совета.
— Желаю большого счастья.
— Есть быть счастливой!
Оба улыбнулись. Разве такое бывает по команде? По команде бывает другое.
…Вошла Марина. Села на лежанку.
— Продолжим, товарищ разведчик… Подпольная группа уходит на задание, предлагает радисту присоединиться к ней.
— Радист отвечает, — Сильва сказала, не дожидаясь вопроса: — «Центр не разрешает радисту-разведчику участвовать в коллективных операциях».
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ. ПОРУЧЕНИЕ БУДЕНОВЦЕВ
Донесение комиссара Григория Тарана вызвало в штабе дивизии сначала недоумение, а потом дружный смех. — Задержали эшелон с попами и чиновниками, — сообщал Таран по телефону с одной из станций. — Орловские, да курские. Едут с семьями и тещами. Попы, говорят, от греховодников, от нас выходит, бегут, а чинуши — от деникинской мобилизации. Черт их распутает, а я не могу. — Что же ты предпринял? — кричал Восков в трубку. — Согласно убеждениям религиозный дурман рассеял. Попросту сказать, высадил попов и попадей в поле, да и велел им по домам расходиться. А чинуш к вам отправил. Разбирайтесь. Они стояли ломанными шеренгами, сотни писарей, счетоводов, канцеляристов, адвокатов, фельдшеров, ветеринаров бывших деникинских учреждений, а начдив и военком в недоумении расхаживали перед этим необычным строем. — Кто их знает, каких они убеждений! — сердито говорил Солодухин. — А ты, начдив, проверь, — подзадорил его Восков. — Побеседуй с ними по текущему моменту. — Я их по-своему проверю, — убежденно возразил Солодухин. И обратился к строю: — Так что, уважаемые граждане Орла и Курска, мы хотим вас считать не как врагов, а как сочувствующих Советской власти. Правильно я рассуждаю? — Правильно, — вразнобой закричали чиновники. — А раз правильно, — важно сказал начдив, сдерживая смех, — то всех, знающих революционные песни, прошу, согласно закону Девятой стрелковой дивизии, пропеть из них по одному куплету. Сначала по рядам пронесся вздох, потом несколько голосов нестройно затянули: Казаков окружали два буденновских эскадрона.
Только к ночи выбили из Валуек белых. На станции собрались железнодорожники, жители поселка, конармейцы, бойцы Девятой стрелковой.
— Дай мне слово, комиссар, — громко попросил начдив Матузенко.
Он стоял в толпе конармейцев. Рядом с каждым — его боевой конь. А у Матузенко — это все знают — конь особой стати: серый, в яблоках, в ходу легкий. Начдив подвел коня к помосту.
— По поручению буденновцев… Дарю лучшего нашего коня храброму военкому и хорошему человеку Семену Воскову.
А от себя добавил:
— Я у тебя в долгу, Семен Петрович. Буду помнить.
Командиры боевых охранений голосисто запели: — По ко-о-ням!
Казаков окружали два буденновских эскадрона.
Только к ночи выбили из Валуек белых. На станции собрались железнодорожники, жители поселка, конармейцы, бойцы Девятой стрелковой.
— Дай мне слово, комиссар, — громко попросил начдив Матузенко.
Он стоял в толпе конармейцев. Рядом с каждым — его боевой конь. А у Матузенко — это все знают — конь особой стати: серый, в яблоках, в ходу легкий. Начдив подвел коня к помосту.
— По поручению буденновцев… Дарю лучшего нашего коня храброму военкому и хорошему человеку Семену Воскову.
А от себя добавил:
— Я у тебя в долгу, Семен Петрович. Буду помнить.
Командиры боевых охранений голосисто запели: — По ко-о-ням!
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ. СБОРЫ БЫЛИ НЕДОЛГИ
— Значит, выходим на маршрут? Сильва счастливо улыбнулась: — Есть на маршрут, товарищ полковник! А еще сегодня утром она и не подозревала, что мечта начнет сближаться с явью. День начался, как и всегда, с жесткого купанья в снегу. Растиралась на морозе докрасна. Девчонки с завистью смотрели на ее крепкую, словно отлитую в мускулах, фигуру. Неожиданно из-за снежного завала на них обрушился град хорошо спрессованных снежных комьев. Девчонки, одетые еще не для постороннего взгляда, с хохотом разбежались. Сильва быстро застегнула кофточку, перекинула полотенце через плечо и, мельком взглянув на плотного сложения незнакомца, направилась к землянке. Улыбаясь, он загородил ей дорогу. Всегда безумно застенчивая, в особенности с людьми, которых встречала впервые, Сильва научилась сейчас прятать свои чувства за грубоватым тоном. — Пропустите! — резко приказала она. — И пора бы такому увальню научиться уважать девушек. — Вот как? Молниеносным движением он схватил ее за руку и, подставив подножку, рванул на себя. Описывая в воздухе полукруг, Сильва сумела зажать его голову, нанести острый удар в «солнечное сплетение» и, почувствовав, что руки незнакомца на секунду ослабли, выпрямиться и нанести ему второй удар, который пришелся по подбородку. С удовлетворением уложив его в сугроб, она неторопливо пошла к землянке. Услышала за спиной возглас: — Неплохо, но падение я имитировал. Хук был неточен. Прошу извинить. Остались досада и недоумение… «Наверно, один из лесных людей, — сказала себе, — улетает и прилетает». Потом об этом странном поединке забыла. Работала на приеме, инструктор бесконечно менял частоты и ритм, дошла до изнеможения. Перед ужином ее вызвали к прибывшему полковнику. Он смотрел испытующе и, как ей показалось, с легкой грустью. — Ну вот, Сильвия Семеновна, настал и ваш черед. Собирайтесь в путь и будьте готовы выехать в любой час. Голос ее зазвенел от тщетно скрываемого волнения: — Товарищ полковник, доверие командования клянусь оправдать. Есть быть готовой! — И по-детски засмеялась. — Даже не верится — до того это сказочно… Он нахмурился, побарабанил пальцами по столу. — Сказочно? Впервые слышу такую оценку разведывательной службе. Вы эти увлечения оставьте, Воскова. Вас ждет очень изматывающая работа с риском для жизни. — Это выстрадано, товарищ полковник. Полковник сделал долгую паузу, всмотрелся.
— Вы полетите с разведывательно-диверсионной группой «Балтийцы». Ее командир — опытный и храбрый разведчик Позывной будете знать только вы оба: Сант-Яго — разумеется, в цифровом коде… Наверно, когда-то учили — столица Чили. Если запеленгуют и заставят играть с Центром в кошки-мышки, добавите, выходя на связь: «Сант-Яго де Куба».
Усмехнулся.
— А теперь познакомьтесь с командиром группы.
Вошел ее утренний партнер по самбо. Карие, как у Сильвы, глаза откровенно смеялись.
— Еще раз прошу прощения, товарищ Лена. Два дня к вам приглядываюсь по распоряжению начальства. Признаюсь, просил в группу радиста-мужчину, но согласен и на вас. Впрочем, приказ не обсуждают.
Прощаясь с полковником, Сильва набралась храбрости:
— Мы мечтали быть с Еленой Вишняковой в одной группе.
— Знаю, — сердито ответил полковник. — Но товарищ Вишнякова должна пойти с другими.
Лене сообщила кратко: «Полковник приказал собираться и быть готовой… Мне ужасно жаль, что едем не одновременно, но помни, что мы условливались не огорчаться, если поедет вначале одна. Жди и действуй. Твоя, всегда твоя, Сильва».
Собираться? У нее все наготове: обмундирование, оружие, запас концентратов, таблица шифров. И никаких прощаний с родными. Не положено. Просто нужно кое-что напомнить дорогим ей людям.
«Мамуля, пришел, наконец, печник или нет?»
«Опять у папы адрес меняется — сразу сообщи».
«От Дани ничего не получаю, спишитесь с ним».
«Насчет пленки для твоих кардиограмм написала Лене».
«Книгу „Дальняя связь“, если это то издание, что лежит у меня на этажерке, на верхней полке, можешь не покупать, а если другое, то купи».
«Папа, как война кончится, костьми полягу, а буду инженером… Много ребят из ЛЭТИ писали мне славные письма с фронта и с трогательностью вспоминают золотые институтские денечки».
«Дорогая моя бесценная бабуся, хоть ты на меня ворчала последнее время изрядно, но я понимаю, что за дело. Это меня многому научило».
«Твои конспекты, мамочка, нужно искать на корзине возле моей этажерки».
«Я никогда не была так спокойна за будущее, как теперь».
Так захотелось послать домой сувенир. Но «ТТ» — дар ижорских оружейников народным мстителям — входит в боекомплект, а дневники нужно ликвидировать… Стихи — вот что она пошлет. Перепробовала десятки заголовков, пока не написала: «Маме». Дело пошло намного быстрее…
Полковник сделал долгую паузу, всмотрелся.
— Вы полетите с разведывательно-диверсионной группой «Балтийцы». Ее командир — опытный и храбрый разведчик Позывной будете знать только вы оба: Сант-Яго — разумеется, в цифровом коде… Наверно, когда-то учили — столица Чили. Если запеленгуют и заставят играть с Центром в кошки-мышки, добавите, выходя на связь: «Сант-Яго де Куба».
Усмехнулся.
— А теперь познакомьтесь с командиром группы.
Вошел ее утренний партнер по самбо. Карие, как у Сильвы, глаза откровенно смеялись.
— Еще раз прошу прощения, товарищ Лена. Два дня к вам приглядываюсь по распоряжению начальства. Признаюсь, просил в группу радиста-мужчину, но согласен и на вас. Впрочем, приказ не обсуждают.
Прощаясь с полковником, Сильва набралась храбрости:
— Мы мечтали быть с Еленой Вишняковой в одной группе.
— Знаю, — сердито ответил полковник. — Но товарищ Вишнякова должна пойти с другими.
Лене сообщила кратко: «Полковник приказал собираться и быть готовой… Мне ужасно жаль, что едем не одновременно, но помни, что мы условливались не огорчаться, если поедет вначале одна. Жди и действуй. Твоя, всегда твоя, Сильва».
Собираться? У нее все наготове: обмундирование, оружие, запас концентратов, таблица шифров. И никаких прощаний с родными. Не положено. Просто нужно кое-что напомнить дорогим ей людям.
«Мамуля, пришел, наконец, печник или нет?»
«Опять у папы адрес меняется — сразу сообщи».
«От Дани ничего не получаю, спишитесь с ним».
«Насчет пленки для твоих кардиограмм написала Лене».
«Книгу „Дальняя связь“, если это то издание, что лежит у меня на этажерке, на верхней полке, можешь не покупать, а если другое, то купи».
«Папа, как война кончится, костьми полягу, а буду инженером… Много ребят из ЛЭТИ писали мне славные письма с фронта и с трогательностью вспоминают золотые институтские денечки».
«Дорогая моя бесценная бабуся, хоть ты на меня ворчала последнее время изрядно, но я понимаю, что за дело. Это меня многому научило».
«Твои конспекты, мамочка, нужно искать на корзине возле моей этажерки».
«Я никогда не была так спокойна за будущее, как теперь».
Так захотелось послать домой сувенир. Но «ТТ» — дар ижорских оружейников народным мстителям — входит в боекомплект, а дневники нужно ликвидировать… Стихи — вот что она пошлет. Перепробовала десятки заголовков, пока не написала: «Маме». Дело пошло намного быстрее…
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ. РАССКАЗ ПРО ЧЕТЫРЕХ БРАТЬЕВ
— Гость к нам скачет! — крикнул Таран. — Конь знатный — не то начдива, не то военкома. Пушка ударила по отступавшим из поселка белоказакам, и комбриг с трудом уловил последние слова Тарана. Получив Первую бригаду, серб Андрей Агатонович легко и просто сработался с Тараном, назначенным к нему комиссаром. Оба были выдвинуты Восковым, любили его приезды в бригаду, беседы у походных костров. — Военкомдив где-то на юге, — Агатонович смотрел в бинокль. — Вчера он звонил. На ковре-самолете не прилетит… Я очень извиняюсь, Григорий Тимофеевич, — поправил он себя, — это товарищ военкомдив. Восков подлетел к командному пункту. Не слезая с седла, крикнул: — Почему белоказаков выпускаете? — Докладывает комбриг-один, — мягко сказал Агатонович. — Не выпускаем, а выбиваем, товарищ комиссар, из поселка Дружковка, ну вот честное благородное слово, с очень большим нажимом. А теперь я приказал полкам чуть-чуть задержаться, чтобы наш артдивизион мог накрыть белых на голом месте и тоже доложить вам, что его люди не даром красноармейский паек кушают. Снова ударила пушка. Восков посмотрел в бинокль. — Верно, не даром… А все-таки выпускать кубанский корпус не следует. Где конница? — На левом фланге, товарищ комиссар. — Я — туда. Бросайте полки в преследование. И дал шпоры коню. Разыскал Федора Попова и — с азартом: — Слушай, червонный конник, и подправь, если загибаю. Ударим твоим полком по флангу кубанцев, зайдем к ним в тыл, а с фронта Агатонович их накроет. Попов посоветовался с штабниками, и полк, снявшись с места, понесся на равнину, на которой снаряды только что взрыхлили землю. Восков не отставал от Попова, но вдруг понял, что они оказываются в арьегарде и что военачальник нарочно попридерживает коня из-за него, комиссара. — Не хитри, Федор! — крикнул он. — Ты что, спятил? Хочешь, чтобы бойцы равнение назад держали?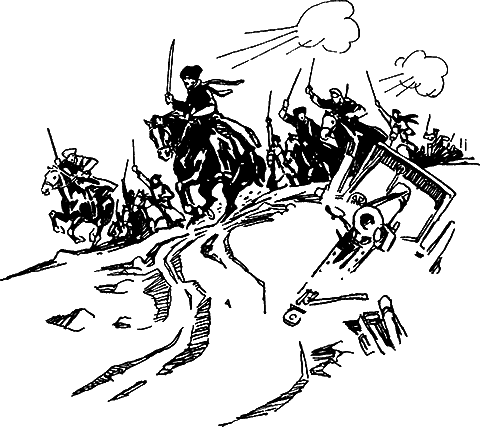 Они врезались в кубанский корпус белых одновременно. Рубка шла грозная. Группа белоофицеров окружила себя подводами и заняла круговую оборону, рассыпая пулеметные очереди.
— Оттесняй беляков! — крикнул Попову военком. — Тут секунды решают, а этими я займусь.
Он спешился с эскадроном конников, и пока Попов с остальной частью полка разрезал на две части кубанский корпус, Восков перестреливался с обозниками и начал забрасывать их гранатами. Неожиданно разъехались телеги — и эскадрон оказался лицом к лицу с отрядом кубанцев — искусных мастеров рукопашного боя. Конники как могли отбивались шашками и прикладами.
На Воскова налетели тучный штабс-капитан и прапорщик. Прапорщика он успел уложить из пистолета, но штабс-капитан навалился на него грузным телом и начал душить. Чувствуя, что ему не дотянуться до выпавшего пистолета, Семен сделал отчаянный рывок и, когда офицер ослабил руки, ударил его коленом в живот; воспользовавшись секундной передышкой, подхватил оброненную им шашку и оглушил своего противника. Потом он поспешил на помощь соседу, потом сосед помогал ему, и так шло до тех пор, пока он понял, что офицерье жмется к телегам, и тогда дал команду ребятам добить их гранатами.
Своих догнали за балкой, часть кубанского корпуса была уже отрезана. Кавполк совместно с двумя полками Агатоновича и буденновской дивизией, грозившей флангам противника, занял Дружковку — стратегически важный поселок под Краматорском. Захватили много пленных, сбрасывавших с себя в панике папахи и бурки, взяли обозы, винтовки…
Командиры собрались после боя в штабе. Воскова не было. Оказывается, он ходил по избам, с народом беседовал. Явился со списком подходящих людей для волостного ревкома, поселкового Совета. Тарану и Агатоновичу показалось, что комиссару не по себе, что он часто подходит к окну, к чему-то прислушивается.
— Могу чем-нибудь помочь? — тихо спросил Агатонович.
Семен вздохнул:
— Дорогой Агатонович, мы на юг двинем. И ближе к тому месту, где трое моих малышей, я уже не окажусь. А они пока под беляками. Так что помочь мне может только полная победа всей Красной Армии.
— Поверьте, если бы я мог… Если нашим людям сказать — они рейд глубокий сделают, чтобы отбить маленьких Восковых.
— Спасибо, комбриг. Идите. Вас ждут.
В эту же ночь он перебрался в ударную группу, на которую Реввоенсоветом возлагалась одна из крупных операций по освобождению Донбасса — захват Дебальцева. Это был последний укрепленный пункт деникинцев в центре Донбасса, и Солодухин и Восков выделили для атаки два стрелковых полка, кавалерийский и артдивизионы.
Восков решил для себя, что в атаку пойдет с грайворонцами 78-го полка. Встретил старых знакомых.
— Это ворота к углю и морю, — пояснял он в ротах красноармейцам. — Возьмем Дебальцево — почти все угольные центры у нас. Возьмем Дебальцево, расколем надвое деникинский фронт — они начнут уносить ноги из Донбасса, освобождая нам выход к Азовщине.
Они врезались в кубанский корпус белых одновременно. Рубка шла грозная. Группа белоофицеров окружила себя подводами и заняла круговую оборону, рассыпая пулеметные очереди.
— Оттесняй беляков! — крикнул Попову военком. — Тут секунды решают, а этими я займусь.
Он спешился с эскадроном конников, и пока Попов с остальной частью полка разрезал на две части кубанский корпус, Восков перестреливался с обозниками и начал забрасывать их гранатами. Неожиданно разъехались телеги — и эскадрон оказался лицом к лицу с отрядом кубанцев — искусных мастеров рукопашного боя. Конники как могли отбивались шашками и прикладами.
На Воскова налетели тучный штабс-капитан и прапорщик. Прапорщика он успел уложить из пистолета, но штабс-капитан навалился на него грузным телом и начал душить. Чувствуя, что ему не дотянуться до выпавшего пистолета, Семен сделал отчаянный рывок и, когда офицер ослабил руки, ударил его коленом в живот; воспользовавшись секундной передышкой, подхватил оброненную им шашку и оглушил своего противника. Потом он поспешил на помощь соседу, потом сосед помогал ему, и так шло до тех пор, пока он понял, что офицерье жмется к телегам, и тогда дал команду ребятам добить их гранатами.
Своих догнали за балкой, часть кубанского корпуса была уже отрезана. Кавполк совместно с двумя полками Агатоновича и буденновской дивизией, грозившей флангам противника, занял Дружковку — стратегически важный поселок под Краматорском. Захватили много пленных, сбрасывавших с себя в панике папахи и бурки, взяли обозы, винтовки…
Командиры собрались после боя в штабе. Воскова не было. Оказывается, он ходил по избам, с народом беседовал. Явился со списком подходящих людей для волостного ревкома, поселкового Совета. Тарану и Агатоновичу показалось, что комиссару не по себе, что он часто подходит к окну, к чему-то прислушивается.
— Могу чем-нибудь помочь? — тихо спросил Агатонович.
Семен вздохнул:
— Дорогой Агатонович, мы на юг двинем. И ближе к тому месту, где трое моих малышей, я уже не окажусь. А они пока под беляками. Так что помочь мне может только полная победа всей Красной Армии.
— Поверьте, если бы я мог… Если нашим людям сказать — они рейд глубокий сделают, чтобы отбить маленьких Восковых.
— Спасибо, комбриг. Идите. Вас ждут.
В эту же ночь он перебрался в ударную группу, на которую Реввоенсоветом возлагалась одна из крупных операций по освобождению Донбасса — захват Дебальцева. Это был последний укрепленный пункт деникинцев в центре Донбасса, и Солодухин и Восков выделили для атаки два стрелковых полка, кавалерийский и артдивизионы.
Восков решил для себя, что в атаку пойдет с грайворонцами 78-го полка. Встретил старых знакомых.
— Это ворота к углю и морю, — пояснял он в ротах красноармейцам. — Возьмем Дебальцево — почти все угольные центры у нас. Возьмем Дебальцево, расколем надвое деникинский фронт — они начнут уносить ноги из Донбасса, освобождая нам выход к Азовщине.
 Он был доволен, чувствовал: люди готовы к бою.
— Слушай, товарищ, — обратился он к бригадному комиссару, — уже в третьей роте ты меня знакомишь с политкомиссарами, и все — Четверяковы. Это что — кличка у вас такая для комиссаров?
И с интересом услышал, что четыре брата Четвериковых, дети бедняка крестьянина из села Бакшеевка под Волчанском: Семен, Павел, Митрофан и Наум — начали свой военный путь с этим полком, связали свою жизнь с партией, участвовали во многих походах Девятой стрелковой, получали ранения, отлеживались в госпиталях и снова возвращались в родной полк.
— Важный,нет, просто исключительно важный случай для воспитания бойцов, — загорелся Восков. — Да разве только один случай? У нас есть тысячи похожих примеров. Люди вступают в Красную Армию целыми семьями, целыми селами.
Вернулся в штаб, спросил:
— Вы учитываете, что Дебальцево — шахтерский центр?
— Учитываем, товарищ военкомдив, как же иначе, не мальчики, — начштаба Иван Шевченко даже покраснел от волнения. — Первым в атаку пойдет батальон, в котором особенно много донбассовцев.
— Хорошо, — он обратился к командиру полка. — Командуйте, товарищ Михайленко, а меня, если понадоблюсь, найдете в батальоне.
29 декабря они встретились в Дебальцеве — между прочим, на митинге. Восков, несмотря на мороз, был в кожанке. «Наступать было легче», — объяснял он потом.
— Деникинского фронта, как видите, уже нет, — подытожил Восков. — Меньше чем за месяц он распался, будто в цирковой пантомиме. Почему? Да потому что армия наша настоящая и потому, что тылы у белых негодные. А сейчас я вам расскажу про четырех братьев Четверяковых…
Он был доволен, чувствовал: люди готовы к бою.
— Слушай, товарищ, — обратился он к бригадному комиссару, — уже в третьей роте ты меня знакомишь с политкомиссарами, и все — Четверяковы. Это что — кличка у вас такая для комиссаров?
И с интересом услышал, что четыре брата Четвериковых, дети бедняка крестьянина из села Бакшеевка под Волчанском: Семен, Павел, Митрофан и Наум — начали свой военный путь с этим полком, связали свою жизнь с партией, участвовали во многих походах Девятой стрелковой, получали ранения, отлеживались в госпиталях и снова возвращались в родной полк.
— Важный,нет, просто исключительно важный случай для воспитания бойцов, — загорелся Восков. — Да разве только один случай? У нас есть тысячи похожих примеров. Люди вступают в Красную Армию целыми семьями, целыми селами.
Вернулся в штаб, спросил:
— Вы учитываете, что Дебальцево — шахтерский центр?
— Учитываем, товарищ военкомдив, как же иначе, не мальчики, — начштаба Иван Шевченко даже покраснел от волнения. — Первым в атаку пойдет батальон, в котором особенно много донбассовцев.
— Хорошо, — он обратился к командиру полка. — Командуйте, товарищ Михайленко, а меня, если понадоблюсь, найдете в батальоне.
29 декабря они встретились в Дебальцеве — между прочим, на митинге. Восков, несмотря на мороз, был в кожанке. «Наступать было легче», — объяснял он потом.
— Деникинского фронта, как видите, уже нет, — подытожил Восков. — Меньше чем за месяц он распался, будто в цирковой пантомиме. Почему? Да потому что армия наша настоящая и потому, что тылы у белых негодные. А сейчас я вам расскажу про четырех братьев Четверяковых…
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. ПЕСНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Вражеский тыл. Что это? Она старалась как можно точнее нарисовать для себя картину того, что ее ожидает, но картина обладала способностью день ото дня меняться — в зависимости от сводки Совинформбюро, бесед с ребятами оттуда и даже собственного настроения. Она получила за эти месяцы многое, очень многое. Она признавалась себе, что если бы все умственные и мускульные усилия, которые она отдала новой для себя профессии, сложить воедино, пожалуй, набралось бы на вузовскую программу обучения. Как там будут без нее — город, Кировский и ЛЭТИ? Да ничего, проживут. А родители? С ними сложнее. Нужно их готовить к мысли, что письма от нее будут все реже и реже. 1 января 1944 года она телеграфировала домой: «Молчанием моим не беспокойся настроение здоровье мировое целую Сильвия». 19 января сообщила: «На днях уезжаю в другое место. Письма оттуда будут доходить реже, чем сейчас… ожидай свою дочку с победой». А отправив письмо и сразу же услышав, что немцев гонят из-под Ленинграда, не удержалась, чтобы не послать еще одну депешу: «Поздравляю с большим ленинградским праздником». В конце января писать действительно не могла: тренировки продолжались круглосуточно. 19 февраля Сильва явилась сама. Мать и бабушка даже не сразу сообразили, что пришла их Сивка-Бурка. В комнату вошел рослый боец, остриженный и одетый по-мужски, и представился, нарочито бася: — Так что принимайте, мамаша, на кратковременную побывку. Подняла мать на руки, как она ни отбивалась, закружилась, запела. Расцеловала бабушку. Сбросила с себя ушанку, шубу, телогрейку, стянула сапоги, осталась в ватных штанах и гимнастерке, залезла на диван и в блаженстве растянулась, вырвав у пружин надсадный звон. — Так и не починили? Как вернусь с войны, сама перебью. Боже, как хорошо… Целых двенадцать часов пробуду в тепличных условиях под родительским кровом. Мать подсела рядом: — Всего двенадцать? А потом что, Сивка? Беспечно ответила: — А потом — обратно в часть. Положила кулачок под голову, свернулась в клубок: — Я буду вас слушать внимательно-превнимательно. Ну, как вы тут снимали с себя осаду? Все рассказывайте: где в эти дни были, что делали, плакали или не плакали? Ели в этот вечер бабушкин морковный пирог, запивали чаем с мороженой клюквой. Мать с обидой вспомнила, что в письмах Сильва больше о клюквенных лесах, чем о себе, писала. — Нормально! — весело отозвалась Сильва. — Согласно условиям военного времени. Я вам сейчас расскажу, как из-за этой клюквы однажды нагоняй от начальства получила. Пришла из лесу, весь противогаз клюквой набила, стала есть — кисло. Отсыпала сахар из эн-зе — это у нас, бабушка… — Да знаю, — замахала старуха, — неприкосновенный запас. — Ух, и ученая ты стала. Ну вот, раз отсыпала, два отсыпала, а утром — проверка. «Воскова, где ваш эн-зе?» — «Разрешите доложить, съела!» — «Получите два наряда!» — «Есть два наряда!» На всю жизнь зареклась. — Обжора ты стала, — ворчливо сказала бабушка. Сильва засмеялась и отодвинула от себя пирог. — Я гармонично развиваюсь, бабушка. Семьдесят три килограмма чистого веса… Она долго ходила по комнате, рассматривала, будто впервые увидела, книги, институтские конспекты, старые письма. — Мам, а какие Восков песни любил? — Я уж и забыла, Сивка. Тогда новых революционных песен немного было. Мы их все от строчки до строчки знали — «Интернационал», «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу». — А еще, еще? — Еще, помню, Восков перед взятием одного поселка после Краматорска затянул… Ну, теперь это не поют…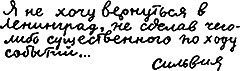 Мать убегала в госпиталь первой. В дверях крикнула:
— Не будь лентяйкой, пиши хоть два раза в неделю! Хотя бы песни гражданской войны!
Сон уже слетел. Быстро оделась, попрощалась с бабушкой.
— Ты в кого веришь, бабушка?
— В человека, Сильвочка.
— Тогда… Тогда помолись и за меня.
«Ждите меня, родные. Я скоро, скоро…»
На лестнице встретилась с девочкой, закутанной в шарфы, только красный носик торчал.
— Здравствуйте, тетя Сильва.
— Ты кто?
Мать убегала в госпиталь первой. В дверях крикнула:
— Не будь лентяйкой, пиши хоть два раза в неделю! Хотя бы песни гражданской войны!
Сон уже слетел. Быстро оделась, попрощалась с бабушкой.
— Ты в кого веришь, бабушка?
— В человека, Сильвочка.
— Тогда… Тогда помолись и за меня.
«Ждите меня, родные. Я скоро, скоро…»
На лестнице встретилась с девочкой, закутанной в шарфы, только красный носик торчал.
— Здравствуйте, тетя Сильва.
— Ты кто?
 Девочка смотрела на нее с восхищением.
— Забыли? — и громко, будто читая, произнесла нараспев: — Волшебник Кулинар бросал в большой-пребольшой чан чегой-то от хлопка и говорил: «Ахалай-махалай!»
— Зорянка! Девочка моя! Ты совсем-совсем большая стала!
— И вы, тетя Сильва, большая стали. Вы теперь у нас будете? Расскажете нам еще сказку?
Подумала. Детям нужно говорить правду.
— Уезжаю, Зорянка. Найду самую лучшую сказку и привезу ее вам. Хоть всю землю перекопаю, а привезу!
За окнами металась февральская вьюга.
Девочка смотрела на нее с восхищением.
— Забыли? — и громко, будто читая, произнесла нараспев: — Волшебник Кулинар бросал в большой-пребольшой чан чегой-то от хлопка и говорил: «Ахалай-махалай!»
— Зорянка! Девочка моя! Ты совсем-совсем большая стала!
— И вы, тетя Сильва, большая стали. Вы теперь у нас будете? Расскажете нам еще сказку?
Подумала. Детям нужно говорить правду.
— Уезжаю, Зорянка. Найду самую лучшую сказку и привезу ее вам. Хоть всю землю перекопаю, а привезу!
За окнами металась февральская вьюга.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. ЛИРИКА МЕЖДУ БОЯМИ
С Азовья налетал ветер — хлестал по лицам, мешал дышать. Начдив, группа штабистов и Восков гарцевали на лошадях у Матвеева Кургана, в двух десятках километров от Таганрога, ожидая донесения конной разведки. Но разведка не возвращалась, и Солодухин, не отличавшийся в предвкушении боя неистощимым терпением, написал короткую записку конной бригаде с приказом начать прорыв и отослал связного. — Эх, и погуляют в Таганроге мои конники! — громко объявил он. Вениамин Попов, прошедший с дивизией от Орла, а ныне возглавлявший ее полевой штаб, с тревогой прислушался к словам начдива, скрывая беспокойство, спросил: — Петр Адрианович, вы это о чем? — О чем, о чем? — весело отозвался начдив. — О том, что через два-три часа мы уже будем пировать в городе. Я приказал комбригу Конной выступить. — Товарищ начдив, — взмолился Попов, — умоляю вас задержать свой приказ. Мы не имеем данных разведки. Бригаду могут уничтожить орудийными расчетами. Его помощники присоединились к доводам начштаба. Солодухин помрачнел, дал шпоры коню, отъехал, снова вернулся, раздраженно сказал: — Вас послушай, так мы бы еще под Краматорском болтались и погоды ждали. А мои орлы Донбасс за неделю освободили. Вечно вы недовольны, вечно хнычете… Солодухин не таков, чтоб приказ свой отменять. Комиссар нас слышит, пусть и рассудит. Восков почувствовал, что Солодухин раздражен, накален. Подумал невесело: и начдивы — люди, и Петра походы и бессонные ночи измотали. Но Попов свое дело знает… — Ну, чего молчишь, комиссар? — выходил из себя Солодухин. — Может, в амбицию влез, что с тобой не согласовал приказ? Так всю меру ответственности на себя принимаю. При свидетелях. Семен как мог спокойнее ответил: — На то ты и начдив, Петр Адрианович, чтобы в боевой обстановке принимать единоличные решения. — То-то, — обрадовался Солодухин. — Мы с комиссаром всегда находим общий язык, когда порохом пахнет. Истинный ты пролетарий и прекрасный человек, Семен Петрович. Штабисты напряженно ожидали конца разговора. — Приказ твой в целом правильный, — задумчиво сказал Восков. — Ты им в какую сторону приказал выступать? — Я стороны не указывал, — вопрос застиг Солодухина врасплох. — Сами знают, куда идем. А ты к чему это спросил? — Видишь ли… Конница — войско маневренное. Если ты думал послать их к востоку от Таганрога, чтоб отрезать путь отступающим белым полкам на Ростов, я тогда руками и ногами подписываюсь под приказом. И орлам твоим пешим будет легче город брать. Солодухин резким движением сорвал с себя папаху, пригладил волосы, снова надел ее, с минуту думал и выпалил: — Дело говоришь. Конкретно надо мыслить, Попов. А не вообще: «Задержите… Отмените…» Только хотел бы я посмотреть на того смельчака, который доставит моим кавалеристам уточнение к приказу: город другие возьмут, а вы, соколики, в степи гарцуйте. — Я поеду, — сказал Попов. — Я затеял, мне и ехать. Попов вернулся через час. Кавалеристы выслушали приказ начдива в молчании. Но как только до них дошел смысл нового распоряжения, они соскочили с коней, окружили начштаба. Горстка коммунистов вовремя врезалась в гущу разгневанных конников и отрезвила их, дав несколько выстрелов в воздух. На курганах стоял крик. Потом разошлись по эскадронам. Попов обходил их, терпеливо разъяснял обстановку. Солодухин, выслушав начштадива, сказал: — Знал это заранее. Подрезали людям крылья. — Крылья вырастают, — возразил ему Восков, — а вот люди уже нет. Стремительно овладев селами Покровским и Бессергеновкой, бригады дивизии в ночь с шестого на седьмое января, буквально на плечах отступавших белых, ворвались в Таганрог. Заслон кавалеристов сделал свое дело; деникинская армия оказалась окончательно рассеченной на две части. И в этом бою Солодухин и Восков были с передовыми частями. Въезжая на улицы города, начдив сказал: — Ну, Семен, ты не только истинный пролетарий, но и комиссар замечательный. Теперь попируем с тобой трохи… Постой, да на тебе лица нет! — Лихорадка привязалась не вовремя, — ответил Восков. — Митинг в самый раз проводить, а всего трясет. Каляева, узнав, что Воскову нездоровится, выхлопотала комнатку в соседнем здании с штабом, заставила Семена выпить несколько стаканов горячего чая, накрыла его двумя шинелями. День он беспробудно спал, к вечеру врач определил воспаление легких. — Пару недель пролежите. — Да так можно и мировую революцию проспать! — Успеете, Восков. Без вас не начнется. Но едва ушел врач, в комнату ввалился Таран. Глаза его, всегда веселые, смотрели тревожно. — Говори, комиссар! — приказал Восков. — Что стряслось? — Только что узнал… Кавалеристы с винных подвалов замки сбивают… Говорят, начдив разрешил… В городе беспорядки… — Подожди. Где начдив? Где комбриги? — Начдив устроил вечер для командного состава. Все там. — Ясно. Слушай, товарищ Таран. Выдели лучших коммунистов, пусть немедленно возглавят патрульные группы и прочистят город. Всех пьяных бойцов — под арест. — Есть! — Он метнулся к дверям. — Подожди… Помоги одеться. — Семен Петрович, нельзя вам. — На пир хочу успеть. Дай, пожалуйста, сапоги. Сальма их в тот ящик спрятала, чтоб не убежал. Ветер, кажется, совсем рассвирепел. Как наши конники. Аж с ног сбивает. Шел с трудом, держась за выступы домов, палисадники, заборы. Увидел группу людей в шинелях — они выкатывали из ворот большую винную бочку. Хрипло приказал: «Прекратить… Стрелять буду!». Разбежались, но он видел: стоят на углах и ждут его ухода. И снова двинулся, проклиная и зиму, и ветер, и свою простуду. Боясь упасть, начал отсчитывать шаги. В зал вошел своей обычной четкой походкой. Быстро окинул взглядом собравшихся. Солодухин, завидев Воскова, махнул рукой оркестрантам, выскочил на середину зала и, лихо приплясывая, запел: Командиры и оркестранты вышли. Они остались одни в большом, ставшим вдруг холодным и чужим им зале.
— Прости, Петро, — сказал Восков. — Иначе я поступить не мог.
Солодухин ничего не ответил, не поднял головы, и комиссар вышел. Еле ворочая ногами, Семен добрался до своего жилья. Каляева ахнула, увидев его посеревшее вдруг лицо.
— Кто тебе разрешил встать с постели, Семен?
— Обстановка… Закажи разговор с Реввоенсоветом…
Неделю температура не опускалась ниже тридцати девяти. Потом вдруг врач сказал, что кризис миновал и дело пойдет на поправку. Пришел Солодухин. Сел у кровати, в глаза не смотрел.
— Пришел прощаться, Семен. Подал рапорт. Командируют на Кавказский фронт. Так будет легче.
— Не знаю — кому легче. Привыкли мы с тобой, Петро, друг к другу. Да и дело у нас неплохо шло.
— Шло-шло, а вот как повернулось… Ты не подумай — я и впрямь больной ходил. Но оправдываться не буду. Проглядел.
— Да и я проглядел… Может, передумаешь?
— Не передумаю, — упрямо сказал начдив. — Ну, поправляйся. В ходе мировой революции еще встретимся.
— Встретимся. Дел на всех хватит.
Командиры и оркестранты вышли. Они остались одни в большом, ставшим вдруг холодным и чужим им зале.
— Прости, Петро, — сказал Восков. — Иначе я поступить не мог.
Солодухин ничего не ответил, не поднял головы, и комиссар вышел. Еле ворочая ногами, Семен добрался до своего жилья. Каляева ахнула, увидев его посеревшее вдруг лицо.
— Кто тебе разрешил встать с постели, Семен?
— Обстановка… Закажи разговор с Реввоенсоветом…
Неделю температура не опускалась ниже тридцати девяти. Потом вдруг врач сказал, что кризис миновал и дело пойдет на поправку. Пришел Солодухин. Сел у кровати, в глаза не смотрел.
— Пришел прощаться, Семен. Подал рапорт. Командируют на Кавказский фронт. Так будет легче.
— Не знаю — кому легче. Привыкли мы с тобой, Петро, друг к другу. Да и дело у нас неплохо шло.
— Шло-шло, а вот как повернулось… Ты не подумай — я и впрямь больной ходил. Но оправдываться не буду. Проглядел.
— Да и я проглядел… Может, передумаешь?
— Не передумаю, — упрямо сказал начдив. — Ну, поправляйся. В ходе мировой революции еще встретимся.
— Встретимся. Дел на всех хватит.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ. МОИ КОСТРЫ
— Когда мы снова встретимся? Как считаешь? — Считаю, что с Победой. Сильва порывисто встала с кровати, проверила, не болтается ли пистолетная кобура, поправила гимнастерку. — Скоро за мной придут. Позывной на «после войны» не забыла? — Не чуди. Он мне так же дорог, как и тебе. Заданий много? Сильва счастливо вздохнула: — На всю жизнь и еще половинку хватит. Только что она побывала у полковника. Это был последний инструктаж перед вылетом. Полковник начал с того, что еще раз уточнил время выхода на связь, подтвердил прежние позывные, предложил застраховаться запасным, испанским, именем «Лючия». В период, когда советские войска готовились к мощному наступлению от Черного до Балтийского моря, наши органы государственной безопасности разработали им в помощь широкий оперативный план. Группы особого назначения должны были быть заброшены на территорию, еще оккупированную противником, помогать Советской Армии в получении необходимой разведывательной информации, всячески способствовать срыву гитлеровских планов по эвакуации военных и промышленных грузов или угону на Запад гражданского населения, выводить из строя фашистские коммуникации, заблаговременно выявлять разведывательную сеть, оставляемую службами «Абвер», гестапо или «СД». Такие оперативные группы были подготовлены и для Прибалтийских республик. — Вас, Сильвия Семеновна, сбросят севернее озера Выртсъярви, — закончил полковник. — Особое внимание уделите коммуникациям Таллин–Тарту и Тарту–Псков. Теперь совершенно откровенно: какие у вас сомнения, вопросы или просьбы? Сильвия подумала. — Сомнений нет, товарищ полковник, вопросы появятся на месте. А просьба есть. У меня одна мать и одна самая близкая подруга. Хотя бы изредка я хотела бы знать об их здоровье и судьбе. — Постараемся. Подруга — это Вишнякова? — Так точно. — Первое выполним, второе… судя по обстановке. Вишнякова ведь тоже разведчик. Отстучите-ка мне на прощанье позывные… Отстучала указательным пальцем по столу несколько цифр: «Сант-Яго», потом «Лючия». — Ну, ни пуха, Сильва–Лена–Лючия! И почти так же попрощались с нею Марина и Лена — это которая настоящая, «всамделишная» Лена. Капитан — сотрудник оперативного отдела — еще раз, перед посадкой в машины, заставил каждого члена группы проверить парашют, задал каждому два-три контрольных вопроса. — Что будете делать со стропами против направления ветра? — спросил он Сильву. — Натягивать под себя. Молчали в машине. Молчали на аэродроме. Перед такими рейсами даже обычно разговорчивые люди становятся молчунами. Самолет вырулил на посадку. После команды каждый надел парашют — десантный, проверенный, надежный. Садились в самолет той цепочкой, какой будут брести во вражьем тылу: командир группы, потом радистка, остальные, последним — помощник командира. Перед взлетной дорожкой проверка моторов. «А девушку тоже туда?» — крикнул командир экипажа капитану, пытаясь заглушить моторный рев. «Тоже. На треугольник».
Эстонский связной оповещал их о месте высадки группы кострами, зажженными на «вершинах» равностороннего треугольника. Капитан прошел в кабину, сел рядом с Сильвией.
— Сейчас за нами малость поохотятся.
Они пересекали побережье залива. Гитлеровские зенитки взяли их в сильный обстрел. Пилот поднял машину к «потолку». Началась болтанка. Капитан перехватил страдальческий взгляд Сильвы, тихо спросил:
— Вытерпите? А то таблетку могу предложить…
Ответила взглядом: «Вытерплю». Он понял, улыбнулся, сжал ей руку. За иллюминаторами зенитные снаряды оставляли трассирующий след. Пилот, счастливо лавируя, бросал машину вверх и вниз, вправо и влево. Сильва закрыла глаза, а губы продолжали улыбаться и что-то шептать. Капитану показалось, что он услышал: «Мои костры».
А она и в самом деле думала о своих кострах. Вот и дождалась самостоятельной оперативной работы, к которой шла двадцать один год до войны и двадцать восемь месяцев в войну.
Она первая и увидела костры, когда самолет снизился и нырнул под облака.
— Низкая облачность! — крикнул командир корабля капитану. — Высота двести устроит?
— Никак! Парашют не успеют раскрыть.
— Ваше решение, товарищ капитан?
— Обратно на аэродром.
Снова обстрелы, болтанка и, наконец, свой аэродром. Сильва сошла по трапу, слегка покачиваясь. Капитан хотел помочь ей, отстранилась:
— Сама.
— День-два отлежитесь, Сильвия Семеновна…
— Не беспокойтесь, товарищ капитан, — сухо докладывает она. — К утру я буду готова к вылету.
Через сутки операция повторяется в том же порядке. Те же контрольные вопросы, та же подготовка парашюта, подметила, что даже рацию прижимает к себе на аэродроме уже знакомым движением. К группе подходит женщина в военном полушубке — страшно знакомое лицо. Откуда она ее знает? Да это же участница знаменитого перелета Москва–Дальний Восток, ее портрет обошел все газеты и журналы земного шара. Они как раз перешли с Ленкой на второй курс, сидели на комсомольском собрании, когда вдруг в аудиторию вошел киоскер и пустил по рядам свежие газеты. Вот когда аудитория зашумела и пришла в движение, вот когда Сильва впервые увидела лицо этой женщины.
— Товарищ командир полка, — говорит капитан, — группа к посадке готова.
Комполка замечает среди мужчин Сильву, приветливо козыряет ей.
— У вас в группе единственная девушка. Берегите ее, мальчики. Когда мы готовились к рекордному перелету, нашим девизом было: «Дорожить друг другом».
Капитан отвечает за группу:
— Товарищ Гризодубова, эти ребята проверены на дружбу и спайку основательно.
Гризодубова подошла к Сильве, притянула на секунду к себе.
— Молчушка, а глаза как здорово говорят… Я в таких верю.
…Полет, зенитки, опять заболтало. Когда же это кончится, товарищи?
Окончилось. Капитан сообщил экипажу и своим подопечным:
— Костры! Приготовиться к выброске.
— Высота триста метров! — отозвался пилот.
— Пошел!
И опять: первым в боковую дверь вывалился командир группы. За ним — радист-разведчик.
Мигнула лампочка над дверью, Сильва успела попрощаться взглядом с капитаном, сделала резкий рывок, ветер отшвырнул, ударил в лицо, грудь, плечи, и вот уже оборвался последний тонкий фал, связывавший ее с самолетом, со всем, что было, что было до этого, до двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года.
— Пошел! — глухо звучал голос сопровождающего.
Перед взлетной дорожкой проверка моторов. «А девушку тоже туда?» — крикнул командир экипажа капитану, пытаясь заглушить моторный рев. «Тоже. На треугольник».
Эстонский связной оповещал их о месте высадки группы кострами, зажженными на «вершинах» равностороннего треугольника. Капитан прошел в кабину, сел рядом с Сильвией.
— Сейчас за нами малость поохотятся.
Они пересекали побережье залива. Гитлеровские зенитки взяли их в сильный обстрел. Пилот поднял машину к «потолку». Началась болтанка. Капитан перехватил страдальческий взгляд Сильвы, тихо спросил:
— Вытерпите? А то таблетку могу предложить…
Ответила взглядом: «Вытерплю». Он понял, улыбнулся, сжал ей руку. За иллюминаторами зенитные снаряды оставляли трассирующий след. Пилот, счастливо лавируя, бросал машину вверх и вниз, вправо и влево. Сильва закрыла глаза, а губы продолжали улыбаться и что-то шептать. Капитану показалось, что он услышал: «Мои костры».
А она и в самом деле думала о своих кострах. Вот и дождалась самостоятельной оперативной работы, к которой шла двадцать один год до войны и двадцать восемь месяцев в войну.
Она первая и увидела костры, когда самолет снизился и нырнул под облака.
— Низкая облачность! — крикнул командир корабля капитану. — Высота двести устроит?
— Никак! Парашют не успеют раскрыть.
— Ваше решение, товарищ капитан?
— Обратно на аэродром.
Снова обстрелы, болтанка и, наконец, свой аэродром. Сильва сошла по трапу, слегка покачиваясь. Капитан хотел помочь ей, отстранилась:
— Сама.
— День-два отлежитесь, Сильвия Семеновна…
— Не беспокойтесь, товарищ капитан, — сухо докладывает она. — К утру я буду готова к вылету.
Через сутки операция повторяется в том же порядке. Те же контрольные вопросы, та же подготовка парашюта, подметила, что даже рацию прижимает к себе на аэродроме уже знакомым движением. К группе подходит женщина в военном полушубке — страшно знакомое лицо. Откуда она ее знает? Да это же участница знаменитого перелета Москва–Дальний Восток, ее портрет обошел все газеты и журналы земного шара. Они как раз перешли с Ленкой на второй курс, сидели на комсомольском собрании, когда вдруг в аудиторию вошел киоскер и пустил по рядам свежие газеты. Вот когда аудитория зашумела и пришла в движение, вот когда Сильва впервые увидела лицо этой женщины.
— Товарищ командир полка, — говорит капитан, — группа к посадке готова.
Комполка замечает среди мужчин Сильву, приветливо козыряет ей.
— У вас в группе единственная девушка. Берегите ее, мальчики. Когда мы готовились к рекордному перелету, нашим девизом было: «Дорожить друг другом».
Капитан отвечает за группу:
— Товарищ Гризодубова, эти ребята проверены на дружбу и спайку основательно.
Гризодубова подошла к Сильве, притянула на секунду к себе.
— Молчушка, а глаза как здорово говорят… Я в таких верю.
…Полет, зенитки, опять заболтало. Когда же это кончится, товарищи?
Окончилось. Капитан сообщил экипажу и своим подопечным:
— Костры! Приготовиться к выброске.
— Высота триста метров! — отозвался пилот.
— Пошел!
И опять: первым в боковую дверь вывалился командир группы. За ним — радист-разведчик.
Мигнула лампочка над дверью, Сильва успела попрощаться взглядом с капитаном, сделала резкий рывок, ветер отшвырнул, ударил в лицо, грудь, плечи, и вот уже оборвался последний тонкий фал, связывавший ее с самолетом, со всем, что было, что было до этого, до двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года.
— Пошел! — глухо звучал голос сопровождающего.
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ. «СЕРДЕЧНАЯ КОМАНДИРОВКА»
Куйбышев прислал из городской больницы известного врача, он долго прослушивал и простукивал Воскова, в заключение сказал, что у больного крепкая закваска и через день-два ему можно будет начать выходить на десять–двадцать минут из дому, но желательно не дышать морозным воздухом, не нырять в сугроб и не нестись вскачь по продуваемой ветрами степи. Каляева и Восков оценили медицинский юмор. Каляева сидела за столом, обрабатывала политсводку за день. Семен подошел к ней, заглянул через плечо. «Политработа, — прочел он вслух, — ведется в частях усиленная, ставятся спектакли, ведутся беседы, читаются лекции. Армия противника разлагается». — Хорошо живем, — засмеялся он, — если можем даже спектакли ставить и таким образом разлагать армию противника. Каляева не любила, когда подшучивали над ее донесениями в Реввоенсовет. — Не вздумай меня сейчас называть жужжащей пчелкой, — вдруг предупредила она, — пчелка способна ужалить. Тем более, что… Семен, — без всякого перехода сказала Сальма, — у нас скоро будет ребенок. Он подошел к ней, смущенно потерся о розоватую, словно просвечивающую щеку своей жесткой рыжеватой щетиной. — Ну и чудесно, Сальма. Просто чудесно. — Сына хочешь или дочь? — бегло спросила она. Семен задумался, пожал плечами: — По совести говоря, все равно. Я всегда мечтал об одном: чтобы мои дети жили легче, чем их отец, но не без борьбы… нет! Заходил по комнате, размечтался: — Подумай, Сальма, как будет прекрасно, если сын или дочь станут когда-нибудь историками и напишут о наших походах. Они же войдут в историю нового общества, эти походы! Иначе и быть не может! Кто знает, а вдруг наш наследник станет поэтом или художником — разве мы знали когда-нибудь рифмы, ноты, акварельные краски? Да нам и в окно-то смотреть некогда было! — А как же с рабочей закваской, Восков? — подразнила его Сальма. — Дети должны знать, что их родители были рабочие люди. Они должны владеть молотком и рубанком. С детства. И как только у них окрепнут руки, они должны научиться стрелять из винтовки. И мальчишки, и девчонки. — А разве они не будут жить в мире, Восков? — Врагов революции на их век еще хватит. Раздался громкий стук, потрясший дверь, и ввалился Таран, черная борода его уже доходила до пояса и вся заиндевела, шинель и сапоги были запорошены снегом. — Ух, и морозит! — забасил он. — Приехал за патронами, дай, думаю, навещу больного. Извлек из кармана шинели газетный сверток, развернул, выложил на стол ржавую селедку, три морских галеты и коробку с манной крупой. Газетку расправил и подал Воскову. — Наше издание. «Пламя» назвали. По твоему совету, комиссар. — Это возьму, а жратву убери. Сразу. Таран разворчался: — Ишь барином каким заделался… В наших прямых интересах, чтобы комиссар быстрее на ноги стал. Политически ты оказался неподкованным, товарищ военкомдив. Уловка Тарана вызвала громкий смех в комнате, и вскоре они сидели втроем вокруг стола, с наслаждением уписывали галеты и селедку. Снова постучали. Вениамин Попов, избранный коммунистами штаба председателем комячейки, принес Воскову удостоверение, заменяющее партбилет. На желтоватом, тонком, почти папиросном листе бумаги жирно проступала машинопись: «Предъявитель сего тов. Семен Петрович ВОСКОВ действительно состоит членом Российской Коммунистической партии в ячейке Штадива-9. ОСНОВАНИЕ: членский билет № 214 Сестрорецкой организации». — Теперь, с билетом, — пошутил Попов, — ты будешь еще более авторитетным комиссаром. — Если комиссару надо авторитет удостоверять, — возразил Восков, — слабый он комиссар. Говорили в этот вечер о многом. Тарана решили за пополнением на его родную Курщину послать. Восков вспомнил питерских друзей, сестроречан, неожиданно хлопнул себя по лбу. — Что же это мы… Посланцы Петрограда, а еще ни одного хлебного эшелона для питерцев не собрали. Вениамин Дмитриевич, поручи это штабным адъютантам, а мы им поможем. Дождавшись, когда Сальма Ивановна вышла в кухню, Попов быстро сказал: — Семен Петрович, ты как в смысле транспортировки? Начдив сейчас звонил: белые к Ростову рвутся, щель у нас нашли и вклинились… Куйбышев выехал под Батайск, Леонтьев — под Азов, кому-то из нас двоих надо в донских плавнях посидеть, второй в штабе останется. — Выеду я, — распорядился Восков. — На рассвете. Медицина разрешила с условием, чтоб не в донской степи сидеть. А плавни — это не степь. — Что тебе разрешила медицина? Сальма Ивановна вошла с чайником и подозрительно осмотрела собеседников. Восков не любил выкручиваться. — Прорыв на нашем фронте, — пояснил он. — Придется подъехать на часок-другой к ребятам. Но это был не часок и не другой. Он сидел в болотистых плавнях, перерезал Донскую степь, его видели под Батайском и Азовом, на хуторах, переходивших из рук в руки, и на каменистой кромке побережья. Он успел прискакать под станицу Кулешовку и бросить все огневые средства 3-й бригады на подавление появившихся вражеских бронепоездов. Попал на маленький полустанок, даже без названия, и нос к носу столкнулся с Сальмой. — Я уезжаю во вторую бригаду, — сообщила она, будто они пять минут назад виделись. — А ты бы посидел хоть денек в Таганроге, горяченького попил. Не думаю, чтобы Реввоенсовет командировал своих военкомов только на участки, где ветер сшибает с ног и люди идут в атаку. — Есть еще командировки сердечные, — вздохнул Семен, — по законам революционной совести. Да ты не волнуйся, пули меня не берут. Да, пули его пока не брали, но холод под станицей Гниловской пробрал основательный. В эти дни ударили сильные морозы, многие бойцы, одетые довольно легко, отморозили носы, лица, руки. Восков, сидевший с ударным полком Агатоновича в Сенявской (полк ее прозвал «Синявкой», в память о посиневших и дрожавших от холода людях), тоже чувствовал, что отмороженные еще под Курском ноги начинают неметь. Он пригласил на совет командиров подразделений, комиссаров батальонов, рот, всех коммунистов. — Решайте, что будем делать. Ни Батайск, ни Ростов нам не взять, пока в Гниловской белоказаки. Слово взял Митрофан Четверяков, политкомиссар первой роты: — Наступать будем. Наши люди весеннего половодья ждать не хотят. — Это вы от братьев Четвериковых? — узнал его Восков. — А нас тут, братьев, много, товарищ комиссар, — весело отозвался Четвериков. — Одни в курной избе росли, другие в землянках, а побратались туточки. Восков сказал: — Товарищи, жертвы будут… Без крови не обойтись.. — А что ж нам, обратно в землянку лезть? — спросил Митрофан. — Нет уж, товарищ комиссар. До конца пойдем, буржуев на своей земле мужику оставлять выгоды нет. Восков собрал вместе все части, какие оказались по соседству. — А мы не ваши, — попытались созорничать кавалеристы. — А чьи же вы, конники, Шкуро или Мамонтова? — добродушно высмеял он их и задушевно сказал: — Помогите, братцы. Еще день-два, и у нас ноги к земле примерзнут, а вам без пехоты войну никак не закончить. Убедил. Тут же составил донесение Куйбышеву — свое последнее военное донесение: «Начдиву-9. 1920, 20 февраля 13 час. Место отпр. — станица Сенявская… Предлагаю для операции под Гниловской… объединить командование… Военкомдив-9 С. Восков». Получил «добро» на слияние разрозненных частей. Снова созвал командиров, вместе с ними составил оперативный план атаки. И вот голодные, обмороженные люди, стараясь слиться с ледовой коркой, ползут по мерзлому грунту. Ползет армия людей, желающих хлеба для детей и мира для себя. Колеса тачанок смазали, чтобы не скрипели, морды лошадей обернули в тряпки, чтоб не заржали. С флангов к станице под покровом предрассветной мглы подбираются конники. Восков несколько раз погружался по грудь в тину, соседи вытягивали. «Военком, ты и вовсе на ногах не стоишь…» Отшучивался: «Военкому ноги ни к чему — было бы горло доброе»! Сигнал к атаке подал уже засветло. Белоказаки такого свирепого натиска не ожидали, но успели выставить пулеметчиков на церковную колокольню. Восков отобрал десяток бойцов и повел их в обход, но Четверяков сказал ему: «Товарищ военком, не дело! Вам Азовье завоевывать, а не одну колокольню». Скрепя сердце согласился, но пока Четверяков с ребятами лез наверх, велел бойцам отвлекать пулеметчиков ложными атаками. Рубка шла по всей станице. Победа досталась не с лету. На колокольню Восков поднялся из последних сил, по щеке струилась кровь, ноги казались каменными, голос впервые в жизни подвел. Успел сказать только: — За революцию будем… и дальше…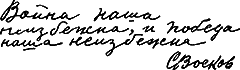 Возвращался в Таганрог вместе с Леонтьевым. Заночевали на маленькой станции, все скамьи были забиты, углы — тоже. Под каким-то столом, средь мешков и амуниции, между спавшими людьми нашли щель, в которую влезли. Восков растолкал начподива на рассвете — разыскал где-то коней, был непохоже на себя суетлив, шумлив.
В таком возбужденном состоянии появился в штабе. Доложил обстановку. Обычно внимательный, спокойный, на этот раз никого не слушал, ходил из комнаты в комнату, перекладывал на столе сводки. Леонтьев тихо попросил инструкторов проводить комиссара на квартиру, вызвал по телефону Каляеву.
Она застала Семена сидевшим на кровати, с пылающим лицом он доказывал инструкторам, что необходимо срочно весь состав Девятой стрелковой представить к награждению боевыми орденами. Увидев жену, радостно сказал:
— Фу ты, а я уж решил, что ты опоздаешь сдать свою сводку…
И вдруг вскрикнул:
— Не подходи ко мне, пока не явится доктор!
Вызванный врач определил:
— Сыпняк. Немедленно в больницу.
Возвращался в Таганрог вместе с Леонтьевым. Заночевали на маленькой станции, все скамьи были забиты, углы — тоже. Под каким-то столом, средь мешков и амуниции, между спавшими людьми нашли щель, в которую влезли. Восков растолкал начподива на рассвете — разыскал где-то коней, был непохоже на себя суетлив, шумлив.
В таком возбужденном состоянии появился в штабе. Доложил обстановку. Обычно внимательный, спокойный, на этот раз никого не слушал, ходил из комнаты в комнату, перекладывал на столе сводки. Леонтьев тихо попросил инструкторов проводить комиссара на квартиру, вызвал по телефону Каляеву.
Она застала Семена сидевшим на кровати, с пылающим лицом он доказывал инструкторам, что необходимо срочно весь состав Девятой стрелковой представить к награждению боевыми орденами. Увидев жену, радостно сказал:
— Фу ты, а я уж решил, что ты опоздаешь сдать свою сводку…
И вдруг вскрикнул:
— Не подходи ко мне, пока не явится доктор!
Вызванный врач определил:
— Сыпняк. Немедленно в больницу.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. «ИЩИТЕ ЕЕ ПОЗЫВНЫЕ»
Генерал, начальник Ленинградского управления, еще раз вчитался в оперативную сводку. Неплохо для начала. Группы, подготовленные органами государственной безопасности, успешно «вживаются» в намеченные районы Прибалтики. Накапливается ценная информация. На узловых станциях образовались, заторы вагонов — эти «пробки рассосать» не просто, легче новый путь построить. Служба «Абвер», видимо, почувствовала что-то неладное, но толком не знает, откуда ветер дует. — Что вам известно о группе, сброшенной над Выртсъярви? Полковник, отправлявший группу, ответил не сразу. — Разрешите доложить, товарищ генерал. По косвенным данным можно полагать, что члены группы приземлились нормально, встретились нормально, ну и действовать начали нормально. — Если все так нормально, — спросил генерал, — почему у вас только косвенные данные? На связь выходили? — Ищем… ищем ее позывные, товарищ генерал. — Странно. Какие предположения? Полковник огорченно сказал: — Возможно, группа должна была срочно перебазироваться и радистка выйдет на связь позднее. — Странно… Две недели прошло… Генерал встал, подошел к окну, раздвинул штору. Сиреневый снег светлел, в бледнеющем весеннем небе пророкотал самолет. В кабинет вползла глухая тревога. — Кажется, в составе этой группы, — спросил генерал, — дочь комиссара Воскова? — Именно так, — подтвердил полковник. — Подготовка всех членов группы, товарищ генерал, основательная, а радистки — просто блестящая. Иначе бы мы ее не засылали. — Да, люди там крепкие, — задумчиво ответил генерал на вопрос, который задал лишь мысленно, и устало приказал: — Ищите ее позывные. Ищите напряженно, терпеливо. Придайте дублирующей группе поиска самых классных радистов. Мы не можем засылать туда ни одного другого отряда, пока не узнаем судьбу этого. Докладывайте мне ежедневно. …На радиостанции Центра жизнь шла своим ходом. В большом зале, разделенном стеклянными переборками на секции, десятки радистов принимали информацию от многочисленных «корреспондентов» с оккупированных немцами земель севера и северо-запада страны и из более глубокого тыла, который, по заверению руководителей рейха, не имел и щели для советских агентов. Полковник вошел быстрым шагом, пересек зал, где пели и стрекозно жужжали приборы, шуршали на больших столах узкие ленты с депешами, которые предстояло дешифровать. Он появился в крайней от окна кабине и строго спросил у радиста: — Группа «Балтийцы»? — Молчит. — Я распорядился вести прием на четырех частотах. — Все как положено, товарищ полковник, — доложил радист, — десятые сутки, четыре частоты. По существу ведем прием на всем диапазоне от трех с половиной до четырех тысяч килогерц. Ни «Сант-Яго», ни «Лючии». Мелькнула Анжелика и тотчас затерялась, потом мы ее поймали снова. Оказалось, португальцы крутят пластинку для своих войск. — А рация у нее не могла отказать? Радист пожал плечами. — Сам работал у них в тылу и знаю — рацией отряды дорожат, как жизнью. Батарейка выйдет из строя — заменить можно. — Тогда, — с тяжелым вздохом сказал полковник, — ищите. — Ищем. — Радист взглянул на часы. — Через десять минут на связь должна выйти группа «Сокол». Будете присутствовать? — Непременно. Помехи были в этот день сильные. Немцев тревожили действия Второго и Третьего Украинского фронтов, и эфир ежесекундно откликался зловещими предупреждениями из гитлеровской ставки, кодированными зовами о помощи из «мешков» и «котлов»… Наконец в наушниках раздались позывные «Сокола», и знакомым радисту и полковнику почерком Елены Вишняковой была передана беглая длинная вязь, которая этажом выше переводилась из точек–тире в цифры, а из цифр в буквы: «Центр, Центр, как слышите Капитана? Как слышите Капитана? От карателей оторвались. Группу в основном сохранили. Погиб комиссар. Налаживаем связь с хуторами. Выход на связь как обычно. Время ограничено. Перехожу на прием. Капитан». Радист переключил тумблеры и с передающей станции четко отстучали несколько рядов знаков, заготовленных заранее: «Слышимость нормальная. Центр благодарит за предыдущее сообщение всю группу. Аэросъемка подтвердила ваши данные. Капитану продолжать изучение квадрата девять».…Маленькая группа, руководимая капитаном Александром Кучинским, довольно аккуратно приземлилась севернее озера Лубана. Зарыли в липкий снег тяжелые парашюты. Нашли друг друга, двинулись на поиск удобного места для базы, обосновались на берегу незамерзшей речки. Натянули на палки кусок ткани, сверху обложили елками — чудесный дом получился. Лена подумала: «Кончится война, поедем с Сивкой в лес на ночевку, точно такой елочный дом соорудим». Начали заводить связи на хуторах. Разузнали, где стоят немецкие гарнизоны. Немцы не догадывались о пребывании по соседству вооруженных групп латышских партизан и советских чекистов, но подслушали странные разговоры на хуторах о военных сводках, русских победах, скором приходе Красной Армии. Вначале небольшие карательные экспедиции, а затем и целые дивизии рейха приняли участие в операции «прочесывания». Людям «Сокола» удалось отлежаться незамеченными в ближних болотах, куда гитлеровцы не рискнули далеко забираться, и даже нанести несколько скрытых ударов по карателям, пустить под откос два эшелона. На разведку бойцы отряда отправлялись поочередно, но радиста свято берегли: на этот счет Центр распорядился особо. Лена злилась, вызывалась на рейды с отрядом, Кучинский неумолимо пресекал эти просьбы, но однажды, поняв, что энергии девушки хоть на час надо дать выход, согласился разрешить Лене вылазку на ближний хутор за «языком». Нашелся предатель — волостной староста, и когда группа разведчиков подошла к хутору, из окон и чердака крайнего домика застрекотали пулеметы. Немецкой засаде не удалось пленить группу, люди успели слиться с землей и отползти в лес. Но остался лежать на талой латвийской земле комиссар отряда. «Сокол» мог почтить его память лишь двумя словами шифровки. Следующая депеша отряда уточняла результаты диверсии: «Пущены под откос три вагона с вооружением и два с живой силой противника. Передаю вопросы личные. Как прошла операция Толиной дочери? Есть ли данные о судьбе моей подруги? Питаемся удовлетворительно. Капитан». Вот уже три недели она тщетно ждала вестей от Сильвы, обшарила, кажется, весь земной шар, но Сильвин почерк в эфире не появлялся. Отшумела февральская пурга, отзвенела первая мартовская оттепель… — Передайте, — сообщил перед очередным выходом на связь полковник. — Операция девочки прошла успешно. — А насчет подруги, товарищ полковник? — несмело спросил радист. — Исполняйте приказание. — Есть! Она догадывалась, что ей не ответят. Догадывалась и верила, что Сильвины позывные еще будут услышаны. Верили этому и в Центре. Верили потому, что никто из эстонских связных не радировал Центру о гибели отряда. Верили потому, что молчали об этом немцы. Верили, наконец, потому, что позывные Центра не были использованы немецкой контрразведкой. Генерал выслушал очередное сообщение полковника, помрачнел, долго о чем-то думал. — На вылет новой группы пока разрешения давать не хочу. Подождем… еще несколько дней. Тем более, что в Прибалтике фронт пока статичен. Подождем. Прошло еще пять дней, и снова полковник доложил о том, что группа «Балтийцы» на связь не вышла. — Так. Но и позывные Центра противник пока не использует? — Не использует, — подтвердил полковник. — Больше ждать не будем. Позывные были только у командира и радиста. Доверимся. Высылайте в этот район еще одну группу. Что там у вас еще? — К нам могут обратиться родственники членов группы… — Скажите им то, во что мы верим сами, — печально сказал генерал. — Следы отыщутся. Позывные должны быть услышаны. И снова полковник и радисты Центра просиживали у аппаратов, рассылая по Прибалтике каскады цифр. Но ни Лючия, ни Елена, ни Сильва не откликались. А на эстонской земле службы «Абвер», «СД» и гестапо с тревогойнаблюдали, как чьи-то незримые руки выводят из строя подвижной транспорт, дороги, средства связи гитлеровской армии. Как взлетают на воздух оружейные склады, эшелоны, бригадные и батальонные штабы. Испаряются особо секретные документы. Перехватываются оперативные донесения.
 Но действовала ли здесь дерзновенная мысль Сильвии Восковой и ее товарищей — в Центре пока не знали
Но действовала ли здесь дерзновенная мысль Сильвии Восковой и ее товарищей — в Центре пока не знали
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. КОМИССАРЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Сестра милосердия слегка приподняла его, он жадными шершавыми губами припал к стакану, пил бы не переставая, если бы она мягким движением не уложила его на подушки. У сестры была длинная фамилия Фесвиточнинова, и он, несмотря на страшные боли в ушах — тиф сопровождался гнойным воспалением желез, — еще находил в себе силы для легкого подтрунивания. — Сестра, — из его горла вырывались хриплые булькающие звуки, в которых иногда тонул голос, — сестра, у нас был начдив, он любил менять фамилии. Жену мою он перекрестил на Каляеву. Вас бы он перекрестил на Ветчинову… Она не обижалась. Впервые она наблюдала такое мужество, вступившее в единоборство с двумя, пожалуй самыми страшными, болезнями двадцатого года. — Пить! — просил Восков и в ту же секунду напоминал сестре: — Доктор просил меня поить не часто, помните? Иногда он метался по кровати, охваченный жаром, и сквозь стиснутые губы по комнате разносились приказы себе и сестре: — Ничего, доскачешь… Комиссары идут — сам знаешь где… Сестра, не давайте мне срывать тампоны… Потом вдруг открыл глаза. — Шаги доктора. А еще чьи? Начдива. Сестра, дальше дверей его не впускайте. Ему воевать, а мне… — И радостным шепотом: — Лазареты проверяете, Николай Владимирович? А Леонтьев зачем? Где комиссарово место, Евсей? Куйбышев, предупрежденный сестрой, стоял в дверях, был он в халате, наброшенном поверх гимнастерки. Леонтьев, неуклюже ступая, протолкался в палату, присел у окна на стул, гулко сказал: — Комиссарове место уже всяко не здесь. Дивизия тебя просит не залеживаться. Куйбышев мягко пояснил их приход: — Еду на позиции, Семен Петрович. Хотел вас порадовать. Укрепления добрармии по линии Батайск–Койсуг–Азов прорвали. Восков откинулся на подушки. — Спасибо, начдив, хорошую новость привезли. — Тяжело задышал. — Комбригам надо напомнить… Быть начеку. Побывать во всех ротах. Корниловцы могут ударить с Кубани…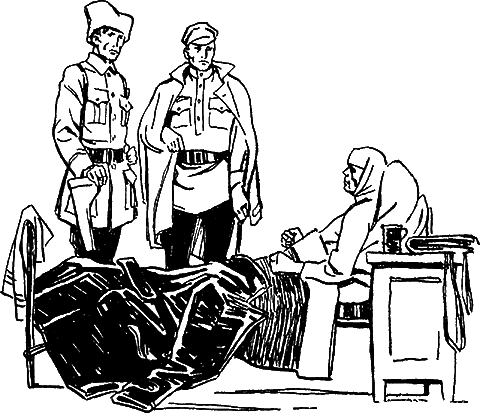 Сестра сменила компресс, он срывающимся голосом спросил:
— Начдив, что сказал доктор? Только — правду!
Куйбышев своим спокойным ровным голосом сказал:
— Положение у вас тяжелое, Семен Петрович. Но врачи надежды на выздоровление не теряют.
— В чудо верят? — Усмешка пробежала по лицу, и тотчас он снова — на какую-то секунду — стал прежним Восковым, каким его знала Девятая стрелковая: — Впереди Кубань и Кавказ. Проверьте весь комполитсостав. Многих скосил тиф. Не бойтесь выдвигать молодежь. — Жадно глотнул воздух, замолчал. Потом послышалось прерывистое: — Таран должен прибыть с пополнением… А кто заедет в Полтаву? У меня там трое… под беляками..
Он начинал бредить. Куйбышев потер висок, козырнул, вышел. Леонтьев встал, на цыпочках пошел к двери, по дороге наткнулся на тумбочку, задел графин, опрокинул его с грохотом, зачертыхался. С кровати донеслось:
— Да, Евсей, не в гостиных ты рос. Постой… Главного дела не решили.
Начальник политотдела вернулся.
— Какое там главное! Главное для тебя — поправляться.
— Главное для меня, — очень тихо, но выразительно сказал комиссар, — чтобы дивизия была по-прежнему боеспособной. Кто будет военкомдивом? — встретился с напряженным взглядом Леонтьева, решил пощадить его: — На время моей болезни.
— Коммунистов много, — сказал Леонтьев. — Подскажем Реввоенсовету… если понадобится.
— Уже пора, — резко сказал Восков. — Что ты думаешь о Григории Таране?
Леонтьев оживился:
— А что? Кандидатура хорошая. Молодой, боевит.
— Значит, представляй, — сказал Восков устало.
Сестра шепотом попросила Леонтьева оставить больного.
— Еще минуту, сестра, — остановил ее Восков. — Евсей, я записку штабным адъютантам приготовил… У Каляевой возьмешь… Пусть хлебные эшелоны для питерцев отправляют… Немедленно! За счет излишков у донского кулачья. Да что ты плачешь, чудак? Я еще жив! Мы еще беляков постреляем с тобою…
Сестра сменила компресс, он срывающимся голосом спросил:
— Начдив, что сказал доктор? Только — правду!
Куйбышев своим спокойным ровным голосом сказал:
— Положение у вас тяжелое, Семен Петрович. Но врачи надежды на выздоровление не теряют.
— В чудо верят? — Усмешка пробежала по лицу, и тотчас он снова — на какую-то секунду — стал прежним Восковым, каким его знала Девятая стрелковая: — Впереди Кубань и Кавказ. Проверьте весь комполитсостав. Многих скосил тиф. Не бойтесь выдвигать молодежь. — Жадно глотнул воздух, замолчал. Потом послышалось прерывистое: — Таран должен прибыть с пополнением… А кто заедет в Полтаву? У меня там трое… под беляками..
Он начинал бредить. Куйбышев потер висок, козырнул, вышел. Леонтьев встал, на цыпочках пошел к двери, по дороге наткнулся на тумбочку, задел графин, опрокинул его с грохотом, зачертыхался. С кровати донеслось:
— Да, Евсей, не в гостиных ты рос. Постой… Главного дела не решили.
Начальник политотдела вернулся.
— Какое там главное! Главное для тебя — поправляться.
— Главное для меня, — очень тихо, но выразительно сказал комиссар, — чтобы дивизия была по-прежнему боеспособной. Кто будет военкомдивом? — встретился с напряженным взглядом Леонтьева, решил пощадить его: — На время моей болезни.
— Коммунистов много, — сказал Леонтьев. — Подскажем Реввоенсовету… если понадобится.
— Уже пора, — резко сказал Восков. — Что ты думаешь о Григории Таране?
Леонтьев оживился:
— А что? Кандидатура хорошая. Молодой, боевит.
— Значит, представляй, — сказал Восков устало.
Сестра шепотом попросила Леонтьева оставить больного.
— Еще минуту, сестра, — остановил ее Восков. — Евсей, я записку штабным адъютантам приготовил… У Каляевой возьмешь… Пусть хлебные эшелоны для питерцев отправляют… Немедленно! За счет излишков у донского кулачья. Да что ты плачешь, чудак? Я еще жив! Мы еще беляков постреляем с тобою…
 Сестра почти силой увела Леонтьева. Сменила повязки. Семен выпил сладкую, пахнувшую степными травами настойку, задремал. Вдруг не то в дреме, не то проснувшись, зашептал:
— Каляеву ко мне, сестра, пореже пускайте… Она ждет ребенка… Недостает еще ей заразиться.
Но Каляева приехала утром из Третьей бригады, вошла в палату, громко сказала, будто угадывая мысли Семена:
— Зря будешь гнать. Все равно не уйду. Сегодня солнце, весна. Хочешь, окно отворю? Доктор разрешил.
— Хочу, — благодарно сказал он.
Теплые лучи мартовского солнца ворвались в палату.
— Жужжащая пчелка… Как себя чувствуешь? С кем спорила? Как настроение бойцов?
— Слишком много вопросов, — сказала она.
Поставила в кружку первые полевые цветы — мать-и-мачеху, — будто заслоняющиеся стебельками от взглядов, желтоглазые. Присела на табурете у ног больного, заговорила — знала, чем порадовать — о вылазках, атаках, энтузиазме бойцов.
— Хорошо будут, наверно, жить люди, — прошептал он. — И наш ребенок… Слушай, Сальмочка, как ты назовешь его? Или ее? Пусть имя напоминает тебе бурю, которую мы пережили… Решай сама… Ты — мать…
— Ребенок будет носить имя Воскова, — гордо сказала она. — И это уже будет напоминать о революции.
Вдруг она прочла в его взгляде укоризну.
— Нас было много, — с трудом сказал он. — Мы не музейные экспонаты. Мы рядовые партии. Помни и научи этому детей.
И снова его пронял тифозный жар.
— Дети, — застонал он. — Поезжай в Полтаву… Кто им поможет? Поезжай в Полтаву! — Он приподнялся, оперся руками о подушку, ему казалось, что он кричит на весь мир, а его едва слышали Каляева и сестра.
— Семен, я позабочусь о детях. Слышишь?
Сестра заставила его лечь. Когда Каляева выходила, он вдруг произнес:
— Слышу.
Она обернулась счастливая.
— Весна, — шепотом сказал он. — Если бы не война!
Увидел за спиною Сальмы знакомую фигуру.
— Входите, комбриг, входите… Пока принимаю гостей.
Александров взял под козырек, доложил по всей форме — о делах в дивизии, о новом пополнении и новых победах. И снова на лицо комиссара набежала улыбка.
— Давно хотел вам сказать, Семен Петрович. Я многому у вас научился. Вы умеете усмотреть за обычными картинами войны порыв народа в будущее. Кто вам дал такое острое зрение? — Спросил и почувствовал, что нельзя сейчас ждать ответа от военкома. Постарался помочь ему: — Годы подполья? Скитаний? Яркие личности?
Каждое слово давалось Семену с неимоверной болью. Он шепнул:
— Сколько Ленин работал в жизни!.. Он счастлив внутренне… Его лицо всегда дышит радостью..
Это была исповедь, и это было ответом.
Каждый день приносил новые страдания. Болезнь обострилась. Семен потерял голос, но мыслил ясно, взглядом давал понять сестре, врачу, жене о своих желаниях. Чаще всего он хотел знать про дела дивизии.
В ночь на 14 марта передовые силы Девятой стрелковой должны были атаковать станицу Брюховецкую.
Каляева пришла в больницу поздно вечером, рассказала Семену о предстоящем бое, он не все понял, взглядом просил повторить. Протянул руку к карандашу, Сальма подала больному карандаш, листок бумаги, он сделал росчерк — каким привык начинать воззвания к бойцам. Но пальцы не слушались, карандаш выпал…
В час, когда батальоны дивизии ворвались в кубанскую станицу, военкомдива Воскова не стало.
Сестра почти силой увела Леонтьева. Сменила повязки. Семен выпил сладкую, пахнувшую степными травами настойку, задремал. Вдруг не то в дреме, не то проснувшись, зашептал:
— Каляеву ко мне, сестра, пореже пускайте… Она ждет ребенка… Недостает еще ей заразиться.
Но Каляева приехала утром из Третьей бригады, вошла в палату, громко сказала, будто угадывая мысли Семена:
— Зря будешь гнать. Все равно не уйду. Сегодня солнце, весна. Хочешь, окно отворю? Доктор разрешил.
— Хочу, — благодарно сказал он.
Теплые лучи мартовского солнца ворвались в палату.
— Жужжащая пчелка… Как себя чувствуешь? С кем спорила? Как настроение бойцов?
— Слишком много вопросов, — сказала она.
Поставила в кружку первые полевые цветы — мать-и-мачеху, — будто заслоняющиеся стебельками от взглядов, желтоглазые. Присела на табурете у ног больного, заговорила — знала, чем порадовать — о вылазках, атаках, энтузиазме бойцов.
— Хорошо будут, наверно, жить люди, — прошептал он. — И наш ребенок… Слушай, Сальмочка, как ты назовешь его? Или ее? Пусть имя напоминает тебе бурю, которую мы пережили… Решай сама… Ты — мать…
— Ребенок будет носить имя Воскова, — гордо сказала она. — И это уже будет напоминать о революции.
Вдруг она прочла в его взгляде укоризну.
— Нас было много, — с трудом сказал он. — Мы не музейные экспонаты. Мы рядовые партии. Помни и научи этому детей.
И снова его пронял тифозный жар.
— Дети, — застонал он. — Поезжай в Полтаву… Кто им поможет? Поезжай в Полтаву! — Он приподнялся, оперся руками о подушку, ему казалось, что он кричит на весь мир, а его едва слышали Каляева и сестра.
— Семен, я позабочусь о детях. Слышишь?
Сестра заставила его лечь. Когда Каляева выходила, он вдруг произнес:
— Слышу.
Она обернулась счастливая.
— Весна, — шепотом сказал он. — Если бы не война!
Увидел за спиною Сальмы знакомую фигуру.
— Входите, комбриг, входите… Пока принимаю гостей.
Александров взял под козырек, доложил по всей форме — о делах в дивизии, о новом пополнении и новых победах. И снова на лицо комиссара набежала улыбка.
— Давно хотел вам сказать, Семен Петрович. Я многому у вас научился. Вы умеете усмотреть за обычными картинами войны порыв народа в будущее. Кто вам дал такое острое зрение? — Спросил и почувствовал, что нельзя сейчас ждать ответа от военкома. Постарался помочь ему: — Годы подполья? Скитаний? Яркие личности?
Каждое слово давалось Семену с неимоверной болью. Он шепнул:
— Сколько Ленин работал в жизни!.. Он счастлив внутренне… Его лицо всегда дышит радостью..
Это была исповедь, и это было ответом.
Каждый день приносил новые страдания. Болезнь обострилась. Семен потерял голос, но мыслил ясно, взглядом давал понять сестре, врачу, жене о своих желаниях. Чаще всего он хотел знать про дела дивизии.
В ночь на 14 марта передовые силы Девятой стрелковой должны были атаковать станицу Брюховецкую.
Каляева пришла в больницу поздно вечером, рассказала Семену о предстоящем бое, он не все понял, взглядом просил повторить. Протянул руку к карандашу, Сальма подала больному карандаш, листок бумаги, он сделал росчерк — каким привык начинать воззвания к бойцам. Но пальцы не слушались, карандаш выпал…
В час, когда батальоны дивизии ворвались в кубанскую станицу, военкомдива Воскова не стало.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ЕСЛИ БЫ ЧЕЛОВЕКУ — ДВА СЕРДЦА!
— Его не стало, но о нем заговорила вся наша волость. Отряд совершил, наверное, что-то очень необычное… Он здорово всполошил оккупантов. А вот на этой опушке, ребята, они допрашивали пленных, и отсюда пошла бродить легенда о ленинградской девушке Сильвии. Слушаю и не верю ушам своим. Сильвия! Та самая Сильвия, письма и дневники которой у меня хранятся уже несколько лет. И не дают покоя. И заставляют искать, додумывать, снова ворошить страницы войны. Откуда известно это имя учительнице маленькой эстонской деревушки, затерянной в лесах на восточном берегу озера Выртсъярви, в трех десятках километрах от Тарту? Совпадение? Да нет же, уж слишком редкое имя. И места вроде бы те самые, где четверть века назад был сброшен отряд, пропавший без вести, так и не вышедший на связь с Центром. Школьники огибают кромку заболоченного луга, углубляются в еловую чащу леса, где за каждым стволом им мерещится застывший часовой, а за каждым пеньком — ложе пулемета. Наконец чаща редеет, и в глаза неожиданно ударяет пылающим закатным багрянцем солнечный диск. Дожидаюсь, когда экскурсия подходит к концу, стайки ребят растекаются по тропкам, опоясывающим хуторки, и расспрашиваю учительницу… Она отвечает не сразу: одышка дает себя знать, годы пенсионные, а бросать любимое дело трудно. Когда она впервые услышала о гибели отряда? Да еще тогда же — в сорок четвертом. Между хуторами была своя «телеграфная» связь, немцам редко удавалось скрыть что-либо от местных жителей. О, там происходил многодневный бой… Она уже всего не помнит, но помнит, что немцы все время подвозили к лесу на машинах солдат и всем жителям было приказано не высовывать носа из дому. А имя Сильвии… Вернее — Елены Кависте… Да, именно так… Его назвал еще в марте сорок четвертого напившийся на сельской свадьбе волостной староста — немцы водили его опознавать всех задержанных. Старосту убили партизаны, ну и поделом, он многих предал. Еще раз о ней говорил деверь учительницы, он служил переводчиком в гестапо и потом бежал с немцами на запад. Это был страшный рассказ, ей не хотелось бы его повторять. Но если это очень нужно… После войны к ним приезжал молодой офицер из Ленинграда, искал ленинградскую студентку Сильвию. Ему пересказали историю о Елене Кависте. Военный долго молчал, так и застыл, опершись на костыли. Прощаясь, сказал только, что Елена и была Сильвия, а Сильвия была его невестой… О Сильвии на хуторах родилась легенда и начала обрастать, как это всегда бывает с каждой легендой, новыми подробностями. Она уже многое забыла, сельская учительница, и ей сейчас очень трудно отделить сказанное деверем от того, что передавалось на хуторах. Кто скажет сейчас, где кончается правда и начинается вымысел? Подумалось тогда: да ведь правда в том, что легенда живет и заставляет сердца людей биться учащеннее. Искать исчезнувшие тропы отряда и находить свои тропы. Искать героику вчерашнего дня и сверять ее с собственной поступью. Не знаю… Может быть, это легенда. А может быть, и глубокая правда.С того мгновения, как сопровождающий крикнул ей: «Пошел!» — прошло всего несколько секунд, а Сильве они показались вечностью. Воздушный вихрь отбросил далеко от крыла «дунечки», как они ласково называли свой последний отчий дом, связывавший их с главным домом, оставшимся там, за линией фронта, где была и Кронверкская, и Кировский, и ЛЭТИ, и «лесная школа», и родные, близкие, товарищи… Отбросил, завертел, закружил, попытался распластать, но наткнулся на нечто упругое, сжавшееся в комок и не позволившее себя раздробить, сокрушить. И тогда уступил часть своей силы динамическому удару. Сразу же Сильва почувствовала себя уверенно в этом воздушном океане. Подтянула на себя стропы, как учили. Осмотрела местность под ногами: просеки. Только бы не попасть на крону дерева — неизвестно, кто ее тогда раньше снимет, свои или немцы. Успела заметить, что парашютный купол Инженера — так ей предстояло именовать, выходя на связь, своего командира — уже вошел в снежное одеяло земли. Ее понесло чуть в сторону от костров. Подумала: «Ветрило не вовремя налетел. Не везет в воздухе, повезет на земле!». Едва успела, резко натянув стропы, избежать большой раскидистой ели, стремительно поджала ноги. Врезалась в поляну. На секунду прижалась к земле: «Ну, здравствуй, родная». Только сейчас почувствовала, что обжигает мороз. Заученным движением перерезала стропы, выбралась из-под шелкового купола, подтащила его к сугробу, начала зарывать, обкладывать снегом. Все время прислушивалась к лесным звукам, но лес, темный, настороженный, не отзывался. Осмотрела дорогу — следы подводы старые, значит, места нехоженые. Проверила рацию: живет. Но пока отряд не определит базу, связь с Центром не рекомендуется. Что ж, пора в путь, Сильва. В свой первый разведывательный путь. Не спеша, стараясь сливаться со стволами, иногда проваливаясь в снег, двинулась в ту сторону, где, по ее расчетам, были зажжены костры. Прошла метров двести–триста и вдруг услышала легкий стук — так обычно дятлы клюют древесную кору. Повторила для себя шепотом: «Точка–два тире–точка… Иду, Инженер, иду». Откликнулась таким же перестуком. Через четверть часа они нашли друг друга и крепко обнялись. — Коммунист и комсомолец, — бодро сказал командир, — это целая партия и еще ее смена. Можем действовать. Так, Лена? Она радостно кивнула и начала растирать заиндевевшие щеки, нос, лоб. — Послушай, командир, — вдруг спросила она, — тебе не показалось странным, что нас спускалось целое отделение, а немцы даже не подняли тревоги? Он удивленно посмотрел на нее, сбил снег с шапки. — Ты тоже заметила? Вот не думал… Первый раз пошла в тыл — и уже соображаешь. — У меня были чудо-инструктора, — гордо сказала Сильва. — Они все предусмотрели. Ты уже не первый раз, объясни: почему те молчат? Он смешливо почесал за ухом. — Можно насчитать сто причин, а окажется всегда сто первая. Далеко стоят, спят, гуляют, отвлечены нашим связным на другой объект — ну, и всякое еще… Фрицевский контрход — усыпить наше внимание — пока исключаю. Нет данных. А ты что, испугалась? — Я люблю во всем ясность, командир. — В нашей работе полная ясность бывает редко. Через два часа десятеро собрались в условленном месте. Один из бойцов при спуске зацепился за сук и разбил колено, остальные были целехоньки. — Кто видел наши баулы, ребята? — спросил командир. Центр должен был сбросить десантникам два грузопарашюта с боеприпасами, толом, запасом продуктов на первое время. Отыскали только один. Командир был явно огорчен и с приказом об отходе бойцов медлил. Встретился взглядом с Сильвой. — Ну, товарищ чекист, как бы ты решила? — Инструкция одна, — Сильва говорила резковато, даже жестко. — Из района приземления надо выходить сразу. Сами знаете, Василий Иванович… Маленький отряд двинулся гуськом — след в след вдоль просеки: командир, затем радист, группу, как обычно, замыкал помощник командира. Пройдя с полкилометра, командир вдруг подал отряду знак остановиться, подошел к кусту, вытащил из него консервную банку. — Странно, — недоуменно сказал он. — Немецкая тушон-ка. Солдатский паек. Банка открыта недавно, а связной передавал, что места глухие. Прошли еще шагов сто, и Сильва вдруг подбежала к дереву: на стволе — срез, кому-то понадобился посох или дубинка. Срез был свежий. — Хуторяне сюда не доходят, — сказал командир, — значит, связной что-то напутал… В общем, перебазируемся в другое место, мне эта история шибко не нравится. Дух переведем через километров сорок. И снова шли — след в след. — Командир, — спросила Сильва, — Центру передать, что уходим с маршрута? — Успеется. Сперва разведаем обстановку. За двести метров от большака приказал всем оставаться в сугробах, ждать его и Геннадия. Вернулись они через час. Командир был непроницаем, высокий тонколицый Геннадий щурил глаза, и все знали, что это признак волнения. Оказалось, что по дороге взад и вперед колесила и посвистывала машина-пеленгатор. — Назад нам пути нет, — командир посмотрел на бойцов. — Что скажете, ребята? — По одному просочимся через шоссе, — предложила Сильва. — По одному нас не накроют. — Ладно, — согласился он. — Где-то за дорогой должен быть заброшенный лесничий домик. На карте он значился. Сбор — возле него. Если домика не окажется, разыщите в километре напрямик болотце. Уж его-то не спалили. Сжал руку Сильве: — Шестым чувством угадал — могут запеленговать. Не вздумай выходить на связь. — Не девочка, — сердито сказала она и вдруг улыбнулась. — Я, когда надо, послушная, товарищ Инженер. Поползла по-пластунски вдоль дороги, командир подозвал помощника: — Андрюша, побереги радистку. Ей впервой. — Есть! Краешком глаза она видела, что Андрей держится следом, подумала с обидой: «Выдержку проверяет». Покружила и нырнула в кювет, сказала со смешинкой: «Оторвалась, Андрюшенька». А рядом — его шепот: — Круг сделали лишний, товарищ радист. И потом учтите, Инженер советовал держаться по двое. В такое время совет — приказ. Почувствовала, что лицо горит. Андрей прав. Спрячь самолюбие в карман, Сивка. Спрячь и наблюдай за дорогой. Они пролежали три часа не шелохнувшись. Немецкие солдаты ходили взад и вперед, то и дело подъезжали грузовики, регулировщик одних направлял по главной дороге, другим велел заворачивать к лесной поляне. Потом показалась повозка с походной кухней, и все, кто сновал по дороге, ринулись на поляну. Несколько голосов вразнобой закричали: «Цу миттаг эссен!»[27] Через несколько минут дорога опустела. — Пора! — вырвалось у Сильвы. — Кто пойдет первым? Андрей легким толчком послал ее вперед. Через несколько минут они были уже далеко. Домик лесника стоял на своем месте, дверей в нем не было, оконных рам — тоже, ветер продувал крошечное помещение, и все же вылезать из него назад, в чащу, на тридцатиградусный мороз не очень-то тянуло. — Десять минут на разогрев, — сказал командир, — и сразу в путь. Похоже, что сюда вызван отряд карателей. Что им надо — хотел бы я знать, не из-за нас же такой переполох… Они шли полночи, утопая в сугробах, оттирая снегом замерзшие пальцы, лица, шли, помогая друг другу. На рассвете услышали паровозные гудки. — «Железка» близко, — с облегчением сказал командир. — Там есть наши, помогут. Сбор — в ельнике за будкой путевого обходчика. Держаться по двое. На этот раз Сильва шла в паре с Олегом. На вид он казался подростком, но в группе знали, что он участвовал уже в партизанских диверсиях на Псковщине. Они пересекали просеку, сжатую кряжистыми дубами, шли, стараясь не хрустнуть веткой, след в след, когда вдруг за стволами мелькнул огонек закрутки и голос невидимого во тьме часового, растягивая слова, произнес: — Бист ду эс, Отто? Вас цум тойфель махст ду хир?[28] Голос был ленив, диалект выдавал баварца. От неожиданности они встали как вкопанные, но в ту же секунду Олег, увлекая Сильвию вперед, отозвался по-немецки: — Их виль дем генеральфрос майне либе гештейен.[29] Часовой хохотнул, а они перешли на бег. Шагов за триста сделали короткую передышку. — А ты находчивый. Где ты так здорово научился их языку? — Есть дело куда важнее, — уклонился от ответа Олег. — Зачем у них на просеке часовые? — Это как дважды два, — предположила Сильва. — Немцы что-то берегут на путях. Она не ошиблась. Маленький отряд, собравшись за будкой путевого обходчика, подтвердил их наблюдения. Командир — он пришел последним — сказал, что по другую сторону дороги скапливаются карательные отряды. На путях эшелон — вроде бы для карателей, но пока загнан в тупик. Охраны вокруг собрали порядочно. — Вперед нам путь перекрыт, — подвел итог командир. — Придется нам убраться в дальний лес, товарищи. Но уберемся с музыкой. — Подорвем здесь эшелончик! — зажегся Геннадий. — Здесь? На полустанке? — усмехнулся командир. — И провалим всю группу? Будем отходить от скопления карательных отрядов вдоль линии, а там обстановка подскажет. От колеи пришлось держаться подальше — немцы, боясь партизанских налетов, вырубили вдоль полотна деревья и кустарник. И только в одном месте, где полотно делало поворот, ельник подступал поближе. — Здесь, — решил командир. — Если подрывать пути, то здесь. Он разбил отряд на четыре группы — Сильва опять оказалась в паре с Олегом — и каждой дал квадрат наблюдения. — Придется набраться терпения, — размышлял командир. — На много часов и, может быть, много дней. Жаль упустить эшелон. Потом будем устраиваться прочнее. Задумался, приказал Олегу: — Радиста беречь пуще глаз своих. — Товарищ командир, — возмутилась она. — Я такой же боец, как и все… — Ты боец повышенной ценности, — пошутил он. — Береги без меня рацию, Лена, но в эфир — ни-ни! Пеленгатор в одиночку не катается — ясно? Уже сутки они в наблюдении: Олег и Сильва. Вжались в снег, в землю. Место удобное — ложбина. Позади — болото. И слева тоже болото. Впереди, в метрах полутораста, поворот «железки». Все на виду. Немецких часовых не видно. Только под утро заявился патруль. Шли немцы вприпрыжку, морозец кусал, до поворота добрались и опять вприпрыжку — назад, наверно, на полустанок. Потом показалась дрезина — от поворота тоже покатилась назад. Дважды их навещал командир. Снова предупредил: «На связь — ни-ни!». Поел с ними тушенку, сказал, что если дрезина появится еще раз, Андрей и Генка заминируют ночью путь. Ушел, и они остались одни. Ветер засвистел, зашипел, смахнул на них с веток снежную пыль, будто мохнатой лапой провел по спинам. — Мерзко, — сказала Сильва. — Не то ты крот, не то человек. Олег ответил не сразу. Через несколько минут: — Нам хотели поначалу придать радиста-парня. Потом сказали, что радистом будет девушка. Энергично пробивается. Она почувствовала легкую насмешку, мягко осадила: — Мы с подругой старались энергично учиться. Спроси командира — он еще помнит мой хук левой. Немцы долго не появлялись. Вечером проехала дрезина. За нею прошагали, придирчиво осматривая колею, пятеро солдат. Навестивший их командир, узнав о движении на дороге, кивнул, будто и ожидал этого, потер щеку, уже зарастающую щетиной, предложил: — Пожалуй, начнем концерт. Только после взрыва — немедленно в лес. А пока держать колею под прицелом. Только он ушел, вернулись немцы, двое двинулись к полустанку, трое зашагали прямо на разведчиков. — Отползаем в болото! — сказала Сильва. — Стрелять — только в крайнем случае. Подняла на руках тяжелые батареи, Олег перехватил одну: так они и ползли на коленях, держа «басы» на вытянутых руках. Не доходя до болотца метров десяти, немцы остановились, что-то быстро залопотали и повернули назад. С колеи доносились тупые звуки. Догадались, что это Геннадий и Андрей долбят лопатами мерзлую землю, пытаясь вгрызться в насыпь, заложить в полотно взрывчатку. — Теперь они засядут с «удочкой», — завистливо вздохнула Сильва. — Как ни говорите, а равноправия женщины здесь не вижу. Догадалась в темноте, что Олег улыбается. — Слушай, — вдруг спросил он, — студенческая жизнь — это здорово, да? Она даже растерялась от такого вопроса, потом поняла, что он многие годы, наверно, мечтал о вузе. Тихо сказала: — Да, здорово. Рассвет погрузил их в молочную пелену. И именно тогда загудели шпалы. «Железка» ожила, методично отстукивая, будто метроном. Они даже не ожидали, что из белесого облака так быстро вынырнет черная масса и почти бесшумно подползет к повороту. — Ну же, ну! — зашептала Сильва. — Любит — не любит. — Не колдуй! — посоветовал Олег. — Ребята должны пропустить паровоз. Они действительно пропустили паровоз, и когда эшелон изогнулся легкой дугой, вверх вырвались два языка пламени, раздался оглушительный грохот, и, медленно кренясь на бок, паровоз и два вагона — будто это были не металлические колоссы, а сливочные тянучки — лениво сползли с высокого откоса вниз, в снежное месиво. Это было до того неожиданно, что Сильва даже уткнулась лицом в Олегово плечо, чтобы удержаться от возгласа. — Ну, чего ты? — грубовато и в то же время понимая ее, сказал Олег. — Сработали чисто. Из задних вагонов повалил огонь, прерывисто затрещала взрывчатка. На полотно попрыгали солдаты, заметались, забегали. Из лесу их стегнули автоматом, и они полезли в кюветы. — Пора! — сказал Олег. — Отходим! Они поползли в лес. Сильве показалось, что «оторвались», когда Олег вдруг зашептал: — Преследуют гады! Он дал автоматную очередь, и сейчас же они свернули с тропы. Голоса немцев слышались все ближе. — Уходи к нашим, я их задержу! — предложил Олег. По лицу увидел — не согласна, и тогда хрипло обругал ее: — Не тебя берегу — рацию! Сказала себе: «Он прав!». Поползла вниз, по склону оврага, как вдруг сквозь автоматный треск ей послышался стон. Вскарабкалась назад. Нашла Олега прижавшимся к стволу. — В правое плечо угодили, — объяснил он, — лучше бы в левое, тогда стрелять легче… Она потащила его вниз, в овраг, как раз в тот момент, когда на тропе появились зеленые шинели. Немцы не могли успеть их заметить, очень уж здесь густели ели, но, наверно, услышали хруст снега и прошили воздух автоматной очередью. Сильва почувствовала толчок и резко присела. — Ранена? — быстро спросил Олег. — Боли не чувствую. Не в «Северок» ли угодили? Ощупала ящичек — будто живого. — Идти можешь или перевязываться будем? — Не до жиру, радист! Жмем к своим! Они догнали группу только через час. Командир и бойцы были неразговорчивы, хмуры. Сильва огляделась. — А где Андрей? Их осталось восемь. — Мы потеряли отличного парня, — тихо сказал командир. — Но они потеряли больше… Сообщи, радист, Центру, и будем отрываться. Сообщи еще, что немцы проводят широкую карательную экспедицию, и она началась как раз в ночь нашей выброски, а если днем раньше, то связной Центра оказался не на высоте. Ну, запрягай свой «Северок». Она быстро раскинула рацию, начала настраиваться на свою волну. Командир вдруг увидел, что она сорвала с себя наушники, привстала с пенька.
 — Командир! — хрипло сказала Сильва. — Связи нет. В «Северок», видно, пульнули, пока я Олежку тащила…
— Значит, зря тащила! — зло сказал он и тут же поправился: — Да что я говорю… Все было правильно, но рация должна работать.
Она сняла панель, осмотрела, ощупала, проверила всю схему. Схема показалась исправной. И все же чутье подсказало, что если аккуратно проследить прожилки проводов, она найдет едва видимый надлом. Семь пар глаз сопровождали ее поиск, люди старались не дышать, следя за точными движениями ее пальцев, как если бы это была тонкая нейрохирургическая операция.
— Сейчас, командир, — приговаривала она. — Сейчас, ребята, минутку!
— Нет у нас уже и минутки, — грустно остановил ее командир. — Собирайся, Лена. Потом… Будем отрываться без связи. Центр нас поймет.
Она шла, глотая слезы. Командир вдруг повернулся к ней, мягко сказал:
— Бывает и так. Час не работает — потом заработает. Это зовется партизанской удачей. Так что не теряй надежды.
Он вдруг остановился.
— Впереди засада, ребята. Иначе с чего бы птицы заметались!
Немцы их окружали. Это было ясно. Они не знали, что из волости Лаево уже понеслись немецкие депеши о мощном партизанском отряде (а их всего-то осталось восемь!), который пускает под откос эшелоны и хозяйничает в центре Эстляндии (а они скитались в продуваемом ветрами ельнике)…
Кружили, плутали в лесу, пытаясь уйти от преследователей, но все дороги были уже перекрыты карателями. Где-то нужно было пересечь опушку, чтобы вырваться из простреливаемой просеки.
— Командир, я их отвлеку, — предложил Геннадий. — Добро?
Семеро разведчиков выбрались, наконец, в густой лес. Семеро выбрались, восьмой — Геннадий — остался лежать на поляне.
Снова и снова Сильва пыталась наладить связь с Центром. Ей удалось нащупать мизинцем под конденсатором кончик провода, разыскать второй оборванный проводок и скрепить их вместе. Она услышала в наушниках слабый, далекий писк: два тире–точка, два тире–точка… Не все расслышала, но домыслила: «Сант-Яго, почему молчите? Сант-Яго, почему молчите?»
— Командир, — зашептала она. — Центр нас помнит, ждет…
Но на связь она выйти не успела. Послышался лай собак. У этих людей остался один путь — в болото, и они забрались в него, много часов лежали недвижимо, чувствуя, что ноги и руки превращаются в ледяные обрубки.
— Выживем, — говорил командир. — Повоюем.
Но воевать им осталось немного.
Из болота выбрались шестеро — седьмого похоронили между кочками, бережно укрыли мхом.
В этот день они приняли еще один бой — и еще двое ребят полегли под стройными соснами.
Их осталось четверо.
— Раскидывай рацию! — устало сказал командир. — Пусть пеленгуют — надо же доложить…
Но доложить она не могла.
Молчали все четверо.
— Аппаратура отсырела в болоте, командир. Я невезучая. Вам и верно парня бы на мое место.
— Не глупи. Ты сражалась не хуже любого парня. И в подрыве эшелона — тоже твоя доля.
Они блуждали по заснеженному лесу, по просекам, удаляясь от хруста шагов, от немецкой речи. Лай овчарок загнал их опять в болото. Нашли в центре его маленький островок, укрытый камышами. Он стал последней стоянкой группы «Балтийцы».
Им не дали отлежаться и сутки. С «мессершмитта» заметили и обстреляли. Осталось трое: командир, Сильвия и Олег. У Олега горело плечо, его трясло. В последний раз Сильва попыталась связаться с Центром, но ее не слышали.
— Прием есть? — спросил командир. — Если есть, скажи, что делается на белом свете.
На белом свете гитлеровский зверь метался в агонии. А здесь, вокруг эстонского болота, еще шевелились его страшные щупальца.
Командир прорубил в болоте лунку и опустил в мутную воду «Север». Олег и Сильва двигаться не могли — отнимались ноги. Трое разведчиков следили за тем, как медленно исчезала в проруби их последняя надежда на связь с Большой землей. Потом настал черед отрядных документов, карт, планов.
А цепи карателей ползли и все время стреляли.
Трое тоже стреляли. Потом Олег откинулся назад.
— Ну, вот и все. Если вырветесь…
Теперь их двое — командир и радист. Но у командира есть армия — она, Сильва. А у нее нет «Северка». Без «Северка» она не радист.
Командир методично досылал патроны. Вдруг сказал:
— А я о тебе мало что знаю. Кого ты любила? Что там оставила?
— А все, — просто сказала она. — Родину, и маму, и ребят из ЛЭТИ, и лучшую свою подругу, и первую свою любовь, и Роберта Бернса… Мама не придет в себя — вот что мучает. Как думаешь, командир, мы провалили дело?
— А эшелон, — засмеялся он, — это что — не в зачет? А пути они сколько расчищать будут — это не в зачет? Но, конечно, могли больше… Если бы человеку — два сердца!
— Командир! — хрипло сказала Сильва. — Связи нет. В «Северок», видно, пульнули, пока я Олежку тащила…
— Значит, зря тащила! — зло сказал он и тут же поправился: — Да что я говорю… Все было правильно, но рация должна работать.
Она сняла панель, осмотрела, ощупала, проверила всю схему. Схема показалась исправной. И все же чутье подсказало, что если аккуратно проследить прожилки проводов, она найдет едва видимый надлом. Семь пар глаз сопровождали ее поиск, люди старались не дышать, следя за точными движениями ее пальцев, как если бы это была тонкая нейрохирургическая операция.
— Сейчас, командир, — приговаривала она. — Сейчас, ребята, минутку!
— Нет у нас уже и минутки, — грустно остановил ее командир. — Собирайся, Лена. Потом… Будем отрываться без связи. Центр нас поймет.
Она шла, глотая слезы. Командир вдруг повернулся к ней, мягко сказал:
— Бывает и так. Час не работает — потом заработает. Это зовется партизанской удачей. Так что не теряй надежды.
Он вдруг остановился.
— Впереди засада, ребята. Иначе с чего бы птицы заметались!
Немцы их окружали. Это было ясно. Они не знали, что из волости Лаево уже понеслись немецкие депеши о мощном партизанском отряде (а их всего-то осталось восемь!), который пускает под откос эшелоны и хозяйничает в центре Эстляндии (а они скитались в продуваемом ветрами ельнике)…
Кружили, плутали в лесу, пытаясь уйти от преследователей, но все дороги были уже перекрыты карателями. Где-то нужно было пересечь опушку, чтобы вырваться из простреливаемой просеки.
— Командир, я их отвлеку, — предложил Геннадий. — Добро?
Семеро разведчиков выбрались, наконец, в густой лес. Семеро выбрались, восьмой — Геннадий — остался лежать на поляне.
Снова и снова Сильва пыталась наладить связь с Центром. Ей удалось нащупать мизинцем под конденсатором кончик провода, разыскать второй оборванный проводок и скрепить их вместе. Она услышала в наушниках слабый, далекий писк: два тире–точка, два тире–точка… Не все расслышала, но домыслила: «Сант-Яго, почему молчите? Сант-Яго, почему молчите?»
— Командир, — зашептала она. — Центр нас помнит, ждет…
Но на связь она выйти не успела. Послышался лай собак. У этих людей остался один путь — в болото, и они забрались в него, много часов лежали недвижимо, чувствуя, что ноги и руки превращаются в ледяные обрубки.
— Выживем, — говорил командир. — Повоюем.
Но воевать им осталось немного.
Из болота выбрались шестеро — седьмого похоронили между кочками, бережно укрыли мхом.
В этот день они приняли еще один бой — и еще двое ребят полегли под стройными соснами.
Их осталось четверо.
— Раскидывай рацию! — устало сказал командир. — Пусть пеленгуют — надо же доложить…
Но доложить она не могла.
Молчали все четверо.
— Аппаратура отсырела в болоте, командир. Я невезучая. Вам и верно парня бы на мое место.
— Не глупи. Ты сражалась не хуже любого парня. И в подрыве эшелона — тоже твоя доля.
Они блуждали по заснеженному лесу, по просекам, удаляясь от хруста шагов, от немецкой речи. Лай овчарок загнал их опять в болото. Нашли в центре его маленький островок, укрытый камышами. Он стал последней стоянкой группы «Балтийцы».
Им не дали отлежаться и сутки. С «мессершмитта» заметили и обстреляли. Осталось трое: командир, Сильвия и Олег. У Олега горело плечо, его трясло. В последний раз Сильва попыталась связаться с Центром, но ее не слышали.
— Прием есть? — спросил командир. — Если есть, скажи, что делается на белом свете.
На белом свете гитлеровский зверь метался в агонии. А здесь, вокруг эстонского болота, еще шевелились его страшные щупальца.
Командир прорубил в болоте лунку и опустил в мутную воду «Север». Олег и Сильва двигаться не могли — отнимались ноги. Трое разведчиков следили за тем, как медленно исчезала в проруби их последняя надежда на связь с Большой землей. Потом настал черед отрядных документов, карт, планов.
А цепи карателей ползли и все время стреляли.
Трое тоже стреляли. Потом Олег откинулся назад.
— Ну, вот и все. Если вырветесь…
Теперь их двое — командир и радист. Но у командира есть армия — она, Сильва. А у нее нет «Северка». Без «Северка» она не радист.
Командир методично досылал патроны. Вдруг сказал:
— А я о тебе мало что знаю. Кого ты любила? Что там оставила?
— А все, — просто сказала она. — Родину, и маму, и ребят из ЛЭТИ, и лучшую свою подругу, и первую свою любовь, и Роберта Бернса… Мама не придет в себя — вот что мучает. Как думаешь, командир, мы провалили дело?
— А эшелон, — засмеялся он, — это что — не в зачет? А пути они сколько расчищать будут — это не в зачет? Но, конечно, могли больше… Если бы человеку — два сердца!
 — А ты кто, командир?
— Инженер, — он ответил, целясь. — На гражданке инженер. Жена ждет и дочка. Слушай, почему тебя назвали Сильвией?
Немцы надвигались. Она выстрелила и тогда сказала: — Отец и мама хотели, чтоб имя у меня было горячее. Как их молодость. А незадолго до моего рождения Ленин обратился с письмом к революционерке Сильвии… Видишь, как все просто.
Вдруг он обругал себя:
— Эх, Лена, у меня весь боезапас вышел. Для себя не оставил.
— У меня последний патрон, — сказала она и выстрелила. — Я, наверно, сильная, командир. Я, наверно, выдержу. Кончать счеты с жизнью нас не учили.
— Имей в виду, они звери… Если будут пытать…
— У меня есть в запасе сто «считалок», — заверила его Сильва. — И еще можно читать себе: «Мельник на ослике ехал верхом. Мальчик за мельником плелся пешком…»
…С них сорвали одежду и прикрутили к двум тонким березкам. Допрос длился уже несколько часов, но гестаповец ничего не смог от них добиться. И потому решил, что имеет дело с людьми из нашумевшего партизанского отряда.
В людях, застывших у березок, теплились уже очень слабые искры жизни. Гестаповец подбегал то к командиру, то к девушке:
— Позывные Центра — и вы сразу будете в тепле, господа!
И вдруг он услышал из уст девушки очень тихое, едва уловимое:
— А ты кто, командир?
— Инженер, — он ответил, целясь. — На гражданке инженер. Жена ждет и дочка. Слушай, почему тебя назвали Сильвией?
Немцы надвигались. Она выстрелила и тогда сказала: — Отец и мама хотели, чтоб имя у меня было горячее. Как их молодость. А незадолго до моего рождения Ленин обратился с письмом к революционерке Сильвии… Видишь, как все просто.
Вдруг он обругал себя:
— Эх, Лена, у меня весь боезапас вышел. Для себя не оставил.
— У меня последний патрон, — сказала она и выстрелила. — Я, наверно, сильная, командир. Я, наверно, выдержу. Кончать счеты с жизнью нас не учили.
— Имей в виду, они звери… Если будут пытать…
— У меня есть в запасе сто «считалок», — заверила его Сильва. — И еще можно читать себе: «Мельник на ослике ехал верхом. Мальчик за мельником плелся пешком…»
…С них сорвали одежду и прикрутили к двум тонким березкам. Допрос длился уже несколько часов, но гестаповец ничего не смог от них добиться. И потому решил, что имеет дело с людьми из нашумевшего партизанского отряда.
В людях, застывших у березок, теплились уже очень слабые искры жизни. Гестаповец подбегал то к командиру, то к девушке:
— Позывные Центра — и вы сразу будете в тепле, господа!
И вдруг он услышал из уст девушки очень тихое, едва уловимое:
 ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
 этой книге нет эпилога.
Его и не может быть.
Подвиг имеет начало, но он бесконечен во времени.
Люди, которые брали Зимний и Перекоп, знали, что их дети, внуки и правнуки будут верны высоким идеям. Уходить из жизни никому не хочется. Герой или героиня этой книги могли прожить, по крайней мере, три своих жизни. И им очень хотелось чокнуться бокалом в радостный День Победы. Помните? «Пусть говорят, что блеск глаз — это чепуха, но наши глаза будут блестеть, когда мы подымем бокал в громкий День Победы в честь счастья и мира».
Увы, мира они не дождались. Но, прощаясь с жизнью, посылали последний привет тем, кто поднимет выпавшее из их рук оружие.
Семена Воскова уже не было, но бойцы Девятой стрелковой, с гордостью называвшие себя восковцами, понесли мечту своего комиссара по дорогам гражданской войны.
Семена Воскова уже не было, когда командированные им в центральные губернии России комиссары привезли с собой сотни бедняков, пополнивших поредевшие полки дивизии.
Семена Воскова не было, но Второй образцовый полк деревенской бедноты, отметивший свое рождение у Зимнего дворца и взявший имя С. П. Воскова, в боях с интервентами на севере, с белополяками и колчаковцами завоевал три Красных Знамени ВЦИК.
В день, когда питерский пролетариат бережно опускал в могилу на Марсовом поле тело своего накромпрода Семена Воскова, к товарной платформе Московского вокзала подкатил эшелон, груженный хлебом, с паровоза соскочил невысокий человек в кожанке и предъявил коменданту мандат, помеченный военной печатью и хорошо знакомой питерцам подписью: «Товарищ уполномочен составить маршрутный поезд с продовольствием для голодающих рабочих Петрограда. Восков. 13 февраля». Комендант прочел, взял под козырек и заплакал.
Воскова уже не было, когда тихую Большую Белозерскую улицу на Петроградской стороне питерцы переименовали в улицу Воскова.
Не было Семена Петровича, но жил и продолжал сражаться за молодую Советскую республику Сестрорецкий оружейный завод, который рабочие нарекли именем своего первого предзавкома — большевика Воскова.
этой книге нет эпилога.
Его и не может быть.
Подвиг имеет начало, но он бесконечен во времени.
Люди, которые брали Зимний и Перекоп, знали, что их дети, внуки и правнуки будут верны высоким идеям. Уходить из жизни никому не хочется. Герой или героиня этой книги могли прожить, по крайней мере, три своих жизни. И им очень хотелось чокнуться бокалом в радостный День Победы. Помните? «Пусть говорят, что блеск глаз — это чепуха, но наши глаза будут блестеть, когда мы подымем бокал в громкий День Победы в честь счастья и мира».
Увы, мира они не дождались. Но, прощаясь с жизнью, посылали последний привет тем, кто поднимет выпавшее из их рук оружие.
Семена Воскова уже не было, но бойцы Девятой стрелковой, с гордостью называвшие себя восковцами, понесли мечту своего комиссара по дорогам гражданской войны.
Семена Воскова уже не было, когда командированные им в центральные губернии России комиссары привезли с собой сотни бедняков, пополнивших поредевшие полки дивизии.
Семена Воскова не было, но Второй образцовый полк деревенской бедноты, отметивший свое рождение у Зимнего дворца и взявший имя С. П. Воскова, в боях с интервентами на севере, с белополяками и колчаковцами завоевал три Красных Знамени ВЦИК.
В день, когда питерский пролетариат бережно опускал в могилу на Марсовом поле тело своего накромпрода Семена Воскова, к товарной платформе Московского вокзала подкатил эшелон, груженный хлебом, с паровоза соскочил невысокий человек в кожанке и предъявил коменданту мандат, помеченный военной печатью и хорошо знакомой питерцам подписью: «Товарищ уполномочен составить маршрутный поезд с продовольствием для голодающих рабочих Петрограда. Восков. 13 февраля». Комендант прочел, взял под козырек и заплакал.
Воскова уже не было, когда тихую Большую Белозерскую улицу на Петроградской стороне питерцы переименовали в улицу Воскова.
Не было Семена Петровича, но жил и продолжал сражаться за молодую Советскую республику Сестрорецкий оружейный завод, который рабочие нарекли именем своего первого предзавкома — большевика Воскова.
 Не было Семена Воскова, но продолжали сражаться за мечты своего отца молодые Восковы — Виктор и Евгения, Даниил и Сильвия.
Разные у них были судьбы, по-разному сложились их жизни, и рассказ об этом, наверно, мог бы составить отдельную книгу. Но все четверо, они унаследовали от отца высокую целеустремленность.
Виктор не дожил до боев с гитлеровцами, жизнь студента Московского авиационного института трагически оборвалась до войны, накануне того дня, когда он должен был докладывать в «Дирижаблестрое» о проекте своего изобретения: аппарате-дирижабле с крыльями. Даниил Восков в войну служил в бомбардировочной авиации, удостоен многих правительственных наград, сейчас — один из руководителей ленинградского завода «Электропульт». Евгения была гвардии рядовым аэродромной службы, после войны преподает английский язык студентам. А Сильвия…
Впрочем, о ней вы уже все знаете.
А что не знаете вы — увы, не знает и автор. К двадцатилетию Победы над фашизмом Президиум Верховного Совета СССР отметил память о советской патриотке посмертным награждением ее орденом Отечественной войны II степени. Номер орденской книжки — 927917. На месте фотокарточки — надпись: «Действительно без фотографии».
Не было Семена Воскова, но продолжали сражаться за мечты своего отца молодые Восковы — Виктор и Евгения, Даниил и Сильвия.
Разные у них были судьбы, по-разному сложились их жизни, и рассказ об этом, наверно, мог бы составить отдельную книгу. Но все четверо, они унаследовали от отца высокую целеустремленность.
Виктор не дожил до боев с гитлеровцами, жизнь студента Московского авиационного института трагически оборвалась до войны, накануне того дня, когда он должен был докладывать в «Дирижаблестрое» о проекте своего изобретения: аппарате-дирижабле с крыльями. Даниил Восков в войну служил в бомбардировочной авиации, удостоен многих правительственных наград, сейчас — один из руководителей ленинградского завода «Электропульт». Евгения была гвардии рядовым аэродромной службы, после войны преподает английский язык студентам. А Сильвия…
Впрочем, о ней вы уже все знаете.
А что не знаете вы — увы, не знает и автор. К двадцатилетию Победы над фашизмом Президиум Верховного Совета СССР отметил память о советской патриотке посмертным награждением ее орденом Отечественной войны II степени. Номер орденской книжки — 927917. На месте фотокарточки — надпись: «Действительно без фотографии».
 Действительно… Значит, действует, борется, окрыляет.
Значит, сотни обученных ею радистов действительно преданно работали на Победу по обе стороны фронта.
Значит, подвиг, свершенный ею в фашистском тылу, вдали от своих, в безвестности, стал осязаемым, зримым, нужным.
Значит, позывные услышаны.
Действительно… Значит, действует, борется, окрыляет.
Значит, сотни обученных ею радистов действительно преданно работали на Победу по обе стороны фронта.
Значит, подвиг, свершенный ею в фашистском тылу, вдали от своих, в безвестности, стал осязаемым, зримым, нужным.
Значит, позывные услышаны.
Ленинград. 1966–1970
Информация об издании
Р2 ср. М 69РИСУНКИ И ФОРЗАЦ Л. РУБИНШТЕЙНА
ОФОРМЛЕНИЕ С. ГЕСИНА
7—6—3

Для среднего и старшего возраста
Михайлов Рафаэль Михайлович
ПОЗЫВНЫЕ УСЛЫШАНЫ
Ответственный редактор Г. А. Аршинников. Художественный редактор А. Д. Рейпольский. Технический редактор Т. С. Филиппова. Корректоры Л. К. Малявко и Н. П. Васильева.
Подписано к набору 17/II 1971 г. Подписано к печати 2/VI 1971 г. Формат 60×841/16. Бум. м/мел. Печ. л. 19. Усл. печ. л. 17,73. Уч.-изд. л. 16,5. Тираж 75 000 экз. ТП 1971 № 470. М-36186. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Заказ № 30. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 77 коп.

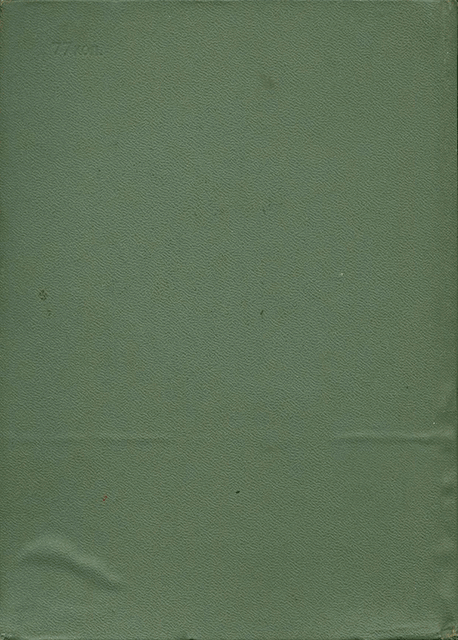
Примечания
1
Здесь и далее стихи Р. Бернса приведены в переводах С. Маршака. (обратно)2
Шпик, осведомитель. (обратно)3
Одесский рынок. (обратно)4
Железнодорожный узел в предместье Харькова. (обратно)5
 — Восков Самуил Петрович (Семен Петрович, Товарищ Самуил), 1889–1920. — прим. Гриня
(обратно)
— Восков Самуил Петрович (Семен Петрович, Товарищ Самуил), 1889–1920. — прим. Гриня
(обратно)

Последние комментарии
2 минут 28 секунд назад
4 минут 52 секунд назад
6 минут 49 секунд назад
8 минут 18 секунд назад
6 часов 11 минут назад
10 часов 26 минут назад