Усвятские шлемоносцы [Евгений Иванович Носов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Евгений Иванович Носов Усвятские шлемоносцы
© Носов E. И., наследники, 2017 © Оформление ООО «Искателькнига», 2017
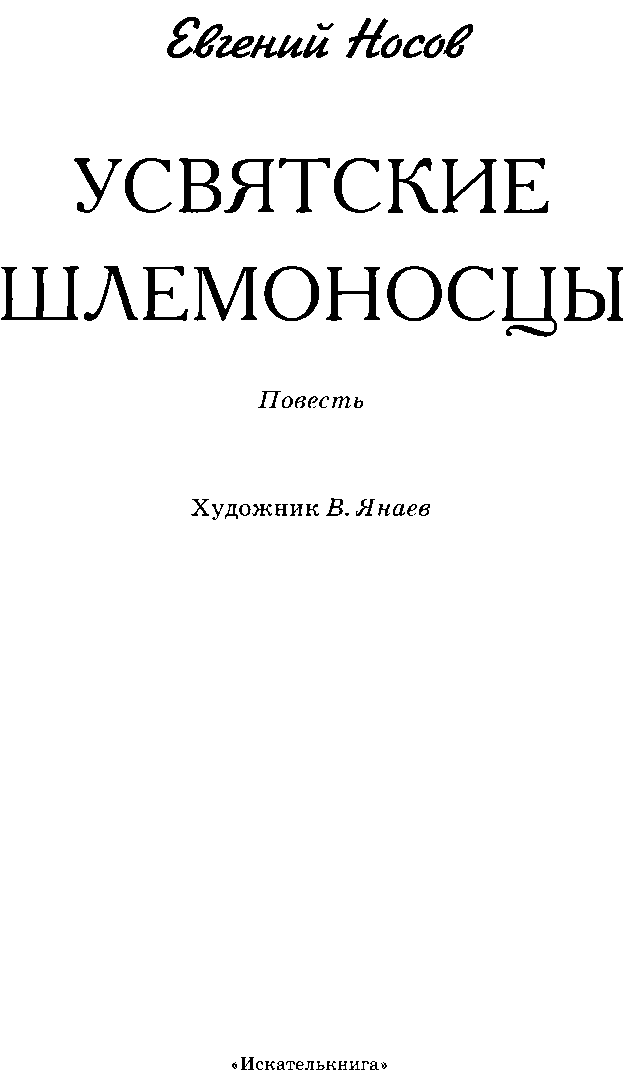
1
И по Русской земле тогдаРедко пахари перекликалися,Но часто граяли враны.«Слово о полку Игореве»

В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлёбывалась травой. В тридцать шесть годов от роду силёнок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведённое плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и ещё раз поудивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдёт запасец. Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее. Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всём своём несмелом, увёртливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном, — в Верхних Ставцах. Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженая — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуёмном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаённым старицам, никому во всём людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые вётлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетёные кубари на отливавшую бронзой озёрную рыбу, промышляли колодным мёдом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем. Ещё с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:
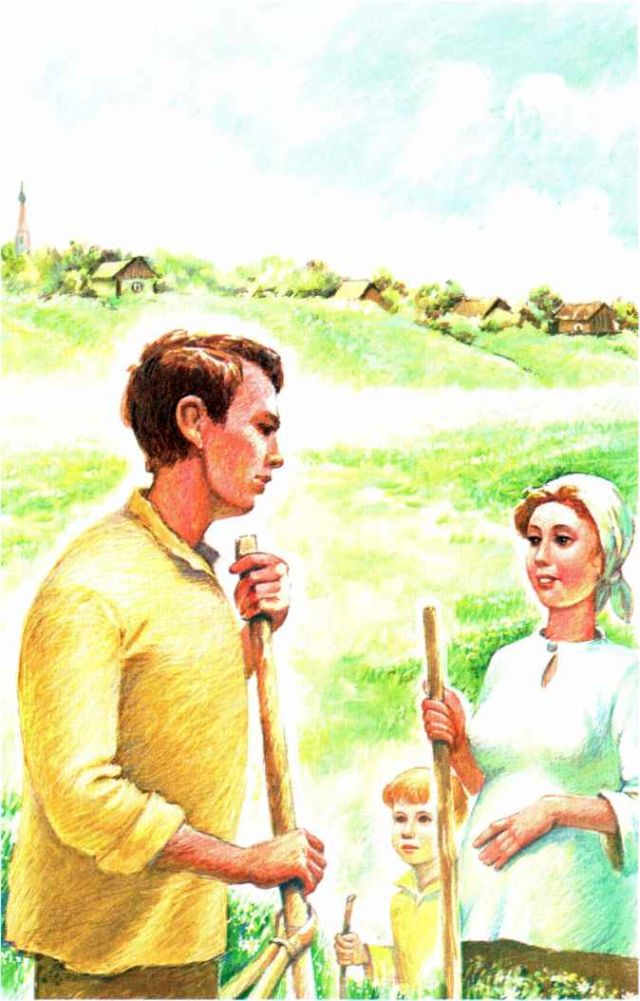
2
Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив своё, побёг ещё помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошёл к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено. Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томлённой на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснившихся, отпотевших от собственного тепла. Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил: — Давай, Натаха, собирай всё это. Мужики к себе зовут. — А может, одни посидим? — Пошли, пошли. — Касьян подхватил Митюньку на руки. — Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться. Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, разморённо развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, не видимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал светлым пламенем большой бездымный костёр, распалённый ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе и навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапок лука, чеснока, картошки, сала, и всё это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился. — Мир вам, люди добрые, — чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть. — Давай, давай, Наталья, подсаживайся. — Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко. — Тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом! Ужли всё одолеем? — А чево ж не одолеть? — откликнулись бабы. — Враз и умолотим. — Ой ли… — засомневался Давыдко, дочерна запечённый мужик в серебре щетины по впалым щекам. — Оно ведь о сухую траву и коса тупится… Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживлённо поддержали: — Да уж надо бы… тово… для осмелки. — Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы. — Ох! Сразу и за своё! — дружно накинулись, зашумели бабы. — Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец — всему делу венец. Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем: — Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром! — Да уж чево там! — закивали мужики. — В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить. — За таким-то столом и чарка соколом, — вставил своё слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чём помочь поелико возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и своё былое, прошедшее. — Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ём. В одном селе живём, а за одним столом не каждый день сиживаем. — Ну раз такое дело… — подбил разговор Иван Дронов. — Тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтра. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст. — А ежели не отдаст, заупрямится? — Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на верёвки спишет. — Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко. — Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил. — Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чего уж дробить. Маленький щуплый бригадир дёрнулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали. — Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови. — Хватит и этова, — поддержали бригадира женщины. — Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколь. — Обойдёмся, таковские. — Шесть так шесть. — Посыльный поднялся, поддёрнул штаны. — Дай-ка, Касьян, твою торбу. Босой Давыдко побежал трусцой к реке. Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только детишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в неторопливом ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обратать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец всё-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперёк хребтины, и в таком положении норовистый мерин попёр его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом. Было видно, как он проскочил стадо, улёгшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье. — Ну, лих парень! — усмехались под кустами мужики. — Прямо казак. — Казак — кошелём назад, — съязвил кто-то из бабьего стана. — За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка. — Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье! Магазей не работает, — вспомнил кто-то из мужиков. — А верно, братцы. Как же это мы не подумали? — Ничево! Этот найдёт! Под землёй, а Клавку сыщет. У неё дома завсегда припасено. Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворённо поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комарков, ещё неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему ещё роднее и ближе, ответно полня всё его существо тихим удовлетворением. И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти… Вот получу на трудодни сено, куплю ей швейную машинку, думал он, начиная задрёмывать. Пусть себе рукодельничает. Привиделось ему, будто и на самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, ещё не хоженных по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничего не мешало счёту. Касьян разрезал на ровном аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лёг на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе и не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за притча? Касьян метнул ещё раз — шестёрка крестовая! «Глянь-ка, — всплеснула руками Натаха, — да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь ещё». Кинул Касьян очередной червонец — и опять всё своим чередом: лощёная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом: посередине бубна, вроде подушки-думки, а от неё в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха. — Туз — это письмо, казённую бумагу означает, какую-то контору». — «Нет, это не контора, — не согласился Касьян. — А ежели казёнка, дак не иначе как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой, родненький! — обрадовалась Натаха. — Да как же не хотеть? Я и сама про неё всё время мечтаю, да боюсь тебе сказать». — «Ну вот, родишь сына, и куплю. Истинное слово!» — «Ну тогда дай я ещё выну карту, у меня рука лёгкая». Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой серёдки. «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» Она подкинула бумажку, чтобы подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьётся и всё никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама жёлтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела». — «Как же не ту? — возразил Касьян. — Всё верно: это же наша Клавка-продавщица. Всё сходится у нас с тобой!» — «Ну как же ты не видишь? Это же ведьма! Пиковая дама завсегда ведьмой считалась». — «А Клавка и есть змея подколодная, — засмеялся Касьян. — Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая ещё триста штук не хватает. Клавка и есть, её рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо даже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и жёлтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше: не Клавка это… Вот тебе крест». — «Да кто же ещё, дурёха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она… Какая-то не такая это денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотёпа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь её, — вскинулась Натаха. — Так-то от неё не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет». — «Да не возьмёт он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся». — «Ну тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается». — «Нет, — сказал ей Касьян. — Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон ещё сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как…» Касьян схватил даму, рванул её пополам, сложил половинки и ещё располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга, — засмеялся он довольно. — Была — и нету её». Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою лапоть, но никак не мог побороть сна, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали: — Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет. Кто-то повозил в носу травинкой, Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки. Промигав всё ещё изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырём, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона. — Ну, артист! Вьюн-мужик! Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость. — Этак и бутылки поколотит. — Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь. — Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было всё ж таки десять штук заказывать. Чего уж там! Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в воду оковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками. — Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит, — всполошились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную. — Да не пьяный ли он, часом?! — тревожились бабы. — Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо! — А долго ли ему хлебнуть, паразиту! — Бельма свои залил — никого не видит. Ещё издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и, всё так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» да «а-а!» — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая его пасть была набита жёлтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул: — Война! Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчуждённо глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким — неузнаваемым и чужим. С реки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и насторожённые, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками. Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запалённо повторил ещё раз: — Война, братцы! Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не стронулся с места. В лугах всё так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы, — всё оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком несовместимо было с обликом мира это внезапное, нежданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг, сразу принять его, поверить одному человеку, принёсшему эту весть, не поверив всему, что окружало, — земле и солнцу. — Врёшь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжёлый взгляд из-под насунутой фуражки. — Чего мелешь? Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задёргали, затеребили мужика: — Да ты что, кто это тебе сказал? — Мы ж только оттуда, — напирали бабы. — И никакой войны не было, никто ничего. — Да кто это тебе вякнул-то? — Может, враки пустили. — Потому и ничего… — отбивался Давыдко. — Дуська нынче не вышла, у неё ребёнок заболел… — Какая Дуська? При чём тут какая-то Дуська? — Дак счетоводка, какая же… — Ну?! — Вот и ну… А бухгалтер кладовку проверял, не было его с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, ещё с утра началася. — Да с кем война-то? Ты толком скажи! — С кем, с кем… — Давыдко картузом вытер на висках грязные потёки. — С германцем, вот с кем! — Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов. — Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали? Не может того быть! И в газете о том сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь… Народ мне смущать. — Поди, кто сболтнул, — снова загалдели бабы, — а он подхватил, нате вам: война! Ни с того ни с сего. — Не иначе, брехня какая-то, — обернулся к Касьяну Алёшка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах косарь. Перочинным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую от нечего делать затеял ещё в ожидании Давыдки. — Мир-то мир, а с немцем всякое могёт статься, — запальчиво выкрикнул дедушко Селиван. — С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же её и не соблюдёт. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую. Однако мужики и сами уже нутром почуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это поверить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придётся отрывать, бросать и рушить, о чём пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал, сипло и с пробившимся визгом в сорванном голосе: — Да вы чего на меня-то? Чего прёте? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами! Со стороны деревни донёсся отдалённый, приглушённый, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослабленные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по стонливому железу. Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами; молчали мужики, теребя подбородки и бороды; помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алёшкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку; обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, перемётывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых, вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчуждёнными. Да ещё Натаха как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зелёным ивовым пищиком в кулачке безмятежно посапывал на её коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделённый от своего будущего братца тёплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, под рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне весёлые луговые птахи, и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли. А из села заливисто и тревожно, каким-то далёким лисьим тявканьем опять доносилось: — А-ай, а-ай, а-ай, а-ай… Иван Дронов наконец первым очнулся, крутнул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвёл всех тягучим взглядом и объявил с глубинным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду: — Ну, люди, пошли! Слышите, зовут нас… Старая Махотиха, Лёшкина мать, обморочно всплеснула вялыми плетьми рук, закрылась ими и завыла, завыла, терзая всем души, уткнув чёрное лицо в чёрные костлявые ладони.3
С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетиненным граблями, деревянными рогатыми вилами, посверкивающими косами, добела отмытыми травой, — словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода, высился на своём мерине над картузами и косынками пеших людей бригадир Иван Дронов всё с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах. Даже детишки попримолкли и без обычного гомона и непременного баловства трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца или матери. Парнишки упрямо не оставляли своих нехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желанной рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышлёного слётка, желторотого дроздёныша, коими в покосы всегда кипело урочище. На головках у девочек, ещё недавно в праздничном разноцветье лугов воображавших себя сказочными царевнами, в жалкой теперь ненужности мелькали цветочные венки, обвядшие, безвольно поникшие, о которых девочки, наверное, уже и не помнили. Иные в затвердело сжатых кулачках, как бесценное сокровище, несли перед собой пучки земляники. Вдосталь пособирать её так и не довелось, и почти у всех пучки были жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редких дрожливых ягодах. Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, бригада рассыпалась, разбилась на мелкие кучки, а те подробились и того мельче, — кому мешали поспешать малые дети, кого удерживали квёлые старики. Не утерпел, ускакал на голос всё ещё лязгающего железа Иван Дронов, крикнув только с коня: — К правлению давайте! К правлению! Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Одни уже одолевали последний узволок, по зелёному косо прорезанный светлой песчаной дорогой, другие подступали к стаду, а одинокий дедушко Селиван ещё только перебирался по мостку. Не отрывая от настильных плах своих войлочных поршеньков, выстланных сеном, он мелко, опасливо шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное берёзовое перильце. И ему, должно, казалось, что и он тоже поспешал, бежал со всеми. А позади, над недавним становищем, уже слеталось, драчливо каркало вороньё, растаскивая впопыхах забытую артелью складчину: яйца, сало и ещё не простывшие пироги. Касьян, посадив на плечи Митюньку, сдерживая себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом с косой и граблями, но та, упорная, всё наддавала и наддавала, вострясь лицом на деревню. — Да не беги, не беги ты так! — в сердцах окорачивал её Касьян. — Чего через силу-то палишься! — Все ж бегут… — Тебе-то небось и не к спеху. — Я-то ничего… да ноги… сами бегут… — приговаривала она, хватая воздух. — А тут ещё звякают… Хоть бы не звякали, что ли… Душа разрывается… — Сядь передохни, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегишь, запаляешься. Как бы худо не стало… — Ох, нет, Кося! Пошли, пошли… Нехорошо как-то… Неспокойно мне… А ежели тебя возьмут… А у меня ничего не готово, не постирано… — Ну дак не сразу ж. А может, и вовсе не возьмут. — Да как же не взять? То ли ты хромый или кривой какой? — Сперва молодых должны. А уж потом как пойдёт. А то, может, и одними молодыми управятся. Вот и польская была, и финская, а меня не тронули. Ну-ка, одних молодых кликни, и то сколь, ого-о! — Ох, Кося, в финскую так-то вот не звякали, не скликали. Тогда тихо всё было… Деревня уже каждой своей избой хорошо виделась на возвышении. Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тихо, со сдержанной молчаливостью привязан к своему дому, особенно после того, как привёл в хозяйки Натаху, которая как-то сразу пришлась ко двору, признала его своим, будто тут и родилась, и без долгих приглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как принял он от отца подворье, стало привычкой во всякую свободную минуту обходить, окидывать со всех сторон жильё, надворные хлевушки, погребицу, ладно срубленный, сухой и прохладный, на высокой подклети амбарчик, в три хлыста увязанный всё ещё свежий плетень, всякий раз неспешно присматривая, что бы ещё такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заново. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, и по железному делу, а каждую найденную проволочку или гвоздок, рассмотрев и прикинув, определял про запас в заветный тайничок. Позапрошлой весной заменил на своей избе обветшалые наличники на новые, за долгую зиму урывками между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл киноварью, и от всего этого изба враз весело обновилась, невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца, всё, бывало, отвернёт занавесочку, обежит сквозь стекло глазами, хотя виделось в общем-то одно и то же: однообразный до самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось покосное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и угрюмовато маячил матёрый лес. Простая и привычная эта картина, её извечная, сколь себя помнит Касьян, неизменность откладывались в сознании незыблемостью и самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, как прожить и умереть на этой вот земле, родной и привычной до каждой былки. Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо вглядывался в своё подворье, которое столь старательно укреплял и ухорашивал, и, наверное, впервые при виде голубых окошек испытывал незнакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапный ожог, который он поначалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, однако, пока он бежал, начало всё большесаднить, воспалённо вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполняя всё его сознание ноющим болезненным присутствием. Но сам он ещё не мог понять, что уже был отравлен этой зловещей вестью, её неисцелимым дурманом, который вместе с железным звоном рельсового обрубка где-то там на деревне уже носился в воздухе, неотвратимо разрушая в нём привычное восприятие бытия. О чём бы он мельком ни подумал: о брошенном ли сене, о ночном дежурстве на конюшне, о том, что собирался почистить и просушить погреб, — всё это тут же казалось ненужным, утрачивало всякий смысл и значение. Он бежал и всё больше не узнавал ни своей избы, ни деревни. Вытравленным, посеревшим зрением глядел он на пригорок, и всё там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые вётлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы… И вся деревня казалась жалко обнажённой под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто неба и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надёжным прибежищем. Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с развёрстой дырой в серую пустоту, и он, всё более раздражаясь, не понимал, почему так рвётся туда Натаха, где уже нельзя было ни спрятаться, ни укрыться. — Да не беги ты как полоумная! Сядь, отдохни перед горой-то! — Ничего уж… — Экая дура! — Теперь вот оно, добежали. — Да ведь не пожар, успеется. — Кабы б не пожар… — Па, а па! — вскинул на отца возбуждённый взгляд Сергунок. — А тебе чего дадут: ружьё или наган? Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе всё это весёлой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал: — Ружьё, Серёжа, ружьё. — А ты стрелять умеешь? — Да помолчи ты… — Ну, пап! — Чего уж там не уметь: заряжай да пали. Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что не часто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни для какой надобности, это самое ружьё. — Ружьё лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок. — К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон. — Ага, можно и штык… — Штык, он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый. — Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями. — Да штык! У Веньки у Зябы. — A-а! Ну-ну… — Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ёй! Раз их, р-раз! Да, пап? И готово! — Кого это? — Всех врагов! А чего они лезут. — А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька. — Я тоза хоцю сты-ык! — Тебе нельзя, — важно отказал Сергунок. — Он колется, понял? — Мозно-о! — А ну, хватит вам про штыки! — оборвала парнишек Натаха. — Тоже мне, колольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, штоб чего не след не мололи. Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку и, не глядя на жену, сказал: — Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать. И, ещё не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру. Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с рёвом и пылью, оставляя после себя лепёхи, проходило усвятское стадо и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту. Касьян, поспешая через пустырь, ещё издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна ещё раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а, почитай, всей деревни сразу. Рельса всё ещё надсадно гудела. Полуметровая её культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зелёную краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано было право оголять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно уже отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочерёдно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, ещё не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов. Люди, тесня друг друга, плотным валом обложили контору. Крепко разило потом, разгорячёнными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдёргивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой, закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешённо глядевший на свои пыльные, закочуренные сухостью сапоги. Помимо косарей сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем, и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, приковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И, подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряжённой, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами и непроизвольно никли обнажёнными головами. А Прошка-председатель всё так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель принимался тискать зубы. Касьян думал поначалу: потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были в сборе до последней души. Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утруждённо, по-стариковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельса ребятишек, сразу же пришёл в себя, налился гневом: — А ну, хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол! И, как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы: — Ну, значит, такое вот дело… Война… Война… товарищи. От этого чужого леденящего слова люди задвигались, запереминались на месте, проталкивая в себя его колючий, кровенящий душу смысл. Старики сдержанно запокашливали, ощупывая и куделя бороды. Старушки, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками. — Нынче утром, стало быть, напали на нас… В четыре часа… Чего остерегались, то и случилось… Так что такое вот известие. Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блёклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно это его отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он сокрушённо потряс головой: — На ж тебе: ты только за пирог, а чёрт на порог. Тьфу! Председатель ожесточённо сплюнул и заходил взад-вперёд по крыльцу от столба к столбу, как пойманный, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковках, внезапно закруглил собрание: — А теперь… тово… давайте кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам. Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая ещё чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подавшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал: — Всё! Всё! Расходись давай. Пока больше ничего не имею добавить… Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягчённые плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колёсный клёкот: — Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!4
И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Всё как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопнённым. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено! Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдёт дальше, какой примет оборот? Прошка-председатель ходил смурной, неразговорчивый и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто видели его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на юру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом. Поутру мужики, а больше бабы, подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни. Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу, перед маем, начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтёры что-то закапризничали, в чём-то не сошлись с Прошкой и больше не появлялись в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернётся, думалось ли кому о войне? Газетки же пока шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там всё ещё пишут про всякое такое разное, и на картинках все такие довольные, ровно ничего и не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по сельсоветам, а там уж и по самим деревням, это ж сколько раз из рук в руки передать надо, сколь потратится времени. Районка, так и вовсе один листок и не каждый день в неделю. Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, острились слухом, не зазвонит ли телефон, не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь: — Кова чёрта, понимаешь! Ну война, война… Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнёте. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели! — Да ить как робить, ничего не знаючи? Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телефон в кабинете. Можа, чего слыхать… — А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются… — Ты бы спросил в трубку-то. Живём, как в мешке завязаны. — Об чём, об чём спрашивать-то? — Да какая она будет война — большая аль маленькая? Будут ли ещё мужиков забирать ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут. — Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы досё тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся: «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь. Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределённости. Куда б легче, кабы знать наверняка, так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперёд сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да всё как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворотишь старьё, оно — тронь, дак и в две недели не уберёшься. Было с ним такое, будто подвесили его поперёк живота и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, всё тянулся куда-то слухом, и тесно ему стало подворье, давило плетнёвой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чём не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища. Тем же днём, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору, не мешкая, по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлёбывать поданные Натахой щи, а, утёршись ладонью, цапнул с гвоздя картуз. — Доешь, успеется, — сказала Натаха, сама насторожась. — Поди, не тебя одного кличут. Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени. Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полета, не считая баб и налетевшей мошкары — пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным пёрышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берёт тайная сумять: война! Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики. Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван. Жил он бобылём в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой, после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьёв да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьёт. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своём дому, особенно в летнюю пору, а всё больше там, где была доступная живая душа, — на конюшне, с ночными сторожами, с эмтээсовскими трактористами на полевом стане. Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но всё ещё живыми востренькими глазками. — Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево. — Да вон таратайка стоит, кого-сь из району доставили. — Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то? — Известно по какой. Надобность теперь одна… — Бают, кабудто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые пущи… Яблоки кушать, гранаты. Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой: — Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то. — Там вставят… — Нуте, нуте… То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине… Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал? — Кажись, в белом пинжаке. — Ага, ага… Сорока-белобока… Нуте, нуте… Потрескочет, побалаболит чево-нито, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз? — Да кто ж его знает… Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось скоро нам свою затягивать… Приезжий человек всё не объявлялся, затворился в конторе вдвоём с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики, хотя и пошучивали, но сидели как на угольях. Наконец в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь, и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися ещё с посевной кампании. Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживлённо вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке. — Товарищи! — объявил Прошка-председатель. — Давайте, подходите поближе. Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином. — Покучней, покучней, понимаешь, — подбадривал Прошка. Кое-кто посунулся ещё маленько к столу. Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Артельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу — что в ней такое. — Значит, так… — Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки. — Тут, значит, такое дело… Многие интересовались насчёт немца. Ну дак вот… Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища, — он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего. — Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»… А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться. Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса: — Да чего уж… Всяко болтают. — Пущают слушки! — Да вот вам последний факт. Насчёт хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупаться от немца? Прошка-председатель обвёл упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду. — За такие штучки, понимаешь… — Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца. — А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем! Приезжий человек сдержанно покашлял. — Насчёт овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — всё это коня требует. А конь — овса. Понимать надо… Он сделал заминку, потёр скулу, пошуршал щетиной. — Ну это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбаловались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи поотвертаю. На поляне попритихли: никогда ещё усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении. Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной весёлыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал её кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми. Иван Иванович, не мешкая, принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймётся мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разно окрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудрёных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и ещё много других и прочих, — всё ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то услеживалось, кто там и где находится, — дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков: — А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове. И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб, — Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведённых на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в неё лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги. И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю. Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, таращась, на единую российскую покраску, на общий её засев и не утерпел, перебил вопросом лектора: — Ужли наше всё это? Дак которая тади из них Германия-то? Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное: — Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия. — Только и всего? Это которая на морду похожа? — Ну, если хотите, — сдержанно улыбнулся Иван Иванович, — то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть, — Иван Иванович показал на карте хворостинкой, — которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращённый в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия — часть земли, некогда отвоёванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз, — вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин. — А и верно — глаз! — удивились бабы. — Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длинну в рот забрал! — Нет, товарищи, это не цигарка, — опять улыбнулся Иван Иванович. — Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился, — забрала в рот, — ещё в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. — Понятно теперича… Вот оно что! Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела, и что нос у немца вытянулся ещё дальше, упёрся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во многих местах вклинилась на нашу землю, и что есть уже убитые и раненые… Народ на полянке поумолк, а какая-то бабёнка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На неё зацыкали соседки, принялись тормошить с укором. Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос: — Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рёв… Баба малость поубавила тону, но выть не перестала. — Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырёк кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец. — Кулиничева, — подсказал председатель. — Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе, Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей. — Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть её и Иван Иванович. — Товарищ Кулиничева! Он смущённо поглядел в толпу поверх очков. — Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу. Слёзы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твёрдость духа, а не поддаваться паническим настроениям. Щуплая, плосконькая бабёнка, ещё пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дёргался в кустиках лебеды. — Право же, никаких оснований для слёз ещё нет, — пытался утешить Иван Иванович. — Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счёт внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта, — попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович. — Ведь и с каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли? Мужики оживлённо заёрзали, загалдели: — Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое… — Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слёзы. — Да, понимаешь, сын у неё служит в тех местах, — перебил его Прошка-председатель. — И жену с дитём как раз по весне забрал туда… Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе? Что ответила бабёнка, не было слыхать, но люди через ряды донесли её ответ, и Давыдко объявил: — В каком-то Перемышля он. — Ах вон оно что… — покивал очками Иван Иванович. — Понятно, понятно… — Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель. — Кому говорю. Марья вяло выпрямилась, утёрлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол. — Мы несколько отвлеклись от нашей беседы, — опять ровно заговорил Иван Иванович, — так что продолжим… Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы ещё не подошли, не участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать. Он вернулся к карте и, оглядывая её, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории. Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним: — Дорогие друзья! Есть ещё одно немаловажное обстоятельство, не учтённое германскими горе-стратегами. Чем больше они раздувают свою военную машину, тем ненадёжней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своём состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьёзном отпоре неизбежно развалится и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев… Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал: — А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведёте черту нашей беседе. А написано тут следующее. Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся её на территорию противника. И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью. Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал её в карман. — Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки. — Есть вопросы, товарищи? Из задних рядов кто-то выкрикнул: — А верно ли бают, кабудто немец одной колбасой питается? — То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович. — Говорят, вроде у него хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету. — А откуда ж у него колбаса, ежли земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучу мужиков. — Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова! — Дак, может, она у них такая… неправдашняя, — выкрикнул тот же голос. — Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху. — А ты её нюхал? — засмеялся кто-то в толпе. — Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне её нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал. — Не морочь голову, Лобов, — обрезал Прошка-председатель. — Если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь. — У кого ещё есть вопросы? — повторил Иван Иванович. — У меня есть! — объявил Давыдко. — Дак а сколь у ево народу, если он так-то всех бьёт и бьёт? — Если считать самих немцев, — сказал Иван Иванович, — то приблизительно шестьдесят миллионов. — А у нас сколь? — Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших шапки на одного немца. — Тад и ясно. — Нет больше вопросов? — Нема! — довольно отозвались мужики. — Всё ясно и понятно. Приезд Ивана Ивановича принёс облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой. Бывает так по осени: внезапно пахнёт мороз, захватит врасплох всё живое, обникнут опалённые холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьёт на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять всё, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати. — А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах. — Теперича всё ясно. А то сидим тут — опёнки опёнками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин-спички. Ситчик завалящий — и тот похватали бессчётными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать.
Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых. Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одёжей да и хлеб зазря переводить? — Ну, ребятки! — просветлённо поднял и свою чарочку дедушко Селиван. — Бог не выдаст — свинья не съест. Авось обойдётся. Возьмут кого, дак ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле биться, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдёте докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары — о-ёй, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с каждым, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по карте-то, да там примутся обучать строю, оружию, глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в финскую. Тади тоже так вот: война, война… А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казённого варева да и по домам восвояси. Подвыпивший Касьян слушал всё это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки. — Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван. — Помяните моё слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-и-пкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного свёрку боится. Истинное слово! Бивали мы его, Горохова пярдуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатую. Бывалача, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнём «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймёт, густо нас дюже, да и дёру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтеся в этом. Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую ещё раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер лёгкий на такое поручение Давыдко, благо что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, всё обойдётся малой кровью да на ихней же, немецкой земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постербают бесплатного кулешу. Но уже через несколько дней на деревню, как тяжёлые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прёт великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют обороняться, тех немец палит огнём и давит бессчётными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ. Слухи о том, что немец идёт беспрепятственно, рушит всё и лютует, ходили всё упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то ещё земли по-за нею. Вскоре о том помянули и в газетах, дескать, после упорных боёв наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот вёрст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжёлого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле. Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так всё получилось нескладно и несуразно.
5
Одно только дело, как и прежде, в мирное время, Касьян исполнял без запинки — гонял колхозных лошадей в ночное к остомельским омутам. Гонял через день, чередуясь со своим напарником Лобовым. Ночи стояли светлые, в благодатной теплыни. Отпустив стреноженного коня под седлом, он бросал на берег старый бараний кожух, ложился ничком головой к реке и постепенно отходил душой. Внизу, в густой тени, под глиняной кручей вкрадчиво бормотали сонные струи, неся с собой парны́е запахи кубышек, которые, разомлев ещё в дневной духоте, только теперь начинали пахнуть особенно остро и опьяняюще. К этим запахам примешивалось дыхание заречных покосов, томный аромат калины, а иногда вдруг в безветрии, поборов всё остальное, обнажалась нежная горечь перегретых осин, долетавшая в луга из дальнего и незримого леса. Опершись подбородком на скрещённые руки, Касьян бездумно прислушивался, как невидимый зверушка шебуршил под обрывом, должно быть, чистил свою нору, роняя сухие комья, дробью стучавшие по воде. А на самой середине реки, на лунно осиянном плёсе, всё вскидывалась на одном и том же месте какая-то рыба, пуская вниз по течению один за другим кольчатые блинцы. В заречье, в сырых, дымно-серебристых от росы лозняках неумолчно били перепела — краснобровые петушки словно нахлёстывали друг друга тонкими прутиками — фью-вить! фью-вить! — и выстеганный ими воздух, казалось, потому был так чист и прозрачен. Вкруг Касьяна в кисейно-лунной голубизне маячили лошади, мирно хрумкали волглой травой. Даже теперь, в ночи, Касьян различал многих из них, и не по одной только масти. Вон сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, подбирала всё подряд, будто жала, словно всё время помнила, что летняя ночь коротка, а день в хомуте долог, мослатая работяга Варя. Неподалёку от матери резвился Варин двухмесячный малышок со смешным кучерявым хвостиком, который он то и дело поднимал и держал на отлёте, как бы вопрошая мать: а что это? а это что? Жеребёнок то пробовал щипать траву, неумело тянулся короткой шеей к земле, то, узрев тёмный кустик татарника, таинственный в своей неподвижности, цепенел перед ним, боязливо тянулся ноздрями и вдруг, неумело взбрыкнув, отлетал прочь. Но, увидев мать, тут же забывал свои минутные страхи и вот уже, полный ликующей радости бытия и потребности куда-то мчаться, пускался отбивать копытцами — та-та, та-та, та-та, — в лихом наклоне узкого и плоского тельца вынашиваясь вокруг Вари. А там, часто переходя, шумно отфыркиваясь, выбирала, обнюхивала каждую куртинку привередливая Пчёлка — молодая, красивых донских обводов кобыла в белых чулках на передних ногах. На ней уже ездили, но она пребывала в той переходной легкомысленной поре, когда ещё не научилась терпеть упряжь как должное, и всякий раз при виде подносимого хомута западала ушами и норовила куснуть ненавистную штуковину. Но в лугах все эти удила и подпруги тотчас забывались, и она предавалась свободе и беспечности, как школьница, забросившая докучливую учебную сумку. Там вон сошлись, чешут зубами друг другу холки неразлучные подруги Вега и Ласточка, чалые простушки, которых Касьян и в работе старался не разлучать и запрягал только в пароконку. В дышле и бежали, и тянули они ревностно, всегда поровну, честно деля и дальнюю дорогу, и нелёгкий воз, и Касьян уважал их за эту добросовестную надёжность. Поодаль, подойдя к самому обрыву, недвижно стоял старый Кречет. Когда-то был он в нарядных серых яблоках, особенно по широкой груди и округлым стёгнам, постепенно переходивших книзу, к ногам, в посеребрённую чернь. Но со временем яблоки вылиняли, а потом и совсем пропали, и Кречет сделался просто сивым, покрылся морозным инеем, а под глубоко провалившимися салазками отросла белая стариковская борода. Конь, ослабив заднюю ногу и обвиснув репицей, в раздумье смотрел в заречье, а может, уже и никуда не глядел и ни о чём не думал, как полусухой чернобыл перед долгой зимой… Он ещё продолжал помаленьку работать, таскать свою сорокавёдерную бочку на скотный двор, но и это, казалось, необременительное дело всё больше утомляло его, и он тут же задрёмывал, как только останавливались колёса и возчик бросал на его зазубренный хребет верёвочные вожжи. Касьян, глядя на одряхлевшую лошадь, всякий раз вспоминал своего старика отца, когда тот однажды, ещё до колхоза, поохотившись поехать в поле, не смог сам влезть в телегу, заплакал и не поехал. «Всё, Кося, отъездился я…» — проговорил он в неутешном сокрушении. Касьян попробовал было посадить старика, взял его под сухонькие закрылки — так хотелось Касьяну, чтобы и отец, ну пусть не помог, а хотя бы побывал в поле на первый день жнитвы, порадовался бы дороге, воле, молодому хлебу. Но отец, отстранив Касьяна, замотал лунь-головой: «Нет, сынок, так я не хочу. Коли не работник, то и нечево…» Недолго небось и Кречету осталось до того дня, когда он тоже не сдвинет своей бочки… Уже в который раз Прошка-председатель, наткнувшись на Кречета, гудел, что, мол, попусту держат ненужную худобу, травят на неё корма. Но у Касьяна рука не поднималась выдворить старика за конюшню, и он упрямо, не зная и сам для чего, поддерживал в нём остывающую жизнь и даже исподтишка подкармливал чем помягче: то овсеца вымочит в ведре, то зачерпнёт сечки в коровнике. Когда перед ночным отвязывали и выпускали лошадей и те, нетерпеливо теснясь, выбегали за конюшенные ворота, Кречет, уже зная, куда их и зачем выгоняют, тоскливо посматривал из-за своей загородки на светлый квадрат распахнутой зари и даже пытался напомнить о себе ржаньем. Но голоса у него уже не было, и он лишь немо и тяжко выдыхал неозвученный воздух. Касьян под конец выпустил и его, и Кречет, выйдя за порог, глубоко и шумно вздохнул. А потом, выфукивая пыль из-под разлатых, уже не ковавшихся копыт, тяжело неся свой громоздкий остов, трусил позади табуна, стараясь не отставать, как тогда дедушко Селиван… «Кабы б всё только с пользой, дак многое на этом свете найдётся бесполезного, — размышлял Касьян, глядя на серую глыбу лошади на берегу. — Не одной пользой живёт человек». Иногда к Касьяну подходила бродливая Пчёлка. Лоснясь лунными бликами, вся трепетно насторожённая, готовая во всякую минуту отпрянуть, взвиться и отскочить с игривым испугом, она принималась обнюхивать Касьянов узелок с едой, чёрный закопчённый котелок, оброненный в траву ременный кнут, потом подбиралась и к самому Касьяну, тыкалась мордой в кожух, брезгливо сфыркивая от запаха овчины, тянулась мягкими губами к его старенькой кепке, пропахшей конюшней, овсом и сеном. Касьян не отпугивал кобылу, недвижно лежал, полнясь сладким удовольствием от этого осторожного прикосновения лошади, накрывшей егосвоей тенью и веющей терпким и таким близким и успокаивающим духом здоровой конской плоти. — Ну будет, будет… — наконец повернулся он к Пчёлке, когда та задышала в самое ухо и даже ослюнявила его. — Ступай, пощипи. А то пробегаешь так-то… Вон, глянь-ка, Варя молодчина какая. Он говорил совсем по-мирному, будто позабыл, что идёт война. После деревенской колготы, бабьего рёва и томительного ожидания чего-то здесь, в лугах, стало Касьяну особенно отрадно, тут можно было хотя бы на время отдаться тому неведению беды, в коем пребывали и эта ночная отдыхающая земля, и вода, и кони, и всё, что таилось, жило и радовалось жизни в этой чуткой голубой полутьме, — всякий сверчок, птаха или зверушка, ныне никому не нужные, бесполезные твари. Деревня кое-где ещё светилась, и, когда Касьян оборачивался в ту сторону, лишь они, эти тусклые керосиновые огоньки, затаённо припавшие к земле у самого горизонта, напоминали об иной, неизбывной реальности, куда он должен был возвращаться на рассвете. Ему казалось, что всё там охвачено каким-то тяжким повальным недугом. Это поветрие, принесённое в деревню, уже проникло и расползлось по людским душам, будь то мужик или баба, старик или малое дитя. У всех без разбора оно отложило своё семя, и с ним теперь каждый просыпался, принимался что-то делать, ел или пил, шёл куда-то или ехал и, отбыв сумятный день, опять забывался во сне, не избавлявшем от смуты и ожидания неизвестного. Война… Отныне все были её подушными должниками, начиная с колхозного головы и кончая несмышлёным мальчонкой. Являлся ли в контору Прошка-председатель, день его занимался не с привычных заведённых обычаев, когда он, едва только взбегая на крыльцо, уже начинал шариться по карманам, отыскивая ключ от своего нового кабинета, и все находившиеся в конторе слышали, как сперва решительно клацал замок, потом сразу же начинало гулко трыкать где-то под потолком, означая, что Прошка подставил стул и самолично заводит настенные часы, а уж потом доносилось бодрое «Потапыч», когда был он в добром расположении, или нетерпеливое и требовательное «Петр-р-раков!», что на конторском языке в обоих случаях понималось: «Бухгалтера ко мне!» Теперь же Прошка-председатель входил в контору без прежнего оживлённого топота, будто прокрадывался, сумной, проткнутый какой-то больной думой, с белым пятном извести на спине замятого пиджака: где-то шоркнулся в беготне о стену да так и не оттёр. И после того как отпирал дверь, из его кабинета больше не слышалось ни рыка заводимых часов, ни клича бухгалтера, а наступала мертвенная тишина, которая иногда затягивалась надолго, и никто не знал, что он делал в эти немые минуты: то ли недвижно замирал у окна, то ли забывался, сидя за своим неотомкнутым столом. И только он один знал, что день его теперь начинался с опасливого погляда на телефон, поскольку на другом конце провода ежечасно, ежеминутно его караулила война. В любое мгновение она могла ознобить властным звонком, бесцеремонным распоряжением, как уже было, когда позвонили и потребовали срочно отгрузить всё наличие овса в фонд мобилизации, или оглушить в трубку худой вестью, от которой и вовсе опускались руки. Отправлялась ли баба в сельпо, она теперь не по-будничному шла туда, лузгая семечки, чтобы, поболтав у прилавка, купить кулёк лампасеток или кренделей, а уже издали зыркала, приглядываясь к лавке: не подвезли бы, подай бог, ещё партию соли, которая вдруг сделалась слаще всяких конфет и которую в давке расхватали до самого пола, — волокли кто на горбу, кто на тачке, а кто в вёдрах на коромысле. Рассаживались ли на завалинке запечные старцы, — и они, не как прежде, когда сходились для одного лишь коротания летней погожей зари, а, гонимые всё тем же недугом напасти, гадали и рядили, прикидывали на свой стариковский салтык, как оно будет, каково пойдёт дале, ежли уже теперь оплошали и дозволили немцу потоптать уймищу своей земли. И даже детишки в гурьбе на выгоне больше не забавлялись в жучка и салочки, а словно бы с ними чего сотворили, навели какую порчу, — все враз кинулись выстругивать себе сабли, ружья да пугачи. Допоздна — матерям не дозваться — галдят, галдят драчливо за огородами, бегут, бегут куда-то, пригнувшись, прячутся по канавам и всё пукают друг в друга из тесового оружия. Но только ли на людях — на всей деревне с её заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, всё было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело её привкус. Этот недуг души, разлад в ней и сумятица ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице. И только здесь, в лугах, в росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице под мирный всхрап коней и бой перепелов Касьяна постепенно отпускало. Раза два он уже вставал с кожуха, отыскивал осёдланного Ясеня, объезжал и поправлял табун, чтобы широко не растекался, и здесь, в седле, к полуночи его настиг внезапный и такой нестерпимый голод, как после избавления от болезни. Он бросил объезд и напрямки, через лошадей, вернулся к узелку. И тут кусок крутого хлеба, на поду испечённого Натахой ещё на мирной неделе, который он густо осыпал серой крупной солью и которым жадно хрустел теперь с молодым перистым луком, впервые за весь день обрёл свой прежний житный вкус и даже обострённый аромат далёкого детства — без горечи гнетущей несвободы. С берегов Остомли в лёгкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами да ещё колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчётное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И всё это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной земли! И Касьян приходил в изумлённое смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты, а лишь царили покой, мир и вот эта извечная благодать. И на него находило чувство, будто и на самом деле ничего не случилось, что война — какая-то неправда, людская выдумка. И он отвернулся от деревни и, доедая ломоть хлеба, принялся глядеть за реку, в благоухающую кипень сырых покосных перелесков, где всё живое, не теснимое присутствием человека, раскованно и упоённо праздновало середину лета. «Вот же нет там никого, — думалось ему, — одна трава, дерева да звёзды, и нет никакой войны…» Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ночные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд крупного жука. Касьян даже пошарил вокруг глазами: в эту пору жуки всегда летели с той стороны, из дубравных лесов, и не раз доводилось сбивать их шапкой. Отыскав потом по басовитому рыку в траве, Касьян заворачивал в тряпицу и приносил эту занятную диковинку своим ребятишкам. Но приглушённый гуд постепенно перешёл в гул, который всё нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча. Нездешний и отчуждённый, с протяжным стонущим подвыванием, он неотвратимо и властно поглощал все остальные привычные звуки, вызывая в Касьяне насторожённое неприятие. Сначала расплывчатый и неопределённый, он всё больше густел, всё явственнее определялся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком, обозначивший своё движение прямо на Касьяна, и когда этот сгусток воя и рёва, всё ускоряя свой лёт, пересёк Остомлю и уже разрывал поднебесье над самой головой, Касьян торопливо стал вглядываться, рыскать среди звёзд, размытых лунным сиянием. В самой светлой круговине неба он вдруг на несколько мгновений, словно потустороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбовоза. Самолёт летел не очень высоко, были различимы даже все его четыре мотора, наматывавшие на винты взвихрённую лунную паутину, летел без огней, будто незрячий, и казалось, ему было тяжко, невмочь нести эту свою чёрную слепую огромность, — так он натужно и трудно ревел всем своим распалённым нутром. Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель, должно быть, вытянулся столбиком, подняв к небу остренькую свою головку, сделав себя похожим на былку конского щавелька. Кони тоже оставили траву, замерли недвижными изваяниями. И только Варин жеребёнок не выдержал, сорвался было куда-то, но, внезапно остановившись, потрясённо упрясь в землю широко расставленными ножками, залился отчаявшимся колокольцем. Варя, сама придавленная моторным рёвом, не пошевелясь, не поворотив даже головы, а лишь подобрав брюхо, исторгла какой-то низкий утробный глас, какого Касьяну не приходилось слышать от лошади, и жеребёнок, поворотив обратно, с ходу залетел под материнский живот, в самый тёмный подсосный угол. Пройдя зенит, будто перевалив через гору, бомбовоз, уже снова невидимый, умерил свой рёв и, отдаляясь, стал всё глуше и глуше уходить к закату, возвращая лугам нарушенную тишину. Ещё какое-то время он неприкаянно стонал где-то за деревней, пока наконец не изошёл совсем, опять превратясь в ничто, в небылое… Но ещё долго после того луга онемело молчали. И лишь много спустя робко, неуверенно фтюкнул первый перепелок, за ним подал о себе знать второй, а уж глядя на них, расслабился в своей потаённой стойке и коростель, вновь из щавелевой былки обернулся скрипачом, пока ещё несмелым, не одолевшим робости. Но едва всё наладилось, пошло своим прежним чередом, едва кони вспомнили о траве, как на востоке снова вкрадчиво заныло, занудело, расрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в надсадном напряжении всех своих моторов чёрной отрешённой громадой прошёл другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тонко позвякивала дужка на боку Касьянового котелка. Потом проследовали тем же путём третий, четвёртый, пятый… Касьян досчитал их до двух десятков, а они всё летели и летели, озабоченные какой-то одним им известной устремлённостью, заставив окончательно приумолкнуть окрест всё живое. И даже кони больше не пытались кормиться, а так и остались стоять, как при обложной непогоде. А бомбовозы всё летели, заполняя ночь нарастающими волнами грома, и, пройдя над Касьяном, снова обращали рёв в затихающий гул, а гул в замирающее стонание… — Это ж она… — потерянно трезвел на своём мокром от росы полушубке Касьян. — Она ж летит… Он даже не решался назвать это прямо, тем единственным жутким словом, замены которому не было, будто боялся навлечь беду и сюда, в ночные луга. Но теперь уже ни в нём самом, ни во всей округе не оставалось ни покоя, ни той благодати, которые ещё недавно заставили было его поверить в неправду случившегося. Война летела над ним, заполняя собой всё, сотрясая каждую травинку, проникая своим грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок сознания. — Видать, разгорается не на шутку, — говорил сам себе Касьян, догадываясь, что эти тяжёлые многомоторные чудовища перегоняли к фронту откуда-то из глубины страны. Он никогда ещё не видел таких огромных самолётов. Где-то они таились до поры, как прячутся невесть где до своего массового лёта те чёрные рогатые жуки, которых он сбивал шапкой. И ещё терзала его догадка, что, ежели и такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дни столь много от России, стало быть, у него, у немца, и того больше заготовлена сила. Значит, придётся идти и ему, и всем подчистую… Лишь перед рассветом, когда на востоке проклюнулась зелёная неспелая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего солнца, оборвали своё пришествие: одни ушли дальше, на запад, другие больше не появлялись, оставшись где-то на скрытых гнездовьях дожидаться своего череда. Так во тьме ночные существа, невольники инстинкта, летят на пламя пожирающего их костра. И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсходованного вчерашнего тепла земли, наконец наступила тишина, она, эта тишина, как и само утро, показалась Касьяну серой, безжизненной немотой — то ли оттого, что ещё не взошло солнце, или потому, что скованно и непривычно молчали луговые птицы.6
Касьянова деревенька Усвяты некогда тянулась одним порядком по-над убережной кручей, и все избы этого порядка были обращены в заливные луга — любил русский человек селиться на высоте, чтоб душа его опахалась далью и ширью и чтоб ничто не застило того места, откуда занималось красно солнышко. Со временем, множась, люди заложили и второй посад, позади первого, и образовались две улицы — Старые Усвяты и Полевые Усвяты, разделённые между собой привольным муравистым выгоном. Выгон этот был для полевских как бы своим лужком: здесь по первой траве весело желтели гусиные выводки, на все лады мекали привязанные тёлки, а по праздникам девки и парни устраивали свою толоку с гармошкой и припевками. Уже на памяти стариков Полевые Усвяты дважды выгорали почти до последней избы — то ли оттого, что люди там строились покучнее, поприлепистее, то ли потому, что на том посаде, на самом материке, было мало колодцев. Горели полевские всегда летом, в суховейные годы, когда перед тем надолго задувал юго-восточный, или, как тут называли его, татар-ветер. Он выметал с дорог всю пыль до окаменелой черни земли, закручивая в хрусткие трубки листья на огурцах и картошке, скрипел пересохшими плетнями и задирал застрехи пороховых соломенных кровель. Как ни береглись в это время, как ни запасали воду в бочках и кадушках, но довольно было невесть кем оброненной искры, чтобы всё это, измученное сушью, враз занялось неудержимым полымем, с гудом пластавшим свои языки вдоль всего посада. Касьян и сам, будучи ещё мальчишкой, захватил последний такой пожар. Помнит, как закричали, завыли вдруг на дальнем конце Полевых Усвят, где теперь обитал Давыдко, как туго взбугрился жёлто-зелёный клуб дыма и тотчас отлетел в сторону, будто при взрыве, и понеслись рвать и метать злые, ярящиеся на ветру гривы, густо сорившие вдоль улицы огненными шмотьями и хлопьями. И вот уже закричали, заголосили на других дворах — и тех, что уже занялись, и тех, что ждали своей неизбежной участи. Минуло тридцать лет, а Касьян и до сих пор с изморозью на душе вспоминает этот страшный, погибельный крик, вместе с огнём и татар-ветром катившийся от подворья к подворью. И нынче случилось похожее на тот давний пожар. Воротясь из ночного, Касьян копался под навесом, где у него был верстак, разбирал на всякий случай кое-какой поделочный материал, скопленный для домашнего обихода, когда послышался отдалённый бабий крик. Кричали где-то в Полевых Усвятах. Встревоженно острясь слухом, Касьян отворил заднюю калитку в маленький садок из нескольких молодых яблонь и вишенника по омежью, пробрался под ветвями в конец. Перед Давыдкиной избой, зачинавшей полевской порядок, приметно выли две бабы, осыпанные понизу ребятишками. Над ними возвышался какой-то верховой в седле. Глядеть было далековато, лиц не различить, но и без того Касьян понял, что сумятилась так, на всю улицу, Давыдкина Нюрка с детвой и старая Давыдчиха. Верховой отвалил от ихней избы, и обе бабы ещё пуще заголосили, вознося руки и переламываясь пополам в бессильном поклоне. А верховой уже свернул через два дома к воротам Афони-кузнеца, и там тоже вскоре завыли, не выходя на улицу. Так и пошло, где через два двора, где через три, а где и подряд в каждом дворе. Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя. — Повестки… — холодея, догадался Касьян, и, когда верховой переметнулся к Старым Усвятам, заходя с дальнего от Касьяна конца, он, не зная, чем занять, куда деть эти последние минутки, снова забился в свой куток, стараясь совладать с собой, подавить оторопь, будто начатое там, в кутке, дело-недело оборонит его от неизбывного. Дома в этот час никого не было. Натаха вместе с Касьяновой матерью, бабкой Ефросиньей, ушла на подгорные ключи полоскать бельё. С ними увязались и Сергунок с Митюнькой. Оцепенело скованный ожиданием, Касьян машинально продолжал перекладывать бруски и дощечки: годные в одну сторону, негодные — за порог, на растопку, когда, вздрогнув, как под бичом, услышал у ворот конский топот и чужой, незнакомый окрик: — Хозяин! А хозяин! А ну выдь-ка сюда. В верховом, глядевшем во двор через плетень прямо из седла, Касьян распознал посыльного из Верхних Ставцов, где располагался сельсовет. Остро, ознобливо полоснуло: «Вот он и твой черёд…» И всё ещё продолжая вертеть в руках сухой берёзовый опилок, из которого собирался нарезать колёсиков для детской покатушки, он глядел уже невидящими глазами, медля выходить, пока его не понукнули во второй раз: — Эй, слышь! Некогда мне… — Да иду… Иду я… Отшвырнув брусок, Касьян заученно провёл ладонью по волосам, как всегда при встрече гостей, вышагнул из-под застрехи и нетвёрдо, опасливо направился к воротам. — Она? — спросил Касьян, подходя, упавшим голосом и зачем-то обтёр руки о штаны. — Ох, она, браток! Она самая… Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашёптывая чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и так, держа её за уголок перед собой, спросил: — Когда являться? — А там всё указано. Послезавтра уже быть на призывном. Иметь при себе котелок, ложку, всё такое. Ну-ка, друг, распишись. Посыльный подал через плетень свёрнутую чурочкой клеёнчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрёпана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придётся, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые её страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешённых судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами ещё живых людей будто кладбищенские распятия. Касьян свернул повестку, сунул её за шерстяной чулок. Потом, присев на одно колено, а на другое приспособив тетрадку, мазнул послюнявленным пальцем по соседству со своей фамилией и неуверенно, без привычки расписался. — Кого ещё из наших? — попытал он. — Один не пойдёшь, — неопределённо ответил верховой, засовывая тетрадку за пазуху. — Скучно не будет. — Махотина берут? — Это который? — Алексей Дмитрич. Четвёрта изба от меня. — A-а! Кучерявый такой? Уже поперёд твоего расписался. — А Николая Зяблова? — И его. Вот только оттуда. — А Лобова? Матвея Семёновича? Конюхом он, как и я. — Да что я, всех упомню, что ли? Вон сколь повесток! Три деревни тут. И Матвея твоего подберут, куда он денется от этого. — Выходит, под метлу… — Что поделаешь. Значит, люди требуются. Сказывают, больно сил у него много. Прёт и прёт, никакого удержу… А что, хозяин, этого самого не найдётся ли? — Чего этого? — не понял Касьян. — Ну… что тут непонятного? — засмеялся верховой. — А то с утра мотаюсь по деревням… Бабы всё нутро вытрепали, как будто я в этом виноватый. — A-а… Нет, друг, этого пока нету. Не взыщи. — Пошто так-то? Али итить не собирался, не припас? — Ну да что теперь говорить… Дак чего хоть слыхать? Где немец-то? В каких местностях? — А-а… — Верховой отвернул от плетня, задёргал поводьями. — Вот пойдёшь сам и узнаешь… Но-о! Но, пошёл! Касьян, опершись на изгородь, проводил вестового, пока тот не скрылся, не свернул к кому-то в заулок, и, тяжело ворочая думу, как впотьмах, вернулся под навес. Там он долго, опустошённо стоял перед верстаком, обвиснув руками, ни к чему не притрагиваясь. «Ну дак чево там… Всё к тому и шло… — думал Касьян, привязавшись взглядом к щёлке в стене, сквозь которую протянулся под навес солнечный лучик. — Вон и трактора в эмтээсе вместе с людьми забрали. Стало быть, армия уже своим не обходится, коли по сусекам начинают мести». Трактора гнали вчера под вечер полевым шляхом по-за Касьяновой деревней, и многие бегали смотреть. Взяли пока одни гусеничные. Сперва прошли два старых «Челябинца» без кабин, с притороченными сзади бочками запасного горючего. Машины, выхаркивая из патрубков керосиновую вонь, торопко мотали гусеницами, топили их в пухлой дорожной пыли, и та, растревоженно клубясь в вечернем безветрии, уже толсто осела и на жарко-потные, сочащиеся автолом распахнутые моторы, и на привязанные бочки, черневшие бархатными подтёками, и на самих верхнеставцовских трактористов, успевших за четыре версты пути зарасти пылью до серой безликой неузнаваемости. Касьян и впрямь не узнал ни одного из троих, сидевших на первом тракторе, и только во втором углядел Ванюшку Путятина, который эту весну работал на ихних полях. Рядом с Ванюшкой тряслась всем дробненьким телом какая-то девчонка в туго обвязанном вокруг шеи платком, тоже в недвижной, омертвелой маске из пыли, — должно быть, Ванюшкина зазноба, увязавшаяся провожать, может, до самой станции, все тридцать пять вёрст. Ванюшкин напарник уступил ей своё место, пересел на головную машину, и они вдвоём, дыша этой пылью, разлучённые грохотом и тряской, немо коротали свои последние часочки. — Совсем?! — крикнул Касьян проезжавшему мимо Ванюшке. Тот за шумом не понял, наклонился за край сиденья, помахал возле уха чёрной пятернёй, мол, ни фига не слышно. — Совсем, говорю? — повторил Касьян, зашагав рядом с машиной, и тоже стал делать знаки, махать рукой на закат, туда, где должна быть война. Ванюшка наконец догадался, распахнул молодые зубы в улыбке и, воздев руки над головой, сделал из них крест, дескать, всё, рассчитался и с эмтээсом, и с домом, и со всеми здешними делами. Крест, мол, всему. И, сдёрнув кепчонку, обнажив спутанный и запаренный чубчик, помахал ею остомельцам и, превозмогая лязг и грюк, бесшабашно прокричал: — Броня крепка, и танки наши быстры! Не поминайте лихом! Потом, через некоторое время, следом прошли ещё четыре гусеничных. Они прогрохотали с наглухо задраенными окнами кабин, уже в отчуждённом безразличии к закатно-молчаливым хлебам, обдав их напоследок клубами пыли, и те, ещё недавно чисто желтевшие по обе стороны, осиротело померкли и омрачились осевшей на них густой пеленой. — Покатили ребятки… — Дедушко Селиван в раздумье потыкал батожком серо-мучной прах отпечатков гусениц на дороге. — Ну дак чё… Скоро и до лошадей дойдёт. Лошадь за кочку не спрячется. Кавалерия сичас первой урон несёт. А коня на заводе не сделаешь. Расходясь, люди видели, как на крыльце правления стоял Прошка-председатель и, застясь от низкого солнца, тянулся шеей и сплюснутой своей кепкой вослед уходившей колонне. И выглядел он в тот закатный час на пустой конторской веранде согбенным и одиноким… Невелика бумажка — повестка, но, пока Касьян стоял под навесом, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся мысли, он всё время чувствовал её за чулком, как сосущий пластырь на нарыве. И всё вертелось пустое, неотвязное: «Вот тебе и Клавка-продавщица с цветочком… Нашла-таки, нанюхала…» Он присел на чурбак, толстый ракитовый кряж, попнулся за повесткой и уж развернул было, чтобы всё перечитать, как там и что сказано, но в самый раз забрякала на калитке железная зацепа, и Касьян, воровато оглянувшись, поспешно сунул бумажку опять за чулок. Не мог, не хотел он, когда ещё и сам не обтерпелся, не обвыкся с ней, не подготовился духом и силами, чтобы так вот сразу показать повестку Натахе и матери. Натахе в её положении особенно. И он через плечо пытливо посмотрел на жену: знает или ещё нет? Но Натаха, судя по всему, ни о чём не знала, за вознёй с бельём внизу под горой, поди, не слышала и того тарарама, что наделал тут сельсоветский вестовой. Мать с корзинами на коромысле, Натаха с узлом на руке — обе, лишь мельком взглянув на Касьяна, устало прошли в прохладные сени. Сергунка с ними не было, успел забежать куда-то, Митюнька же, увидев отца, сидевшего на чурбане, метнулся к нему, втиснулся меж Касьяновых колен и умиротворённо замер, как жеребёнок в привычном стойле. Касьян растерянно погладил Митюньку, это щемяще-родное существо, свою кровинушку, ощущая под ладонью напечённую жарой головку, сладко пахнущую детскостью, влажным травяным подгорьем. Боязно было подумать, что уже через два дня он вот так больше не приголубит сынишку и не увидит его совсем… — Пап, а Селёзка лягуску забил, — донёс Митюнька на брата. — Как же он так? — Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил… Нельзя убивать лягусок, да, пап? — Нелья, Митрий, нельзя. — И касаток нельзя. А то за это глом удалит. — И касаток. — И волобьёв… — Ничего нельзя убивать. Нехорошо это. — Одних фасыстов мозно, да, пап? — Ну дак фашистов — другое дело! — Потому что они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап? — Пойду, Митя, пойду вот… Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут… работаю… Никакая, однако, работа на ум не шла. Даже этот заветный Касьянов закуток с развешанными по гвоздям пилами и ножовками, коловоротами и буровцами, всегда одним только видом смягчавшими душу, доставлявшими утеху, теперь теснил его своими стенами, и всё здесь утратило смысл, отдалилось куда-то, отошло от Касьяна своей ненужностью. Он вышел во двор, без внимания, как уже нехозяин, обвёл глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спёртостью, не находя себе места, в чём был — в старых галошах и шерстяных чулках, где за пагольником лежала так и не прочитанная повестка, бесцельно, от одной только тесноты вышагнул за калитку, на уличный ветерок.7
Улица была уже безлюдна в оба конца. После наскока вестового, выплеснувшись первой волной за ворота, выкричавшись там самой нестерпимой болью, бабье горе отхлынуло, убралось во дворы и там теперь, забившись в избы, дострадывалось, обтерпевалось в одиночку, каждой женщиной самой по себе, кто как горазд: иная безголосо, ничком уткнувшись в подушку, иная онемев на сундуке с безвольно оброненными руками, иная ища облегчения пред восковыми и равнодушными ликами святых угодников. Но выдюжив это первое сокрушение, постепенно приходя в себя и уже начиная жить и дышать этой новой бедой, как единственной данной им теперь явью, они примутся полуощупью двигаться по избе, искать себе дела. И вот уже вскоре с ещё не просохшими глазами затеют подорожную стирку, спохватятся замешивать и сами подорожники и разошлют детишек по всем Усвятам и дальше Усвят, по близким и дальним родичам — разносить по ним последнюю весть, скликать к завтрашнему прощальному застолью. Всё так же бесцельно Касьян забрёл в нижний городчик, постоял там середь капустных и огуречных гряд, даже прилёг внизу у самого ровца под старой ракитой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие — сходить к Алексею Махотину да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал, перепрыгнул ровец и зашагал, зашлёпал галошами окольной тропой под межевыми ракитами. Махотина дома не оказалось. Вышедшая на собачий брёх старая Махотиха скуксилась, ужала в себя беззубый подбородок, запричётывала: — Ох, Касьянушка, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитьлеру ни дна, ни покрышки, откудова он токмо, мамай, свалился на наши головушки… Побёг Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошёл. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали, ай минули? — Прислали, мать, прислали. — Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдёте, своей кучкой. Вместе оно всё не так: куском поделитесь, словом ли… А ежели, не приведи Богородица, поранють, дак и повяжете друг дружку. Ох, лихо, лихо — лишей и не было. Дак у Зяблова он, там яво пошукай, батюшко. Не сиделось в этот день мужикам по домам, не можилось: торкнулся Касьян к Николе Зяблову, а того тоже нет в своей избе. Заходил-де за ним Махотин да вдвоём вот толечко утрехали, кажись, к Афоне-кузнецу. Касьян — к Афанасию, но и того дома не нашлось, и в кузне, сказали, искать его нечего: не пошёл-де нынче к горну, как получил призывную бумажку. Начал Касьян самым низом Старых Усвят, а очутился аж на Полевой улице. Никогда, ни в кои годы, ни при каких прежних бедах не бегал вот так борзо по чужим дворам, не искал на стороне себе опоры, как ныне: не чаял встретить кого нито… Да так вот и забрёл к пустой избе дедушки Селивана… Стояла она в общем порядке сама-разъедина, справа никого, слева никого, один репей бушует — скорбно пройти мимо, не то чтобы войти. Да и заходить не к кому: и такой-то день старик и вовсе завеялся, толчётся теперь по чужим дворам. Скосился Касьян на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в тёмной некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него жёлтенький лик в белёсом окладе. И делала ему знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, мил человек. В другой раз, может быть, и не зашёл бы Касьян, отнекался, а тут, и не подумав даже, обрадованно и нетерпеливо пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дёрнул дверь в жильё. Глянул в горницу, а там за табачищем — мать честная, вот они где, соколики! — и Лёха Махотин, и Никола Зяблов, и Афоня-кузнец. Лёха ничего ещё, а Никола тоже, вроде Касьяна, ушёл из дома как есть, в одной красной майке. И только Афоня-кузнец был уже прибран, в сатиновой рубахе, запахнутой на все пуговицы, да ещё пиджак сверху. Мужики, разглядев, кто вошёл, оживились, тоже обрадовались: — Глянь-ка, ещё один залётный! — Было б запечье, будут и тараканы, — засмеялся дедушко Селиван. Он был без привычного картуза, и безволосая его головка маячила в дыму, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах. — Заходь, заходь, Касьянко! Касьян с тем же радостным, облегчающим чувством крепко потискал всем руки. — А мы тут… тово… балакаем, — пояснил Селиван. — От баб подальше. А то сичас такой момент, што токмо бабу и слухать, вытьё её. Далече, казак, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях. — Да… телка искал, — уклонился Касьян от правды. — Забежал куда-то… — Найдётся! Давай, садись посиди. Касьян охотно присел на поднесённую табуретку и, обежав глазами холостяцкое жильё дедушки Селивана, неметёное, с усохшим цветком на подоконнике, достал и себе кисет с газеткой на курево. — Да как бы собаки куда не загнали, — вернулся к прежнему Касьян, чувствуя, что надо что-то говорить, притираться к компании. Все хоть и свои, знакомые до последней метины, до голого пупка, но нынче у каждого такое, что и не знаешь, что поперва сказать. — А ну, дай-кось твоего, — потянулся к кисету Никола Зяблов. — Сколь у тебя закуриваю, а никак не раскушу, чего ты туда добавляешь. Другие тоже соблазнились табаком, начали отрывать бумажки. — А ничего особого и не добавляю, — Касьян польщённо пустил кисет по рукам. — Донничку самую малость. — Белого или жёлтого? — Любой сгодится. Но я белый больше люблю. А так ничего другого. Остальное сам по себе лист своё кажет. — Лист и у меня самого такой. — Такой, да не такой, — сказал Лёха Махотин, раскуривая цигарку из Касьянова табака. — Ох ты! А какой же? Я ж у него рассаду и брал, у Касьяна. — Мало чего — брал. — Рассада ещё не завод, — трудно выбасил Афоня-кузнец, чисто выбритый, причёсанный надвое, как на Май. — Я вон нынче взял в Ситном, у свояка, капусты. Понравилась мне его капуста, сладкая. И сажали по уговору в один день, и земля моя не хуже, тоже низко копал, под горкою. Дак у свояка уже завилась, а моя — как занемела. — От одних отца-матери и то дети разные, — согласно закивал Селиван. — А уж растенье и вовсе не знать, куда пойдёт. Мужики перекидывались с одного на другое, всё по пустякам, не касаясь того главного, что сорвало их со своих мест, потянуло искать друг друга. Но и пустое Касьяну слушать было приятно: в неухоженной Селивановой избе среди сотоварищей, помеченных одной метой, сделалось ему хорошо и нетягостно, как бывало прежде перед праздником, когда в ожидании стола и чарки никому не хотелось попусту тратиться припасённым разговором, не спешилось ни о чём таком говорить походя, без повода и причины. Касьян, однако, не знал, что было уже послано, и тем временем чарка объявилась и взаправду. Хлопнула калитка, в сенях шумно затопали, и в избу ввалился Давыдко, да ещё и с Кузьмой, своим шурином, длинным, сутулым мужиком по прозвищу Кол. Кузьма, кажись, был уже выпивши: зеленцовые его глаза волгло смаргивали, будто им не сиделось, было боязно глядеть с такой жердяной и ненадёжной высоты. Давыдко, озабоченно распалённый хлопотами, тут же извлёк из камышовой кошёлки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинские пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним и шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, ещё парившего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук старой, ещё от того года редьки в погребной земле, мятые бочковые огурцы и чуть ли не беремя луку, который в эту пору отдувался за всю прочую неподошедшую зелень. — Ох, ловко-то как! — засуетился дедушко Селиван. — Ну ежели так-то, за хлеб за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споём. Сичас, сичас и я у себя покопаюсь… Он распахнул тёмный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебуршить на его полках — достал старинную рюмку на долгой гранёной ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек. — Все разного калибру, — виноватился старик, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время. — Дак ведь и так ещё говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла. — И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю. — А вот вам, орёлики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востёр ли? И сольца нашлася. Соль — всему голова, без соли и жито трава. Да-а… Была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да што теперь толковать… У меня теперича два кваса: один што вода, а другой и того жиже. Селиван опять посмеялся своим лёгким готовым смешком. Увидев всё это на столе, Касьян с неловкостью сознался: — У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем… — Да уж ладно, — загомонили мужики. — Без твоей доли обойдёмся. — Нашёл об чём. Не тот день, чтоб считаться. Давай подсаживайся. — На пятерых припасено, а шостый сыт, — присказывал и хозяин. — Брат брату не плательщик. Отноне все вы побратимы, одного кроя одёжка: шинель да ремень. — Это уж точно, обровняли, — кивнул Никола Зяблов. Мужики подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки, и, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было всё изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы́ — и крестины, и новоселья, и похороны, а таких вот ещё не доводилось. — Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех, — подтолкнул дело хозяин. — Есть охотники? Мужики помялись, косясь друг на друга, но промолчали. — Ну, тади скажу я, ежели дозволите. — Скажи, Селиван Степаныч. — Ты хозяин, тебе и слово. Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял гранёную рюмку, задержал её перед собой, как свечу. — Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы… Дедко ещё только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу. — Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась ещё одна, взошла туча над полем… Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того. — Тут у нас всё по-прежнему, — кивнул он в оконце. — Вон как ясно, тишина, благодать. Но идёт и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь, и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде… Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие ещё собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой. — Ну, да ладно… Хотел ещё чево сказать, да што тут говорить… Ступайте с Богом, держитеся… Это и будет вам моё слово. На том и выпейте. Но мужики не враз кинулись расхватывать свои чарки. Касьян продолжал теребить на штанах остатки въедливого репья, и Лёха, обвиснув тяжёлым чубом, замкнувшись лицом, следил за его пальцами. Налился подступившей кровью, сопел своими мехами Афоня-кузнец. Ржавым гвоздём согнулся, поник долговязый Кузьма и, чтоб не согнуться вовсе, подпёрся обоими кулаками. Давыдко исподлобья уставился куда-то в угол, где в полутьме перед погасшей лампадой одиноко висела простенькая дощечка с угодником. А Зяблов встал из-за стола и отошёл к окну, загородив свет своею ширью. И было в той тишине слышно, как в одичалом Селивановом дворе беспечно и обыденно чивикали воробьи. — A-а, была не была! — наконец тряхнул головой Никола и, воротясь к столу, потянулся за кружкой. — Давайте, братки. А то так и водка выдохнется. И, будто пробудившись, мужики ожили, потянулись наперекрёст, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. И пошли шариться по столу грубыми, нехваткими пальцами, разбирая не глядя нарезанное, накромсанное. И ели тоже молча, замедленно ворочая челюстями, жевали пополам с думой. — Чего в магазине деется! — Давыдко зажмурился, покачал головой. — Содо́м! Водку нарасхват. Из Ситного понаехали. Говорят, там уже растащили. — Ну дак чево… Ясное дело. — Никола Зяблов потянул со стола пряник. — У нас, почитай, полдеревни берут. — Какой — полдеревни! — И мы, видать, не последние… — А кто после нас? Хворь одна. — Как оно пойдёт… От метлы щели нет… — Дак, мужики, чево слыхал я в магазине-то. Будто сперва к конторе собираться. А потом уже оттудова все вместе пойдём. — Ну и правильно. Так-то ладнее. — И штоб подводы были. Сидора́ покидать. — Подводы дадут, чего ж не дать. Не в гости к куме… — Да вон Касьян сам и запрягёт, сколь надо. — Это можно, — кивнул Касьян. — Касьяну и самому итить. — Ну дак што… Кто-нибудь потом лошадей обратно отгонит. Да хоть Селиван Степаныч. — Об чём толк, — готовно согласился дедушко Селиван. — Отгоним, отгоним лошадок. За этим не станет. — Ну да ладно. Это пустое, — перебил Никола Зяблов. — Пешие ли, конные — все там будем. А вот забота: сено! Надо бы наказать Прохор Ванычу, штоб нашим бабам сенца дал, не обидел бы. Одни ведь остаются. — Даст, раз обещался. — Дак кто ж его знает… Время теперь такое… Овёс вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые. — Сено! Хлеб неубранный остаётся. — Да-а… — почесал за ухом Давыдко. — Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда… — Что и говорить, не в срок затеялась. — А и когда война была нашему брату пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван. — Смерть да война незваны завсегда. — А я уж было сарайку начал рубить, — сокрушался Давыдко. — Венца три до крыши не довёл. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом. — У меня возле кузни три лобогрейки раскиданы, — покашлял в кулак Афоня-кузнец. — Прошка косится, да чего уж теперь… Делов там ещё не на один день. — Нам всё — рано татарам на Русь итить, — засмеялся дедушко Селиван. — Завсегда дела находятся. То б надо, это бы… Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко? — Да уж скоро б должна родить, — потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул меж рёбрами. — Ах ты, осподи, грехи наши! — вздохнул и дедушко Селиван. — Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо… Да што поделаешь? Огонь с соломой всё равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай всё да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела. Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили. Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода. — А я, ребята, от посыльного слыхал, — заговорил Никола Зяблов, — будто бригадир заявление в сельсовет подал. — Какое заявление? — насторожились мужики. — Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте. — Да ну! Иван Дронов? — Ещё на той неделе, говорят, подал. — Гляди ты… а — молчок. Никому ни слова. — А чего б ему в дуду дудеть? — Ну, криворотый! Лих, лих малый! Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришёл Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понёс. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята? И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший. — Да бросьте, не возьмут его! Кто ж будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена. — Да не, на Ивана не похоже, — сказал Лёха Махотин. — Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением. — А чего ж: подал — а доси дома? — Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, ещё рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один нашИван. — Посыльной говорил, в Верхних Ставцах ещё сколько-то таких, — уточнил Зяблов. — Да из Ситного учитель. — Ну вот, вишь… Да по другим сёлам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка, всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить. — Так-то, пока рассмотрят, — хмыкнул Кузьма, — дак я, нерассмотренный, поперёд их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золочёные? — А вот та и разница, — сказал Лёха Махотин. — То ты сам, а то по повестке. — Ага… — вертанул белками Кузьма. — В хорошие набивается. — А ты чего ж не догадался? — спросил Лёха. — Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперёд его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. A-а! Кишка тонка! Заткнись лучше. — А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма. — Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первый штаны замарал… — Не, малый, ошибся, — усмехнулся Махотин. — Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану. — Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху. — Это какие такие лапы? — посерьёзнел, насторожился Махотин. — Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал… — Ладно тебе! — одёрнул Давыдко шурина. — А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживётся. Махотин привстал, заходил скулами. — А ну, давай выйдем… — сдавленно проговорил он. — Пошли, гад! — Сядь, Алексей, — нажал на его плечо Афоня-кузнец. — И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку… Кто подал, кто не подал… Ещё только за столом сидим… Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями ещё не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме… Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, всё не козырь… Всё не наш верх… — Да уж не козырь, это верно, — проговорил Давыдко. — Вот у меня в кузне, — продолжал Афоня-кузнец, — на што уголь горюч, железо варит, и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка… Как-никак, трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну. — Иван партейный, — напомнил Никола Зяблов. — Может, ему так предписано. — Всем предписано, — сунул бровями Афоня-кузнец. — Да не всяк, вишь, горазд. И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал. — А я так, ребятки, на это скажу, — встрял в спор дедушко Селиван. — На войну, што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Ещё и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать. — Не говори! — мотнул чубом Лёха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки. — Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревёт. Садимся есть — голосит, спать ляжем — опять за своё. И всё глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговорённый какой… А давеча, — усмехнулся Лёха, — когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги. Лёхины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака. Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков. — Э-э, ребятки! Не вешайте носов! — сказал он с бодрецой. — Не те слёзы, што на рать, а те, што опосля. Ещё бабы наплачутся… Ну, да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья! И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:
8
Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их перегляд, весело повернул разговор: — Э-э, робятки, негоже наперёд робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаний перебывало — усвятцы во всех хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я ещё старых дедов захватил, которые в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше не гожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, иньше чего пластать горазды. И опять, засмеявшись, крутанул крепко: — Гибали мы дугу вётлову, согнём и вязову… А щас пока гуляйте! Давыдушко, улей, уле́й, попотчевай чем-нито. И сам, тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу: — Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится. — Ты уж сказанёшь, Селиван Степаныч, — зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши. — С чего выдумал-то? — А с того, что знаю. — Я дак из ружья птахи и то не стрелил… — Это пустое, что не стрелил, — несогласно мотнул головой Селиван. — Дак тади откуда быть-то мне? — А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твоё такое, браток. Указание к воинскому делу. — Какое такое указание? — и вовсе смешался Касьян. — А вот сичас, сичас я тебе всё, как есть, раскрою… Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживлённо покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжёлой книгой, обтянутой порыжелой кожей. — Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твоё назначение. При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застёжками, ненашенских времён и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым. В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребенным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхо-кофейных страниц, нацелил палец в середину листа. — Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность. — А ну-ка… — заёрзали мужики. Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесённые свыше: — Наре… наречённый Касияном да воз… возгордится именем своим… ибо несёт оно в себе… освя… щение и благо… словение Божие кы… подвигам бран… ным и славным… Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное? — А исходит оно… из пределов гре… греческих… из царств… осиянных великими победами… где многия мужи почи… почитали за честь и обозначение Пла… Планиды… называть себя и сынов своих Касиянами… ибо взято наречение сие от слова… кас… кас… сис… кассис… разумеющего шелом воина… воина великаго и досто… славнаго императора Александра Маке… донскаго… и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле… мо… носец. Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознёс его кверху: — Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твоё! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить. — Чего напишут-то… — растерянно усмехнулся Касьян. — Сызмальства я гусей с телёнками пас. Да и теперь за лошадьми хожу. — Телёнков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, ещё с той поры дожидался. — Ну дак всё правильно! — хохотнул Давыдко. — Пойдёшь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Всё как есть сходится. Мужики посмеялись такому простому резону. — Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван. — Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты, вишь, какой Касьян. Вон как об твоём имени сказано: «Ибо несёт оно в себе освящение…» — понял? — «…и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты и не стрелямши ни в ково можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий. Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие. — Вижу, парень, не веришь ты этому, — продолжал своё дедушко Селиван. — Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдём с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч? — Как кто? — пожал плечами Касьян. — Ну, председатель. — Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, телёнков мальчишкой пас? — Дак откуда ж ему… — Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперёд. Так? — Ну так, ясное дело. — А теперича давай заглянем в книгу… — Дедушко Селиван полистал, пришёптывая: — Прохор… Прохор… отыщем Прохора… Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож… ибо разумеет собой… песно… песноводи… теля… во славу Господню. А составлено сие имя… как всякое зерно… из двух равно… равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения… в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение… тогда как другая доля «про»… на оном наречии понимается как старший… А совместно сии доли… воссоединясь в оное имя… означают старшаго над хором, запевнаго человека… сиречь запевалу. И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец: — Запевный человек! Ну дак ясно, Прошка наш во славу Божию песен не поёт, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова! — Н-да! — удивились мужики. — А гляди ты, верно ведь! — А ну-ка, Селиван Степаныч, — заинтересовался Лёха, — читани-кось, чего там про меня сказано? — Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея… Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение: — Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексей — это вроде как защитник. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих. — Ишь ты! — Никола Зяблов восхищённо посмотрел на Махотина. — И Лёха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность! Махотин остался доволен таким истолкованием. — Дак теперь давай и про Зяблова, — засмеялся он. — Кто есть таков? А то вместе пьём-курим, а что за прыщ — не знамо. — Вот и про Николу… А Никола у нас… — готовно провозгласил дедушко Селиван. — Никола, стало быть, так: победитель! Во как! Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи. — Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин! — Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко. — Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь. — Ладно вам, — конфузливо осерчал Зяблов. — Шутейное это всё. Для смеху писано. — А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали. Прочитали и про Афоню-кузнеца, и выходило по писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмёт… — Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Лёха. — Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родился. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему даётся с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счёта дням… Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землёй трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося ещё держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали её алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудрёные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряжённо губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да-а…», охранно передавали её другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям, — оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намёк на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало ещё в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было всё время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имён, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться. — Ну дак, а ты ж кто таков, дедко Селиван? — блестя глазами, поинтересовался Лёха. — Интересно! — Дак про себя я уже знаю, давно вычитал. — И как же тебя? — А про меня тут, робятки, нехорошо… — Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай. — Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано, — легко засмеялся дедушко Селиван. — Леший я. Лесной мохнарь. — Ох ты! Это как же так? — А вот эдак — лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван — по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну да я и согласен. Потому, кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья — брожу, блукаю, свово двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба. — Дак что ж это получается? — подытожил Махотин. — Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого ни зачитывали, всем быть под шлемом. — Дак и я б заодно! — весело объявил дедушко Селиван. — Хучь я и леший, изгой непутёвый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и доси не забыл, могу хоть сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять ещё могу, истинное слово! Был подходящий шутейный момент снова выпить по маленькой, и Давыдко, унюшливый на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки. — Ну, соколики, — Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю. — За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан! А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка. Выпив под доброе слово, заговорили про всякое-разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперёк общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью: — А скажи, Селиван Степаныч… Всё хочу спросить… Там ведь тово… убивать придётся… Дедушко Селиван перестал тискать дёснами огуречное колечко, изумлённо воскликнул: — Вот те и на! Под шелом идёт, а этова доси не знает. Да нешто там в бабки играются? Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами. — Да я тебя не про то хотел… Ты ж там бывал… Ну вот как… Самому доводилось ли? Чтоб саморучно? Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подёрнутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чём спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека. Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия: — Было, Касьянка, было… Было и саморучно. Там, братка, за себя Палёного не позовёшь… Самому надо… Вот пойдёте — всем доведётся. Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятках кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Палёным, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах. — Ну и как ты его? Человек ведь… — Ясно дело, с руками-ногами. Ну да оно токмо сперва думается, что человек… А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь. — Ужли не страшно? — Правду сказать, то с почину токмо. — И как же ты его? — теперь уже допытывался и Лёха Махотин. — Самого первого? — Эть, про чево завели! — не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали: — Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идёшь косить. Дак как же, дедко, было-то? — Ну, как было… И дедушко Селиван начал припоминать. Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах. — Ну, как было… Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Ещё и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шарапнели. Ну, бабахает, ну, бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал чёрным, и вот пошёл он на нас. Одна цепь да другая. Пока бил шарапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, тянемся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры что-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович всё не велит, всё травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж ещё-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, что незнамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, чтоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить — ничево не помогает. И не новичок я был, чтоб так-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то штобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничево не сделает, да и не один я сижу — и пулемёт с нами, а было мне страшно самово себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля ещё б ладно: попал, не попал, твоя ли пуля угодила али соседская — издаля не понять бы. А тут вот они — уж и пуговицы сосчитать можно. А командир всё молчит, держит характер, не отдаёт команды — и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в моё место. Шинелка на нём куцая, неладно так ремнём спелёнутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах — большой вроде бы немец, а какой-то не страшный. Кто там идёт справа, кто слева — не вижу, не гляжу, а приковало меня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить — как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемёт. А я, как окаменел, всё не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают… Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал — и того выше, загородил собой всё поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. Господи Иисусе, видишь сам… — только и помолился, да и даванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы… Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моём под сапогами… Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничего не соображаю, кто тут и што. Бей меня, коли в эту пору — бесчувствен я, вот как всё во мне запеклось. Нуте: вылез я на брустер, ещё не встал даже, ещё руками опираюсь, гляжу — а он вот он, навзничь лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом… Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа… Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола. — Я дак три дня опосля ничего не мог исты. Всё старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, штоб поумористей. Ну, а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихних окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебёг — тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьёшь — не почуется. Всё одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил — разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданёшь. Потом дёргать приходится, сам не сымается. Это гадко. — Ох, братцы! — невольно содрогнулся Никола Зяблов. — А ну как и мы в пехоту? Да так-то вот тоже… — А куда ж ещё? — обернулся Давыдко. — Да хоть бы в кавалерию. И то получше. Там хоть штыком пырять не придётся. — Не пырять, дак зато напополам рубить. Шашку дают небось не кашу ковырять. — Послушать, — Афоня-кузнец кашлянул в чёрную пятерню, — дак вам такую б войну, чтоб и курицу не ушибить. — А тебе-то самому какову надобно? — удивлённо обернулся Никола. — По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой? Афоня-кузнец тяжело повёл опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил: — Россия вон гибнет. Немец идёт, душегубничает, малых детей и тех не щадит… — Ну дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов. — Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберёмся и пойдём… И опять воцарилась затяжная немота. Низкое, уже завечеревшее солнце ударило в дворовое окно, высветило застолье, махорочные разводы над кудлатыми головами, не раз ерошенными и скороженными за долгий день. И как давеча, в смутную минуту, дедушко Селиван, встряхнувшись, попытался отвлечь мужиков песней, затеяв её с тем умыслом, что остальные подхватят и подпоют:9
Домой Касьян возвращался уже потемну. Как всегда, Давыдко потом взгоношился ещё бежать за выпивкой, долго блукал по деревне, однако водкой не разжился, а добыл у кого-то полведра тёплой ещё, бурливой бражки. Проснувшийся Кузьма, мятый, с похмельно заплывшими глазами, завидев ведро, молча облапил его и, тяжко кряхтя и постанывая, принялся сосать прямо через край. Мужики остались досиживать, дожидаться дна у ведёрка, а Касьян, опростав пару стаканов этого ласково-вкрадчивого снадобья, вскоре как-то сразу огруз и, выйдя во двор до ветру, больше не вернулся к столу. Запоздалое чувство виноватости перед Натахой оттого, что из двух оставшихся вольных дней один уже без толку извёл на стороне, накатило на него, пока он слепо тыкался в чужом, незнакомом дворе, ища выход на улицу. От всего, что было там, в прокуренной Селивановой избе, в голове тупо погудывало и на душе не было лада. Больше всего из говоренного и услышанного прикипело к нему это несуразное слово «шлемоносец», давившее его почти осязаемой тяжестью, будто и на самом деле нёс он на себе тесный стальной колпак, туго стиснувший виски. — Напишут тоже… — бормотал он, досадливо сплёвывая, отмахиваясь от навязчивого прозвища, как бы пытаясь сбросить с себя эту неприязненную ношу. — Ни к чему это… Детей токмо стращать. Он свернул в какой-то редко им хоженный переулок, соединявший обе улицы. Под нависшими ракитами сделалось кромешно темно, как в набитом овине. Разросшийся вдоль изгороди брезентово жёсткий чертополох по-осиному жалил сквозь штаны и рубаху, и он ступал ощупью, будто слепой, простерев вперёд руки, ограждая глаза от колюк и случайного древесного сучка. Где-то на середине проулка Касьян запнулся о спёкшиеся колчи, натоптанные скотиной, постыдно рухнул, распорол на спине рубаху, потерял галошу и потом, чертыхаясь, долго елозил на четвереньках, лапал вокруг себя, хватая комья и обстрекиваясь о крапиву. И тут он, враз обдавшись жаром, вспомнил о повестке и с озабоченным испугом сунул руку за пагольник: цела ли? Нога привыкла к колкой поначалу бумажке, свёрнутой вчетверо, да и сама бумажка обмякла, пригрелась за чулком, так что Касьян совсем было забыл о ней. Повестка, однако, оказалась на месте и по-прежнему облегала лодыжку повыше щиколотки. Пальцы сторожко коснулись и ощупали её, как недавно притихшую болячку. Касьян хотел было переложить извещение в карман штанов, но хранить в кармане показалось ненадёжным, и он только пересунул поладнее, чтобы ощущать присутствие бумаги новым, необтерпевшимся местом. Повестка, и верно, теперь хорошо чуялась, и он, отыскав галошу, побрёл дальше сквозь колючник и лопушьё, ступая той ногой с охранной бережливостью, даже невольно приволакивая её, будто намуленную водянкой. С облегчением наконец Касьян выбрался из пыльной духоты проулка на вольный простор староусвятского посада. Улица была уже безлюдна, и он прошёл до самого дома, не встретив ни души. Чувствуя, что нехорошо пьян, Касьян не осмелился сразу явиться в избу, а, давая себе остыть, прибраться душой, присел под окнами на угол колодца, откуда из чёрного нутра земли по замшелому стволу тянуло ознобливым холодком. В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то червоточинах и прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Касьян, забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день на краю неба, подобно тому как сбивается под ветром ряска в дальний угол зацвелой калюжины. Пробив эту хмарь, луна багрово зависла в лугах, и она почему-то казалась Касьяну куском парно́го лёгкого, с которого, сочась, по каплям натекла под ним красноватая лужа речной излучины. Сквозь застойную духоту, без звёзд и светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на деревню какой-то хворый, немощный свет. С её появлением в угомонившихся было дворах собаки, будто и впрямь на лакомый кусок, подняли заливистый тявк и брёх, тоскливо отдававшийся в безголосой и беспредельной ночи. И в этот брёх глухо, словно со дна глубокого погреба, временами вплетался низкий, с оборванно-сиплым концом вой какой-то большой и старой собаки. Должно быть, выл на цепи махотинский кобель… Колодезное ведро чёрным колпаком висело над Касьяновой головой, он даже вздрогнул, увидев его сы́зновеси, но, сообразив, что это обыкновенная бадейка, устыженно сплюнул и мотнул головой, как бы стряхивая дурноту: — Пьян, пьян ты, Касьяшка… Ох и пьян, шлемоно-осец! Приподнявшись, он изловил болтавшийся поводок, притянул к себе ведёрко и, остерегаясь греметь им под окнами, опустил в глухую, без проблесков, дыру колодца. Вода была ледяная, отдавала сладцой, словно бы её подсахарили, и он долго похмельно глотал через край, испепеляя нутро отрезвляющим холодом, а потом сунулся головой в бадью и выдержал себя так, сколько терпелось. Отпустив ведро, неслышно отлетевшее в небо, он постоял, накренясь, выжидая, пока сбежит с головы вода, затем крепко вытерся подолом рубахи и самодельным кленовым гребешком старательно прибрал волосы. Касьяну заметно полегчало, и даже непроизвольно вырвался глубокий вздох, будто он вынырнул из какого-то удушливого сна. Он достал опустевший кисет, наскрёб на тощую цигарку и бережливо закурил, жалея истраченный день и думая, что лучше бы он нарубил себе свежего табаку в дорогу. Тем временем луна заметно отбежала от горизонта, очистилась и, ровно бы тоже умывшись, ясно позолотела. Собаки как-то сами собой незаметно попримолкли, залегли по дворам, и в самой деревне и окрест неё обрелась чуткая полуночная тишина. Умиротворённо покуривая, приходя в себя, Касьян слушал луга, привычно ловя табун: тяжёлый ли переступ стреноженных маток, звякавших цепным путом, бубенчатые ли голоса сосунков, шершаво ли хриплые окрики напарника Матвея Лобова, которые по обыкновению в его ночной черёд вместе с дурными матерками и ружейным бабаханьем кнута долетали аж до Усвят. Но луга были опустошело-немы, не виделось и привычного костерка на берегу Остомли, и Касьян затревожился, не понимая, в чём дело, куда девались кони: ужли не выгнал, шельмец? Утром Лобов пришёл на дежурство ко времени, был, как говорится, свят и умыт, сразу забрал дегтярку и отправился готовить телеги к наряду, всё шло как обычно, и вот, оказывается, не выгнал… Мелькнула мысль сходить на конюшню, узнать, как там и что, какого дьявола Матюха оставил лошадей томиться об эту пору без пастьбы. Небось не дождь, не осень, чтоб держать их взаперти. Но на конюшню надо было идти опять через всю деревню, и он, редко бывавший так пьян, устыдился порванной рубахи и всей этой своей расхристанности. — Ладно, теперь не набегаешься. Завтра последний денёк, — остановил он себя, но тут же вспомнил, что как раз завтра ему бы и заступать, а вечером гнать в ночное. И оттого, что завтра он уже не пойдёт — когда ж идти, если сумку укладывать надо, — его проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Всё, отходился, отконюховал. Дак и Лобов, поди, тоже получил повестку. Это ж наверняка получил, раз не выгнал в ночное. Как же оно тут будет, если так вот всё бросим? Война с её огнём далеко, но уже здесь, в Усвятах, от её громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь; невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба только завосковели, а уже располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил своё горнило… Беда-а! Всё ещё колеблясь, сходить или не сходить на конный двор, — одна минута заскочить домой, набросить пиджак, обуть сапоги, — Касьян покосился на окна своей избы и только теперь прозрело уловил в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца, доходивший из кухни. По этому терпеливому, как лампада, язычку пламени Касьян понял, что его уже давно заждались дома. Может, уже спят и мать и Натаха, и тем паче Сергунок с Митюнькой, но фитилёк этот, оставленный на припечке, зажжён был караулить и освещать его возвращение. «Знает или не знает Натаха?» — подумал он о повестке и, озираясь на окна, неслышно приоткрыл калитку. Всего день не побывал дома Касьян, но, войдя, не узнал своего двора и, как чужой, замер у порога, даже не притворив за собой дверь, а так и удерживая в руке скобу: двор остановил его неожиданной белизной, будто был завален по самые застрехи снежными сугробами. Но, оборов эту внезапность, сообразил, что путь ему перегородили заборы выстиранного белья. — Поразвесили… — неприязненно буркнул Касьян. — Дней, што ли, не будет? Вот уйду, дак и стирали б… Он и прежде не любил вот таких повальных стирок, когда вдоль и поперёк опутывали двор, запирали скотину и птицу и нельзя было лишний раз шагнуть ни к верстаку, ни к амбару. Касьян не терпел попусту околачиваться в избе и — погода, непогода — всегда находил себе дело по двору. Но то случалось перед большими праздниками, бабы сновали туда-сюда радостно-озабоченные, и он, чтобы не мешаться, сам, в предвкушении стола, терпеливо перемогал бабью затею в городчике: поливал гряды, подправлял плетень, обновлял колья, оплётку, — чем-нибудь да убивал время. Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее бельё в безлюдном ночном дворе полоснуло его догадкой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшаривать глазами верёвки, простёртые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатёрки, рушники, ряднушки, наволочки, простыни и прочее добро, — хотел и не хотел найти то главное бельё, ради которого, наверно, и было всё это затеяно. Неловко поднырнув под первую верёвку, он всё-таки отыскал его, как давеча в тёмном проулке, шарясь с озабоченной боязнью за чулком, нашёл военкоматское извещение. То главное бельё вперемежку с ещё какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутов домотканых портянок… Противясь всему этому, Касьян понуроуставился на свои уже просохшие, олубеневшие, словно распятые, бязевые нательники, которым отныне предназначалось невесть где и сколько сопутствовать ему в незнаемом. Всё, конечно, было сделано правильно, как и следовало, завтра Натахе некогда будет с этим возиться, и всё же Касьяна неприятно кольнуло от этой Натахиной расторопности, будто она заведомо, ещё не зная, возьмут его или не возьмут, не видя ещё повестки, выпроваживала его из дому. — Куда столько портянок? — скользнул он взглядом по замашковым кустам. — Ладно б и пару. Он ещё раз оглядел своё бельё и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику. Крошечные, жалкие от своей стираной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с немастными пуговицами на ширинках, они теснились и беззащитно льнули к его аршинной рубахе: Сергунковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словно бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одёжей. Для стороннего глаза не было в том ничего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как их ни развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Всё-то она старается сделать со своим распорядком: щей в обед и тех не нальёт как попало, а сперва обязательно Касьяну, потом непременно старшенькому, после него Митюньке, затем свекрови, а тогда уж себе плеснёт, что останется. И в том, как нынче было определено каждой вещи своё место на верёвке — его, Касьяново, вместе с детским, — он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особенно к ребятишкам, теперь уловил этот её тайный умысел и понимание предопределённого часа: посчитала бы дурной приметой развесить всё это по разным местам, разлучить отца с ребятишками… «Ужли, сказывают, и детей не щадят? — вспомнил Касьян разговор, обдёргивая и расправляя Митюнькины штанишки. — Детишек-то за што? За такое, конешно… Сволочи». Каганец испуганно отпрянул и заметался на припечке, когда Касьян приоткрыл дверь. Кухня всколыхнулась и заходила зыбкими сумеречными тенями, но вскоре светильце, будто признав хозяина, опять успокоилось, выстоялось ровным жёлтым огоньком, похожим на тыквенное семечко. И здесь, как и во дворе, пока Касьян отсутствовал, нагромоздились перемены. Даже по одному кухонному духу чуялось, какие тут нынче раскручивались и вертелись жернова: густо, непарно отдавало хмельной кислотцой ржаного теста, мокрыми куриными перьями, толчёным горохом, калёным подом простывающей печи, на которую всё ещё не отваживались садиться налетевшие за день мухи. Стол и лавки были захламлены чугунками и полумисками, свекольной ботвой, надёрганной прозрачно-жёлтой незрелой морквушкой и невесть ещё чем. На посудном сундуке у окна громоздилась дежа, укрытая старым ватником, а рядом с ней на лопушках зябко ёжились два раздетых и обезглавленных куриных тельца, тогда как сами головки, ещё в пере, в малиновых гребнях, с тёмными карандашиками обрубленных шей, торчавших из белых воротничков, лежали на подоконнике. Всё это, содеянное без него, мимолётно было увидено Касьяном, когда он первым делом сунулся поискать в висевшей одёжке чего-нибудь закурить. И как часто это бывает, когда хочешь сделать неслышно, непременно что-нибудь заденешь и нашумишь, так и тут вышло: потянувшись в карман пиджака, Касьян уронил колодчик рубленых дров, и те посыпались и раскатились гулко по половицам. — Ты, что ли? — послышался из темноты запечья материн слабый слипшийся голос. — Я, а то кто ж, — отозвался Касьян, подбирая полешки. Лозовые дровца были сечены неумело, не в один взмах топора, как делал это сам Касьян, и опять, устыдясь своей праздной отлучки, по этим жёваным, намученным дровяным концам узнал Сергунково неловкое радение. — Там, на загнетке, щицы, поешь. — Не хочу, мать, — отказался Касьян. В запечье заскрипели пересохшие доски, донёсся горестный вздох старого, натруженного человека, и во сне томившегося какой-то одной неусыпной думой: — Ох ты, осподи. Защити и помилуй. Табаку нигде не сыскалось, за ним надо было идти в амбар, потрусить торбу или же лезть на чердак за сухим листом, и Касьян, пошарив по посуде и набредя на остатки кваса в каком-то глечике, утешился этой нагревшейся осадной жижей. Потом, оставив галоши и сбросив подранную рубаху, в одной майке прошёл в горницу. Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу, прихватила светом кусок ситцевой занавески, делившей горницу на две половинки. В той, занавешенной её части, в кутнике, стояла его с Натахой самодельная деревянная кровать с резаной одоленью на головных досках, а минуя её, в глубине, за печным выступом, были сооружены просторные полати для ребятишек. Касьян легонько неслышно отстранил занавеску; лунный свет выбелил за ней Натахино лицо, повёрнутое к нему, обездвиженное первым изморным забытьём, с безвольно разомкнутыми губами. В топленой избяной заперти было душно, и она, скинув с себя во сне холстинковую простыню, лежала на боку, подобрав колени, оберегая ими живот, мягко оплывший, как сырой неиспечённый хлебный колоб, обтянутый тесной сорочкой. Касьян, кинув взгляд на детские полати, где, сражённо пав, разметав руки, спали голопопые ребятишки, широко раскатившиеся друг от друга, подсел на край Натахиной кровати. — Нат, а Нат… — покликал он сторожким шёпотом. — Слышь-ка. Натаха дрогнула надбровьем, подобрала губы. — Это я… — прошептал он, следя за её оживающими, но всё ещё притворенными глазами. Разняв веки, она молча отмаргивалась от лунного света, наверно, ещё не видя Касьяна, а только чувствуя его где-то поблизости. — Окна бы открыла. Жарко в избе, — проговорил он, наводя подход к разговору. — А то шла бы в сани, на свежий воздушок… Та промолчала, безучастно глядя мимо него в окно, на луну, и Касьян, по одному этому её взгляду поняв, что не принят, что виноват, придирчиво усмехнулся: — Али радость какая — приборку устроили? По двору не пройтить. Натахины губы вздрогнули, она бегло, замкнуто стрельнула в Касьяна сузившимися зрачками и, опять ничего не ответив, натянула на себя простыню, как перед чужим. Касьян, тоже обидевшись, замолчал. Было отступивший хмель, когда он сидел у колодца, здесь, в жарко натопленной избе, вновь взыграл тошнотной мутью, и он прикрыл глаза и даже ухватился за край кровати, когда его вдруг куда-то повело вкрадчивым, всё убыстряющимся кружевом, будто он сидел на плоско вращающемся колесе. Мокрые волосы, принёсшие ему облегчение, теперь тёплой слипшейся обмазкой неприятно обволакивали голову. — А я тово… вишь, выпил, — повинился он, когда колесо отпустило его своим вращением. Он опять помолчал, ожидая, что скажет на это Натаха, но та лишь оглядела его, смигивая неведомые ему мысли припухшими веками. — Пьяный я, Наталья… Водку пил, бражку… что попадя. Дак а куда было деться? Вот, погляди… Касьян, неловко кренясь, нагнулся к чулку, поискал бумажку. — Вот она! Клавка безносая! — усмехнулся он и старательно расправил бумажку на коленке. — Хошь поглядеть? Ранняя дорога, казённый дом… Всё тут прописано. Послезавтра явиться с ложкой и котелком. Ну дак ложка у меня имеется, а котелка нема… Что будем делать? И, опять не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену. Взглянул — и прикусил разбухший, непослушный язык: Натаха, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим, размягчённым телом. — Плачь не плачь теперь, не поможешь, — проговорил он, силясь разглядеть при лунном свете чернильную военкоматскую печать. — Во, вишь припечатано! Всё как следует. Ему было муторно слышать, как Натаха вгоняла в себя плач, не пускала наружу, и тот гулькал в ней давкой икотой. — А мне ещё утром прислали. На, говорит, распишись в получении. Да всё не хотел тебе говорить. Реветь возьмёшься. Не люблю я этого… А ты, вишь, всё одно ревёшь… — Ох! — отпустила себя Натаха тяжким смиряющим вздохом. — Али знала уже? Гляжу, курицы порубаны. — Да что ж тут знать? — давя всхлип, выговорила она. — Загодя знато. — Ну, будя реветь. Не один я. Поди, из каждого двора. Афоня уж на што нужон, могли б и погодить с ним, а тоже идёт. — Ты-то пойдёшь не один, да ты-то у нас один. — Ну да что толковать? Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто же за тебя станет? Не скажешь же Лёхе: на тебе трояк або пятёрку, пойди повоюй за меня? Не скажешь. Касьян, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только Натахе, но и самому себе, в чём и сам тоже нуждался в эту минуту. Они помолчали, и Касьян уже сам про себя думал, вспоминая о том, что говорили за Селивановым столом, — как походя лютует немец, палит всё огнём, не щадит ни малого, ни старого. — Оно ить как, — сказал он то ли себе, то ли Натахе. — Хоть червяка взять! Который на дерева нападает. Ко времени не устерёг, не сдержал, гадость эта вон уже где, новые ветки кутляет… — Кабы б червь беспонятный, — уже ровнее выговорила Натаха. — А то и люди на людей идут. Им-то чего бы? Вон какие страсти друг против друга понавыдумали — аропланы да бомбы. — Бомбы не бомбы, а итить всё одно надо, раз уж такое взнялось. — Ну дак али я беды не понимаю? А токмо… Ох, Кося, небось не жалезные вы супротив-то бомб да снарядов. Одной рубахой прикрытые. — А то не жалезный! — безголосо посмеялся Касьян, переводя разговор на шутку. — Ещё какой жалезный! Ну-кось, подвинься, скажу, чего про меня дедко-то Селиван вычитал… Натаха тяжело отползла к стене, и Касьян, обрадовавшись примирению, прилёг рядом. От этого его, однако, опять закружило, и он, крепясь, сцепив зубы, притих. — Отчего мокрый-то? — спросила Натаха, оглядывая его сбоку, против луны. — А-а… пустое… Голову мочил… Дак слышь чего… — уже через силу, преодолевая тошноту, выдавил Касьян. — Читал дедко, будто у меня два прозвища. — Как это? — Не то чтобы два. Одно и есть… Вроде как на монете. На одной стороне — пятак, на другой — решка. — Кто ж тебе такую цену положил — пятак? — Ну, это я к слову, чтоб поняла. — Так уж и поняла. — По-простому я, стало быть, Касьян, да? — А кто ж ты ещё? — …а по-писаному вовсе не Касьян. — А и правда, много нынче выпил, — первый раз усмехнулась Натаха. — Я, поди, за Касьяна выходила. Иди-ка ты, Кося, к себе. Ты совсем спишь. Вот и глаза не глядят. — Это я так… Полежу маленько. — Да и кто ж ты по-писаному-то? — А-а! — протянул Касьян, не размыкая глаз. — Дак вот пишут — шлемоносец я! Звание моё такое. — Чего, чего? — Шлемоносец! — Господи! Чего ещё на себя плетёшь? — Ну… — Касьян запнулся, не находя больше пояснения этому слову. Ну… на голову такую жалезную шапку дают… Чтоб не ушибло. По ней саданут, а мне ничего. — Ты его токмо слушай, балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад. — Книга у него такая, старинных письмён. Я сам про себя читал. Будто мне от самого рожденья та шапка заготовлена. Я, к примеру, родился, живу, землю пашу или там ещё чего делаю, ничего не знаю, а она уже гдесь лежит. — Дак и всякому мужику она заготована. Долго ли войну кликать? — Не-е!.. Ну… как это тебе сказать! Моя не такая. В ней я буду вроде как заговорённый. Врал через силу, через тошноту Касьян, утешал Натаху, уводил её от ненужных мыслей, как куропач уводит из гнезда опасность, но и сам хотел верить в такую свою чудодейственную шапку. Однако Натаха на всё это только грустно вздохнула: — Ох, Касьян, Касьян. Ровно бы младенец. И как-то ты там, на войне, будешь… Уж чего тебе заготовано, так вот оно… Привстав на локоть, Натаха запустила руку под подушку, вытащила белый свёрток. — Может, что не так, — скажешь: завтра переделаю. Раскрыв отяжелевшие веки и всё ещё не догадываясь, Касьян принялся расправлять на груди свёрток, и тот развернулся холщовой сумкой, к углам которой была пришита обоими концами долгая коломянковая лямка. Смутясь так, что жаром налились уши, он молча вертел перед собой и теребил свой подорожный пещур, простерев его в лунном свете на вытянутых руках к потолку. И Натаха, прижавшись виском к его плечу, подспудно двигавшемуся жёсткими желваками, шёпотом пояснила: — Сама, грешная, шила. Не след было шить своими руками. Поди, не положено? — Почему — не след? Я ж не покойник… — А мать и вовсе нитки не видит. Да и того пуще от слёз потухла б… Я и то от неё украдкой, чтоб не видела. — Ну-к что ж… — собравшись, как можно спокойнее проговорил Касьян. — Это дело. Без сумки не обойтись. — Постромка не коротка ли? — Сгодится. В самый раз… Ладный сидорок! Гляди ты: и буквы вышила! А их-то зачем? — А так просто… Чтоб вспоминал… — Вот, вишь, опять всё руками. Так и не купили тебе машинки… Чувство вины снова полоснуло Касьяна. Он отшвырнул, не глядя куда, сумку и потянул к себе Натаху, ища её губы. Та отстранилась, загородилась от него ладонью. — Не надо, Кось. — Чего ты… — Отпусти, не надо. — Ну Натах… — душно, пьяно зашептал он. — Угомонись. Маленький у нас. — Ну да и что… — бормотал он, сам себя не слыша. — Боюсь я. Глянь ты какой дурной. Да и мать не спит. — Ну пошли в сарайку. — Нет, Касьян, нет… Боюсь. — Ухожу ведь, — обиделся Касьян. — Нельзя так… Надо бы тебе не пить. За водкой и про меня забыл. — Как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу. — Знаю, Кося, знаю. Да разве одним этим дом помнится? Вон дети твои спят. Их и помни. Тебя весь день не было, а они намотались, напомогались. И бураков надёргали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Серёжа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь ещё всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру не споймаем: одна обезножела, а я — квашня квашнёй. — Табачку нигде близко нету? — отвернувшись, сказал Касьян. — А ещё и земля вон ляжет на бабьи руки, — продолжала своё Натаха. — Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чёртова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет. — Как назовёшь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшенную сумку. — Не надумала? — Надумала… Касьяном и назову. — Чегой-то? — удивился он и не сдержал смешка. — Опять шлемоносец? — Не мели. Не знаю я ничего этого. — Дак зачем ещё Касьян-то? — А чтоб слово в доме было. Ты уйдёшь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с нами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растёт. — Под нову каску. — Чего? — Да это я так… Касьян дак Касьян. Может, и пригодится… У тебя нечего выпить? — спросил он, вставая. — Куда ж тебе ещё? — Жалко, что ли? — сказал он, как-то отчуждаясь. — Да мне не жалко. Вон у матери есть маленько на растирку. Выпей, если охота. Под печкою стоит. — Ну ладно… На нет и суда нет… Пошёл я, раз такое дело. Натопили-то как.10
Назначил себе Касьян встать в тот последний день пораньше, да не исполнилось: в сенной прохладе незаметно когда и как мертвецки провалился в небытие и проснулся, аж когда все щели уже сочились дымными, напористыми лучами позднего утра. Мир уже давно жил без него, и Касьян слышал, как глухо, будто мельничный жёрнов, погромыхивал в избе рубель: должно быть, Натаха прокатывала вчерашнее бельё; как отчего-то обиженно всхлипывал в сенях Митюнька, а под сарайным плетнём с озабоченной истомой квохтала клуша, сопровождаемая бисерным писком цыплят. И в неуёмном кружении над подворьем ликующе чиликали, чиликали ласточки. От самого их прилёта Касьян не затворял и наказывал другим не затворять сенника, дабы не препятствовать касаткам селиться под стропильной латвиной. Он любил прежде, вот так замерев, наблюдать, как с лёгким шелестом, доверчиво, будто в самую его душу, влетали птахи в дверной проём и повисали вильчатыми хвостами над головой, припав на мгновенье к отверстиям своих серых земляных жилищ. Гнёзда тотчас откликались приглушённым звоном птенцов, ровно бы кто потряхивал над Касьяном глиняную кубышку с серебряными денежками. А когда мать-отец отлетали прочь, птенцы, уже пепельно-оперённые, с улыбчивым ярко-жёлтым обводом рта, поочерёдно высовывались из летка и с любопытством оглядывали подкрышную сутемь, ещё не ведая, но уже предчувствуя, что где-то совсем близко есть воля, небо и солнце. Это рассветное снование ласточек в прежние дни всегда зарождало в Касьяне лёгкое и радостное ощущение начала дня и потребность какого-нибудь дела. Спал он от самых майских праздников в сеннике, на старых розвальнях. Сани эти, уже давно без оглобель, с выпавшими через один копыльями, остались дома ещё от коллективизации, и за ветхой ненадобностью он приспособил их под летнее спаньё, глубокое и уютное, как большое гнездовье, где, укрывшись попоной, а ближе к осени — и полушубком, вольготно было почти до самых зазимков. В череде таких ночей, уже после того, как все угомонятся в избе, несчётно раз наведывалась к нему Натаха пошептаться наедине от чуткой свекрови, и в этом гнезде, как в касаткиной лепнине, зачали свою жизнь Сергунок с Митюнькой, родившиеся потом оба, как по заказу, в аккурат по первой капели. Последний раз Натаха была у него уже недели три назад: то он стал отлучаться в ночное, то она крутилась с огородами, начала уставать, совсем отяжелела, и всё бы ничего, как-то стерпелось бы в обыденности до лучшей минуты, не о том была главная думка на десятом совместном году, кабы не это внезапное, оставившее Касьяну считанные дни. Сено в санях обновлять уже было ни к чему, как делал он это всегда по троице, но Касьян, готовясь к прощанью, ещё третьего дня всё же вытряхнул слежалое старьё, накосил по усадебному обмежью свежей цветастой травки, просушил незаметно, щедро настелил пахучую обнову и даже подмёл в сарайке земляной пол: собирался на воле, без домашних свидетелей, не спеша и обстоятельно обо всём обговорить с Натахой. И вчера, осознавая край своему времени, уже борясь с навалившейся дрёмой, несмотря на её несогласие, всё же чаял прихода Натахи, как последнего причастия, из остатних сил ещё долго прислушивался к избе и подворью, не скрипнет ли сенечная дверь, не объявится ли в лунном квадрате растворенных ворот неслышная тень, как бывало то прежде… Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешённым, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, ещё в нём присутствуя, всё ещё видя и слыша его, был вроде бы уже ничем к нему не причастен. Лёжа в санях, он отстранённо, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нём никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него, как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться. Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он всё ещё старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нём, сонном, заполнило и подчинило себе всё его существо. И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце: — Ты чего ревёшь-то? Глянь-кось, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос… Ревёшь-то чего? Митюнька, икая, пожаловался: — Да-а… Селёзка сум… сумку не даёт… — Какую такую сумку? — Па… па-а-апкину. — Ах, он нехороший какой! Мы ему зададим. Серёжа! Сергунок, где-то затаясь, не отзывался. — Серё-ёжа! — Мам, он за амбалом, — подсказал Митюнька. — Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей? — А чего он пыль в сумку насыпает, — отозвался Сергунок. — Я говорю, не смей сыпать, папке с ней на войну итить. А он, дурной, сыпит. — Слушай, Серёжа, — нетерпеливо перебила Натаха. — Ты знаешь, где дядя Никифор живёт? — Знаю. В Ситном он. — Ага, в Ситном. А как туда идти — знаешь? — Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали. — Ну дак как же туда? — А мимо конторы… — Ну, мимо конторы. — А опосля лесок пройтить… — Верно, лесок. — А там лугом — и вот оно, Ситное. — Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а? — Один? — Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тётей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть сёдни и придут. Запомнил? Мол, на войну… — Ага. — Не заплутаешься? — беспокоилась Натаха. — А то! — Оттуда с ними придёшь. — Ладно. Только можно я с папкиной сумкой? — Не выдумывай! — Ну, мам! — Да на что тебе сумка-то? — А так… По нашей деревне пройду. — Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить? — Прямо! Она ж солдатская. — Ох ты горе моё — солдатская! Ещё наносишься. Её вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет. — А я швыдко. — Ладно уж, бежи. Только давай я покороче её подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко. — А я? — опять захныкал Митюнька. — Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдёшь ты. — Дойду-у… — Лучше я тебе куриную лапку дам. Хочешь лапку? — Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у… — Ну, беда с вами. То ли с мёдом она, сумка-то? С горем, а не с мёдом… Вот Серёжа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз — экий герой! — Ну, мам, я побёг! — готовно выкрикнул Сергунок. — Я — скоком! — Стой же ты, дай хлебца-то положу. Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как по-за плетнём дробно застучали Сергунковы пятки. — Ох ты, горюшко, — передохнула Натаха. — Всё-то вам игра да потеха. Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто поглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай… А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие б в осень, по работе и обувка должна бы… Эх, ничего не сделано, кругом неуправа… Касьян встал, натянул штаны, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомнил, что у него нет ни граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шёл из сеней, и он направился в избу. Во дворе уже не висело ни белья, ни верёвок, но в кухне было по-прежнему ералашно, как всегда перед большой стряпнёй. Печь уже пылала, роняя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюньке. Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые подмышки, обнажив иссохшие, сквозившие синевой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и её острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой кофтой. Время от времени она заморённо выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочерёдно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлёпала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные её кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелёгкая справа — и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи, — всё это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в пояснице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своём душном запечье, тщетно приноравливаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет кое-как перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить Бога прибрать её поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгорячённо, как в прежние свои годы, укрощала и тёхкала трёхпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые её щеки, иссечённые морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрёпанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба. — К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбуждённый взгляд матери. — Будет тебе потом… — Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше. — Идёшь ведь… — Махотиха, поди, тоже печёт. Взяли бы взаймы покуда. — Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли ещё когда. Видать, последний это… Она тихо, бесскорбно прослезилась, но тут же утёрлась передником. — Моя рука лёгкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда ещё на ту войну провожала. Ан цел пришёл, невредимый. И, приблизясь, с виноватой озабоченностью сказала: — По-хорошему, дак надо бы хлебец-то в Ставцы сносить, окропить водицей. Да нести некому. Совсем обезножела я. — Дак и не надо, — вяло сказал Касьян. — Не на всю войну хлеб. Покуда дойдём, весь и съестся. — То-то, что не надо, — обиделась мать. — Вам, нонешним, ничего не надобно. Вон и Наталья без креста ходит, наперёд не думает. Живёте, кабудто век беде не бывать, непутёвые. Ну да уж ладно: слёз моих в этом хлебе довольно замешано. Мобудь, за святую водицу и сойдут, материнские-то слёзы. Она опять всхлипнула и отвернулась от Касьяна к своим делам. А он ещё постоял, потоптался в дверях в неловкости, понимая, что нечем ему утешить старушку. — …А змей тот немецкий об трёх головах, — доносился высокий распевный голос Натахи сквозь порывы деревянного рокота рубеля. — Из ноздрей огонь брызгает, из зелёных очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на ём железная. Нипочём ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и ещё много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом… — А папка нас с рузьём! — ликовал Митюнька. — Как пальнёт по змейским баскам, да, мам? Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени. По жердяной стремянке поднялся на чердак за табаком. Махорка пересохла за зимнюю лёжку, надо бы всю и помельчить до осени, да всё недосуг было. Кто же знал, что так вот враз понадобится. Спустившись с беремком, Касьян нащипал на закур, а остальное сунул в кадку с водой и подвесил под сараем отволгнуть, чтобы под топором не крошилось костриками. И, жадно закурив из одного листа, укрылся на задах под вишенником подождать, пока подвешенный табак вберёт в себя влагу и помягчает. По солнцу было около десяти, но Усвяты — и Старые, и Новые — против обычного, ещё не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы. По Полевой улице уже сновал какой-то люд, бабы и старушки в белых платках, выряженные, несмотря на теплынь, в плюшевые полусачки и поддёвы, брели чинно вдоль посада, придерживая за руку зевавших по сторонам детишек: видать, сходились гости. Возле Кузьмина двора стояла подвода с пегой, в рыжих заплатах нездешней лошадёнкой. Касьян долго таился в тени вишенья, будто привязанный, и ему ничего и никого не хотелось. Потом рубил он у себя под навесом табак в долблёном корытце, время от времени просевая крошево на самодельном жестяном сите. Рубил машинально, погрузясь в несвязные думы, в бесчувственное отсутствие, пока не подошла, не окликнула Натаха. — Чего есть-то не идёшь? — Чтой-то не хочется, — буркнул Касьян. Она подошла ближе, тёплой ладонью взъерошила волосы. Касьян перестал тюкать, выжидал, не поднимая глаз. Ему были видны одни только Натахины босые ноги, заметно отёкшие в щиколотках. — Будя тебе, Серёжа придёт, досечёт. Я его к Никифору послала. Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела. — Ладно, успеется, — нехотя отозвался он. — Да когда ж… Последний денёк. В Усвятах, как и во всём подстепье, бань не заводили и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплёскивая на полы, летом — в сарайках, и всё это ещё с самого детства засело как докучливая обуза. — Я лучше на реку схожу, — сказал Касьян, откладывая топор. — Сходи, сходи, — одобрила Натаха. — Там повольнее. И бельё возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдёшь, прибранный.11
Из дальних веков, запредельных для человеческой памяти, течёт Остомля-река. От начала и до конца дней пересекает она собой жизнь каждого усвятца, никогда не примелькиваясь, а так и оставаясь пожизненной радостью и утехой. Свою последнюю зиму доброй памяти Тимофей Лукич, досточтимый Касьянов папаша, едва перемог и хвори и немочи. Отлежал он аж до новой травы и уже было запросил причастия, как внял над избой первый предмайский гром. Дождь пролился недолгий, но спорый, и старику, должно, было слышно в незадвинутую печную вьюшку, как обмывал он кровлю и саму трубу, как прокатывалось по небу вешнее разгульное громыхание. Слабым голосом, однако же и настойчиво, Тимофей Лукич потребовал снять его с истёртых печных кирпичей и проводить на улицу. Касьян и Натаха обрядили его потеплее, вздели спадавшие катанки и лёгкого, утонувшего в шапке — снесли в палисад, на уличную завалинку. Натаха втемеже ушла хлопотать свои хлопоты, а Касьян, которому хотя и тоже был недосуг, остался с отцом, придерживая его за плечи, боясь, как бы старику не закружило голову после избяной спёртости. Из глубины овчинного ворота и насунутого треуха заслезившимися от непривычного света и вольной свежести глазами, замерев, уставился он в умытые дали и просидел так немо, ни о чём не спрашивая Касьяна, у которого уже и рука затекла поддерживать старика и не терпелось вернуться к прерванному делу под навесом. Понимал Касьян, что никогда более отцу не пересечь самому лугов, не посидеть на бережку Остомли, но и теперь, в последние свои деньки, старик тянулся туда неутолённой душой, всё глядел и глядел в заветную речную сторону, хотя отсюда, с деревенской улицы, и не видать ему самой Остомли, кроме отрезка излучины в одном-разъедином месте. Уж казалось бы, что ему теперь эта излука, да и мало ли чего, кроме неё, видится в лугах, ан нет: время от времени туда-сюда повернёт взглядом — на сбежавшую за лес нашумевшую тучу, на коров, на купы старых ив возле мельницы — и опять оборотится к дальнему взблеску воды и замрёт, будто в дрёме. Да и сам Касьян, бывало, ни на лес, ни даже на кормившее его хлебное поле не смотрел столь без устали, как гляделось ему на причудливые остомельские извивы, обозначенные где ивняком, где кудлатыми вётлами, а где полоской крутого обреза. Вода сама по себе, даже если она в ведёрке, — непознанное чудо. Когда же она и денно и нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на перекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно ухает вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим зеркалом, впитывая в себя всё мироздание — от низко склонившейся тростинки камыша до замерших дремотно перистых облаков; когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной звенью и наплеском срывается она с лотка на мельничное колесо, — тогда это уже не просто вода, а нечто ещё более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский житель не мог дать тому истолкованье, не находил, да и не пытался искать в себе никаких слов, а называл просто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение этого дива. По весне взбухшая от талых снегов Остомля выплёскивалась из берегов, подтопляла займище до самой суходольной дубравы, поднимала полой водой валежник, бурелом, старую зимнюю чащобную неразбериху, гнула и бодала уже набухший почками уремник, и бежало и плыло оттуда застигнутое большое и малое зверьё до надёжной тверди — уцелевших островов и обмысков. В левобережной же, усвятской, стороне воде и вовсе не было удержу, и она охватно разбегалась по всему лугу под самые огороды на великую радость ребятишек. С Касьянова мальчишества и по сию пору, а до Касьяна — сколь стоят на этом юру Усвяты, вешний разгул Остомли всегда собирал к себе детвору, и не было радостнее в природе события, чем краткая, но звонкая пора ледохода, преисполненная апрельской ярости солнца, вербяно-снежного настоя ветра, птичьего перелётного гама и крепкого духа отпревшей на взлобках земли. Касьян и сам когда-то, полубосой, полураздетый, в лаптишках, чавкающих грязными пузырями, с беспечной лихостью скакал по забредшим в огороды льдинам, не раз ошмыгивался под общий хохот мальцов, а потом тайком сушился по кустам у рьяно гудевшего на ветру костра. Мечущееся пламя сокрушало всё, что удавалось изловить в бегучей воде, — вывороченные брёвна мостов, опрокинутые плетни, унесённые кадки, корыта, детские салазки и прочий обиходный луб, смытый рекой по дальним и ближним остомельским деревням, и Касьян, нагой, с опалёнными бровями, приплясывал и увёртывался бесом от порывов огня, стрелявшего раскалёнными углями и осыпавшего пчелино кусачими искрами. А теперь вот по весне и Сергунка не докликаться, не оттащить от полой воды, пока мать или бабка не налетят с хворостиной. Неспешно шёл Касьян луговой тропкой, в руке камышовая корзинка с нижним бельём, с чистой рубахой, кусок мыла завёрнут в рушник — не хотелось спешить, шёл, оглядываясь, вроде как запоминая, и всё такое разное всплывало из прошлого вперемежку с теперешним. К Майским праздникам Остомля, утомясь и иссякнув, скатывалась в берегах и, будто устыдясь своего недавнего буйства, смирела, тихо отцеживалась на чистых песках и отогревалась в затонах и заводинах. А луг, ещё не просохший, ещё в бесчисленных остатних блюдцах и калюжинах, уже буйно, безудержно зеленел, и на этой его молодой мураве, где ещё ветру и качнуть нечего, не то чтобы развести травяную волну, словно на новой праздничной скатерти, были особенно приметны следы недавнего речного разгула. Белели языки намытого песка и россыпи пустых ракушек; масляно лоснились пробитые травой заилины; хрустели под ногами лёгкие сухие карандашины прошлогоднего ситника, широкими строчками обрамлявшего низины и береговые скаты; бугрились пласты корневищ, старой осоки, где-то выдранной и унесённой льдом, которая тут же, на новом месте, как ни в чём не бывало принималась пускать свежие красноватые пики. Отступала река, вслед за ней устремлялись шумные ребячьи ватажки, и было заманчиво шариться в лугах после ушедшей воды. Чего тут только не удавалось найти: и ещё хорошее, справное весло, и лодочный ковшик, и затянутый илом вентерь или кубарь, и точёное веретёнце, а то и прялочье колесо. Ещё мальчишкой Касьян отыскал даже гармонь, которая хотя и размокла и в подранные мехи набило песку, но зато планки оказались в сохранности, и он потом, приколотив их к старому голенищу, наигрывал всякие развесёлые матани. Но пуще всего было забавы, когда в какой-нибудь мочажине удавалось обнаружить щуку, не успевшую скатиться за ушедшей водой. Смельчаки разувались и, вооружившись палками, лезли в студёно-прозрачную отстоявшуюся воду, где было видать каждую былку, каждый проросший стебелёк калужницы. Щука чёрной молнией прошивала мелководье, успевала прошмыгивать между ребячьих ног, делала отчаянные «свечи», окатывая брызгами оторопевших ловцов. Под конец в азарте охоты все оказывались мокры по самые маковки, однако же кому-нибудь удавалось-таки, взбаламутив воду до кисельной гущины, сцапать морковными озябшими руками зубастую пройду и вышвырнуть её далеко на сухое. То-то было ликования: «Ага, попалась, пакостная! Не вот-то тебе краснопёрок шерстить!» И всё это — под чибисный выклик, под барашковый блекоток падавших из поднебесья разыгравшихся бекасов, которых сразу и не углядеть в парной притуманенной синеве. А то бывает пора, которая люба Касьяну с детства, даже не пора, а всего лишь день один. Издавна заведено было в Усвятах и перешло это на нонешнее время — сразу же, как отсеются, выходить всем миром на подчистку выпасов. И называется этот день травником. Так и говорилось: «Эй, есть ли кто дома? Выходь все на травник! На травник пошли! Все на травник!» Да и скликать особо не надобно: на это совместное дело усвятцы сходились охотно. Кто с лопатой, кто с тяпкой, а кто и просто с ножиком выходили от мала до стара подсекать татарник, чтобы извести его до цвета. Работа — не работа, праздник — не праздник. И дитю не уморно срезать ножиком плоскую молодую колючку — перволистник, а уж девкам-бабам и вовсе вроде забавы: набредут да и подсекут тяпкой, набредут да и подсекут… Рассыплются по лугу, снуют туда-сюда, будто грибы ищут. А ребятишки друг перед дружкой: «Чур, моя! Чур, моя!» У мужиков тем временем своё: собирают валежины, хламьё всякое, кромсают лопатами на куски натасканные половодьем осочные пласты, наваливают на подводу и отвозят прочь. После того стоит луг зелен до самой осени, лишь цветы переменяет: то зажелтеет одуваном, то сине пропрянет геранькой, а то закипит, разволнуется подмаренниками. А уже к предлетью, когда выровняются деньки, на лугу наметятся первые тропки. Глядеть с деревенской высоты, так вон сколь их протянется к Остомле. Каждые три-четыре двора топчут свою тропу: у кого там лодка примкнута, у кого вентеря поставлены, кто по лозу, а кто с бельём и пральником. И только купалище на все Усвяты общее: есть один пригожий изворот, этакий крендель выписывает Остомля. Конечно, выкупаться можно и в других местах, ребятишкам, тем везде пристань, и всё же почему-то усвятцы больше сбивались на этот крендель, называемый Окунцами. Вспоминалось всё это Касьяну, пока шёл он тропой, но уже не было в нём прежнего обнажённого и чуткого созвучия, а обнимало его некое обморное и теперь уж безбольное отрешение и отсутствие, с каким он проснулся нынче в санях: вроде бы всё это было с ним, всё помнил, всё видел, но какой-то отдалившейся душой, чем-то застланным зрением. И ступал он словно не по знакомой тверди, каждой подошвой ощущая врождённое родство с ней, а вроде бы не касался земли, несомый обесчувственной скорбью, вызревшей готовностью к завтрашней дороге. И всё же шёл он не из простой потребности выкупаться и одеться в чистое перед дорогой, а что-то и ещё позвало его в луга, к таившейся в них Остомле, без которой не мог он завтра покинуть дом с чувством исполненного отрешения. Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводила. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зелёным тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалился до печного жара. Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но ещё издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимся бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропечённый, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто состругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечёвке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал. — А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и лёгкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева. — Ей-бо, как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом пошоркать. На шее, гляжу, дак и уголь в трешшинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копчёные. — Ты бреши помене, а нажимай поболе, — гудел Афоня. — Давай, давай, поусердствуй. — Да я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое дён нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесёт. Касьян, поставив кошёлку в тенёк, молча принялся стаскивать рубаху. — Глянь-кось! — выпрямился Матюха. — И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать? — На мне грехов нету, — сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил. — С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал?.. — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса. — Мужик как мужик. Кисет на месте. — Давай три, свиристун, — нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто. — Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать. Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну. Касьян тоже не спеша, с цигаркой вошёл в воду, забрёл до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парна и ласкова, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь её зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок. — А меня, братка, тоже забарабали, — всё так же весело выкрикнул Матюха. — Во, глянь… Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушёл под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когдавынырнул — оказался наголо обритым и ещё больше неузнаваемым. — Вишь? — выдохнул он, сплёвывая воду. — Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко. Всё одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело — без волос! Одна лёгкость. Матюха туда-сюда провёл ладонью по синей балбёшке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове. — Вошь теперь не уцепится, — задрал он в смешке рассечённую губу. — Нет ей теперь державы. Не бросай, дай-кось докурю. А ты пока на́ мыльца. — У меня своё в кошёлке, — ответил Касьян, не настроенный на лёгкий разговор. — Ну, будешь за своим бегать. На, мылься! Теперь вместе идём, твоё-моё дома оставляй. — Лобов снял с шеи бечёвку и протянул кусок. — Ты где действительную служил? — В кавалерии, — сказал Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло. — Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе. — Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмём ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре… Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай паляет. А на коне — не-е! Дюже мишень большая. — Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову. — Каких лошадей? A-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он ещё ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку Гыгу. Гыгочет во весь рот, довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздаёт, навоз подчищает. А кому ещё? Больше некому. Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду. — Скоро и лошадей брать начнут, так что… Давай-ка и тебе шоркану спину. Всё ещё чему-то противясь, должно быть, Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жёстким, ещё не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла. — Я тут уже человек шесть выкупал, — говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок. — С самого утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал? — Пока нет… — А я уже уложился. Я вчерась ещё сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Ещё сёдни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чём идёшь? В сапогах али как? — Ещё не надумал. — Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптёшках! Мягко, ног не собьёшь. Верно я говорю? — Ну-к ясное дело, не осень… — Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там всё одно переобувать будут в казённое, в чём ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай донашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу. Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надёргав тёмно-зелёных стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна. — У Кузьмы уже шумят, — докладывал он возбуждённо, на всю реку. — Двери-окна нараспах, гармошка грает. Давеча мимо шёл — вылетел сам Кузьма в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться — вместе идём. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем. — Ну чего ж, раз подносят… — сказал Касьян, думая о своём: приедет Никифор, а он ещё и в лавку не сходил, угостить будет нечем. — А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошёл, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле. — Со вчерашнего, поди, не обсох. — Кой со вчерашнего! Ещё до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснёмся напоследок. А он: я нынче в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ём внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться. Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать. Лобов запалённо остановился, отшвырнул измятый пучок. — Ну, всё! — объявил он. — Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим. Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улёгшись на прокалённый песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку. Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии разморённо обникли листвой уремные вётлы, и где-то в этой зелёной кипени тоже разморённо и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживлённо носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах… — Да-а, — протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумлённое выражение, как будто он впервые видел мир божий. — Благодать! Как и нет ничего… Афоня-кузнец, должно, за всё лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной остуды, молча обвёл взглядом ту сторону. — Мы вот тут лежим, покуриваем, — всё так же задумчиво проговорил Лобов с растяжкой. — А он идёт, идё-ё-ёт… Кто это «он» и куда идёт — было всем понятно, и Афоня-кузнец лишь углублённо принялся колупать ногтем запёкшуюся ссадину на волосатом запястье. — И вчера шёл, и позавчера… На самую береговую кромку опустился кулик-песочник, шустрая птаха, глянув на недвижных мужиков, но не убоялся, не отлетел подальше, а, тонко пискнув, принялся сновать по песчаной сыри, дёргаясь головкой при каждом шажке. И опять, не получив ответа, Матюха, вдруг оживясь, перескочил на другое: — А верно ли, будто немец по часам воюет? — Как это — по часам? — покосился на него Афоня-кузнец. — Ну как… Сказывают: сперва побреется, надеколонится, кофею попьёт. А тади уж разбирает ружья и начинает палять в нашу сторону. Пополдничает, снимет сапоги и — на раскладушку. Мёртвый час, стало быть. Ну, а потом ещё сколько-то повоюет. Аккурат восемь часов получается. Вроде как в одну смену. Афоня-кузнец, с интересом было начавший слушать, досадливо отвернулся: — Мели, Емеля. — Что намолото, то и просевай. — И сеять нечего, так видно: брехня. Как это — в одну смену? Война — это тебе не фабрика какая. — Немцу, можа, и хвабрика. Небось для того им всем часы дадены, чтоб глядеть. Сказывают, все, как есть, при часах. Афоня пыхнул дымом, хмуро задумался, и по грубому крупнопористому лицу его было видно, как бродила под спутанными волосами какая-то упрямая мысль, какое-то несогласие. — Ну ладно, по часам. А опосля чего делает? — Как — чего? — легко удивился Матюха. — Руки моет, ужинает. А потом спать. Ночью они — ни боже мой, чтоб идти куда. Ни за что не пойдут. Все до одного дрыхнут. Токо часовых выставляют. А остальные храпака. Во, гады, культурные какие, а? Матюха и сам посмеялся такой несуразной аккуратности и тут же, пришлёпнув пяткой по голому заду, спугнув присевшего было овода, сообразил: — Тут бы на них и навалиться, когда улягутся. Тарараму б наделать, шухеру! А то тыкву из кустов высунуть. С глазами. А внутри свечку зажечь. Я ещё малым так-то у дороги тыковку пристроил, возле кладбища, дак урядник как хватанул, чуть с коня не слетел. — Ну и брехать ты здоров, — покрутил головой Афоня. — Сколь тебя знаю, одной брехнёй жив. Кабы б немец ночью спал, дак не токмо тыкву, а и фитиль пеньковый куда надо вставили б. Хороша брехенька, да, как пуп, коротенька. — Я-то тут при чём? За что купил, за то и продаю. — У кого куплено-то, спросить. — Дак я ж говорил, шуряк ко мне приехал. На проводы. Это ж он меня постриг. А самого его не берут. На него броня наложена. Потому как на железной дороге он. Сцепщиком работает. — Ну? — Говорит, поездов, эшелонов на станции — пропасть! Все путя забиты, никак не разъедутся. Бабы, детишки — эуи…куированные называются. Из теих, стало быть, мест, из опасных… — При чём тут поезда? Ох и талдон! — Да ты слухай! Я — Емеля, а ты дак и весь Хвома поперечный. Не даст досказать. Чого люди, то и я. Народ бает, может, чего и правда. Не всё ж сплошь брехня. Я мелю, а ты сей… — Ну, ну, валяй. — Дак шуряку один старичок про то и рассказывал. Потерялся он, отстал от своего поезда, ночь, деться некуда, его и подобрали, привели в служебку. — Поди, шпиён подосланный, такое брешет. — Кой там шпиён! Наварили ему картох, поел, пошамкал, а потом под окнами из крана вставленную челюсть споласкивал. А шуряку-то в окно и видно. Доходяга. А так башковитый, про немца долго сказывал. Он ещё из самой этой… как её… Мне шуряк и город называл, да… А! Из Львова! Вот откуда! Будто часовым мастером тамотка был. Он и часы отдавал, только не за деньги, а чтоб за хлеб або за крупу. Кабы знато, дак я б и пшенца подослал. Ну да не об этом… Дак энтот старичок повидал их вдосталь, вот как я тебя. Сказывал, страховитые, и будто каски на них глубокие, по самые плечи. Чтобы, значит, никакая пуля не задела. — Погоди, погоди, — остановил Лобова Афоня-кузнец. — Ежли по самые плечи, дак это ж вроде ведра, должно. Ну-ка, надень на себя ведро — куда глядеть-то будешь? — Дак, можа, там дырки прорезаны. — Ну-ну… — И на касках по бокам вроде бы рожки. — А рожки для чего? — Энтого я тебе не скажу, не знаю. Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога. Дак вроде как я уже таких гдесь видал, на картинках. У моей Верки, в букварях, кажись… Тоже с ведром на голове и с рогами. Матюха озадаченно поскрёб в стриженом затылке. — Во, братки, какую козюлю нам бить придётся, — сказал он. — Боись не боись, а куда денешься? А сапоги у него, сказывают, кованые — не то чтобы одни каблуки, а и вся подошва… — Ну, уж это точно враки, — не согласился Афоня. — Это ж почему? — А ходит-то он как, ежли вся подошва? Ну вот давай я тебе на подмётку сплошную жалезку накую — далеко ли пойдёшь? — А чёрт его знает, как он ходит. Это ж немец! У него вон и штык не как наш — чтоб и человека колоть, и колбасу резать. Всё продумано. Дак, может, и ноги у него как у коня… — Понёс, понёс неоколёсную! Поди макнись вон трохи. — А чего? Глянь-кось, сколь за семь-то дён прошёл. Беги бегом — столь не пробежишь. — Дак на машинах — чего б не пробечь. — Что ж у него, пехоты нету, что ли? — И пехота на машинах. — Ох ты! Какая ж это пехота, ежли пешки не ходит. Чудно! — Тебе, вишь, и чудно. Села баба на чудно, наступила на рядно. — Афоня-кузнец сердито заплевал окурок и договорил: — Подол оборвала, чудно бабе стало. Матюха умолк и, сунув свой чинарик в песок, стал засыпать его из горсти, хороня под медленно нараставшим ворошком. Кулик-песочник всё ещё бегал вдоль кромки, тыкал шильцем в человечьи следы, налитые водой. Время от времени он останавливался и косил чёрный глазок на мужиков, будто спрашивал: я не мешаю? Но вот по чистым пескам Окунцов пронеслась расплывчатая тень. Кулик замер, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку. Все трое подняли головы и увидели в ясной полуденной синеве чёрную букву «Т». Она кружила над плёсом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывала на солнце, по пескам проносилась быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружил над мирными берегами… Кулик больше не суетился, не тыкался в следы, а насторожённо замер, вглядываясь в небо то одним, то другим глазом. Плёс затих, затаился под этим неслышным скольжением чёрной птицы. Смолкла, больше не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных вётлах горлица… В другое время мужикам было бы наплевать на коршуна, но нынче и им почему-то сделалось неуютно и беспокойно от повисшего над головой молчаливого хищника. — У, хвашист! — выругался Матюха. — Свежатины захотел. Но вот коршун, должно быть, всё же убоявшись лежавших на песке людей, широким полукругом переместился в займище и повис там над уремной чащобой. Со стороны он ещё больше походил на самолёт, что-то разведывавший на земле. — Ну что, братцы, — приподнялся Лобов. — Пошли ещё ополоснёмся. В последний разок. Касьян достал из кошёлки пеньковую мочалку и своё мыло и, зайдя в воду, ещё раз прошёлся по всему телу, не спеша и обстоятельно. Афоня-кузнец только поокунался, а Лобов, улёгшись на спину, долго и неподвижно лежал так, сносимый вниз по течению, предавшись каким-то думам, а может, и блаженному бездумью. Потом одевались в чистое, прыгая на одной ноге, продевая сполоснутые ступни в подштанники, напяливали на ещё не обсохшее тело каляные, выкатанные рубахи. И уже одевшись, но ещё босой, Матюха заскочил в реку и, зачерпнув пригоршню, припал к ней губами. — Забыл попить на прощанье, — сказал он, вытираясь рукавом. — Доведётся ли в другой раз. А выйдя на береговую кромку, где ещё недавно бегал кулик, — босой, в неладной, большеватой рубахе, прикрывавшей подвязанные у щиколоток подштанники, будто приговорённый к исходу — обернулся к реке и низко трижды поклонился лопоухой стриженой головой. — Ну, матушка Остомля, — проговорил он виноватой скороговоркой. — Прости-прощай. Какие будем пить воды-реки, в какой стороне — пока незнамо. Пошли мы… Афоня-кузнец, тоже весь ещё в белом, сутулясь крутой спиной, насупленно, быковато уставился на реку. — Ну всё, — говорил Матюха, отступая от берега и всё ещё оглядываясь. — Пошли. Они надели верхнее, сложенное на траве под красноталом, обулись, ещё раз поглядели окрест и молчаливой цепкой прошли по узкому перешейку. И тут, уже на лугу, распрощавшись, пожав друг другу руки до завтрашнего дня, разбрелись по своим тропам. Шагая выгоном, дрожавшим у краёв полуденной марью, Касьян видел, как встречь, то справа, то далеко слева, кто с кошёлками, кто с белыми свёртками под мышкой, спешили к Остомле ещё несколько мужиков.12
Ещё у калитки изба повеяла на Касьяна житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне было уже прибрано, печное устье задёрнуто занавеской, а на столе под волглой дерюжкой парили выставленные хлебы. В детстве Касьян всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать, возясь в межхлебье по дому, время от времени подходила к таинственно-молчаливой печи, в чёрной выметенной утробе которой свершалось нечто необыкновенное, томительно-долгое, приоткрывала на пол-устья жестяную заслонку и лёгкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумянившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала её, тетёшкала, перекидывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько обверху, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдёргивала лицо, и это означало, что хлеб ещё не в поре, полон внутреннего сырого жара и надо его снова досылать в печь. Но вот приходило, когда мать, сначала робко, а потом всё смелее прижималась носом к ковриге, наконец, и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо её радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, кто был тут и не был, объявляла: «Слава тебе…» С лёгким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закутки в избе начинали полниться тёплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице. Возбуждённые хлебным запахом воробьи облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались у порога, пытливо заглядывая в дверь, и всё тянула воздух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась сквозь воротние щели запертая в хлеву корова. А тем временем мать, омочив в свежей, только что зачерпнутой колодезной воде гусиный окрылок, взмахивала им над хлебами, кропила широким крестом, и те, без остатка вбирая в себя влагу, раздобрело вздыхали побархатевшими округлостями и начинали ответно благоухать, как бы дыша в расслабляющей истоме и успокоении. Потом караваи задёргивали чистым суровьём и оставляли так до конца дня остывать и тем дозревать каждой по́рой до потребной готовности. И не было у тогдашнего Касьянки терпения, чтобы, улучив минутку, не подкрасться и не выломать исподтишка где-нибудь в незаметном месте тёплый окраек, ещё в печи порванный жаром и так и запёкшийся хрустким дерябистым разломом. Да мать и сама догадывалась, отрезала, где он указывал, наливала в блюдце конопляного масла, посыпала солью, и он, подсев к кухонному оконцу, оглаженный по голове тёплой материнской рукой, счастливо лакомился первохлебом, роняя зелёные масляные капли в посудинку. Вот и вырос давно Касьян, и уже за него Сергунок с Митюнькой, боясь отцовского ремня, тайком обламывали на всё том же столе коврижные корки, но и до сих пор памятно и радостно ему это, да и теперь иной раз не отказался бы он от прежнего озорства, не будь самому стыдно перед мальцами до́лить хлеб раньше времени. Но нынче Касьян даже не приподнял покрывала, чтобы взглянуть, удался ли хлеб, как делал и радовался он прежде, а лишь вскользь покосился в ту сторону, уведённый от самого себя своим новым и непривычным отрешённым состоянием. Следовало бы уже вернуться посланному Сергунку вместе с Никифором, Касьяновым братом. С этим ожиданием встречи Касьян и вошёл в дом. Но изба встретила его безмолвием, было лишь слышно, как со скрипучей хромотой тикали на простенке ходики да иногда глухо постанывала мать, прикорнувшая после ранней колготы у себя на полатях. В горнице тоже было прибрано и торжественно-тихо. Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел чистой свежей скатёркой, повешенные занавески притемняли оконный свет, и в полутьме красного угла перед ликом Николы-угодника ровно светилась лампадка. Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала свой свет сквозь тигелёк из синего стекла, окрашивая белёный угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было здесь всё по-рождественски умиротворённо, будто за стенами и не вызревал ещё один знойный томительно-тревожный день в самой вершине лета. Касьян в свой тридцатишестилетний зенит, когда ещё кажется далёким исходный житейский край, а дни полны насущных хлопот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже перезабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница-бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то когда отыскивал какой-нибудь налоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампады, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то отчуждение от него своего же собственного дома и, всё ещё держа кошёлку со сменённым бельём, остановился в дверях и сумятно уставился в освещённый угол, неприятно догадываясь, что сегодня лампада зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Её бестрепетное остренькое пламьице размыто отражалось в потускневшей золочёной ризе старой иконы, видавшей поклоны ещё Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с тёмнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и ещё до сих пор тайным неразгаданным укором озирали дом и всё в нём сущее. Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремлённого на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожного старца, что иногда захаживали в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожка. Словно такой вот старец забрёл в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришёл он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряжённой немотой, вот-вот должны были сорваться скопившиеся слова упрёка, что чудились в его осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян ещё раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его осудные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идёт, идёт…» И Касьян тихо вышел, почему-то не посмев оставить в горнице свою кошёлку, и затворил за собой дверные половинки. Во дворе он в раздумье постоял над корытцем с недорубленным табаком, но досекать не стал, а только зачерпнул на цигарку и закурил всё с тем же саднящим чувством вынесенного упрёка. Ему вдруг представилось, как те идут, идут густыми рядами по усвятскому неубранному полю, охваченному огнём, и сквозь дымную пелену и огненные хлопья зловеще маячат насунутые по самые плечи рогатые сатанинские каски. Пора и на самом деле было начать собираться, заблаговременно уложить мешок, пока не подошёл Никифор, а может, и ещё кто. Тогда, на людях, некогда будет, а завтра чуть свет вставать, бежать на конюшню за лошадьми, которых обещался подать к конторе под поклажу. Но тут же вспомнил, что сумку унёс с собой Сергунок, и, чертыхнувшись, а заодно подосадовав на Натаху, которая не ко времени забежала невесть куда, направился к амбару, где у него хранились сапоги. В амбаре было, как всегда, сумеречно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул крепкий успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины, наломанной и развешенной по стенам Натахой ещё прошлой осенью — от мышей. Рябина, подсыхая, роняла ягоды, и теперь их сморщенные бусины повсюду попадались глазам — и на полу, и на крышке закрома, и даже на тесовых полках. Из года в год амбар впитывал каждым бревном этот хлебный дух, и пахло здесь обманчиво и сытно даже в те памятные годы, когда закрома были пусты. И теперь Касьян, не веря этому духу, приподнял крышку и, не заглядывая, сунул руку в ларь. Рука ушла под самую подмышку, прежде чем пальцы торкнулись в зерно: хлеба оставалось в обрез, едва прикрывалось днище. Правда, на полке кургузился располовиненный мешок помола, и этого с лихвой хватило бы до новины, а там за ним уже числилось полтораста заработанных дён. Да кто ж его знает, как оно обернётся: хлеб в поле — душа в неволе… И опять ему навязчиво померещились те железные рога над неубранной рожью… — Эх, не в руку, не в пору затеялось, — почесал он за воротом. — Что б малость повременилось-то… Новые Касьяновы сапоги висели на деревянном штырьке, а старая расхожая пара вместе с распаявшимся самоваром валялась в углу — каждому по своей чести. Касьян постоял, оглядывая те и другие, в чём ему идти завтра. Висевшие сапоги были ещё совсем новые, на спиртовой подмётке, прошпиленные в два ряда кленовыми гвоздями. Шил он их на заказ к прошлому Покрову в Верхних Ставцах за мешок жита и кабанью лопатку. Касьян берёг их от будничной носки, всю зиму старался обходиться старыми, пока те окончательно не подбились, так что заказные остались, считай, нехожеными. Идти в таких было жалко, да он, по правде, и не собирался, а только так — взглянул, что за них можно взять при случае. Прежнего мешка, конечно, не вернёшь, хлеб, ясное дело, будут придерживать, осторожничать с хлебом, но всё же вещь и теперь сто́ящая, не про мякину. Пусть-ка себе висят, мало ли чего… А то и сама походит, у самой не во что ступить. Пару портянок навернуть, дак ей в самую пору. Небось не плясать. И больше не раздумывая, подобрал старые, сунул под мышку и, выйдя, запер дверь на засов. При свете Касьян ещё раз оглядел обутку. Уходил он чёботы, что и говорить, донельзя: на задниках подпоролась дратва, да и гвоздочками бы подкрепить не мешало. Можно было загодя сносить к деду Акулу, да теперь когда ж чиниться, чиниться и нет времени. Ну да ладно, смазать тёплым деготьком, авось к утру помягчеют. Всего-то на один раз и нужны: дойти до призывного, а там — в эшелон, на железные колёса. Обойдётся. Касьян подлез под амбар, достал оттуда подвешенную под полом дегтярку и, пристроившись на каменном приступке, принялся деревянной лопаточкой расчищать загустевшую жижу, снимая с поверхности влипшие куриные перья. За тем и застала его Натаха. Она вошла в калитку, одной рукой ведя за собой Митюньку, тогда как другой придерживала что-то над животом, завернув в подол передника. — Серёжи ещё нету? — спросила она, остановившись перед Касьяном. Касьян со вчерашнего не мог побороть объявшего его отсутствия и, не отрывая глаз от дегтярки, глухо выдавил: — Нету пока… — Ох, что ж это он! Не заплутался ли где? Послала — сама не своя. Касьян промолчал. В растоптанных парусиновых башмаках, осоюженных кожицей, Натаха выжидательно стояла над ним, и Касьяну было не по себе от этого её привязчивого стояния, шла бы уж занималась своим, что ли… Он её ни в чём и не винил за вчерашнее, чего было спрашивать с такой никудышной. Но вот помимо воли захрясла в нём и не отпускала какая-то мужицкая поперечина. — Где ходила-то? — спросил он, строжась. — Укладываться надо, а ты из дому. — В лавку бегала. Никифор придёт, а у нас и подать нечего. Касьян вскинул бровь, одноглазо покосился на её скомканный передник. — Сёдни две подводы привезли, а уже нету. Мне Клавка последнюю отдала. Касьяну хотелось сказать, что одной будет мало, может, Никифор с женой подойдёт, да там кто заглянет, но промолчал. Ему бы след самому об том подумать, самому и в лавку сходить, но вот замешкался, запамятовал как-то. Да и не хотелось ничего нынче, вчера с мужиками перегорел, сбил охоту. — На-ка, сынок, отнеси в дом, — Натаха высвободила из передника бутылку. — Да смотри не урони. Митюнька, держа бутылку обеими руками впереди себя, боязно, будто с завязанными глазами, поковылял к сеням. — А ты чего затеял-то? — спросила Натаха, всё ещё тяжко пышкая после недавней ходьбы. — Поди, видишь. Она нагнулась, подняла правый сапог за голяшку, повертела его в руках. Под её пальцами чёбот ощерился чёрными подгнившими шпильками. — Не рви! — потянулся к сапогу Касьян. — Чего насильно рвёшь-то? — А я и не рвала. Такой и был раззявленный. — Дай, дай сюда! — осерчал Касьян. Он отобрал сапог, поставил за себя на приступок. — Ужли в этих пойдёшь? Касьян молчал, уставясь себе под ноги. — Ох, Кося, не след бы в последний день так-то. Слова не вытянешь. В этих, что ли, надумал? — А чего… И в этих ладно, — неохотно буркнул Касьян. — Да куда уж ладней. Глянь, как спеклись, водянки набивать токмо. Куда ж в таких-то? — Я с подводами. Поклажу повезу. — Дак с подводами не до самого фронту. А ежели дальше пешки погонят? Да паче невзгода зайдёт? Не на день, не на неделю идёшь. Мало ли чего… — Лобов вон дак и вовсе в лаптях. Всё равно менять будут, казённые дадут. — Да уж когда их дадут-то. Не вдруг и дадут. — Дадут! Босыми на немца не пойдём. — Не дури, не дури, Касьян. Надевай новые. — Чегой-то я буду попусту губить? — Ну как же попусту? Разве на такое итить — попусту? — А так и попусту: хорошие снимут, а кирзу дадут. А то продашь, ежели что… — Как это — ежели что? — подступилась Натаха. — Ты об чём это? Ты что такое говоришь-то? — Не к тёще в гости иду, — обронил жёсткий смешок Касьян. — Ничего не знаю и знать не хочу этого! — запальчиво отмахнулась Натаха, и её пегое лицо враз заиграло пятнами. — И ты про такое загодя не смей! Слышишь?! Не накликай, не обрекай себя заранее. — Пуля, сказано, дура. Она не разбирает. — Нехорошо это! — не слушала его Натаха. — Со смятой душой на такое не ходят. Не гнись загодя. Этак скорее до беды. — Ты откуда знаешь, что у меня? — А кто ж должон знать? Касьян отложил лопатку, полез в карман за кисетом. Долго молча вертел-ладил неслушную самокрутку. И всё это время Натаха тяжёлой горой стояла над ним, ждала чего-то. — Гляжу я, — лизнув языком по цигарке, сумрачно вымолвил Касьян, — вроде как не чаешь туда спровадить. Ещё и повестки не видела, а уже сумку сшила. — Ох, дурной! Ну, дурной! — Натахины глаза замокрели, она потянула к лицу край фартука. — Дак как же язык-то твой повёртывается этакое сказать? Побойся совести! Господи… Она отвернулась, угнула голову. Подол её выцветшего платья мелко подрагивал. Отёчные щиколотки взопревшей опарой наплыли на края запылённых башмаков. Его полоснуло внезапной жалостью. Сболтнул, конечно, напрасное. Дак ведь и сапоги оставлял не из жадности, ей и оставлял, понимать бы надо. — Ну, будя, будя, — виновато проговорил он. — Я не гнусь. Откуда это взяла? Натаха не отвечала, утиралась передником. — Не стану ж я песни кричать? А что выпало, то моё, на чердак не поглядываю. Мне, поди, тоже обидно такое слышать — не гнись. — Ох, Кося… — выдохнула она давившую тяжесть. — Ну, сказано, будя. Я и так казнюсь: они вон идут, а я ещё доси тут… — Вот и ладно, — обернулась она. — Так и держи себя, не послабляйся. И нам будет через то легче. А уж ежели что, дак сапоги твои нам не утеха. — Так-то оно так. А всё же не бросайся, девка, — пытался урезонить Касьян. — С чем остаётесь-то? Вон в закроме дно видать. А из колхоза то ли будет чево… А то пуда два за сапоги возьмёшь — тоже не лишек. — А мне мало за тебя два пуда! — Натаха снова всхлипнула, содрогнулась всем животом. — Мало! Слышишь? Мало! Ма-а-ло! — Да охолонь ты, не ерепенься! Не знай, как подопрёт. — И слушать не хочу! — Закусив губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень. — Пойдёшь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ! Касьян растерянно глядел на дегтярку, потом молча встал, пнул с приступка оставшийся сапог, открыл амбар и снял со стены новые. Натаха тоже молча ушла, оставив выбежавшего во двор Митюньку, и, как только она скрылась в сенцах, оттуда с заполошным кудахтаньем, перепрыгивая одна через другую, посыпались куры, а вслед им вылетел берёзовый окомелок. — Новые так новые, — передёрнул плечами Касьян. Ожидая Никифора, он вместе с Митюнькой возился во дворе: смазал и подвесил сапоги в тенёк под амбарной застрехой, досёк табак и, заправив его тёртым донником, набил добрую торбочку. Потом принялся за хворост, перерубил чуть ли не весь припас и сложил под навесом. Никифора всё не было, и он, подвострив топор, взялся дорубливать остальное. Время от времени Натаха, высовываясь из растворенного окна, уже ровно, примирённо выкрикивала: — Кося! Табак готов ли? Давай-ка сюда, буду пока собирать. Или: — Митюня-я! Ты не брал ли карандашика? Папке надо. Письма нам будет писать папка. А я никак не найду карандашика.13
Пришла с лугов, толкнув рогами калитку, корова Зозуля — в чёрном чепраке по спине, будто внапашку от духоты и зноя. Корова сытно взмыкнула и, покосившись на сапоги, повтягивав ноздрями расплывшийся дегтярный дух, протяжно выдула из себя негожее снадобье. Потом, сама источая парной запах переваренной зелени и накопленного молока, пощёлкивая, будто новой обувью, начищенными травой, ещё крепкими копытцами, не спеша, домовито побрела по двору, принюхиваясь и приглядываясь ко всякой мелочи. Вскоре мимоходом набрёл Лёха Махотин — в новой синей рубахе с косым воротом, опоясанный узким кавказским ремешком, уснащённым, ровно выездная сбруя, мелкими бляшками. Чуб у Лёхи вороными кольцами, чёрные глаза маслено щурятся — навеселе мужик. Лёха размашисто, точно год не виделись, шлёпнул по Касьяновой ладони. — Ну как, шлемоносец? Снарядился? — Да подь ты… Уже приклеили. — Ладно тебе! И шуткануть нельзя. Чего делаешь-то? — Да вот… — Касьян кивнул на выложенную стенку дров. — Хоть на первое время. — Давай кончай, теперь уж не напасёмся. Бери Наталью да айда ко мне, посидим напоследок. Касьян оглянулся на недоприбранную порубку. — Дак лучше ты ко мне. С Катериной и приходи. — Чем же лучше? У тебя, гляжу, тоже никого. А я сейчас за тёткой Апронькой да за Михеем сбегаю да и сядем. Михей своих двух ещё теми днями отправил, дак теперь всё на задах стоит, мается один. — Нет, Лексей, спасибо на добром. Сам гостей жду. Малого послал за Никифором, с минуты на минуту должны. — И Никифора бери, всем хватит. — Нет, Лёха, нет. Ты уж прости. Не тот день, чтоб из дому уходить. Сам понимаешь. С тобой мы ещё и завтра свидимся, и потом. Глядишь, не разлучат, вместе будем. Последние часочки дома надо побыть. Может, зайдёшь, выпьем моей? — Да чего уж… Всю по дворам не перепьёшь. Ну, раз так — бывай! Пойду к Зяблову заверну. — Дак и он не пойдёт. Не тот день, говорю… — Вот чёрт, никого не докличешься. Э-эх, раскувшин с простоквашей… Сверкая сатиновой спиной, Лёха шагнул к дворовому окну, боднул головой занавеску и шумливо гаркнул: — Здорово, Натальюшка, душа любезная! Здравствуй, тёть Фрось. Дайте на вас в последний разок погляжу. Ну, Наталья, ну, молодец! Эка рясна!.. Я-то? Спасибо, спасибо… А тебе благополучного третьего, богатыря-селяниновича… Не-ет, тёть Фрось, ничего не бойся… Да уж постараемся, бабоньки, постараемся… Придём, тёть Фрось, куда мы денемся… Ну, прощевайте! Не поминайте лихом, ежели что не так… Кивнув ещё раз Касьяну, Лёха, возбуждённый этим беглым разговором, вышел задней калиткой, и там, под вишенником, вырвалось у него растроганным всплеском:«Родной брат Касьян Тимофеич. Кланяется тебе твой родной брат Никифор Тимофеич и Катерина Лексевна. А притить мы не можем, со всем нашим удовольствием, а нельзя. Завтра я призываюсь, так что притить не могу, нету время. Серёжка твой говорил, тебя тоже берут. Тогда пойдём вместе. Только возьми своего табачку и на меня. Твой табак добрый. Одно жалею, не увижу матушку нашу, Хросинью Илинишну. Пусть обо мне не убивается. А если пойдём шляхом мимо Усвят, то, может, наведаюсь попрощаться. А так у нас всё хорошо, все живы-здоровы. Твой родной брат Никифор Тимофеич».Касьян так и этак повертел сахарную бумажку. До сей минуты ему и не мнилось, что Никифора тоже призовут. Он был на восемь годов старше Касьяна. Правда, после него народились ещё два мальчика, а уж потом сам Касьян-четвёрт. Но те умерли ещё в младенчестве, и остались Касьян да Никифор, как две вереи, между которыми зияли никем не подпёртые эти восьмилетние разверстые ворота. Никифор ещё в первый год женитьбы отошёл от двора, обжился в Ситном на тестевой земле, как раз к тому времени умершего, да и остался там за хозяина. И вот, оказывается, и его берут, старшого. Мать теперь и вовсе разгорюется. Обвыкаясь с этой новостью, Касьян устранённо смотрел на Сергунка, всё ещё стоявшего перед ним с холщовой сумкой и со своим ивовым пропылённым скакуном. Мальчонка отмерил на нём в оба конца вёрст двенадцать, даже немного осунулся лицом, но глаза его распахнуто голубели от исполненного поручения. — Дак чего там дядя Никифор? Готовится? — Куда готовится? — не понял Сергунок. — На войну. Куда ж ещё? — Не-е! — зазвенел голоском Сергунок. — У них там никакой войны нету. — Как это нету? — Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить. — Так… А тётка чего? — А тёть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала. — Сергунок поддал сумку спиной. — Ага… Ну ясно… А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истикалась: нету и нету. — Ну дак дядя Никифор на речке был! — обиделся Сергунок. — А когда пришёл, вот это написал и велел передать. Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью: — Молодец. Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своём топтании по дому, уже обряженная в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до неё не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись. — Ну-к што ш… — обронила она, помолчав. — Тади садитесь обедать. И, ссутулясь, тенью побрела в катаных опорках на кухню, оставив за собой тягостную тишину. Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс или, как Матюха Лобов, наголо обстрижен. «А они-то идут, идут…» — опять напомнил он одними глазами. — Это твоё, Кося, — почему-то шёпотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым. — Проверь, что не так… Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и ещё какие-то узелки и свёртки. — Табак там? — спросил он о самом главном. — И табак, и спички — десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке — нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи… — А в сумке что? — Сухари. Про всякий случай. — Куда столько всего? Благо ли носить? — Носить — не просить, Кося. Лишком и поделиться можно. — Пап! — Сергунок дёрнул Касьяна за брюки. — Пап, а ножик не забыл? — Какой ножик? — не сообразил Касьян. — Складничек который. — А-а… Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку. — Так уж и быть, это тебе. — А ты? — не решился принимать Сергунок. — Как же на войне-то без ножика? — Бери, бери. Отца вспоминать будешь. Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог. — А бритву я пока не клала, — напомнила Натаха. — Ты сперва побрейся, покуда соберём обедать. И на-ка надень вот это. Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила ещё к маю, — чёрную с частым рядом белых пуговиц. Касьян послушно достал из-за ходиков завёрнутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно, старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, ещё пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томлённая на сковороде картошка, жёлто заправленная яйцом миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую — отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе. Не каждый день на стол выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была — вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданного празднества. И было слышно, как они возбуждённо перешёптывались: — Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму. — Какой? — А вона. Который самый зажаристый. — Ага-а, хитленький! — А кто в Ситное ходил? — Ну и сто? А я в магазин зато. — Ох, даль какая. Небось мамка несла? — Как дам… — А во — нюхал? — А ты… а ты Селгей-волобей. Селый! Селый! — А ты Митя-титя. — А зато мне кулиную лапку, ага! — Прямо, тебе! — А сто, тебе, сто ли ча? Всё тебе да тебе. — И не мне. — А кому за? — Это папке курицу. Папка на войну идёт, понял? Когда вырастешь большой, пойдёшь на войну, тади и тебе дадут. Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну. — На-ка, кормилец, почни, — сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол. — Не знаю, удался ли… Ребятишки притихли, оборвали свои пререкания. Бессчётно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал или стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе. Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его белодымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жёсткие руки, измозоленные верёвками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав её белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами — по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому. Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую ещё не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынчепредстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, — и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях. Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал: — А ну-ка, сынок, давай ты. — Я? — встрепенулся Сергунок. — Как — я? — Давай, привыкай, — сказал Касьян и положил перед ним ковригу. От этих отцовых слов мальчик опять пунцово пыхнул и, всё ещё не веря, не шутит ли тот, смущённо посмотрел на хлебный кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой. — Давай, хозяин, давай, — подбодрил его Касьян. Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжёлую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож. — А как… как резать? — нерешительно спросил он. — Ну как… По едокам и режь. Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьёзнев и как-то повзрослев лицом, но всё ещё полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с лёгким хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца, так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно, откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитав едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой, серединный кусок и взглядывая то на отца с матерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу. — Это тебе пап. — Сначала матери следовало б, — поправил его Касьян. — Учись сперва мать кормить. — Тогда уж первой бабушке, — сказала Натаха. — Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый. В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила: — Отцу, отцу отдай. Нам ещё успеется, мы — дома. — Ничего, — сказала Натаха, — всему научится. Давайте ешьте, а то лапша простынет. Нате-ка вам с Митей по куриной ножке. Ох, что ж это я! А про главное и забыла… Оделив ребятишек, Натаха принесла из кухни бутылку и поставила её перед Касьяном. — Что ж это Никифор-то? — сказала она. — А то и выпить вот не с кем… — Ох ты, осподи… — вздохнула бабушка и уставилась на лежавший перед ней ломоть хлеба, забылась над ним. Натаха, взглянув на свекровь, тихо обмолвила: — Ну да что теперь делать? И нам к нему не бежать. Оно и всегда: радость — вместе, беда — в одиночку… А ты, Кося, выпей. Авось умягчит маленько. Между тем, пока обедали, а заодно и ужинали, подкрались сумерки. Долог был для всех нынче день, а и он прошёл, и бабушка, внеся самовар, запалила лампу. Сразу же после чая Митюнька забрался к бабушке на колени и, не доев пирога, прижимая его к щеке, обмяк в скором ребячьем сне. Перебрался, прикорнул к бабушкиному плечу и засмиревший, набегавшийся Сергунок, и та недвижно сидела, терпеливо оберегая сон своих внуков. Ещё перед обедом выпив полстакана водки, Касьян заткнул остальное и составил бутылку со стола. Пить больше некому было, а одному не хотелось, не любил он прикладываться в одиночку. Но и та малость как-то сразу нехорошо ударила в голову, заклубила прежнее, уже передуманное, переворошённое. Со вчерашнего Селиванова застолья он больше ничего не ел ни утром, ни днём, но и теперь, едва схлебнув малость горячего, отложил ложку и закурил. — Да ты выпей, выпей-то как следует, — сама понуждала Натаха. — Глядишь, клин клином и вышибешь. Да, может, и поешь тади. — Не тот это клин, — отмахнулся он. — Да и завтра вставать рано. Так и сидел он, подпершись рукой, одну вслед за другой зажигая цигарки, лишь иногда словами обнажая непроходящие думы: — Слышь, а корову, что б там ни стало, а побереги. Без коровы вам край. — Да уж как не понять, — кивала Натаха. — Родишь, а то мать прихворнёт, — ежли трудно будет на первый раз обходиться с коровой, к Катерине сведите. Опосля пригоните. — Ладно, поглядим. И ещё через цигарку: — А паче с сеном заминка выйдет, лучше амбар продать, а сена купить. Уже при сонных ребятишках Натаха принесла сумку и молча принялась перекладывать в неё приготовленное на сундуке. Касьян глядел, как она сперва затолкала бельё, всякую нескорую поклажу, сверху положила съестное, а саму ковригу приспособила плоским поддоном к спине — чтоб ловчее было нести. — Не забыть бы чего, — проговорила она, оглядываясь. — Табак… бритва… Кружку я положила… Должно, всё. — Про то в дороге узнается, — отозвалась бабушка. Встряхнув раздавшуюся сумку, Натаха затянула шнурок и набросила лямочную петлю. И, завязав, безвольно опустила руки, притихла перед белым мешком с вышитыми на уголке буквами. — Да! Вот что! — вскинул голову Касьян. — Возьми-ка ножницы, состриги мне с ребят волосков. Натаха выжидательно обернулась. — Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говорено: давай в город свезём, карточки сделаем. И твоей вон нема. — Дак кто ж знал… — повинилась Натаха. — Разве думалось. — Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику. Она принесла из кутника ножницы и расстелила на столе лоскут. Сергунок и не почуял даже, как щёлкнуло у него за ухом… Сероватая прядка ржаным колоском легла на тряпочку. Митюнька же лежал неудобно, зарылся головёнкой в бабушкину подмышку, его пришлось повернуть, и он, на миг разлепив глаза и увидев перед собой ножницы, испуганно захныкал. — Не бойся, маленький, — заприговаривала Натаха. — Я не буду, не буду стричь. Я только одну былочку. Одну-разъединую травиночку. Папке надо. Чтоб помнил нас папка. Пойдёт на войну, соскучится там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митины! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну, вот и всё! Вот и готово! Спи, золотце моё. Спи, маленький. И ещё один колосок, светлый, пшеничный, лёг на тряпочку с другого конца. — Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, пряменький, — Серёжин. А который посветлей, колечком, — Митин. — Не спутаю. — Я их заверну по отдельности, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митин, а какой Серёжин? — Да не забуду я. Ещё чего! Натаха долго, вопрошающе посмотрела на Касьяна. — А меня? Касьян глянул, ответно вспахал лоб складками, не поняв, о чём она. В своей новой, просторно и наскоро сшитой кофте цветочками-повителью, нисколько не сокрывшей её несоразмерной и некрасивой грузности, а лишь ещё больше оказавшей нынешнюю беспомощность, с маленькой для такого тела округлой головкой, к тому же ещё и простовато причёсанной, туго зашпиленной позади роговым гребнем, она в эту минуту показалась Касьяну особенно жалкой и беззащитной, будто сиротская безродная девочка. — На и меня, — повторила она, засматривая Касьяну в глаза. — Что — тебя? — переспросил тот, всё ещё не понимая. — Отрежь… — понизив голос, моляще шепнула Натаха и, выдернув гребень, тряхнула рассыпавшимися волосами. — Или тебе не надо? — Дак почему ж… — проговорил он и, вставая, не сразу выходя из застольного оцепенения, смущённо покосился на мать: содеять такое при ней ему было не совсем ловко. Но та сидела по-стариковски застыло, склонившись над Митюнькой, в рябеньком платке; тёмные руки, опутанные взбухшими венами, сцепленно обнимали приникшее ребячье тельце, и он сдержанно прибавил: — Давай и тебя заодно. Натаха протянула ему ножницы и, будто на добровольное отсечение, покорно склонила голову. — Погоди… Так вот и сразу… — А чего ж ещё? — Дак где стричь-то? — Неловко распяленными пальцами, скованными грубой силой, он боязно разгорнул мягкие, ещё совсем детские подволоски над шейными позвонками. — Тут, что ли? — А где хочешь, — нетерпеливо отозвалась она. — Ну дак как… Ты ж не дитё. Остригу, да не там… — А ты не бойся, — пробился её жаркий шепоток сквозь завесу ниспадавших волос. — Где понравится. Везде можно. Касьян осторожно, подкрадливо поддел под одну из прядок ножничное лезвие и сам весь стянуто напрягся, почувствовав, как Натаха от неловкого-таки щипка вздрогнула нежной, не загорелой на шее кожей. — Дак и хватит, — сказал он, взопрев, словно выкосил целую делянку. — А хоть бы и всю остриг. — Выпрямившись, она обеими руками отбросила волосы за спину и, словно вынырнув из воды, встряхнула головой, через силу засмеявшись. — Все и забери. Я и в платке до тебя похожу, монашкой. — Буровь. — Касьян положил выстриженный завиток на середину тряпочки между Митюнькиным и Сергунковым. Натаха потом удивлялась своему хвостику, сохранившемуся в этом её тайничке от прежней детскости, который и сама отродясь никогда не видела и который, оказывается, почти ничем не отличался от Митюнькиного, разве что был поспелее цветом. — Теперь и не спутай, — сказала она. — Дай-ка я свои узелком завяжу. Как глянешь — узелок, стало быть, я это… Касьян не ответил, потянулся под стол за бутылкой и, налив себе ещё с полстакана, не присаживась, отвернувшись, выпил. — Ну ладно, — объявил он, утёршись ладонью, и забрал со стола кисет. — Кажись, всё… Холодно обомлев, поняв, что приспел конец ихнему сидению, конец прошедшему дню и всему совместному бытию, Натаха робко попросила, хватаясь за последнее: — Поешь, поешь. Что ж ты её, как воду… — Чегой-то ничего не идёт. — Ну хоть чаю. Ты и пирожка не испробовал. Твои любимые, с горохом. — Да чего сидеть. Сиди не сиди… Пошёл я. Потоптавшись у стола, оглядев растревоженную, но так и не съеденную ни старыми, ни малыми прощальную еду, он нерешительно, будто забыл что-то тут, в горнице, вышел. Натаха, как была с распущенными волосами, не успев прихватить их гребнем, проводила его померкнувшим взглядом, не найдясь, что сказать, чем остановить неумолимое время. Поздняя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно тёмным, и глаза не сразу обвыклись, не сразу отделили от земли белые груды притихших гусей и неясное пятно беспокойно вздыхавшей под плетнём, должно, ещё не доенной коровы. Но сразу, ещё с порога, учуялось, как в паркой ночи разморённо, на весь двор, дышали дёгтем подвешенные сапоги. Не зажигая спичек, Касьян ощупью пробрался к саням, разделся и залёг в своё опрохладневшее ложе. Но сразу уснуть не смог, а ещё долго курил от какого-то внутреннего неуюта, немо слушая, как само по себе шуршало сено и похрустывал, покрякивал перестоялыми на дневной жаре стропилами сарай, как разноголосо встявкивали собаки, наверно, в предчувствии скорой луны. И как сквозь собачий брёх где-то на задах, скорее всего на Кузькином подворье, ржавыми замученными голосами орали:
14
Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльями, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомли, — так тяжек и провален был сон, простёршийся б до полудня, если б не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха уже в который раз, привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая: — Пора, Кося, пора, родненький. — Ага, ага… — бормотал он одеревенелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впитывая в себя последние минутки сна, бессильный пошевелиться. — Вставай! Глянь-ка, уже и видно. — Счас, счас… — Тебе ж к лошадям надо, — шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки, не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморённым, всё забывающим сном. — Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел… — Ага, к лошадям… Она послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжёлым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не понимающие, младенчески отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живинка, ещё не вспугнутая осознанием предстоящего, ещё теплившая в себе одно только минувшее — её, Натахино, умиротворяющее в нём присутствие. — Уже? — удивился он свету, не понимая, как же так, куда девалась ночь. — Уже, Кося, уже, голубчик, — проговорила она, спуская босые ноги с саней. И он, наконец осмыслив и бивший в чуть приоткрытые ворота тёплый утренний свет, и Натахин тревожный шёпот, приподнялся в санях. — Сколько время? — Да уж солнце. Седьмой, поди. — Ох ты! Заспался я. — Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево. — Сразу и курить. Выпей вон молока. — Ага, давай, — послушно кивнул Касьян, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника. Он принял от Натахи ведро и через край долго, ненасытно попил прямо в санях. — Во! — крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и всё в нём свинцовело от прерванного сна, на душе, однако, уже не было прежней тошнотной мути, и он попросил озабоченно, будто собираясь в бригадный наряд: — Подай-ка, Ната, сапоги. Потом, поочерёдно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянками ноги в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам ещё в одних только брюках и нижней рубахе, урывками говорил: — Я с тобой не прощаюсь… Ещё свидимся… Натаха присмирело глядела, как он обувался. — И детишек не колготи… Пусть пока поспят. — Ладно… — Потом приведёшь их к правлению… Поняла? — Ладно, Кося, ладно… — Часам к девяти. Мать тоже пусть придёт… Он встал, притопнул сапогами: ноги почувствовали прочную домовитость обужи. — А вдруг там больше не свидимся? — думая над прежним, сказала она поникшим голосом. — Куда я денусь, — кинул он и вышагнул из сарая, на ходу набрасывая вчерашнюю чёрную рубаху. — Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку. — Дак что ж, в дом не зайдёшь? — Натаха следовала за ним, держа под шеей стиснутые ладони, будто ей было холодно. — Больше ведь не вернёшься… И не поел на дорогу. — Когда теперь есть… — проговорил он, торопко застёгивая на рубахе мелкие непослушные пуговицы. — Покуда туда добегу, да там… — Ну как же… С домом хоть простись… — Дак ещё ж, говорю, свидимся. В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку — и всё, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог ещё по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последнюю трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколько старую мать. Ребятишки — ладно: поцеловал бы сонных да и пошёл, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошёл в дом, весь внутренне напряжённый и стянутый. Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свёртки. И Касьян, глядя на её согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чьё-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-то чужой, не признававший Касьяна. — Ну, мать, пошёл я, — негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном и видом смягчить и облегчить ей это прощание. Нынешней ночью она, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо её ещё больше обрезалось, жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначили очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему своё: — Хотела найтить… Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек… — Потом, мать, потом… — перебил Касьян. — Идти надо. Побег я. — Побег? — повторила она за Касьяном, всё ещё странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи. — Уже и пошёл? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собою… Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало. Да как же это пошёл? Деток не повидавши… Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе… — Не надо бы их, — попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог. — Я пока на конюшню токмо. Опосля ещё свидимся. — Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитёв, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! — Она подхватила на руки младшего, всё ещё никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего её на бабушкино плечо. — Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюжа. Придёт ли опять… И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришёл в себя и, ещё ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька. — Ох, да голубчики мои белы-ы… — наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. — Да сыночки ж вы мои последнии-и… Глядя на неё, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги, подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя. — Ох, да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а, — раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка. — На то ль берегла-а… на чёрну да на бяду-у… — И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг, в плаче же, запросила-запричётывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о… Не молчи, не томись, каса-а-тик… Да нешто не видишь, горя какая наша-а… Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки. — Да что ж ты не плачешь, упорна-ай… Пожалей, пожалей свово батюшку-у… Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить… Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдёрнул с гвоздя пиджак. И уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком. — Ну всё, всё! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. — Наталья! Будя, сказано! Бежать надо. Перетянутый лямками по чёрному пиджаку и чёрной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом. — Сядьте, посидим, — объявил Касьян. Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели. И стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды… Пытаясь всё закруглить по-доброму, не дразнить больше слёз, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой: — Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем. Сергунок, хмуря белопёрые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлёпнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни. — Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян. — Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну дак и уступлю тебе всё своё. Избу вот… Струмент всякий… Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А? Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот всё ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти. — Подойдёт время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая? Чтоб знать наперёд, понял? — Он говорил случайное, не зная, что ещё наказать непонятно затворившемуся мальцу. — Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой… Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы. — Да чего с ним сдеялось-то? — охнула бабушка. — Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырём молчать? Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет… — Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он… И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. — Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. — Ну, ступай к мамке, ступай! Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слёзы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала ещё до этого дня в одиноком своём запечье. — Ну дак пора мне, — опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. — Миром живите. Поочерёдно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенёта отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нём, топча её сапогами, крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке. И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли: — Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, папка-а-а!.. Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов, — крутился вёртким вьюном, бил-колотил ногами, тянул к нему руки. — Папка-а! Я с тобой! Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать, и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради бога!» И он поспешно рванул калитку. И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго ещё настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья: — А-а-а…15
Всё это время, готовясь к последнему дню, наперёд казнясь его неизбежной надсадой, Касьян всё же мыслил себе, как пройдёт он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя, оттого что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо изб, ворот и палисадов. С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту… Но пришёл этот день, и бежал Касьян задворьями, обрывая сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветья июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На Полевой улице, против Кузькиной избы, оглядываясь назад, на Сергунков крик, едва не угодил в какую-то ямину, вырытую рядом с тропой, и не сразу понял, к чему она тут, для чего она Кузьке. И лишь когда попалась и другая, и третья, — вспомнил, что и сам вырыл такую же под своими окнами, когда собирались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтели взрытой глиной почти против каждой избы, и он, обегая их, с неприятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом, негоже, нехорошо оставлять заготовленную яму, зиявшую против двора. Всё равно теперь некому будет ни ставить столбы, ни тянуть проволоку. На Селивановом свёртке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегчённо перевёл дух. Под потным обручем картуза запалённо бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, не нашёл своего двора за сокрывшими его соседними садами, да особенно и не вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что наконец обрезалась пуповина и он теперь сам по себе, с одной только своей ношей. Деревня в этот уже не ранний час была затаённо нема и безлюдна: все, кому предназначалось идти, ещё досиживали своё по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, ещё только подходили к прощальной маете, бабьему крику, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочную улицу, свернул в заулок. На всё том же конторском выгоне, в полуверсте от деревни, вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина — под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошёл уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя. На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их ещё никто не разбирал и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штанах Пашку Гыгу. Дед Симака, поджав плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка Гыга, присев на корточки, с детским любопытством заглядывал в чёрную дегтярную дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахи висело на бечёвке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья. Пашка Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул было с плеча ружьё, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь. — А мы тут мажем… Чтоб немец не услыхал, — доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул. — О, глянь-кось! Вот он, воитель! В полном соборе! — обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна. — На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки. — Уже смазаны, — сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги. — Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет. Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чёботы — пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нём была не та — мелким пшенцом по блёкло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая. — А Ванюшка-то Дронов ещё вчерась надвечер улепетнул, — сообщил он со свежей утренней бодростью. — Один, да пеший. Да-а… Побёг, побёг, соколик… Заглянул я к ему перед тем — молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди и тамотка, тридцать вёрст отсчитал по прохладцу. А то небось уж и в ашалоне едет. — Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет, — сказал Пашка Гыга. — Иди сюды, иди сюды — пальцем, гы-гы-гы. — А ну! — повёл бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться. — Выправь-ка лучше телегу на выезд. Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место. — Двух извозов хватит ли? — спросил дедушко Селиван. — С полета мужиков ежли? — Хватит. — Дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жёстких бровей. — Хватит и двух — не на Азов поход. — Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? — весело поинтересовался дедушко Селиван. — Выбирай любых, напоследок проедешь. — Всё едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили? — А то как же, — степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды. — Засыпали, засыпали овсеца, — уточнил дедушко Селиван. — Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану. — Овёс бы поберегли. Не зима — всем овёс травить, — заметил Касьян. — Теперь сыпь, да оглядывайся. — Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты. — Это наладится, — покашлял дед Симака. — Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришёл, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо, хоть вон Павел попить привёз. Его жидкие восковые щёки, беспорядочно иссечённые годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днём и ночью — прихварывал старик, маялся грудью. — Позавчёры стучит в окно Дронов, — сказал он, откашлявшись. — Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам всё одно где топать — дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну да я сам и поговорю с которыми. — Дак и я пособлю чего-нито, — отозвался дедушко Селиван. — Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим. — И распорядительно крикнул: — Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать. Пашка, сняв ружьё и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке. — С сеном нонче разор, — проговорил дед Симака, уставясь в землю. — Ладно, ишшо дожжей нет… Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошёл не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял ещё не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и тёса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стоял чужой незнакомый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Надо всем этим, под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем, торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесённые дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жильё, но пока здесь было мусорно и неуютно, и всё это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка Гыга. За высокими перегородками, так что были видны одни только стёгна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян тихо, будто чужой, прошёлся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой всё с тем же чувством своей отторженности, и когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошёл к ней поглядеть напоследок и попрощаться. — Данька! Данька! — позвал он ещё издали. Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот её теплый молочный окрас, за всю её девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была нестарушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел её в безлюдный угол займища, сплёл себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал её в Остомле, отчистил белым речным песком и ещё раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником, привёл во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова — молоком, а конь — работой. Опробовать бы надо…» — «Спробуем, как не спробовать, — радовался Касьян. — Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок, — ладил в самый раз по кобылке. Всё у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завёлся в Усвятах колхозец и стал поперёк всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придётся вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но всё ж для себя нашёл он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нём, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конём на общий котёл. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать — так и нечего голову морочить… Хорошо ему, Прошке, фигу показывать — сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невесёлую картину, как кто-то чужой запряжёт его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задёргает вожжами, заорёт матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережёт не своё, думал он тогда. И, подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конём и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты всё ультиматумы ставишь? — вскинулся тогда Прошка-председатель. — Пан-барон нашёлся, понимаешь!» Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания — как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом — вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенёс и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернёт с поля коня с потёртой холкой… За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Чёлку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил её с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле — подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он её по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось, — Пчёлка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка — красота с огнём пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно — откуда… Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчёлке, чтоб ещё больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчёлку вот-вот заберут… Были у него и ещё коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестёрки — всякие, но Данька шла по особь статье: своя лошадь. Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька — три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной, — от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит — видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на неё седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от неё редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочнотоплёного конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное — получались они и самой мельче. Какие-то нелады у неё с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезть в грязь. Оказалось, лошадёнка-то без старания, норовом себе на уме — лишнего не положи, в паре без кнута валёк не натянет, а чуть что — и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своём хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берёт, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету… И всё ж любил её Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только холил, да чистил, да глядел на буланую шёрстку. Между тем мужики брали её в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали её, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут — молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернётся кобыла на конный двор, а на пыльном гузье — свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнёт рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И, жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче… Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки. — Данька, Данька! — позвал он ещё раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади. Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в её сомкнутом сизогубом зеве. — Это я! Али не видишь? — поспешил удержать её взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, ещё не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик. — Эк поспешает! — обиделся Касьян. — Успеешь ещё, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день. Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы — «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху написал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву. — Ну дак чего… Пошёл я… — растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. — Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведётся. Овсеца-то. Без меня теперь будешь. Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня. — Ну не буду, не буду… Твоё теперь дело: кто дал — у того бери, кто ударил — тому беги, — проговорил он, неудовлетворённо, с обидой отступая от лошади. — Ну, бывай!Пошёл я… Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней, застарелой болячкой, и, отступаясь от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах — каждый против своей лошади, — подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжёлую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаённо следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз. — A-а, это ты! — обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошёл бы, не попадись тот ему на глаза. — Ну, как ты тут, а? Живой? Касьян шёл к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок. — Узнал, а? Узна-ал! — растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь. Он подошёл и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно. — Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овёс рушат. За ухи не оторвёшь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать… Сколь болячек повымазал… Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну. — А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овёс вон подчистили… Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости… Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался… А ты дак не забыл — помнишь! Вот, вишь, как оно… Наговаривая всё это, Касьян в который раз сокрушённо шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зёрнышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одёжу, всё повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно. — Как же я, а? Нету, нету ничего… Забыл начисто. И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер. — Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток… Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку. — Ну как же нет? Вот же… — бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от неё закраек. — На-ка, друг, испробуй солдатского! Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря, — не по чести, — заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истёртыми до дёсен негодными резцами. И, так и не откусив, вобрал всё в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело туркающую челюсть в одну сторону, в другую… — Ешь! — подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено ещё кусок. — Худо твоё дело. Кабы не война, дак, может, ещё б пожил промеж других. А то, вишь, война… Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но ещё выглядел крепким, богатым конём в серых морозных яблоках. Привёл его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашёл его Подпряхин аж в девятнадцатом году в Ключевском яру в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху — Касьян тогда мальчонкой был — ходили конные сотни, секли друг дружку, — то белые налетят, то красные, — и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь всё едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его тёмность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конём грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошёл край. — Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни… Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше… Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги. Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая чёлка рассыпалась по её шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета тёмно-сливовый зрак с отражёнными в нём квадратиками противоположного окошка. Под её боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, ещё не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами. — А-а, Варвара! — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах. — И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же… На, на, матушка. Тебе да не дать… Он и ей обрадованно отщипнул кусок и ещё поменьше протянул жеребёнку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жуёт. — Экий дурак! — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышлёныша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обострённый ко всему, то горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова обращаясь к Варе, говорил: — Тебя с дитём на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру, — тех подберут. Дак и Пчёлку, само собой… Ласточка с Вегой в извоз патроны возить або пушку. Куда ни назначь — добрая пара. Дак и Ясень… А Пчёлку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит — не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мёд. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остаётся. Эх, кругом разор! То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навострёнными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовой Ясень… Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверино, саданул в доски — не иначе Данька, ни с кем не уживается, подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а всё то же… На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошёл по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой. — Дядька Кося! — встал в солнечном проёме ворот Пашка Гыга. — Каких выводить? Которых? Но, увидев, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтём, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.16
Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока. Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с Богом! С Богом!» — остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану. Но ещё издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колёсным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блёклой непотребности. На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятнёй на порожках, Касьян догадался, что и Лёха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всём: и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети, — чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного, у коновязи одиноко и настораживающе стоял не здешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропылённый конь в тёмных, ещё не просохших подпотинах: кого-то он доставил казённым посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным вёрстам… Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте отобрать намеченных людей и доставить их в организованном порядке. А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой ещё недавно бежал и сам Касьян, всё шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недовыголосил дома, и теперь из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали всё те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то жёнки. Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошёл к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, красноязычил: — А всё ж должны мы ево уделать, курву рогатую. Хоть он и надеколоненный и колбасу с кофеем лопает, а — должны. — Ужо не ты ль? — подзадорил кто-то. — А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б…дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла! Лобов сдержал обещанное, пришёл-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обёрнутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги. Картуз он подсунул под гармонь и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовным интересом: коротали время. — Али пешки итить. Нате, мол, вам по полета вёрст. Ему полета и мне полета: кто поперёд добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных. В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то ещё чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармонией и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нём Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп. Касьян не всё слышал, что там ещё загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и, когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев. — Я солдат недорогой, — говорил он, оглаживая стриженую макушку. — Много за себя не спрошу, кофею не затребую: шинелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть воньливо, зато комар не ест… Три дня кухню не подвезут — ладно, сухарика из рукава поточу або гороху за окопом пощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать, — тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать — пужаный всяко. Не на того наскочил, халява. Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью. — Один на один да без ничего — это и я согласный, — отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок. — А то ведь, сказывают, на машинах он да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины… Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел своё: — Робятки! Слышите ль? Давайте пехтеря-то свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте складывайте. Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора, весело приговаривал: — Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя — и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Всё как есть к месту доставим. Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебирал пуговицы на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и её хозяин выдал скороговорицу: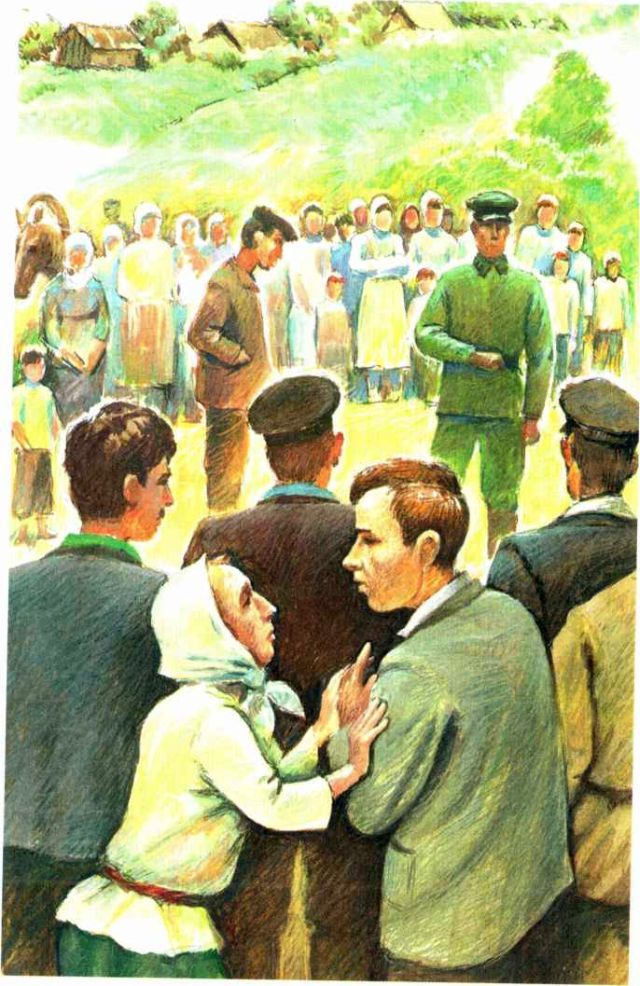
17
По тому, как уходило усвятское ополчение, пыля знойным просёлком меж ещё не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил своё необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде, сказывали старики, будто бы перед тем, как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной, не столь ранимой земле. Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшееся на ветру, ходившее косыми перевалами, то заплёскивая дорогу, то отшатываясь от неё обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья. Версту, а то и две провожали отряд бабы и ребятишки, толпой волоклись позади, глотали дорожную пыль, иногда забегая вперёд по тесной, заросшей полыном и осотом обочине, запинаясь о пашенные окраинные комья, прикрытые пустотравьем, чтобы сказать что-нибудь ещё или хотя бы взглянуть на своего суженого, отца или брата. Было душно и жарко идти рядом с колонной, занявшей собой весь узкий просёлочный коридор, тяжело топавшей и густо, непродыхаемо пылившей даже на этом вольном степном ветру. И только лейтенант, качавшийся в седле над мужицкими головами, обдуваемый этим ветром, ещё не успел пропылиться и тем смешаться со всеми. За ветряком, стоявшим на древнем могильном кургане, бабы, надорванные внутренней безголосой скорбью, начали отставать одна по одной, останавливались, махали сорванными с головы платками, что-то ещё докрикивая издали, или же молчаливыми изваяниями замирали среди поля. Лишь Лобова Манька долго ещё не поворачивала вспять. С гармошкой через плечо, которую она, облегчая Матюху, не хотела отдавать, сопровождаемая тремя босоногими девочками с испуганно-строгими личиками, безмолвно бежавшими за матерью растянувшимся выводком, она время от времени появлялась то справа, то слева от третьего ряда, где шагал, снявши картуз, Матюха, размашисто вышлёпывая своими лаптёшками. — Давай гармонь! — завидев жену, всякий раз кричал ей Матюха, пытаясь спровадить её домой, и, когда та опять не отдавала, поддерживая тем самым свою причастность к строю, он строго отворачивался, не хотел больше ни о чём говорить. — Ты иди, иди знай, — шурша по краю колосьями, выкрикивала она. — Али мы тебе мешаем? И снова молча шли, дружно, охотно по первым вёрстам, храня торжественность начатого дела, гукали и шлёпали сапогами, лаптями, ботинками, верёвочными чунями. — Ну ладно, прощай, Мотя! — наконец выдохнула Манька. — Глаза видят, а уже всё одно не наш. Прощай! Она на ходу сняла гармошку, передала крайнему новобранцу и, остановясь, дёрнув под горлом косынку, распахнув душу, крикнула своим девочкам: — Побегите, девки, побегите! Поглядите на отца ещё! А я уже не могу… И, пьяно сойдя с дороги, волоча по земле платок, ничком, как в бурную, невзгодную воду, пала в ходуном ходившее жито. Касьян, окликая с дороги отстававших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу, держась поодаль от колонны, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался ещё у конторы, обе, и мать, и Натаха, — без ног, на последнем пределе, куда ж им было ещё бежать, какие там провожанья. Взяв с собой ребятишек, всё время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний раз обходил лошадей, поправлял упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Всё, всё, Наталья! Мам, всё!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но ещё до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей: «Ну, сынки…» — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руки, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд. Обогнав Селиванову повозку, Касьян отпустил вожжи, лошади перешли на шаг, отфыркиваясь, радуясь недавнему бегу, и он полез за кисетом, чтобы в первый раз за всё утро покурить без спешки. Когда дорога очистилась от провожатых, дедушко Селиван, оставив своих лошадей идти самих по себе, подсел к Касьяну. Был он торжественно-возбуждён этим нарядом и всё время озирался, радовался езде, дороге, глядел, как плескались у колёс матереющие хлеба. — Ну, пошли наши! — воскликнул он, засматривая из-под руки на колонну. — Пошли, соколики! — Как там Кузьма? — поинтересовался Касьян. — А ничего. Храпит во все заверти. Часть мешков с Селивановой повозки Касьяну пришлось переложить на свою, а на высвободившееся место, на дно, уложили Кузьму. Уже перед самым отходом Кузьма, встрёпанный, с отёкшим лицом, вылетел вдруг из-за угла конторы, кинулся было в ряды, но его оттащили, и он, отпихиваясь, расталкивая мужиков, ударил кого-то, крича: «Кав-во? Меня не пущать? Да я вас…» Пришлось его связать, уложить в телегу и прикинуть плащом. Кузьма долго вертелся, пытаясь освободиться, выкобенивался и матерился, но потом его утрясло, и он, угомонившись, снова захрапел. Деревня ещё долго виделась позади, сначала кровлями, потом одними только купами старых тёмных ракит над светлой нивой, пока не перевалили за первый пологий увал, убравший за себя Усвяты, и только старый, за ненадобностью давно уже распятый ветряк всё ещё одиноко маячил среди поля, томя душу последним видением родимых мест. — Подтяни-и-ись! — покрикивал лейтенант, поворачиваясь в седле и оглядывая колонну. После часу ходьбы отряд заметно растянулся, пожижел рядами. Только самые первые ещё старались идти согласно, тогда как прочие мужики, толкая друг друга плечами от непривычки ходить нога в ногу в такой тесноте, уже давно сбились, потеряли шаг, а в хвосте и вовсе каждый топал сам по себе нестройной ватажкой. Но, несмотря на то, шли споро, со свежей размашистостью, будто стремились поскорее отбежать от Усвят, за пределы своей округи. Дедушко Селиван, поглядывая в их сторону, укоризненно прокричал Касьяну: — Гляжу я, никак не могут командой ходить! Нешто это строй — кто в лес, кто по дрова. Ещё и не шли, ветряк видать, а уже хвост волокут. Во, слышь, командир опеть «подтянись» кричит. Эдак и горла не хватит, кричать так-то. — А он пусть не кричит. Сердитый больно, — буркнул Касьян. — Командир-то? Не-е! Он нужное требует. Вы ведь, поглядеть, чурки сырые, неошкуренные. Командирское дело какое? Его дело задать шаг, швыдко али нешвыдко. А уж строй сам должон ногу держать, как задано. Тади и марш не уморён, и кричать командиру нечего. До настоящих-то солдат — ох ты, братец мой! — Как думаешь, — спросил Касьян, — ситнянские какой дорогой пойдут? На Размётное али на Ключевскую балку? — Какой же им резон на Размётное итить? Ясное дело — на Ключики. А чего? — Да Никифор мой должен пойти. — Ох ты! И его взяли? — Пошё-ёл! Да хотел повидаться… — Ну да перед Ключами Верхи будут, оттуда и поглядим. Ежели ситняки напрямки двинут, полем, как мы, дак с Верхов далеко видать. Человек не иголка, а целое ополченье и вовсе в поле не утаится. В прежние времена, сказывают, на теих Верхах сторожевая вежа стояла. — Это для чего? — Для догляду. Караулили, не набегут ли с дикого поля хангирейцы. Ежли что, дозорные люди сразу и подадут знать. Подпалят на верху вежи бурьян або хворост. А уж за Остомлей, за лесом, другая вежа была. Та потом себе дымить зачинала. Так аж до самых Ливен, а то и дале — дымы. Мол, татары идут, хангирейцы. Доедем до Верхов — глянем твоего Никифора, коли ситняки нонче выступили. — Дак и савцовские тоже сёдни идут. — Ага, ага… Стало быть, всех одним днём кличут. Тем временем кончилось усвятское поле, открылась пологая балочка, коих в этих местах — за каждым увалом. По дну лощины сквозь осочку и лозняк несмело пробивался только что народившийся безымянный ручей. Лейтенант свёл отряд до самого долу и тут остановил, объявил перекур. В логу стояла тишина, никем не топтанная трава медово млела под безоблачным солнцем, и там, в вышине, будто вечная музыка, совсем как весной, звенели и ликовали невидимые жаворонки. Долго ли шли строем, всего и одолели одно поле, но мужики, ровно малые дети, обрадовались привалу, и не столько самому отдыху, сколь возможности рассыпаться, разбежаться в разные стороны. Теперь можно было сесть, развалиться на бархатной травке, покурить в охотку, и всё это представлялось нежданным благом. Но все первым делом наперегонки, треща кустами, ринулись к ручью, вставали перед ним на колени, пластались на животы и пили, пили, зачерпывая пригоршнями и картузами или дотягиваясь губами до воды. Напившись, принимались плескать себе в пыльные лица, на потные загривки и, утираясь кто тем же картузом, кто подолом рубахи, благодарно поглядывали на лейтенанта, что, сидя поодаль от всех на старой кротовой кочке, покуривал свой «Беломорканал», придерживая в поводу жеребчика. В повозке застонал, завозился Кузьма, было видно, как он, вскидывая голову, бодал изнутри брезент. — Чего тебе, милай? — сдёрнул с него плащ дедушко Селиван. — Не жарко ли? Опутанный верёвками по рукам и сапогам, со сведёнными за спину посиневшими кулаками, Кузьма боком лежал на дне телеги со сложенными вдвое,подобранными под живот долгими, саранчуковыми ногами и, жмурясь от света, всем спалённым нутром не принимая дня и солнца, хватал и жавкал воздух сухими, спёкшимися губами. — Дак чего надоть? — переспросил Селиван. — Стешку мне… Степаниду… — Хе, когда хватился! — Дедушко Селиван отмахнул от Кузькиного носа невесть откуда налетевшую синюю муху, учуявшую дурное. — Проспал, проспал бабути. Да-алече теперь твоя Степанидка. — Сумка игде… — Дак и сумка при ней. С отрядом баба ушла. Утрёхала Степанида. Говорит, ежли мужик ружья держать неспособен, то нехай печь топит, ухватами бренчит. А я, дескать, за него, за негожего, сама на немца пойду. Да и пошла вот. Кузьма метнул кровяным заспанным глазом, должно, не в состоянии набрякшим умом понять, шутит ли Селиван или же бает чего похожее… — Ладно тебе… — А чего — ладно? Ладно-то чего? Рази это ладно, ежли баба заместо мужика оборону держать идёт? Завтра, глядишь, и присягу со всеми приймет. Перед полковым знаменьем стоять будет. Дак а чего? Со Степанидой всё станется. Как погрозится, так и сделает, мешкать не подумает. Твою бабу токмо штыку обучить, дак она какого хошь немца упорет. Вот, вишь, какое твоё нехорошее положение. Кузьма, налившись синюшной, перепорченной кровью, задёргал плечами, силясь одолеть верёвки. — Развяжи, слышь… — потребовал он. — Э-э, нет, братка! В этом я не волен. Не мною ты сужен, не мной и в узлы ряжен. Это уж как обчество. Его проси. А ежели охота по-маленькому, дак и так можно. Телега — не корыто, вода дырочку найдёт. — Пусти, говорю… — клокотал горлом Кузьма. — Дак опамятовался ли? Вспомнил хоть, за что тебя? Не за то, что кого-то там ударил, а за то, сук-кин ты сын, что сраму не знаешь, в святое дело на четверях ползёшь. Кузька молчал, сопел в чей-то мешок, подсунутый ему под голову. — То-то же… — И, обернувшись, старик крикнул Касьяну: — Как думаешь, Тимофеич, время ли отпускать орла-сокола? Не порхнёт ли куда не след? Касьян подошёл к телеге, оценивающе оглядел похмельем измятого, полуживого Кузьму и молча потянул конец верёвки под его коленками. Орёл-сокол, однако, не только не вспорхнул после этого, но, попробовав было перелезть через грядку и так и не сумев приподнять себя, оброненно осел на дно телеги, проговорив лишь пришибленно: — Попить дайте… Касьян отцепил ведёрко, притороченное к задку Селиванова возка, сходил к ручью и подал Кузьме напиться. — Ох, гадство, — потряс тот головой и, окончательно сморясь от воды, потянув на себя дождевик, упрятался от бела света и всего сущего в нём. Меж тем дичком глядевшие поначалу мужики, теснившиеся друг к дружке в щемящем чувстве бездомности, особенно остром на первых отходных вёрстах, мало-помалу начали прибиваться к лейтенанту. Рассаживаясь по извечной деревенской неназойливости в некотором отдалении, большей частью — за его спиной, чтобы не мозолить глаза своим присутствием, и поглядывая, как тот уже по второму разу закурил «беломорину», они и сами лезли за баночками и кисетами, как бы выражая тем своё молчаливое расположение. В них самих всё ещё саднило, болело деревней, ещё незамутнённо виделись оставленные дворы и лица, стояли в ушах родные голоса, стук в последний раз захлопнутых калиток, и, не ведая, чем притушить эту неотвязную явь, невольно тянулись к сидевшему поодаль лейтенанту, послеживали за каждым его движением. Неосознанно нуждаясь в его понимании и сочувствии, они, как это часто бывает в разломную минуту с глубинно русским человеком, сами проникались пониманием и сочувствием к нему — одинокому в чужих полях, среди незнакомого люда, и только ждали, чаяли минуты, чтобы протянуть руку товарищества и братства на начатой вместе дороге. И первым, бродя поблизости, делая вид, что интересуется щавелём, подошёл к лейтенанту лёгкий на всё Матюха Лобов. — Товарищ лейтенант! Давай конька попою. Пристал на жаре конёк. Матюха безбоязненно подшагнул под лошадиную шею и, взяв коня под уздцы, сочувственно погладил горбатое переносье. — Щас, милай, щас, — заговорил он с лошадью, осыпанный по стриженой голове конской гривой, и лейтенант, задержав взгляд на Матюхиной рассечённой губе, улыбчиво обнажавшей зубы, снял с руки повод, и молча бросил его Лобову. — Дак ты и сам помойся, — обрадовался поводу Матюха. — Сними, сними рубаху-то. Чего ж в ремнях сидеть. И ноги ополосни, побудь босый. Глянь, травка-то какая. — Времени нет полоскаться, — отозвался тот. — Пора выступать. — Дак ить это ж недолго. Минутное дело. А хоть сюда ведро принесём. — И, не дожидаясь ответа, кивнул мужикам: — Эй, ребята, неси сюда воды. Товарищ лейтенант умываться будет. Сразу двое подскочили бежать за ведром, но дедушко Селиван и сам догадался, что к чему, проворно сбежал вниз и зачерпнул по самую дужку. Видя, как Давыдко перехватил у старика ведро и уже мчал с ним по пригорку, лейтенант привстал и расстегнул поясной ремень. — Ладно, давайте, — сказал он. — И в самом деле жарковато. Он обнажил себя до пояса, наклонился перед Давыдкой, и тут все вдруг увидели на его левой лопатке сизый, напряжённо стянутый рубец в добрую четверть. Занесённое было ведро повисло в воздухе, и лейтенант, не понимая, в чём дело, отчего мешкают, нетерпеливо поторопил: — Лей, кто там… — Дак можно ли? — оторопело спросил Давыдко. — Это чегой-то у тебя на спине? — А-а! — засмеялся согнувшийся лейтенант. — Давай валяй. Давыдко осторожно, тонкой струёй прицелился в лейтенантову шею, боясь попасть на страшное место. — Лей, лей! — ободрял тот. — Поливай, не бойся. — Чем это тебя, товарищ лейтенант? — Было дело, — гудел сквозь струи лейтенант, радостно отфыркиваясь. — Хасан это… Озеро Хасан… — Не болит? — Болело б, так не служил бы. Рана ведь неглубокая, по кости только чиркнуло. — Вот это дак чиркнуло! — с уважительной опаской таращились на рану мужики. — Эко боднула костлявая! Чуть бы что — и, считай, лабарет. — Ничего! — крякал лейтенант. — Зато мы ему тоже всыпали. Долго будет зализывать. У кого-то в сумке нашлось и полотенце — побежали, принесли долгий самотканый рушник с красными мережками, и, утираясь им, раскрасневшись от каляного суровья, лейтенант просиял белозубо: — Хороша водица! Спасибо, товарищи. Мужики польщённо оживились. — Водица тут редкая, это верно. Из мелов бежит. А ты из каких мест? Где родина-то? — С Урала я. Тагильский. — Так-так… Мать-отец есть? Живы ли? — Отца давно уже нет. Белоказаки расстреляли. Чего-то там в депо сделали, их и сцапали, восемь человек. Завели в пустой вагон, там и постреляли. А вагон потом сожгли… А матушка жива. И две сестрёнки. Уже б должна пойти на пенсию, да вот война, теперь не знаю как… Пока утирался, а потом надевал гимнастёрку и застёгивал ремни, был он в эти минуты прост и доступен свежим, умытым лицом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, и мужики радовались этой обыденности, до той поры таившейся под строгостью армейской фуражки. — Товарищ лейтенант, на-ка покури нашего домашнего, — Матюха Лобов протянул свёрнутую газетную книжечку. Он уже сводил командирского коня к ручью, и теперь тот пасся неподалёку на нехоженом склоне. — Да погоди ты с махоркой, — перебил дедушко Селиван. — Человеку, может, перекусить охота. А ну, несите-ка, чего у вас там. — А и верно! — вскинулись мужики. — Что ж это мы… — Нет, нет, — запротестовал лейтенант и достал свои часы-луковку. — Время выступать. Предписано сегодня же прибыть на сборный. — Поешь, поешь, сынок, — настаивал дедушко Селиван. — Тебя как звать-то? — Александр… Саша. — Ну дак, вишь, и зван по-нашему. А по-нашему такое правило: хоть ты генерал будь, а от хлеба-соли не отказывайся. А по-солдатски и того гожей устав: ешь без уклону, пей без поклону. Я солдатом тоже бывал, дак у нас так: где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лёг. За спасибо чина не прибавляют. — Ну, отец, от тебя, видать, и ротой не отбиться! — засмеялся лейтенант. — Была б причина со мной войну затевать, — тоже рассмеялся дедушко Селиван. — Неси самобрань, робяты! Какое время за хлебом потеряно, то вдвое в дороге нагонится. И конь, говорится, не ногами бежит, а овсом… Тем временем Лёха Махотин принёс свою дорожную торбу, развязал ей хобот и принялся выкладывать припасы на разостланном рушнике — разломил смугло обжаренную курицу, высыпал пригоршню пирожков, достал свежих огурчиков, редиски. Мотнулся к своему припасу и Матюха Лобов и под одобрительный перегляд мужиков бережно, чтоб не расплескать, выставил на рушник голубенькую кружицу с белым на боку цветочком, чем и вовсе привёл лейтенанта в смущение. — Давай, товарищ лейтенант, — сказал он, почтительно отступая в сторону. — На здоровьице. — Ну это уж вы зря… — смутился лейтенант. — Честное слово… — Да чего там! — загомонили новобранцы. — Экое дело выпить перед едой. Выпей да закуси. — Ну ладно, раз так. — Лейтенант поднял кружку. — За что выпью, так это за нашу победу. — Вот это верно! — дружно одобрили мужики. — Давай, товарищ лейтенант. Чтоб ему, Гитлеру, пусто было. — Ни дна ему, ни покрышки. И всем почему-то сделалось радостно оттого, что их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего уха. — Ужли не победим? — ухватился за слово Никола Зяблов, подбивая лейтенанта на больной разговор. — Побьём, ребята, побьём, — спокойно сказал тот. — Дак и я говорю, — подхватил дедушко Селиван. — Не всё серому мясоед. Будет час, заставим и его мордой хрен ковырять. — Правильно, отец! — захохотал лейтенант. — Это точно! — Сколько уже замахивались на Россию, — ободрённо продолжал Селиван, — а она и доси стоит. Уже тыщу годов. Эвон какое дерево вымахало за тыщу лет: шапка валится на верхушку глядеть. — Насчёт дерева это ты, отец, хорошо сказал, — кивнул лейтенант. — Нам бы ещё немного заматереть, каких пяток лет, тогда ни один топор не был бы страшен. — Это б хорошо, — поскрёб под картузом Никола. — Да сучья, слышно, уже летят… — Ничего! — сказал лейтенант. — О сучья ведь тоже топор тупится. Покамест до главного ствола дело дойдёт, и рубить будет нечем. Нам, товарищи, главный ствол уберечь, а сучья потом снова отрастут. А за те, что порублены, он ещё поплатится. Мы из них ему крестов наделаем. — Что и говорить, к главному-то стволу его никак не след допускать, — сказал Никола. — Уж коли само дерево падёт — конец и всем его веткам. — За тем и идём, — баснул Афоня-кузнец, лежавший особняком под кустом конского щавеля. — Выбьем, выбьем у него топор, товарищ лейтенант, — покряхтывая, подал голос Матюха. Кривясь от цигарки, дымившей под рассечённой губой, он взялся перематывать ослабленные на онуче завязки. — Не всё-то одним нам в ус да в рыло, будет ему и мимо. Брехня! Ежели скопом навалимся, всё одно передушим. Нам бы только техникой помочь, а мы сдюжаем. Я их, падлу, не пулей, дак зубами буду грызть. Я им покажу деколон. — В каких частях служил? — поинтересовался лейтенант. — В разных. Три года пехота да три ещё кое-где… На спецподготовке, — засмеялся Матюха. — Между прочим, тоже на Урале. Только на Северном. Выходит, вроде как земляки с тобой. — Понятно. — Так что топором и я обучен махать, — уточнил Матюха и, встав, потопал лаптями, попробовал, ладно ли обмотался. Поблагодарив за еду, лейтенант достал пачку «Беломора», протянул её в круг. Мужики, смущаясь, бережно разобрали угощенье. — Дак а ты нашего тади дёрни, — предложил Лобов. — Знаешь, как в сельпе махорка называется? — Ну-ка, ну-ка? — Смычка! Ты нам «Беломору», а мы тебе нашей рубленки. Вот и посмыкуемся. — С удовольствием, землячок! — засмеялся лейтенант.18
Вскоре объявили построение. Матюха изловил и подал посвежевшего коня лейтенанту, и тот, оглядев из седла замерший строй, скомандовал к маршу. За ручьём начиналась чужая, не усвятская пажить; рядами разбегались и прыгали через узкое руслице на ту сторону, за первые пределы отчей земли, своей малой родины, иные при этом норовили макнуть напоследок руку, потом, опять сомкнувшись, одолели зелёный склон и, выйдя на дорогу, подравняли шаг. Касьян с дедушкой Селиваном, напоив лошадей, тронулись в объезд на жиденькую жердяную гатку. Дорога потянулась на долгий пологий волок, сливавшийся где-то впереди с дрожливым маревом. По обе стороны топлёным розоватым молоком пенилась на ветру зацветшая гречиха, и все оживились, войдя в неё, пахуче-пряную, гудевшую пчелой, неожиданно сменившую однообразие хлебов. За гречихой начались подсолнухи, уже вымахавшие в человеческий рост и местами тоже зацветшие, и было светло и как-то празднично идти среди этих ярких золотых цветов, терпко пахнувших лубом, повёрнутых, как один, к полуденному солнцу. И вообще, отдохнув и малость пообвыкнув в строевом ходу, шли легко, без изначального скованного напряжения, уже не вздрагивая от окрика лейтенанта, который в низко насунутой фуражке, подстёгнутой под подбородком ремешком от встречного ветра, ещё недавно казался в своём седле чем-то вроде ниспосланного рока, глухого ко всему и неумолимого в своей власти. Теперь все знали, что зовут его Сашкой, что, как и у всех у них, есть и у него где-то мать, что сам он, в сущности, неплохой компанейский малый и что в его полевой сумке вместе со списками новобранцев лежит пара Лёхиных пирожков с капустой, которые уговорили взять на тот случай, если захочется пожевать в седле. Помнилось и о том, что под его гимнастёркой на левой лопатке сизым рубцом запеклась не очень давнишняя пулевая рана, и в строю поговаривали, что не худо бы с ним, уже понюхавшим пороху, идти не до одного только призывного, а и дальше. Чтобы так вот всех, как есть, не разлучая, определили б в одну часть, а он остался бы при них командиром. И когда лейтенант время от времени поворачивался в седле, опершись рукой о круп лошади, оглядывал колонну и зычно, со звонцой кричал «подтяни-и-ись!», все уже понимали, что покрикивал он не от какой-то машинной заведённости и недоброй воли, а оттого, что, стало быть, кто-то там и на самом деле замешкался и поотстал, закуривая или отбежав до ветру. И лишь однажды, когда взошли на самый гребешок и дальше дорога должна была покатиться долу, лейтенант рассерчал не на шутку, потому что строй вдруг без всякой причины сбился с шагу, затопал разноногим гуртом, мужики, притушая ход, заоглядывались, и по колонне прошёлся какой-то возбуждённый ропот. Ехавший позади отряда Касьян, заговорившись с дедушкой Селиваном, едва не врезался дышлом в последние ряды. — На-аправляющий! — гаркнул лейтенант. — Сты-ой! Колонна приостановилась, и командир, упрятав глаза под посверкивающий козырёк, поворотил коня в хвост отряда. — В чём дело? Что за базар? Мужики виновато отмалчивались. Лейтенант обогнул колонну и, подвернув к повозкам, как бы пожаловался дедушке Селивану: — Ведь только что отдохнули, покурили, чёрт возьми! Ещё и трёх вёрст не прошли. — Дак вона, командир, причина-то! — Дедушко Селиван ткнул кнутовищем в обратную, уже пройденную, сторону. — Туда гляди! С увала, с самой его маковки, там, позади, за ещё таким же увалом, бегуче испятнанным неспокойными хлебами, виднелась узкая, уже засинённая далью полоска усвятского посада, даже не сами избы, а только зелёная призрачность дерев, а справа, в отдалении, на фоне вымлевшего неба воздетым перстом белела, дрожала за марью затерянная в полях колоколенка. А ещё была видна остомельская урема и дальний заречный лес, синевший как сон, за которым ещё что-то брезжилось, какая-то твердь. Глянул туда и Касьян и враз пристыл к телеге, охолодал защемившей душой от видения и не мог оторваться, хотя, как ни силился, как ни понуждал глаза, не разглядел ни своего двора, ни даже примерного места, где должно ему быть. Но всё равно — вот оно, как ни бежали, как ни ехали. Ещё и ветер, что относил в ту сторону взволнованные дымки цигарок, долетал туда за каких-нибудь три счёта и вот уже кудрявил надворные вётлы, курил золой, высыпанной под откос из ещё не остывших печей, трепал ребячьи волосёнки и бабьи платки, что ещё небось маячили кучками на осиротевших улицах… — Чего ж не сказали? — глухо проговорил у телеги лейтенант, поглядывая на повернувшихся мужиков. — Разве я не понимаю… — А что они тебе скажут? — Дедушко Селиван поддел кнутовищем под козырёк, поправил картуз. — Вот сичас зайдут за бугор — и весь сказ… А там уж пойдут без оглядки. Холмы да горки, холмы да горки… Лейтенант с места наддал коню, рысью обогнал смешавшуюся молчаливую колонну и, привстав в стременах, уже сдержаннее выкрикнул: — Ну что, ребята? Пошли, что ли? Или вернёмся? — Пошли, товарищ лейтенант! — отозвался за всех Матюха. — Тогда — разбери-и-ись! Ши-а-го-о-ом!.. Но в остальном, исключая это маленькое недоразумение, отряд продвигался споро, не задерживаясь, минули и одно, и другое угорное поле, один и другой дол с садовыми хуторами и в третьем часу вошли в Гремячье, первое большое сельсоветское село. Следовало бы сделать передых, но решили в селе не останавливаться, не муторить народ, а идти до Верхов и уж там уединиться и перекусить без помехи. Гремячье занимало оба склона распадка с мелкой речушкой между глядевшими друг на друга улицами. Колонна пересекла село поперёк, с горы на гору, и, пока шли ложбиной, на виду у обоих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропылённых мужиков. — Чьи, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону. — Усвятские! — выкрикнули из рядов. Старик трудно, опершись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку. — Кто ещё через вас проходил, отец? — спросил Давыдко. — Того часу Никольские пробёгли да хуторские, — оповестил старик. — А ваши пошли-и? — Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одне галицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ. — На Верхи верно ли правим? — На Вёршки? Дак вон они, за нами и будут. — И уже вослед крикнул больным, надрывным голоском: — Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знамё-он! — Постоим, отец! Постоим! — Тади лёгкого поля вам, лёгкого поля! Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой. За гремячьей околицей привязалась собака — полугодовалый волчьей масти кобелёк, ещё плоский, большелапый, с никак не встающим на зрелый манер левым ухом. Кобелёк поначалу долго глядел на уходившую колонну, потом вдруг сорвался, нагнал и, то робея и присаживаясь, то обнадёжив себя какой-то догадкой, опять догонял и озабоченно продирался подступившими к дороге овсами. Время от времени он привставал зайцем на задних лапах и проглядывал отряд с переменчивой тоской и надеждой в жёлтых сиротских глазах. — Иди домой, милый, — крикнул ему Матюха. — Нету тут никого твоих. Но кобелёк не послушался и долго ещё шуршал овсами, выбегал позади на дорогу и в поджарой стойке тянул носом взбитую пыль. И только когда лейтенант бросил ему пирожок, щенок, взвизгнув, шарахнулся от него, будто от камня, и постепенно отстал, запропал куда-то… Верхи почуялись ещё издали, попёр долгий упорный тягун, заставивший змеиться дорогу. Поля ещё цеплялись за бока — то просцо в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменёк, но вот и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди которых, красно пятная, звездились куртинки суходольных гвоздик. Раскалённый косогор звенел кобылкой, веял знойной хмелью разомлевших солнцелюбивых трав. Пыльные спины мужиков пробила солёная мокреть, разило терпким загустевшим потом, но они всё топали по жаркой даже сквозь обувь пыли, шубно скопившейся в колеях, нетерпеливо поглядывая на хребтину, где дремал в извечном забытьи одинокий курган с обрезанной вершиной. И когда до него было совсем рукой подать, оттуда снялся и полетел, будто чёрная распростёртая рубаха, матёрый орёл-курганник. Усвятцы, наезжая в район, редко пользовались этим верховым просёлком, хотя и скрадывавшим путь версты на четыре, но уморным для ездоков и лошадей, особенно в знойную пору. Чаще же ездили ключевским низом, по людным местам, прохладным и обветлённым, никогда не докучавшим пылюкой. Но всегда тянуло побывать здесь, на манивших горах, хотя за делами не всякий того удосужился. И вот занесло всех разом аж на самую маковку! — Правое плечо вперёд! — скомандовал лейтенант, и отряд свернул с дороги к подножию кургана. — Пере-ку-у-ур! Как ни упёхались мужики за долгий переход, но и пав ничком на жёсткую траву, каждый всё-таки лёг не как попало, а все до единого головой на восток, куда крутым овражным обрывом метров на семьдесят, а то и на все сто неожиданно обрезались Верхи. И открывалась отсюда даль неоглядная, сразу с несколькими деревеньками, нанизанными на блескучие петли Выпи-реки, с мельничным плёсом и самой мельничкой, бело кипевшей игрушечным колесом, с клубившимися левадами приречных ольх и ракит, россыпью коров во влажнозелёных лугах, мерцающих озерками и болотцами, с бугорками сенных стожков и сизыми капустными бахчами — всё это звалось той самой Ключевской балкой, питавшейся обильными ключами из-под Верхового уреза, было тем самым низом, по которому и проходила излюбленная дорога. А по-за балкой вновь поднималась, дыбилась холмами материковая земля, и дивно было глядеть сразу на всю эту уймищу хлебов, уходивших вёрст на пятнадцать вправо и влево. И ещё было дивно, что над всем этим — казалось, вот оно, только дотянуться рукой — неслось по ветру невесть откуда взявшееся одинокое облако, будто белый отставший гусь-лебедь, и тень от него, пересекая долину, мимолётно темнила то светлобелёные хаты, то блёстки воды, то хлебные нивы на взгорьях. А ещё выше, там, где царило одно только солнце, кружил в восходящем паренье тот самый старый курганник, что неслышной тенью сорвался с дремотных верхов. Так и не сойдя с седла, лейтенант вместе с конём остановился у самого края и долго глядел вниз с жутковатой высоты. — Да-а… — протянул он и, обернувшись к подъехавшим телегам, изумлённо спросил у дедушки Селивана: — Как же я утром этого не видел? — Дак ты, мил человек, в ста саженях мимо и проскочил. Эвон где дорога-то! — Пожалуй… А это что за курган? — А он завсегда тут был. Спокон веку. Может, кто насыпал, а может, и сам по себе. На нём и стояла дозорная вежа. Вишь, макушка срезана? Для того, видать, и сровняли, чтоб вежу поставить. — Ясно. Ну, а те откуда же шли? С какой стороны? — Татары-то? Дак тамотко и шли, по заречью. Гляди, во-он на той стороне по хлебам пыль курится? Это и есть ихняя дорога. Муравский шлях. Туда, туда, за Остомлю, а там уж и Куликово поле — вот оно. Тамотко и шли поганые. Дак и оттуда, с Куликов, тем же путём и бежали, кто суцелел. На Дон да по-за Дон, в свои степя. — Ребята! — вдруг подхватился Давыдко. — Дак ведь это, должно, ситнянские идут! — Где? — Да вон пыль! Касьян насторожился, принялся глядеть в заречную сторону. И верно, поле клубило долгим низким облаком. Людей было не разобрать, но хорошо виделись катившие позади две, не то три подводы. — Небось ставские, — предположил Лёха Махотин. — В самый раз ставцам быть. — Ох ты! Ставцы низом должны, им низом ближе. А это точно ситнянские. Кому ж ещё? — У меня там сродный должон итить, — сказал Матюха. — Так и не свиделись. — Дак и у Касьяна братан. Тоже не попрощался. Лёжа на краю обрыва, усвятцы наблюдали, как дальнее заречное ополчение медленно плелось меж телефонных столбов, и по этим столбам, забежав глазами вперёд, можно было догадаться, что колонна неминуче сползёт в Ключевскую балку — если не здесь, то где-то потом, за поворотом. — А что, братцы, ежли вдарить наперехват, а? — загорелся Матюха. — Им ведь всё равно за Верхами перебредать на нашу сторону. Они сюда, а мы — вот они! — Поесть бы сперва… — напомнил Никола Зяблов. — Ладно тебе! Токмо от стола. — Да где ж токмо? — Расшеперимся тут с сидорами, а они и пройдут. А встретимся — вместе и поедим. Да и пойдём заодно. Вместе куда веселей-то. Считай, в Ситном половина усвятской родни. Ну что, братцы? Как, Касьянка? Ты ж Никифора хотел повидать. — Я что — я на телеге. — Как командир поглядит, — вяло согласился Никола. Доложили лейтенанту. Тот внимательно посмотрел за реку, сказал, что если это действительно ситнянские, то их должен вести его хороший приятель, тоже уралец, лейтенант Фарид Халидуллин, и что он, в общем, не возражает против такого манёвра. Правда, некоторые были недовольны хлопотной затеей, но большинство обрадовалось повидать своих, и лейтенант снова объявил построение, добавив, что там, на перекрёстке, будет объявлен большой привал, можно будет распрячь лошадей, сходить на речку искупаться. Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну. Тем более что трава оказалась невелика, а главное, не было осточертелой пыли. Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется ещё какой-то отряд, и, судя по обозу, не маленький. Возникли толки, что, мол, не те ли ситнянские. Если они, то их уже не нагнать, а стало быть, и нечего пороть горячку. Но тут же кто-то усомнился, что для Ситного — деревни в сотню дворов, отряд, пожалуй, великоват и что те, первые, скорее всего из Размётного. И порешили, что ситняки всё же не те, а эти, ближние. — А и ладно! — обрезал споры Матюха. — Раз пошли, то чего уж гадать. Шире шаг, ребята! Идти так идти! В Селивановой повозке опять завозился Кузьма, высунулся наружу, сел, потёр кулаками глаза, и Касьян слышал, как тот спросил: — Где едем, батя? — Далече уже, служивый. По Верхам едем. — Ну-у? — не поверил Кузьма. — Вот это дак дали! — Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снях видел? — A-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который всё брехал: попрут, попрут, на чужой тератории бить будут. — А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлёпывая лошадей вожжами. — А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу. Так попёрли, аж сами на тыщу вёрст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут? — Ну дак ежли не попёрли, — передёрнул плечами Селиван, — стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрёшь. Не подстрелишь — не отеребишь. — Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма. — Ещё и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил: — «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла? — Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный. — А меня стращать теперь нечего, — огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны. — Дальше фронта не зашлют. — А на то я тебе так скажу. — Дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков: — Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдко, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием… А другой больше армии нету. И ждать неоткуда… — Чего это за армия? Капля с мокрого носу. — Э-э, малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идёт? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже Никольские прошли, размётненские… Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия! Дедушко Селиван шевельнул лошадей, морозно припискнул на них губами и вдруг, поворотившись, осведомился: — Ты что, Кузьма Васильич, никак оклемался уже? Дак тади, может, со строем пойдёшь? А то ведь этак прямо на губвахту можешь угодить. — Погожу маленько, — неохотно признался тот. — Башка чегой-то трещит. Закурить нет? — Закурить у Касьяна проси. Касьян, услыхав про себя, придержал свою пару. Разломанно кряхтя, Кузьма перевалился через край телеги и нетвёрдо, будто после затяжной болезни, поковылял к переднему возу. — Дай-ка курнуть, — потёр он зябко ладони. — Ты вот что… — Касьян потянулся за табаком. — Ежли голову уже держишь, лезь-ка сюда, за меня побудешь. — А ты чего? — С ребятами пойду. А то ноги онемели сидеть. На, держи… Касьян сыпнул в Кузькины дрожащие ладони жменю махры, бросил сверху свёртыш газеты со спичками и, на ходу надевая пиджак, побежал догонять ополченцев. — Давай сюда! — обрадованно крикнул Лёха. — А ну, ребята, пересуньтесь, дайте Касьяну место. Касьян пристроился с краю рядом с Махотиным, подловил шаг и затопал в общую ногу. И радостна была ему эта невольная забота о том, чтобы не сбиться, поддерживать дружный гул земли под ногами. — А гляди-ка, братцы! — возликовал Матюха. — Обходим, обходим этих-то! Ситников да калашников. Небось напехтерили сидора. Сичас мы вас уделаем, раскоряшных! Куда вы денетесь! Поглядывая на заречную колонну, неожиданно поворотившую от телефонных столбов на какой-то просёлок и явно косившую на переправу, усвятцы, подгоняемые замыслом, какое-то время шли с молчаливой сосредоточенностью, в лад шамкая и хрустя пересохшей в верховом безводье травой. Но вот Матюха Лобов, мелькавший в третьем ряду стриженой макушкой, пересунув со спины на грудь запылённую гармонь, как-то неожиданно, никого не предупредив, взвился высоко-звонким переливчатым голоском, пробившимся сквозь обычную матюхинскую разговорную хрипотцу:

Последние комментарии
2 часов 3 минут назад
6 часов 17 минут назад
8 часов 36 минут назад
10 часов 25 минут назад
16 часов 11 минут назад
16 часов 16 минут назад