Сколько стоит рекорд [Борис Маркович Раевский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

БОРИС РАЕВСКИЙ СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД РАССКАЗЫ
Читая эту книгу, ты как бы вновь побываешь на открытых всем ветрам стадионах, вновь ощутишь острую прелесть упорной борьбы на лыжне и на ринге, в бассейне и на футбольном поле. Главные герои этой книги — спортсмены. Но не только спортсмены. Есть в ней рассказы и о других людях, тоже сильных, мужественных и упорных.
 I. СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД
I. СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД
 ПЛИТКА ШОКОЛАДА
ПЛИТКА ШОКОЛАДА
Ольгу Гончаренко — трехкратному чемпиону мираОтель «Универсаль» — маленький и уютный. Обычно добрая половина его пустует. Но сейчас, накануне первенства мира, все номера были заняты. Только в двадцать втором — никого. Там когда-то отравилась приезжая, молодая француженка, совсем еще девочка. Ходили слухи, что с тех пор туда наведывается привидение. Шведы не так, чтоб очень суеверны, но на всякий случай… Едва советская команда поселилась в «Универсале», сам хозяин гостиницы — грузный, добродушный и не по-шведски говорливый — сообщил Олегу о тайне двадцать второго. Рассказывал со смешком, но притом с такими выразительными подробностями… Не понять: сам-то верит или нет? Олег весело предложил: — А давайте я туда переселюсь? Так сказать, в порядке антирелигиозной пропаганды! Но тренер Валерий Павлович нахмурился: — Не дури… Олег усмехнулся. Неужто и Валерий Павлович… на всякий случай?.. Мистеру Бергману, хозяину гостиницы, сразу пришелся по душе русский чемпион. Олег — высок и длинноног. Узок в талии, широк в плечах. Классический тип многоборца. Кто из шведов не любит коньков?! А мистер Бергман — да, да, не глядите, что он сейчас так толст! — мистер Бергман и сам в юности неплохо бегал пятисотку. Конечно, в свои сорок девять он уже забыл то удивительное, ни на что не похожее ощущение, когда послушные стальные ножи плавно и стремительно режут лед. Но болельщиком мистер Бергман останется до гроба. Болельщиком истинным, рьяным, отлично знающим всех сколько-нибудь приметных скороходов. Хозяин гостиницы словно бы прилип к Олегу Гореву. Стоило тому показаться — в коридоре, холле, возле стойки портье — мистер Бергман будто чудом оказывался тут же. Нет, никаких дел. Просто приятно побеседовать с прославленным скороходом. Они деловито и дотошно обсуждали шансы всех претендентов: и земляка мистера Бергмана — уже немолодого сухопарого Артура Стивсгруда, и самонадеянного голландца Макса Брюгге, и двадцатилетнего американца — «черную стрелу» — Боба Гриффитса. И многих других. И всегда разговор заканчивался одинаково. Мистер Бергман, дружески похлопывая по плечу Олега, гудел: — О, нет, нет! Дизэ ярэ, я хочу говорить, сегодняшний год — руссиш ярэ. Руссиш голд. Как это? A-а! Руссиш золото! Нет, нет. Это есть непременно. Бештимт. Они всегда так объяснялись: смесь исковерканного русского со столь же исковерканным немецким. Но как иначе? По шведски Олег знал лишь несколько фраз: «спасибо», «сколько сто́ит», «дайте мне, пожалуйста». Хорошо еще, что Бергман хоть чуточку говорил по-русски. …До начала первенства оставалось два дня. Вечером, после тренировки, Олег сидел в маленьком холле и листал журнал. Рядом, за цельнолитой стеклянной стеной, помещался бар. Там было пусто. Только возле игрального автомата стоял мрачный немолодой уже мужчина в замшевой куртке. Вскоре возле Олега оказался мистер Бергман. Посидели, поговорили. О том, о сем. Больше всего, конечно, о предстоящих стартах. Насчет первого места мистер Бергман не сомневался: его займет Олег. — Нет, нет, скромность — это есть хорошо, но слишком много скромность — это уже есть нехорошо! Кто месяц назад стал чемпионом Европы? Оло Горев! Кто на первенстве Советской России показал лучшее время года? Оло Горев. Нет, тут все ясно. А вот кто получит серебро и бронзу — это вопрос. Большой вопрос. И мистер Бергман, и Олег Горев называли нескольких претендентов. Но, к сожалению, не русских. Тут они оба были единодушны. Да, два остальных члена команды — Борис Зыбин и Борис Чулков — не могли рассчитывать на успех. В первенстве Европы «Два-Бориса-Два» заняли лишь пятое и восьмое место. А тут — первенство мира!.. Вспомнив Бориса Зыбина, Олег усмехнулся. Настырный парень! Перебрался-таки в двадцать второй номер. Как узнал о привидениях — сразу загорелся: хочу туда! Жили «Два-Бориса-Два» вместе, в одном большом номере. Зыбин заявил начальнику команды: тезка ночью храпит, спать мешает, переселите меня в двадцать второй. И добился. Наверно, просто из мальчишеской удали. Чтобы дома хвастать, как он с привидением запросто… Все, мол, струсили, а я… Что с Зыбина взять? Девятнадцать лет человеку. Мальчишка! — Храбрый юнош! — улыбнулся мистер Бергман. В холле, рядом с хозяином гостиницы, на пухлом ковре, как всегда, полулежал пес, холеный дог Билл. Рослый и сильный, худощавый, пепельной масти, он почти не отлучался от хозяина. Олег с детства любил собак. Вообще-то о детстве своем он старался не вспоминать. Отец исчез, когда Олегу и трех не было. А мать вечно под хмельком (на пивзаводе работала), вечно усталая и злая… И на судьбу свою, и на себя, и на Олежку, который ее, молодую, связывал по рукам и ногам. Рос Олежка на дворе. И одна отрада — охромевшая овчарка, которая однажды прибилась к худющему рослому мальчонке… С тех пор и полюбил Олег собак. И в «Универсале» сразу завел дружбу с Биллом. Гордый дог, не принимавший даже самых лакомых кусочков ни от кого из постояльцев, милостиво разрешал Олегу подкармливать себя. Вот и сейчас — Олег зашел в бар, хотел купить какие-нибудь сладости для Билла. Но мистер Бергман замахал руками. — Никаких покупать! Я есть дарю. Презент! Он взял со стойки самую большую плитку шоколада в яркой, красной с золотом, обертке и протянул Олегу. — Презент! — повторил он и галантно прижал руку к груди. Что было делать? Олег взял шоколад, поблагодарил. Беседуя с мистером Бергманом, он отламывал дольки от плитки и бросал Биллу. Тот ловил на лету, ел, щуря глаза от удовольствия. Мужчины посмеивались: Билл был сладкоежка и больше всего на свете любил шоколад. Между прочим, Олег Горев тоже был сладкоежка и тоже любил шоколад. Поэтому кормежка шла так: Олег бросал дольку Биллу и тут же клал другую себе в рот. Опять — Биллу, и опять — себе. Да здравствует справедливость! Мистер Бергман от шоколада отказался: надув щеки, похлопал себя руками по широким бедрам: мол, и так слишком толст. Но вот последний кусочек исчез в пасти Билла, Олег посмотрел на́ часы и встал. Тренер не терпел, когда нарушали режим. — Скорых секунд! — на прощанье пожелал хозяин гостиницы, будто Олег направлялся на старт, а не в кровать. — Благодарю! Олег ушел к себе. Номер был красивый и удобный, с широкой, как борцовский ковер, кроватью и с ванной. К хорошему привыкаешь быстро. И Олег Горев, конечно, тоже уже привык и к полетам на скоростных чудо-самолетах, где сидишь в удобном кресле, хотя лайнер делает тысячу километров в час. Привык к заграничным городам, большим и маленьким, к комфортабельным отелям, к овациям и своим фотографиям в газетах всего мира. И все-таки нет-нет да и вспыхивало в нем удивленье. Как это случилось? Он, самый обычный ученик столярного РУ № 7, до шестнадцати лет никогда не выезжавший за пределы своей Вологодчины, вдруг словно перенесся в другой мир. И все это сделали коньки. Вот и сейчас — он раздевался, и его снова объяло это изумление. Он, простой столяр, вон где, в Швеции. И его имя повторяют здесь сотни тысяч совсем чужих людей… Все-таки странная штука — жизнь! …Проснулся Олег среди ночи. Не сразу понял, что случилось. Сон страшный, что ли? Казалось, кто-то в бешенной ярости разодрал ему надвое живот и теперь грызет внутренности. Он открыл глаза, сел. Но сон почему-то не кончился. Наоборот, в животе так свирепо резануло, — Олег чуть не закричал. С трудом нащупав в темноте язычок выключателя, зажег свет. Несколько секунд посидел, прислушиваясь к самому себе. Вроде бы все в порядке? Да, в порядке. Что же это такое было? Наваждение какое-то… Или — почудилось? И вдруг — снова!.. Так кольнуло в паху — словно насквозь пронзило. Олег скрючился, схватился обеими руками за живот. Пот выступил на лбу. «Разбудить тренера? Нет, подожду. Может, само пройдет». Но оно не прошло. Через минуту — вцепилось крючьями и стало в бешенстве все нутро выворачивать наизнанку. Боль шла приливами. Олег подождал, пока очередная волна схлынула, накинул на плечи халат и, держась за стенку, босиком вышел в коридор. Валерий Павлович жил на том же этаже, слева, через два номера. Олег стукнул к нему и, не дожидаясь ответа, чувствуя, что в живот снова вонзился огромный бурав и ввинчивается, разрывая все там, внутри, — забарабанил кулаком. Он уже почти терял сознание, когда из номера выскочил тренер. — Что? Что? — вскрикнул он и, подхватив Олега, втащил его к себе. — Что? Говори же! Что? — тревожно повторял он, укладывая Олега на диван. Но что Олег мог сказать? Торопливо натянув пижаму, тренер выбежал в коридор и вскоре вернулся с Семеном Михайловичем — врачом команды. Тот измерил давление, прощупал живот, выслушал, выстукал Олега. — Рвоты были? — Нет. — Видимо, все-таки отравление. Съел что-то… — Врач сделал неопределенное движение рукой и пошел к себе в номер за лекарствами. Его диагноз подтвердился тотчас. Внизу, возле стойки портье, слышался шум. Мистер Бергман, полуодетый, взволнованно говорил с кем-то по телефону. Увидев советского врача, хозяин гостиницы бросился к нему. — О доктор! А в собак вы тоже немножко понимайт? О, мой Билл! Какой несчастье! Мой Билл хочет умирать! Узнав, что у доктора сейчас пациент поважнее Билла, хозяин всплеснул руками. — Оло?! О! Теперь я все понимайт! Это шоколад! Бештимт. Они вместе кушал один шоколад. Вероятно, так оно и было. Отравление шоколадом. Доктор сделал Олегу промывание желудка. Потом дал слабительное. Потом двойную дозу биомицина. Больному, кажется, немного полегчало. Он заснул, но спал недолго. На рассвете снова вспыхнула резкая боль в животе. Целый день Олег никак не мог прийти в норму. Доктор несколько раз осматривал его, снова давал биомицин, ввел глюкозу. Весь день Олег лежал, ничего не ел, только выпил стакан крепкого чая с двумя сухариками. Все в команде были подавлены. Завтра, в полдень — старт. И вот — надо же… К вечеру Олег почувствовал себя лучше. Он оделся, хотел даже спуститься в ресторан к ужину, но доктор не разрешил. Ночь прошла спокойно. Утром доктор снова придирчиво обследовал Олега. Вид у него был неважный. Ну, еще бы! Почти сутки — такие боли. И без еды. И усиленные дозы антибиотиков… Доктор поставил Олега на весы, постукивая ногтем, передвинул сверкающую гирьку по стержню и вздохнул: семьдесят четыре двести. А обычный вес Олега — семьдесят семь. Почти три килограмма долой! За один день!.. После осмотра доктор прошел к начальнику команды. Они заперлись втроем: начальник, старший тренер и врач. Спортсмены понимали — за дверью решают: выступать Олегу или нет? Не такой-то простой вопрос. С одной стороны, Олегу Гореву выступать совершенно необходимо: он — единственный советский спортсмен, имеющий все шансы на золото. С другой стороны, выступать Олегу Гореву категорически нельзя. После отравления он, конечно, не в форме. И, очевидно, покажет плохие секунды, осрамит и себя, и свои гордые титулы. Вот и реши!.. Олег Горев в это время играл с Борисом Зыбиным в шахматы. Это только называлось — «играл в шахматы». На самом же деле, сидя в холле и механически переставляя пластмассовые фигурки, он думал: «Выступать? Отказаться?» До старта оставалось всего каких-нибудь три часа, а он еще так и не знал. Выступать? Во всем теле не ощущалось обычной боевой окрыленности, взрывчатости. Правда, вчерашняя слабость прошла. Но осталась какая-то вялость, как после долгой бессонной ночи. Вялость и нерешительность… Это у него-то, у Олега Горева, нерешительность?! У него, которого друзья назвали «пушкой»? И даже завистники (их у любого чемпиона всегда хватает!) сердито говорили про него — «лихач»! И в этом «лихаче» смешивались и злость, и зависть, и скрытое уважение. У него нерешительность? У Олега Горева, который никогда не робел на дорожке и умел даже самому маститому, самому уверенному противнику навязать свой темп, свою волю, сбить с него спесь. Честно говоря, он был даже рад, что не ему сейчас решать. Стартовать или нет? Пусть начальники помучаются над этой милой задачкой с десятью неизвестными. Они — начальники — лысые, мудрые, опытные. Они — хитрецы, дипломаты. Вот именно! Пусть решают. А он — молодой. Он — исполнитель. Он — как прикажут… Сорок минут сидели, запершись в номере, руководители команды. Сорок минут тут же, неподалеку, в холле, переставлял шахматные фигурки Олег Горев. Наконец дверь негромко щелкнула и все трое — начальник, старший тренер и врач — вышли в коридор. Гуськом прошли в холл. Олег ладонью смешал фигурки и встал. «Ну?» Он переводил глаза с одного на другого. Он не знал, каких слов он ждет, чего хочет. Но главное — быстрее. Да? Нет? — Видишь, Олег, — сказал Валерий Павлович, — мы вот посовещались, поразмыслили. Голос у тренера был какой-то странный, неуверенный, непохожий на обычный властный его тон. Олегу этот колеблющийся голос сразу не понравился. «Ну?» — Положение, как сам понимаешь, сложное, трудное… «Ну же! Ну?» — И вот мы пришли к такому заключению… «Ну?! Да не тяни же!..» — Ты сам… Только сам можешь решить — надо ли тебе выступать… Теперь Валерий Павлович глядел прямо в глаза Олегу. — Все зависит от твоего внутреннего самочувствия. Мы предоставляем тебе полную свободу выбора. И знай: никто не скажет тебе ни слова упрека. Ни в том, ни в другом случае. Валерий Павлович остановился, поглядел на начальника команды, на врача. Словно спрашивал: все ли я сказал? И так ли сказал? Оба кивнули. — А теперь — подумай, — добавил начальник, и все трое гуськом ушли из холла. Олег так и остался стоять возле столика с разбросанными шахматными фигурками. «Вот так голова — два уха!» (Это была любимая присказка мастера у них в ремесленном.) Этого он никак не ожидал. Он был твердо уверен, что «начальнички» что-то решат. Так или иначе, но решат. А тут… Он ушел к себе в номер, сел у окна. «Итак…» Мыслей было много. Противоречивых. Разных. И за. И против. Чем больше он углублялся в них, тем больше запутывался. Как в подземных пещерах. Он однажды бродил в подземных пещерах. Чем дальше, тем страшнее. И тем труднее выбраться… «При чем тут пещеры?» — сердито одернул он себя. Хороших секунд, конечно, нынче не покажешь. В газетах пойдут охи да вздохи. Такой конфуз. А самый прыткий комментатор изречет: «Закат чемпиона»! Или так: «Недолгая слава». Да, что-нибудь в этом роде. Красивое и хлесткое. Не бежать? Обидно, конечно. Столько готовился. Но зато — без позора. Болен — и все. Болен — и точка. Зрители будут даже сочувствовать ему: бедненький, как не повезло!.. Он встал, походил по номеру, снова сел. «И все-таки… Если бежать — есть маленький шанс. Малюсенький. А вдруг — хорошо пройду? Вряд ли… Ну, а вдруг?» Он снова вскочил, забегал по номеру. «Да, шанс все-таки есть. Один процент. Нет, пожалуй, процентов пять. На злости. И на технике». Он задумался и вдруг увидел… Торжественный пьедестал. Три ступеньки. Три спортсмена. И ни одного — советского. «Вот тебе и голова — два уха!» Как же так? Три… И ни одного советского. Именно. «Борисы» — они не тянут. А он — он болен. Не участвует. И все. И конец. И тут же пришло решение. Ясное. Четкое. Черт с ним, с позором! Черт с ними, с журналистами и комментаторами! Надо стартовать! А вдруг… Ну, не золото, хоть серебро… Ну, хоть бронзу! Он глянул на часы. Ого, в обрез! А необходимо еще размяться. Быстро уложил чемоданчик, вышел в холл. Там его словно ждали. И начальник, и Валерий Павлович, и врач, и «Два-Бориса-Два». — Ну?! — сказал Олег. — Чего тянем-то?!
Бывают ли чудеса? Говорят, бывают. И в спорте — тоже. Миллионными тиражами распечатано в популярных брошюрках, как один лыжник, сломав лыжу, все-таки дошел до финиша и занял первое место; как гимнаст, тяжко раненный на войне, вернул подвижность своей искалеченной руке и вновь стал чемпионом. Значит, бывает… А может, и сейчас?.. Случится чудо? Так думали «Два-Бориса-Два», стоя возле дорожки, где брала старт очередная пара: Олег и швед Стивсгруд. Стадион насторожился, замер. Стадион ждал. Трибуны ведь не знали, что «русский Оло» вышел на лед полубольной. Стадион жаждал быстрых секунд. Недаром же про этого Оло писали: «новая звезда», «скороход № 1». И только стоящая возле дорожки небольшая группка русских понимала весь драматизм этих минут. Борис Зыбин топтался неподалеку от стартера, тревожный и возбужденный. Его черед бежать еще не скоро. «Ай да Олежка, — думал он. — Все-таки вышел на лед! И внешне вроде бы даже незаметно… Уверенный, как всегда. Одно слово — пушка!» И еще один человек на трибунах сознавал всю трагичность положения: мистер Бергман. Он очень переживал за «русского Оло». Полюбился ему этот парень. И кроме того, мистер Бергман отчасти чувствовал себя виноватым. Ведь это он в баре шоколад… Презент! Хорошенький презент! Правда, вообще-то виноват не он, не хозяин гостиницы, а фирма кондитерских изделий. И все же… Он потом узнавал. Отравление шоколадом — редчайший случай. Отравляются консервами, рыбой, мясом. Но шоколадом? И все-таки — бывает… Вот и его Билл. Целые сутки собаку терзали страшные боли. Еле спасли. А русские?.. Не подозревают ли они?.. Может, думают, что он нарочно?.. Подсунул шоколад… От этой мысли мистера Бергмана бросало то в жар, то в холод. О, он знал свирепые нравы «большого спорта»! Знал, что там делались штучки и похлеще. Неужели же русские предполагают, что он?.. Это было бы ужасно! И сейчас, на трибуне, мистер Бергман ерзал от беспокойства. Он никому не сказал о болезни русского чемпиона. О, мистер Бергман — старый спортсмен! Он знает: о таких вещах не распространяются. Молчок. Секрет. Противникам нельзя этого знать. Сухо щелкнул пистолет стартера, и не успел еще игрушечный хлопок выстрела домчаться до трибун, как скороходы рванулись вперед. Стадион взревел. Борис Зыбин на миг отвел глаза от дорожки. Зрители орали, выли, молотили кулаками по дощатым стенкам трибун. Басом рявкала какая-то труба, кто-то истерически вопил: «Артур! Артур!». Слева хором запели — не то молитву, не то гимн. Все знали: пятисотка — коронная дистанция «русского Оло». Он, конечно, обойдет Артура Стивсгруда. Но не это волновало сейчас болельщиков. Время? Какое время он покажет? Удастся ему выйти из сорока секунд? Об этом тревожился и Борис. Он видел: старт Олег взял хорошо. Казалось, его рывок слился с выстрелом. «О, здорово!» — Борис даже свистнул, лихо, по-разбойничьи. И тут же оглянулся. Нет, на него никто не обращал внимания. В этом диком реве можно было хоть мяукать, хоть кукарекать, все равно сосед не слышал соседа. Уже после первых двухсот метров Олег намного оторвался от шведа. Шел Олег резво и красиво. И болельщики орали, поддерживая симпатичного русского парня. И только истинные ценители видели: нет, не то. Что-то происходит с этим русским. Его бегу не хватает обычной мощности, напора, темперамента. И мистер Бергман, сжавшись от возбуждения в комок, сложив руки на груди ладонями вместе, будто он молился (а может, и впрямь молился?) — мистер Бергман тоже видел… Оло идет хорошо. И все-таки… Нет, не то… А Борис Зыбин словно не хотел замечать этого. — Работай, Олежка! — возбужденно шептал он. — Давай! Но вскоре и он с горечью убедился: нет, не то… И секундомеры холодно отметили: нет, не то. 42,2 секунды. Результат неплохой, но — не для Олега Горева. Обычно он укладывал эту дистанцию примерно в сорок секунд. Две секунды, две драгоценные секунды потеряны. А с ними — и все шансы на успех. Да, впереди у него еще три забега. Но, как у любого многоборца, у Олега были свои любимые дистанции. Те, где он особенно силен. И самая коронная — пятисотка. И вот, на тебе! Впрочем, все закономерно… Чудес на земле, видимо, нет.
Борис Зыбин, как только Олег финишировал, ушел в раздевалку. Он сидел в кресле, уже одетый, готовый к старту (он бежал в одиннадцатой паре и до забега оставалось минут пятнадцать). Сидел насупленный и тревожный. Да, он, как и все в команде, конечно, понимал: после болезни Олегу не показать хорошего результата. И все-таки… Все-таки где-то в глубине души Борис надеялся. Он уже так привык к поразительным победам Олега. И главное, знал его неистовое, фанатическое упорство… Борис видел, как похолодели, словно бы замкнулись изнутри, глаза Олега, когда он готовился к старту. Он как бы отключился. Наглухо отгородился. От всего. От громыхающих трибун. И рекламных щитов. И врагов. И друзей. Он весь сосредоточился на одном. «Поймать» выстрел… Борис видел — на дистанции Олег отдал все. Весь запас сил. До капли. И все же… «Да, вот обида!» Борис резко дернулся в кресле, даже пружины застонали. Всегда за границей, на состязаниях, рядом с Олегом, он чувствовал себя как за спиной отца. Да, как сын, пусть уже взрослый, но за спиной отца. Уверенно и спокойно. Отец не подведет. Отец не растеряется в самой трудной схватке. С отцом — все легко. А сейчас — словно ты один. Нет отца. И надеяться не на кого. Надо самому, только самому… Да, конечно, вся команда сейчас рассчитывает лишь на него. Все-таки он пятый в Европе. Он — пятый. А тезка — восьмой. Ясно? Кто теперь должен поддержать команду? …Он опять словно видел Олега. Вот — выходит на старт. И глаза его… Как бы задернутые изнутри. Отгороженные от всех. От всего. С каким яростным упорством, полубольной, бежал он, отдавая всего себя… …Борис глянул на часы. Пора. Он встал, вышел на лед. У дверей раздевалки стоял Олег. Лицо у него было желтое. Даже сейчас, на морозце, не порозовело. — Ну? — сказал Олег. Он посмотрел Борису в глаза. Потом положил ему руки на плечи. Видимо, хотел что-то сказать, что-то важное, очень нужное, но передумал. И лишь шепнул: — Голова — два уха, не дрейфь… На старт Борис Зыбин вышел в необычном состоянии. Он сам не мог бы сказать, что творится с ним. Все смешалось: и ярость, и обида за Олега, и восхищение его мужеством, и какая-то окрыленность, и лихая упрямая жажда — победить! Непременно. Может быть, это и зовется вдохновением?! Стартовый выстрел будто толкнул его в спину. Он рванулся, резко рубя коньками лед, все наращивая и наращивая скорость… Он плохо помнил, что было дальше, как он бежал. Он видел только — соперник сразу отстал. И слышал: болельщики почему-то орут и орут. Так орут и так дубасят ногами и кулаками по дощатым стенкам, — кажется, вот сейчас трибуны развалятся, обрушатся на лед. Его результат — 40,1. Неслыханные для Бориса Зыбина секунды! Он, кажется, сперва и сам не поверил. Но именно это время показал огромный электросекундомер в центре ледяного поля. Именно это время засекли и все три судейских секундомера. Эти удивительные секунды громко объявили репродукторы. И они ярко вспыхнули на световом табло.
Чемпионат мира кончился сенсационно. Прославленный советский конькобежец, чемпион Европы Олег Горев по сумме четырех дистанций занял всего лишь седьмое место. Это была «сенсация № 1». А «сенсацией № 2» стал Борис Зыбин. Вовсе не выдающийся скороход вдруг занял второе место. Серебряная медаль! Так бывают ли чудеса? Видимо, все-таки бывают! В газетах всего мира писали о «загадочном русском», о спортивном счастье, о том, что «лед скользкий» и прогнозы — дело весьма рискованное. А «загадочный русский», смущенно отбиваясь от целой стаи наседавших журналистов, не мог ничего толком объяснить. Неожиданной находкой для корреспондентов оказался мистер Бергман. Он подробно, с юмором, рассказал о злосчастной плитке шоколада. Теперь, после чемпионата, это уже перестало быть секретом. Рассказал он также, что Борис Зыбин жил в номере двадцать втором. Там, где привидения. Мистер Бергман предположил — то ли в шутку, то ли всерьез: а может, этот номер не заклятый, не невезучий, а наоборот — счастливый? И впредь тому, кто намерен стать чемпионом, следует жить именно в этом номере? Корреспонденты наперегонки строчили в блокнотах. И в вечерних выпусках газет рядом с фотографией Бориса Зыбина было напечатано о плитке шоколада и о двадцать втором номере гостиницы «Универсаль».

 СУДЬЯ
СУДЬЯ
Николай Михайлович Козаков — невысокий, плотный, с уже заметной лысиной — приехал на стадион почти за час до матча. Не торопясь, помахивая легким фибровым чемоданчиком, в котором лежала его спортивная форма, прошел под трибуну.
Возле нее, у входа в раздевалку, уже теснилась толпа заядлых болельщиков. Были тут люди очень разные: и мальчишки, и старики, и какой-то юнец в грязной тельняшке и в морской фуражке с «крабом», и сухопарый пожилой мужчина с длинными волосами, в пенсне, похожий на артиста, и статный полковник. Но всех этих людей что-то роднило. Это «что-то» трудно определялось словами, но оно было. Было во взглядах, загоравшихся, как только разговор касался «своей» команды, было в дотошной осведомленности не только о боевых качествах, но и мелочах личной жизни каждого, даже самого заурядного игрока. Было в специальных «болельщицких» словечках и в глубоко спрятанном, но неугасимом азарте.
Козаков за долгие годы судейства уже знал в лицо многих болельщиков.
Вот этот «артист», например, всегда сидит на Восточной трибуне, внизу, и орет — похлеще любого пацана. А этот вот солидный интеллигентный мужчина — наверно, инженер или врач — однажды в порыве возмущения швырнул вниз, на поле, свою велюровую шляпу.
«Ждут», — подумал Козаков, проходя в судейскую комнату, расположенную рядом с раздевалками.
На него болельщики почти не обратили внимания. Он уже привык: толпа встречала футболистов, судья ее не интересовал.
«Обо мне вспомнят, лишь чтобы заорать: «Судью на мыло!» — усмехнулся Козаков.
Что ж, давно известно, судьям не аплодируют, судьям только свистят!
В пустой судейской он неторопливо переоделся, сделал небольшую разминку. Да, как-никак, уже почти сорок. Судить становится не просто: за девяносто минут так набегаешься! Мысленно прикинул, сколько он пробегает за матч: получалось примерно километров двенадцать…
Правда, пока силенок хватало. Иногда, шутки ради, к восторгу дворовых ребят, он один поднимал задок «москвича».
Но все-таки сорок — это сорок…
В открытое окно доносились обрывки разговоров зрителей.
— Продуют тбилисцы. Наши-то на своем поле. А на своем — и стены помогают, — услышал Козаков.
— И судья свой, — подхихикнул другой голос. — Ежели что… подсобит…
Козаков, досадуя, покачал головой. Среди истинных болельщиков всегда терлись какие-то недоверчивые типы, непременно предполагающие закулисный сговор между командами, грязные комбинации, подкуп игроков и судей.
Он прошел в раздевалку. Обе команды волновались. И хотя игроки напускали на себя равнодушие, Козаков чувствовал это волнение и в том, как трижды завязывал непослушные шнурки на бутсах левый край тбилисцев, и в том, как слишком старательно, слишком часто острил их вратарь, и даже в том, как безучастно, демонстрируя полное спокойствие, лежал на скамейке центрфорвард москвичей.
Особенно ощущалось это волнение от присутствия в раздевалке посторонних. Всех этих людей Козаков привык мысленно обозначать одним словом: «начальство». Все они в последние минуты перед игрой «накачивали» свои команды. Начальство, очевидно, всерьез полагало, что стоит ему, начальству, сказать футболистам перед матчем несколько «душевных», или строгих, или торжественных слов (в зависимости от обстоятельств) — и футболисты сразу повысят класс игры.
Козаков знал, как раздражают игроков эти «накачки», но поделать ничего не мог: начальство.
Стадион быстро заполнялся.
Казалось, уже нет ни одного свободного местечка, а народ все прибывал и, как ни странно, все куда-то умещались.
Матч предстоял очень интересный. Решающая встреча на кубок страны.
В окна раздевалки вливался ровный непрерывный шум трибун. Из-за этого шума Козакову всегда перед матчами казалось, что идет дождь.
А между тем наоборот, — денек выдался отличный. Зрители мастерили из газет шапки и козырьки от солнца. Над стадионом дрожал прокаленный воздух, а трава на поле была такая ослепительно-изумрудная, какую рисуют лишь дети на картинках. И не только трава — все сегодня было необычно ясным, чистым, прозрачным: и нарядное, голубое, без единой морщинки небо, и белые платья женщин, и легкие шелковые спортивные флаги. И, словно радуясь веселому, чудесному деньку, два серебристых самолета кружили в небе прямо над трибунами.
Игроки обеих команд были знакомы Козакову: москвичи — больше, тбилисцы — меньше. Как-никак около двадцати лет отдал он футболу. Да и памятью природа его не обделила. У всех судей память обычно очень цепкая, но с Козаковым трудно было соперничать. Он помнил не только результаты всех матчей, которые когда-либо судил, помнил даже, кто и в каком тайме забил гол. А лица, хоть раз увиденные, отпечатывались в его голове четко, как на фотоснимке, и сохранялись там навсегда, как в хорошем архиве.
В раздевалке один из футболистов, москвич Игорь Кочегура, давний приятель Козакова, увидев его, радостно воскликнул:
— Жму лапку, Коля!
Козаков поморщился. Игорь, что называется, «свойский» парень. Весельчак, гитарист и как душевно поет старинные романсы! И ходить с ним на охоту — красота. Но сейчас, перед матчем, это панибратское приветствие было неуместно. Сейчас он, Козаков, — судья. А судья — объективен и строг! И, чтобы подчеркнуть это, Козаков ответил сухо и не без яда:
— Рад видеть вас в таком хорошем настроении, Игорь Степанович!
Козаков был щепетилен и не хотел, чтобы у спортсменов, особенно у тбилисцев, возникло хоть малейшее сомнение в его беспристрастности.
…Вскоре он вышел на поле, по привычке пробуя ногой упругую, аккуратно подстриженную траву. Вызвал игроков. Матч начался.
Страсти разгорелись сразу же. Едва нападающий любой команды приближался к воротам противника, — весь стадион вспыхивал, словно костер, в который кто-то плеснул бензина.
— Да-вай! Да-вай! Да-вай! — требовательно скандировали где-то наверху.
— Газуй!
— Э-эх! Слабец! Мазила!!
Козаков передвигался по полю обдуманными короткими перебежками. С трибун казалось: он совсем не спешит. Да так оно и было. Немолодой уже судья расчетливо тратил силы Он знал: они еще будут нужны, очень нужны. И все же, хотя он не суетился и, казалось, почти не бегал, — в нужный момент, когда на поле создавалась острая ситуация, Козаков всегда оказывался поблизости от мяча, в удобном для наблюдения месте. В этом умении мгновенно выбрать позицию, пожалуй, лучше всего сказывался его многолетний футбольный опыт.
Игра шла напряженно. Боевая, темпераментная встреча. Комбинация следовала за комбинацией, атака за атакой, и судья постепенно сам все больше входил в борьбу, увлекался ею, всей своей страстной душой игрока и болельщика переживал происходящее. И когда защитник тбилисцев грубо оборвал тонкую нить изящной комбинации, Козаков сделал ему замечание не только как судья. Нет, эта грубость задела, покоробила самое его нутро, как всегда оскорбляет она чистые чувства истинного болельщика.
Игра становилась все ожесточеннее, а счет так и не был открыт. И, как всегда в таких случаях, огромное нервное напряжение игроков, не находя разрядки в забитом голе, постепенно стало прорываться наружу. Вот слишком резко пошел на мяч левый край москвичей. Грубо наскочил на противника тбилисец. Опасно подставил ногу защитник и сам же, сверкнув глазами, что-то сердито крикнул по-грузински.
«Становится жарко», — подумал Козаков.
Один из москвичей слегка толкнул противника. Мелкое нарушение — Козаков не остановил игру, но издали выразительным жестом пригрозил москвичу: «Я, мол, все вижу. Учти».
Снова нарушение со стороны москвичей. И опять… Козаков все еще не останавливал игру. Тбилисцы атаковали, и остановка пошла бы лишь на пользу провинившимся.
Но вот обстановка разрядилась, мяч вышел за пределы поля, и судья, подозвав виноватого, сделал ему внушение.
Козаков старался говорить спокойно, чтобы не возбуждать и так уж разгоряченного спортсмена. Главное — выдержка. Не давать матчу перейти за ту невидимую, но хорошо ощутимую границу, когда силовая борьба превращается в грубость, а спортивная злость — в скрытую драку.
Первый тайм кончился, а на башне, на щитах, по-прежнему чернели «колеса» — два огромных нуля.
В судейской, когда команды ушли на отдых, усталый Козаков долго полоскал рот, заставляя себя каждый раз выплевывать тепловатую, но все же очень приятную воду. Потом сделал несколько глотков и, хотя еще очень хотелось пить, поставил стакан, лег, ноги поднял на спинку стула.
«Ну и рубка, — подумал он. — Но ничего, удержу…»
Козаков был уверен в себе. Да и двадцать лет практики тоже что-то весят…
Второй тайм начался взаимными бурными атаками. Но, наверно, напряжение было слишком велико; это лишало нападающих точности удара. Никому не удавалось завершить комбинацию голом.
Так, в бесплодных атаках, прошло пятнадцать минут, и двадцать, и двадцать пять, и тридцать…
Трибуны свистели, стонали, умоляли, требовали, орали, выли.
«А пожалуй, потребуется дополнительное время», — подумал Козаков и покачал головой.
Фуфайка у него на спине уже взмокла, ноги отяжелели.
Атмосфера на поле накалялась все больше. Приходилось напрягать все внимание и силы, чтобы не допустить грубых стычек, сдерживать особо горячих игроков.
В сутолоке Игорь Кочегура сбил одного из тбилисцев. Козаков назначил штрафной и сделал это не без удовольствия.
«А то Игорь начал распоясываться. Надеется — по дружбе прощу. Ошибаешься!»
Оставалось четыре минуты до финального свистка. Игроки, казалось, смирились с ничейным исходом второго тайма, а зрители уже азартно обсуждали, что́ принесут добавочные полчаса. И вдруг возникло острое положение у ворот тбилисцев. Именно «вдруг»: только что сами тбилисцы атаковали, но внезапно московский защитник отнял мяч, сильным «отбойным» ударом переправил его на другую половину поля; там его подхватил правый крайний москвичей и ринулся к воротам.
Стадион взревел.
А правый край уже отпасовал полусреднему — Игорю Кочегуре. Миг — и мяч в сетке.
Пожалуй, впервые за весь матч Козаков не успел оказаться на остром участке. Издали ему показалось, что Кочегура был «вне игры», но на таком расстоянии попробуй — разбери. К тому же другие игроки заслоняли Кочегуру…
Козаков быстро взглянул на своего помощника. Нет, отмашки флагом не было. Значит, все правильно. Козаков дал свисток и поднял обе руки вверх: гол.
Трибуны словно взбесились.
Одни зрители плясали, смеялись, обнимались, кидали вверх кепки, газеты. Другие — покраснев или побледнев, вскочив с мест, свистели, орали, яростно потрясая кулаками:
— Судья! Протри очки!
— Ослеп!
— На пенсию!!
— Непра-а! Непра-а-а-а! Непра-а-вильно!
И конечно, неизбежное:
— Судью на мыло!
Случайно Козаков мельком глянул на восточную трибуну. Ну а как же?! «Артист», стоя на скамейке, заложив пальцы обеих рук в рот, свистел пронзительно и свирепо. Лицо его и даже шея надулись и побагровели. На секунду вынув пальцы, он перевел дух, фальцетом выкрикнул:
— Шляпа!
И опять сунул пальцы в рот…
Капитан тбилисцев с прилипшими ко лбу прядями черных волос, подбежав к судье, быстро, взволнованно, путая русские слова с грузинскими, доказывал, что Кочегура находился к воротам ближе защитника…
— Прекратите дискуссию, — стараясь не повышать голоса, остановил его Козаков.
Нельзя допустить, чтобы судье на поле возражали, оспаривали его решение. Иначе начнется безвластие и неразбериха.
И все-таки, ничем внешне не выдав своего беспокойства, Козаков чувствовал себя неуверенно. Он заставил тбилисцев начать с центра поля, а сам все думал:
«Было «вне игры»? Или нет? Было или нет?»
Его, привыкшего к четкости и точности своих решений, эта неясность задевала особенно больно.
Через две минуты матч кончился. Со счетом один-ноль победили москвичи. Один гол, один-единственный, решил судьбу кубка СССР.
Зрители, не отрывавшие глаз от поля, после финального свистка судьи словно все разом вздохнули, зашевелились, загомонили. И опять все увидели, как пронзительно ярка изумрудная трава и как сверкает ровное-ровное, будто полированное, голубое небо.
Команды построились. Пока они вяло, без энтузиазма приветствовали друг друга, Козаков бросил быстрый взгляд на своего помощника:
«Было или нет?»
— Нормально, — шепнул тот. Но голос звучал не слишком убежденно.
В судейскую после игры сразу набился народ. Козаков сидел у стены, устало откинувшись на спинку стула, и старался не слушать разноголосый, взволнованный говор вокруг.
«Вот так порядочек!» — недовольно думал он.
В судейской запрещалось находиться кому-либо, кроме судьи. А тут — вон сколько!
Особенно горячился высокий красивый грузин. Козаков не знал, кто это, но понимал, — начальство.
Грузин говорил громко, быстро и так энергично, что под потолком то и дело жалобно позвякивали стеклянные висюльки вокруг лампы. И жестикулировал, как немой.
Козаков поморщился. Сам он был скуп на слова, даже слишком молчалив. Не зря жена, рассердись, звала его «сычом». Может быть, поэтому его особенно коробила всякая болтливость.
Москвич Федюнин, старый, прошедший огонь и воду футболист, давно уже вышедший в отставку, вяло спорил с грузином, незаметно подмигивая Козакову: мол, не волнуйся, дело обычное, проигравший всегда недоволен.
Впрочем, и сам этот красавец грузин хоть и горячился, понимал, что в общем-то спор бесполезен: все равно теперь судья не изменит своего решения. Не может изменить, даже если бы хотел.
— Мы подадим протест, — сухо, резко заявил маленький смуглый представитель тбилисцев. — Кочегура был «вне игры».
— Подавайте, — ответил Козаков.
Он знал: протесты возможны при самых различных нарушениях. Но как раз по поводу «вне игры» никакие протесты не рассматриваются. Только судья, сам, единолично решает: было «вне игры» или нет.
Знал это, конечно, и представитель тбилисцев.
«Просто с пылу, с жару… Пугает!» — подумал Козаков. Встал и негромко, но твердо произнес:
— Посторонних прошу удалиться.
Он нарочно так сказал: «посторонних», чтобы задеть того высокого красивого грузина, который корчил из себя большое начальство. Да, пусть знает — здесь он «посторонний».
Оставшись один, привычно заполняя графы протокола, Козаков продолжал размышлять:
«Было или нет?»
Напрягая свою острую память, он старался скрупулезно точно восстановить расположение игроков на поле в тот решающий момент.
Постепенно он, прикрыв глаза, четко расставил всю пятерку нападения москвичей, точно вспомнил, где были оба полузащитника тбилисцев, где находились левый и правый защитники. Только центрального защитника все еще не удавалось накрепко пришпилить к какой-то определенной точке поля. А это и решало…
Он отметил в протоколе, кому из участников и за что он сделал замечания, проставил все фамилии игроков, запасных и судей. А сам все думал:
«Было или нет?»
И, даже стоя под душем, закрыв глаза, старался определить: где же все-таки находился центральный защитник?
Дома, отдохнув, он подсел к плоскому ящику с низкими бортами — макету футбольного поля, расставил на нем маленькие, похожие на оловянных солдатиков фигурки игроков. Все они быстро нашли свои места на поле, только центральный защитник остался в кулаке у Козакова.
«Вот напасть-то!»
Позвонить друзьям, бывшим на матче? Спросить, не помнят ли они? Нет, не годится. Каждый, конечно, будет твердить свое; получится такой сумбур, — совсем собьешься…
Козаков думал долго. И не мог прийти ни к какому выводу. Усталый, прилег на диван. И вдруг!.. Вдруг абсолютно ясно, как это бывает только во сне, увидел центрального защитника. Вот он — высокий, с ногами и руками, густо поросшими рыжеватыми волосами, взмокший, бежит возле правого крайнего, а вовсе не около центрфорварда, которого обычно ему полагается «держать».
Понятно теперь, почему так долго и так тщетно искал его Козаков. Ну конечно, — разыскивал его возле центрального нападающего, а он переместился на край.
«Так! — Козаков, словно подброшенный трамплином, вскочил с дивана. — Значит… Ясно. К сожалению, ясно!»
Да, все сразу стало ясно. Кочегура был «вне игры». Гол засчитать нельзя.
Козаков, мрачный, стоял посреди комнаты.
«Что же делать?»
Он сел к столу. Надо успокоиться, сосредоточиться.
«Итак — ну, ошибся. Ну, с кем не бывает?! Постарайся вперед не ошибаться. А пока забудь…
Забудь? А тбилисцы? Им-то, конечно, не забыть!»
Козаков вспомнил взволнованное, изборожденное струйками пота лицо капитана тбилисцев, когда тот подбежал к нему на поле. Черные мокрые кольца волос на лбу, путаница русских и грузинских слов, и жалкие, молящие, почти плачущие глаза. Да, да, этот могучий детина почти плакал от обиды и бессилия, от полной невозможности как-нибудь исправить страшную несправедливость.
Козаков вскочил с места, забегал по комнате.
«Вот черт! И кроме того: значит, кубком СССР будет кто-то владеть лишь по недоразумению?»
Он сердито потряс головой.
«А может, признать… Подать заявление…»
Козаков даже застонал.
«Какой позор! Неслыханно! Сам судья обвинит себя! Двадцать лет, двадцать безупречных лет… За эти годы хватало трудных положений. И я всегда умел… Всегда. А тут…»
Признать свою ошибку нелегко любому, но особенно судье. И как он будет потом судить? Ведь всеигроки — конечно, все, и очень быстро! — узнают об этой истории. Весь его авторитет, все созданное годами, по крупице, все сразу рухнет.
Раздался телефонный звонок. Голос у Игоря был мягкий, сочный, как у певца, рокотал и переливался, как перламутровая раковина. Козаков недолюбливал этот «сольный» голос: слишком красивый; такому только болтать да болтать!
— Молодец, старик! — радостно гудел Игорь. — Я говорил: москвич москвичей не подведет!..
Козакову показалось, что Игорь даже заговорщицки подмигнул ему.
«Значит… — кровь бросилась Козакову в голову. — Игорь думает… я нарочно… Нарочно…»
Вдруг обессилев, не отвечая ни слова, он медленно положил трубку.
«Так… Как же я не сообразил?! В самом деле… Могут решить, что я умышленно… Да, подсуживал…»
Снова тревожно зазвонил телефон.
«Игорь. Беспокоится. Почему я не ответил…»
Козаков не взял трубку, сел к столу. Долго еще раздавались протяжные, зовущие звонки. Наконец, коротко тренькнув, телефон умолк.
Козаков достал лист бумаги. На минутку задумался. Сверху крупно написал:
«В Федерацию футбола СССР».
И чуть пониже:
«Заявление».
* * *
Заседание президиума Федерации было назначено на шесть часов. А в пять у Козакова дико разболелась голова. Это случалось с ним изредка: военная контузия все еще давала о себе знать. Он позвонил, сказал, что не придет. Да и что он может добавить к своему заявлению?! В шесть часов он сидел дома и мысленно представлял себе, что́ сейчас происходит в президиуме. Вот началось заседание. Вот зачитали его заявление. Все, конечно, изумились. Кое-кто растерялся так, словно с потолка вдруг сорвалась люстра. Ну, тбилисцы, конечно, рады. Еще бы! А москвичи? Он на минуту представил себе широкое плоское лицо тренера московских спартаковцев Шипова. Тот, вероятно, поднял брови и быстро-быстро проводит языком по губам: он всегда так облизывается, когда удивлен, или волнуется, или сердится. Шипову, конечно, досадно. Кубок уже был спартаковским, а теперь опять начинается заваруха. А как ведут себя члены президиума? Козаков прикрывает глаза, и тотчас память, словно фары автомобиля ночью, четко и резко выхватывает из темноты одно лицо и другое, и третье. Но какое выражение на них? Козаков пытается представить себе и не может. Так прошел час, полтора… Боль в голове постепенно стихала, уходила куда-то вглубь. Жена тихо вошла в комнату, что-то бесшумно переставила в буфете и так же неслышно вышла. Нынче весь день муж глядел исподлобья, «сычом». Лучше оставить его одного. «Затянулось», — думал Козаков. Он договорился с Акимовым, что тот сразу после заседания позвонит ему. А звонка все нет… Время тянется нестерпимо медленно. «А меня там, наверно, кроют! В хвост и в гриву! — думает Козаков. — Еще бы, такую грубую ошибку допустил. И в такой ответственной игре! Разрешат мне впредь судить всесоюзные встречи? Или снизят на республиканские?» А звонка все нет. «Спартаковцы, наверно, разобидятся, — думает Козаков. — Поднимут бучу. Игорь их настропалит…» Вдруг зазвонил телефон. Козаков схватил трубку. Но звали дочь. Через несколько минут телефон опять зазвонил. Это был Акимов. — Наконец-то! — сердито пробормотал Козаков. — Раньше никак! — объяснил Акимов. — Все заседали… — Ну? — Твое заявление одобрили. Назначили переигровку. На завтра. — Влепили? — Тебе-то? По первое число! — А москвичи как? Шипов? — Поворчали, конечно. Не без того. Шипов поначалу так яростно лизал губы — я думал, кожу сдерет. — Акимов усмехнулся. — А в общем, согласны на переигровку. Но главное, самое интересное, — обе команды подали заявления. И знаешь, в обоих одинаковый конец. Будто сговорились… — Какой еще конец? — Обе команды просят, чтобы переигровку опять судил ты. Козаков не отличался чувствительностью. Наоборот, был жестковат и суховат. А тут вдруг, к удивлению, ощутил, как горло перехватила судорога. И, боясь, что Акимов заметит, как изменился его голос, грубовато кинул: — Ишь какое благородство! «Надо бы поблагодарить», — подумал он, чувствуя, как стиснутое сердце вдруг разжалось, забилось свободно и четко, но Акимов уже положил трубку.
 СТАРИК
СТАРИК
Пятеро шли еле заметной тропой.
Вокруг было уныло, голо. Песок. И глина, похожая на скверно уложенный бетон, окаменевшая под солнцем, растрескавшаяся.
Было раннее утро, а свирепое солнце уже палило вовсю. Оно висело над горизонтом, как огромный рыжий апельсин. Выгорел и был почти белым песок. И глина — не зеленая, не синеватая, не бордовая — тоже почти белая. И высокий купол неба — бесцветен, словно и небо вылиняло.
Пятеро шли уже часа два. В шесть утра покинули машину.
Вот уж не повезло! Отъехали от лагеря полсотни километров — полетел кардан. И сколько шофер ни бился — все впустую. Он чуть не шипел от обиды и злости. Надо же! Столько запчастей взял с собой. Целый склад. А кардан — не потащишь же! Да и кто мог думать?!
Шофер с доцентом Рябининым пошли назад, в лагерь. Остальные пятеро — вперед, к «каменным бабам».
Это были молодые ребята — археологи. Четверым, и девушке тоже, лет по двадцать — двадцать пять. Только один — постарше. На вид ему казалось под сорок, хотя лицо — черное, будто обугленное, худое, иссеченное морщинами, с крупным, похожим на клюв носом и твердыми желваками скул — было из тех, по которым трудно судить о возрасте. Улыбнется — скажешь тридцать, нахмурится — дашь все пятьдесят.
Молодые археологи давно знали друг друга. Двое работали в Институте археологии, двое были студентами. И только вот этот пятый, Арсений Викторович, который им, юным, казался стариком, появился в экспедиции всего с неделю назад и держался как-то на отшибе. Был он молчалив (может, потому, что заикался?), скуп на улыбки, и вообще неясно, какой судьбой занесло его сюда? Ведь он не археолог, не этнограф, и не антрополог, зачислен в отряд простым рабочим, а между тем окончил какой-то техникум и, судя по его обрывистым репликам, зимовал на Крайнем Севере, плавал на китобойце и даже в Египте побывал. Говорили, что он был тяжело ранен на войне, попал в плен, больше года находился в концлагере, бежал. Ходили слухи, что у него при бомбежке погибли жена и ребенок. С тех пор он и живет так, бобылем. Мотается по белу свету. Словно лопнуло что-то у него в душе, и никак не может он найти покоя, пристанища, найти свою «точку» на земле.
Так говорили. Но точно никто ничего не знал. А сам он не располагал к расспросам.
Болтали и другое. Кто-то из землекопов рассказал Симочке, что действительно сидел Старик в лагере. Но вовсе не у немцев. А просто — пытался ограбить кассира. Однако кассир не струсил, стал отстреливаться. Потому — и шрам у Старика под ухом. Из-за этого, мол, его и к настоящей работе теперь не подпускают. Вот и шастает по раскопкам.
Всяко про него трепали. Но где правда? А впрочем, это и не очень-то интересовало археологов. В экспедициях всегда позарез нужны руки, привычные к лопате. Тут — в пустыне, или на Магадане, или в Абакане — в анкетах не очень-то копаются. Человек — он человек и есть. Сам себя покажет.
Пятеро шли через пески. От места аварии до «каменных баб», если верить местным жителям, было километров восемнадцать. Но что такое восемнадцать километров для молодых, здоровых ребят, тем более, когда рядом девушка, невысокая, симпатичная Симочка.
Молодежь шагала бодро, а Симочка даже завела песню:
* * *
Ранним утром пришли Мотя-Котя, принесли воду. Мотя развел костер, заварил густой зеленый чай. Сидел и мурлыкал:
 ШРАМ НА БРОВИ
ШРАМ НА БРОВИ
Игорь сидел у стола и читал «Всю королевскую рать». Жена категорически заявила (она все говорила категорически), что это — самая лучшая книга последнего года. За нее читатели прямо в драку (жена работала в библиотеке). А он… Как не стыдно! Впрочем, боксер и есть боксер! А еще воображает себя культурным…
Роман был и впрямь стоящий. С воскресенья Игорь как прилип к нему — не оторваться. Прочитал уже больше половины. Но сегодня — хоть убей…
Он сидел возле лампы, глядел в книжную страницу. Глаза прилежно перемещались по строчкам, но смысл как-то ускользал. Игорь делал усилие и вроде бы начинал что-то понимать, но проходила минута-другая, и снова строчки мелькали вхолостую.
Впрочем, давно известно: накануне боя все не клеится.
«Четыре — четыре», — опять подумал он.
Таков был счет встреч. Четыре боя выиграл он, четыре — Семен Дыня.
Вообще-то фамилия Семена — Дынин. Но товарищи звали его Дыней. Семен не обижался.
Был он плотный, как все полутяжеловесы. Резкий. И за словом в карман не лез. Обычно боксеры не речисты. Кулаки у них гораздо проворнее языка. И выразительнее.
И еще — увлекался он совсем уж не боксерским делом: бабочками. Собрал огромную коллекцию. В плоских ящиках, под стеклом, хранились самые разные бабочки: и малюсенькие, с ноготок, и гигантские, как блюдце. Бабочки всех цветов и оттенков: пурпурные и нежно-перламутровые, черные, как вакса, и пестрые, как игрушки для малышей.
«Наверно, и сейчас Дыня над своими бабочками колдует», — подумал Игорь.
И позавидовал: хорошо этому бабочнику. В самые трудные часы — последние часы перед боем — длинные и томительные, когда не знаешь, куда себя деть, когда ни кино, ни книга, ни беседа с друзьями — ничто не помогает, у него всегда наготове занятие. Да какое! Дыня, кажется, вовсе забывает про бокс.
Да, четыре — четыре. И завтра — их девятый бой. Принципиальный бой. Контровой. Кто все же сильнее?
А главное — это финал. И Игорю надо победить. Обязательно. И стать чемпионом Ленинграда. Последний раз.
Это был его секрет. Никто этого не знал. Ни друзья, ни жена, ни тренер.
Да, как ни крути, — двадцать восемь. Для боксера — очень солидный возраст. И он решил: точка. Последний его сезон. В будущем году он не выйдет на ринг. Все. Хватит. Бокс любит юных…
«Вот, опять», — Игорь недовольно хмыкнул.
Опять мысли переметнулись на завтрашний бой. А глаза ведь по-прежнему скользят по строчкам. Губернатор Вилли Старк замышляет что-то хитрое. А что?..
Зазвонил телефон.
Игорь взял трубку.
— Не удивляйтесь, пожалуйста… Это говорит доброжелатель.
— Кто? Кто?!
— Доброжелатель. Поверьте… Незнакомый вам доброжелатель, — голос в трубке глухой, с хрипотцой. И немножко в нос.
— Да ну?! — воскликнул Игорь. — Между прочим, доброжелатели обычно не скрываются. А вот аноним — почти всегда сволота…
— Не торопитесь, Игорь. Всяко бывает, — примирительно загудел «доброжелатель». — В общем: хотите завтра выиграть?
— Глупый вопрос!
— Значит, хотите, — «доброжелатель» упорно не обращал внимания на сердитый язвительный тон Игоря. — Могу дать точный рецепт.
— А?! Вы, значит, к тому же аптекарь?!
— Ну, ладно. Хватит трепаться. Слушайте, — «доброжелатель» сделал короткую паузу. — У Дыни рассечена бровь.
— Что?! — Игорь чуть не выругался. — Как же?..
— А очень просто. На днях. Спарринг[4] без маски… Запомните: левая бровь. Двиньте по ней разок — и конец. Бой ваш. Запомнили? Левая…
Телефон коротко тренькнул и смолк.
«Тьфу, черт!»
Игоря даже зазнобило.
Как все просто!
Он сразу же четко, словно крупным планом, увидел эту поврежденную бровь. На ней — прозрачно-тонкая нежная кожица. Только-только наросла. Розовая, как у младенца. Один самый легкий, самый пустячный удар, даже не удар — просто касание перчаткой… Кожица сорвана, и судья останавливает бой… Победа!
И все! И никаких проблем…
На миг мелькнуло:
«А может, врет? Этот чертов доброжелатель…»
Он прикрыл глаза, и тотчас в ушах снова загудел глухой с хрипотцой голос:
«Хотите завтра выиграть?..»
И какое-то безошибочное чутье уверенно подсказало: «Нет, не врет. Зачем ему врать?»
И сейчас же вспыхнула другая мысль: «Кто он? И почему звонил?»
Ненавидит Дыню? Или хочет отомстить? Или мерзавец по призванию? Из тех, кто делает гадости просто так, для удовольствия.
Он снова до мелочей вспоминал внезапный телефонный звонок. И как это часто бывает, когда напряженно думаешь о чем-то, голос «доброжелателя», с хрипотцой, чуточку в нос, теперь уже казался ему знакомым. И даже не столько голос, сколько интонации. Малость растягивает гласные, и «е» иногда произносит, как «э». «Имэнно». «Рэцэпт».
«Но кто он?»
Снова зазвонил телефон.
— Игорь! — загремело в трубке. — Весь наш «Шараш-монтаж» будет! Не сомневайся! Мы там создадим тебе творческую атмосферу!
Это был Вася Кривошеин, главный болельщик фабрики.
— Смотри только не изувечь кого! — засмеялся Игорь.
Прошлый раз фабричные болельщики притащили на матч огромный металлический рупор. И орали на весь зал: «Гряз-нов! Да-ешь! Грязнов!» Но в конце второго раунда рупор кто-то уронил. И прямо на голову сидящему ниже солидному дяде…
— А мы теперь к трубе припаяли ручку. Так что — полный порядок! Ну, ни пуха!..
Пришла жена. Накормила дочку. И стала заниматься с ней. Жена давно решила: Ирочка должна пойти в школу, уже умея читать.
— Ма-ша ва-рит ка-шу, — медленно читала Ирочка и скороговоркой вставляла: — Мам, а у нас Мухина Галя получила сегодня сразу три двойки: за уши, за шею и за пение.
— Читай, читай! Не отвлекайся.
— Ко-ля ко-лет дро-ва, — читала дочка и опять шустро вклинивала: — А Перцов Толик засунул булку с маслом под шкаф. Я говорю: «Съешь, а то Марии Трофимовне скажу». Ну, он сразу достал и съел.
…Как всегда, без четверти одиннадцать Игорь лег. Режим есть режим.
Спал он плохо. Накануне боя и вообще не очень-то спится. Но сегодня особенно…
Мелькали какие-то бессвязные сценки. Вот Дыня склонился над плоским квадратным ящичком. Под стеклом — маленькая розовая бабочка. Она — как лоскут кожицы. Нежный, розовый. Свисающий с брови…
А вот «доброжелатель». Он стоит в будке автомата (анонимы — они в кинофильмах всегда из автоматов звонят). Стоит, грузно привалившись плечом к дощатой стенке.
«Хотите Завтра выиграть?»
И подмигивает. Нагло. Уверенно.
«А может… Он нарочно?.. Да, именно… Чтобы выбить меня из равновесия. Лишить сна, покоя. И заставить думать только об этой проклятой брови. А? Вполне возможно… — Игорь совсем проснулся. — Черт! Неужели подстроено? Впрочем… Выкидывают штучки и похлеще…»
Он встал. Выпил воды.
Тихонько, чтоб не разбудить жену и дочку, подошел к окну, отогнул край шторы.
На улице еще полумрак. Изогнутые фонари наклонили шеи над асфальтом, будто что-то ищут.
Никого. Ни единого человечка.
Вдруг из-за поворота вынырнула женщина. Молоденькая, совсем девочка. Шла торопливо и оглядывалась.
«Боится, — подумал Игорь, и ему показалось, он слышит, как четко стучат ее каблучки по асфальту. — Откуда? Одна? И так поздно…»
Женщина быстро прошла мимо окна и скрылась.
Игорь лег.
И тотчас перед глазами встало лицо Дыни. Смешливое. Все в веснушках.
«Неужели он?.. Подговорил кого-то? Звонить…»
Игорь знал Дыню уже много лет. Нет, товарищами они не были. Это только в книгах соперники — всегда закадычные друзья.
Но все-таки… Игорь знал Дыню, верил ему.
«Нет, нет! Дыня не такой… Нет, нет…»
Значит? Все правда. Бровь рассечена…
Он тяжко повернулся в кровати.
И сразу увидел ринг. Залитый потоками света. Белый, четкий, с никелированными стойками в углах. Он всегда напоминал Игорю операционную.
Их двое. Он и Дыня. Игорь видит его лицо. Левый глаз. Хмурый, настороженный.
Ударить?
Да, все по правилам. Бровь сразу закровит. И конец. Победа.
И все честно. Без всяких штучек. И кто виноват? Сам Дыня. Известно: бровь у боксера, как у Ахиллеса пятка. Чего ж не берег?
И вообще — что за сантименты? На ринге мы или в детсаду?
Игорь снова заворочался в постели.
И все-таки… Как-то неладно. Какой же это бой? Дал по брови — и все…
А впрочем… Их же учат: в бою используй каждый шанс. А финты?[5] Специально отрабатывают их. А ведь финт — тоже хитрость, уловка. Ну и что?! В бою — все годится. На войне, как на войне…
Впрочем… Не лукавь. Война — это война. А спорт — это спорт. И не надо путать…
…На следующее утро он поднялся ровно в семь. Будильник ему не требовался. Всегда точно в семь срабатывали в мозгу какие-то неведомые датчики.
Жена и дочка еще спали.Воскресенье.
Голова была непривычно тяжелой. Ну, конечно: обычно он спал крепко и беспробудно. А нынче…
Спустился во двор. Зарядка, пробежка…
Дворничиха поливала из шланга асфальт. Она не обратила на него внимания. Привыкла.
Он поднялся домой, принял душ. Жена встала, готовила завтрак.
— У тебя — в час? — спросила она.
Он кивнул.
Жена прекрасно знала, что бой — в час. А спросила просто по инерции.
Он чуть было, тоже по инерции, не спросил — пойдет ли она?
Хотя сам несколько лет назад строго-настрого запретил ей бывать на его выступлениях.
Это случилось вскоре после их свадьбы. Жена впервые пришла на бокс. И надо же — так не повезло! В первом же раунде поляк ударом в челюсть послал его в нокдаун.
Он упал навзничь на брезент, раскинув руки, и лежал так несколько секунд. И первое, что он услышал, открыв глаза, был отчаянный женский крик:
— Игорь! Убили!.. Доктора! Где же доктор?..
Он поднялся на счете «восемь» и продолжал бой. И даже выиграл его. Но жену с тех пор просил на бокс больше не ходить…
…Он поел, ушел в свою комнату.
«Итак?..»
А может, позвонить тренеру? Посоветоваться? Впрочем: кто тут может дать совет?!
Нет, надо самому… Только самому…
Он снова задумался. И с внезапной ясностью вдруг понял: все это чушь. И думать нечего. Все равно он не ударит. Нет. Хоть это и по правилам, и вполне законно… Нет…
«Мой последний бой… Пусть он будет настоящим. Да, настоящим».
Его обрадовало это вдруг найденное, точное слово. Да, иначе будет ненастоящий. Так, комедия.
…Зал встретил обоих боксеров криками и рукоплесканиями. Болельщики хорошо знали их: и Игоря Грязнова, и Семена Дынина.
Бой начался.
И уже по чуточку измененной стойке Семена Игорь сразу увидел: да, «доброжелатель» не соврал. Семен держал левую руку немного необычно: он словно заранее защищал свою бровь.
Конечно, можно финтами отвлечь его внимание. Заставить раскрыться. И тогда…
Но Игорь не хотел этого. Нет, забыть про эту несчастную бровь. Забыть!
Даешь настоящий, честный бой! Пусть победит сильнейший!
Прошли первые секунды. И сразу же Игорь почувствовал: что-то не так. Что-то мешало ему, сковывало. Он сперва не понял: что? И лишь в середине раунда догадался. Чертова бровь!
Перед боем он твердо решил: драться, как всегда.
Но оказалось: «как всегда» — не получается. Он все время невольно думал: только не в бровь.
В боксе решает быстрота. Даже не секунды — десятые доли. А у него вдруг все удары, все нырки, уходы, все замедлилось.
«Бровь… Не задеть бы…»
Это отвлекало. Мешало.
Ударил гонг.
Тренер, подав ему воды, тревожно спросил:
— Ты что?
Игорь прополоскал рот, выплюнул длинную струю и качнул головой. Мол, все в порядке.
А сам торопливо думал:
«Как же так? Я хотел равный бой. Честный бой. А получается у Дыни преимущество. Эта чертова бровь, выходит, мешает мне! Не ему, а мне. Проклятье!»
Он не знал, что делать. До гонга оставались считанные секунды. Надо быстро перестроиться. Но как?
И еще: мешало сосредоточиться сознание, что где-то здесь, вот тут, рядом, наверно, в первых рядах, сидит «доброжелатель». Сидит и жадно ждет: когда же?.. Когда?..
Сидит, самоуверенный и наглый. Пусть другие волнуются. Он-то знает: исход боя предрешен.
И невольно взгляд Игоря скользил по первым рядам, по уходящим вверх амфитеатром лицам. Они сливались, мелькали. Он отводил взгляд, старался сосредоточиться, обдумать новый план боя, но через секунду глаза опять сами собой скользили по рядам…
Прозвенел гонг.
Нет, он не успел ничего придумать. И снова мелькали кулаки, чередовались атаки и контратаки. И Игорь чувствовал: нет, не то. Он словно связан.
Черт! Если бы он вовсе не знал про эту проклятую бровь! А теперь…
В зале стояла гнетущая тишина.
Только изредка огромный рупор Васи Кривошеина издавал страдальческий вопль:
— Грязнов!
И тут же смолкал. И слышалось в этом жалобном крике: «Игорь, голубчик, да что с тобой?»
Болельщики не узнавали Грязнова. Где его молниеносные атаки?! Где его удивительное чувство времени?
Это был Грязнов — и не Грязнов.
В перерыве перед последним раундом тренер (он же секундант) яростным шепотом спросил:
— Трусишь, что ли?
Игорь промолчал.
Третий раунд прошел так же тягостно, как предыдущие. Дрались два опытных боксера. Дрались умело. Но не больше. Бой шел без «искорки», без того подъема, который отличает настоящих мастеров.
И когда информатор объявил:
— Победил Семен Дынин… — Игорь кивнул. Да, все правильно.
В раздевалке он медленно сматывал бинты с рук, долго стоял под душем, потом так же долго, неторопливо одевался.
Да, все правильно…
И только дома его вдруг охватила острая, прямо в сердце ужалившая обида.
Все-таки несправедливо. Нет, несправедливо! Он ведь мог выиграть. Врезать разок по брови — и все. Но он хотел по-честному. Да, по-честному. А выходит, эта бровь обернулась против него самого. Великолепно!
Жена накрыла на стол. Поужинали. Даже дочка сегодня не шумела, будто все понимала.
Игорь ушел к себе. Лег на диван.
Болело плечо: это во втором раунде Семен провел чистый прямой. Ныла распухшая губа: тоже память о втором раунде.
Да, благородные, красивые поступки… В книгах они выглядят очень здорово. И всегда награждаются, чуть раньше или чуть позже. Но то в книгах…
И, если честно, — самое досадное, что никто и не узнает об истинной причине его проигрыша. Не пойдет же он, не скажет: «Знаете, ребята, я не хотел бить по брови». Смешно. И хвастливо.
Да, приятно быть благородным на людях, когда все видят, какой ты замечательный. А вот так, в одиночку, все это куда сложнее…
Он лежал и думал, и мысли были невеселые.
То и дело звонил телефон. Друзья. Они утешали, говорили все те слова, которые положены в таких случаях. Он и сам не раз звонил вот так же проигравшему, и так же говорил затасканные, но все же словно бы помогающие слова.
Сейчас беседовать ни с кем не хотелось, но он терпеливо слушал, отвечал.
Да, не повезло… Да, не всегда же выигрывать… Да, конечно, на ринге всяко бывает…
А сам думал:
«А ведь это — мой последний… Самый последний бой. Все. И обидно, что так нелепо…»
И каждый новый звонок — словно укол.
Наконец телефон примолк. Игорь опять улегся на диван. Взял «Всю королевскую рать».
Но телефон зазвонил снова. Длинно и пронзительно, как вызов междугородной.
Игорь узнал этот голос: глуховатый, чуть в нос.
— Ты что же? — сердито сказал «доброжелатель». — Или не поверил мне?
— Поверил, — ответил Игорь.
— Так что же? Не смог раскрыть, что ль?
— Не смог, — подтвердил Игорь. — Или не захотел…
— А-а-а! — «доброжелатель» коротко хохотнул. — Ишь ты! Ну, коли ты такой щепетильный!.. Такой совестливый!..
Он прибавил несколько крепких слов.
Игорь не вникал в смысл его речей, он впитывал голос, как бы окунался, погружался в него.
Ему все явственней, все настойчивей казалось: этот голос откуда-то знаком. Он не клал трубку, затягивал разговор: сейчас, вот сейчас где-то в тайных глубинах мозга вспыхнет это имя. Он вспомнит. Непременно…
И вспомнил!
Мишка Чумаков! Тот тоже вот так чуть гундосит. И говорит «э» вместо «е».
Но… Как же?.. Ведь Чумаков — лучший друг Дыни?!
У Игоря даже пересохло во рту. Вот как! Ай да друг! Продал…
И тотчас он обрел полное хладнокровие.
— Послушай, Чумаков, — спокойно сказал он. — Хватит темнить.
И прислушался.
В трубке что-то булькнуло. На миг наступила пауза.
«Бросит трубку», — мелькнуло у Игоря.
Но «доброжелатель» не бросил. Нервы у него, видимо, были в порядке.
— Чего-чего? — усмехаясь, спросил он. — Какой там Чудаков?! Ну, адью! Любишь проигрывать — дуй и дальше в таком разрезе!
Раздались короткие гудки.
Игорь постоял еще немного с трубкой в руке. Нет, теперь он не сомневался. Ай да Чумаков! Ай да лучший друг!
«Ну, Чумак, мы еще встретимся, — хмуро пообещал он. — Покалякаем начистоту. Спуску не дам».
Игорь задумался.
«Но почему он так? Зачем?»
Непонятно…
Игорь прикрыл глаза, постарался «вызвать» живого Чумакова. Ну, что?! Парень как парень. Боксер, правда, не ахти. А так — ничего…
И вдруг… Вдруг, как фара ночью… В «Вечернем Ленинграде» как-то была заметка про Семена Дыню. Он тогда как раз стал чемпионом города. В раздевалке газета ходила по рукам. Ребята читали, острили, похлопывали Семена по плечам. «Ну, как жизнь «талантливый продолжатель»? Так назвал его корреспондент.
И вот сейчас Игорь неожиданно четко вдруг вспомнил, как читал заметку Чумак. Он читал молча, весь напрягся и вроде бы даже побледнел. Да, точно, побледнел…
«Зависть, — вдруг с поразительной ясностью дошло до Игоря. — Зависть загрызла. Давно Чумак втихую завидовал Дыне. Ну, а сейчас… Докатился… Да… Докатился…»
…Как обычно, без четверти одиннадцать Игорь лег.
И в постели он еще раздумывал о Чумакове, и о том, как ловко тот маскировался, даже казался своим в доску, рубахой-парнем.
Но вскоре мысли Игоря снова вернулись к недавнему бою. К последнему своему бою. К последнему — и проигранному.
«И все же обидно, — подумал он. И усмехнулся. — Никто не узнает. И в газетах не напишут: «Так поступают советские люди!»
Он повернулся на другой бок, закрыл глаза.
«А впрочем — почему это «никто»? Я знаю! Значит, уже не никто».
Эта мысль поразила его.
«Да. Я знаю. Я. И достаточно».
С этой успокоительной мыслью он и заснул.

 АВТОГРАФ ЧЕМПИОНА
АВТОГРАФ ЧЕМПИОНА
Витька Королев принес в класс что-то большое, плоское, тщательно завернутое в газету и крест-накрест обвязанное шпагатом.
— Только чур! Без рук! — строго предупредил он ребят, окруживших парту.
Под нетерпеливыми взглядами мальчишек Витька как-то томительно долго развязывал бечевку, потом так же невероятно долго снимал газету, а под газетой еще оказалась тряпка.
Наконец обнаружилось, что в таинственном пакете скрывается всего-навсего шахматная доска. Самая обычная деревянная доска — плоский ящичек, куда после игры укладываются фигурки. Доска к тому же не новая, потертая, с трещинками и пятнами.
— А звону-то! — присвистнул Алик. — Будто у него там кость снежного человека. Или осколок с Луны.
Витька даже не посмотрел на Алика.
— Внимание! — тихо, но внушительно произнес он и, раскрыв доску, положил ее на парту.
Все это он проделал так аккуратно, так осторожно, будто доска начинена пироксилином и, если хоть чуточку стукнуть ее о парту, тотчас взорвется.
— Вот! — Витька гордо оглядел мальчишек.
Никто не понял. Что — «вот»?
Тогда Витька молча указал на белые поля в центре доски.
И тут только ребята увидели: посреди доски, по диагонали, на четырех клетках, было синими чернилами написано:
«Вите Королеву. Учись хорошо. Михаил Ботвинник».— Ой! — пискнул Алик. — Тот самый? Чемпион мира? Витька даже не счел нужным отвечать. — Ну, между прочим, чемпион теперь не Ботвинник, а Борис Спасский, — не отводя глаз от доски, тихонько сказал Изя. Но тут уж все загалдели. — Ботвинник, если б он помоложе, твоего Спасского на обе бы лопатки! — крикнул Костик. — Ботвинник и Алехина бил, и Ласкера, и Капабланку — подряд всех-всех чемпионов! Вот! — припечатал Шурик. Да что там говорить! Ребята прямо пожирали глазами чудо-доску. Вот это вещь! Такую — хоть в музей! Правда, настырный Изя еще пробормотал что-то — мол, чемпион мог бы и поостроумнее что-нибудь написать. Подумаешь, открытие — «учись хорошо»! Но тут все закричали, что Изька просто завидует. Факт, завидует! И ему пришлось замолчать. На первом же уроке — была литература — чудо-доску показали учительнице. — Да, — сказала Мария Трофимовна. — Очень целенаправленный автограф. Теперь тебе, Королев, придется накрепко запомнить, что «мышь» — с мягким знаком. Ребята засмеялись. Это в прошлой диктовке Витька написал «мыш». И еще оправдывался, что мышь, мол, бывает и самцом, и самкой, а если самец, то мужского рода, и, значит, мягкий знак не нужно. На втором уроке показали доску физичке. Удивительно, как однообразно воспринимали учителя подпись чемпиона! — С таким автографом стыдно путать формулу равномерного прямолинейного движения! — сказала физичка. А на третьем уроке математик, внимательно оглядев доску, сказал: — А между прочим, Ботвинник — доктор наук. И уж уравнения с одним неизвестным как семечки щелкает… Да… Это был опять же штыковой выпад прямо в Витьку Королева. Оказалось, владеть автографом чемпиона вовсе не так просто. Но Витька не унывал. Ладно, ладно! Ехидничайте. Острите. Но больше всего ему досталось дома. Эдик — старший брат, студент четвертого курса, давно уже почему-то решил, что ни отец, ни мать не умеют воспитывать Витьку. И он вырастет или балбесом, или бандитом. И поэтому Эдик сам, добровольно взвалил на себя тяжелые обязанности воспитателя. Ох, уж лучше бы не взваливал! Эдик, очевидно, ждал младшего брата. Сидел в кресле, курил. Его ноги, длинные, сухие, как у кузнечика, и какие-то нескладные, торчали в разные стороны. А густая шевелюра лохматилась, как раздерганная ураганом копна. Эдик сказал: — Так. Я обещал тебе — как заядлому шахматисту — автограф Ботвинника. Ну? Сдержал я свое слово? — Ага, — кисло кивнул Витька. Он уже знал, что такое вступление ничего приятного не сулит. — Так. А ты, кажется, тоже что-то обещал? — Ага, — опять кисло кивнул Витька. — Что именно? И без того он знал, «что именно»! Но обязательно хочет, чтоб Витька повторил. Ну, раз хочет… Витька пробормотал: — Не получать двоек… — Итак, высокие договаривающиеся стороны взяли взаимные обязательства, — подытожил Эдик. — Учти: после первой же двойки автограф заберу. Понял? И Витька снова кивнул.
* * *
Прошло два года. Витька и раньше неплохо играл в шахматы, а теперь был уже признанным чемпионом школы. Да просто даже и неловко, имея такую доску, не быть чемпионом. Учился он теперь тоже сносно. Во всяком случае, без двоек. И даже троек не очень много. И вот однажды по школе пронесся слух: завтра, в Доме пионеров, будет сеанс одновременной игры. И дает сеанс не кто-нибудь — сам Ботвинник! Витька Королев, конечно, пришел на сеанс первым. И принес свою доску. Он еще дома долго обдумывал, как положить доску: написанным к Ботвиннику или наоборот? Решил: наоборот. Чтобы Ботвиннику было не прочесть. «Во время игры нехорошо его отвлекать, — сообразил Витька. — А когда кончится сеанс, я переверну доску. Он прочтет. И я поблагодарю его за автограф». А то действительно получалось глуповато: автограф есть, а самого Ботвинника Витька ни разу в глаза не видал. И «спасибо» сказать тоже не вредно. А может, Ботвинник еще и руку ему, Витьке, пожмет?! В кино всегда так — наградят чем-нибудь и руку потискают. Это бы здорово, если б сам Ботвинник на глазах у всех ребят руку — персонально Витьке!.. Сеанс длился долго. Почти три часа. Еще бы! Тридцать две доски. И на всех — самые лучшие шахматисты района. Были среди них даже перворазрядники. А игроков второго разряда — таких, как Витька, — чуть не половина. Витька начал игру, как в тумане. От волнения стал даже икать. Он всегда, когда волновался, икал. К счастью, дебют был хорошо знакомый: испанская партия. И Витька до одиннадцатого хода совсем не раздумывал: двигал фигуры, как во всех руководствах рекомендовано, и все. Так прошло более получаса. Витька постепенно успокоился. И голова прояснилась. И икота прошла. Возле Витьки, за его спиной, пристроились Изя и Алик. Они все время дергались, все лезли с подсказками, но Витька сурово шипел на них. Собьют только. Что с них проку, если Изе он дает коня вперед? Постепенно в сплошных шеренгах досок образовались пробелы. Этих зияющих проплешин становилось все больше, а самих досок все меньше… Вдруг раздались хлипкие аплодисменты. Витька удивленно оторвался от доски. А, это один мальчишка, вон там, в углу, выиграл у Ботвинника! Да, повезло парню! Остальные ребята сдавались один за другим. Вскоре остались всего две доски. Витькина и еще одного белобрысого мальчишки из соседней школы. Витька знал его, только фамилию забыл. Ботвинник все время ходил вдоль шеренги досок, а теперь, когда остались лишь две партии, он попросил белобрысого передвинуться поближе к Витьке, а сам взял стул и сел напротив. «Конечно. Устал! — мелькнуло у Витьки. — За три часа сколько километров отмахал!» Он оторвался от доски и первый раз за весь сеанс робко, но внимательно оглядел Ботвинника. Экс-чемпион был уже немолод, под шестьдесят, а Витьке он показался и совсем старым. (Витька всех, кому больше тридцати, считал стариками.) У Ботвинника был высокий крутой лоб и спокойные, строгие глаза за толстыми стеклами очков. Но долго разглядывать чемпиона у Витьки не было времени, и он снова погрузился в позицию. Ладейный эндшпиль. По две ладьи и по четыре пешки. «Пожалуй, ничья!» — подумал Витька. И Ботвинник, словно подслушав, сказал: — Ничья. Он как бы и спрашивал, и утверждал сразу. И Витька, стараясь скрыть радость, негромко подтвердил: — Да, ничья. Ботвинник кивнул, легким движением ладони смешал фигуры и передвинул стул к белобрысому — последнему своему противнику. Витька встал, облегченно вздохнул. Пока Ботвинник доигрывал партию с белобрысым, Витька все думал: как половчее показать ему доску? Но Ботвинник как-то очень быстро кончил партию и встал. «Сейчас уйдет!» — мелькнуло у Витьки. Медлить было нельзя. — Михаил Моисеевич, — сам не узнавая свой вдруг осипший голос, сказал Витька. — Я хочу вам показать… Вот… Автограф… Он торопливо повернул доску к Ботвиннику. — «Вите Королеву. Учись хорошо. Михаил Ботвинник», — вслух прочел экс-чемпион. В глазах его за толстыми стеклами очков вдруг промелькнули и удивление, и растерянность, и возмущение, и улыбка — все сразу. Он снял очки, протер их платком, снова надел. — Вообще-то… — негромко сказал он. — Обычно я предпочитаю писать на бумаге, а не на дереве… Он внимательно глянул на вмиг побледневшее Витькино лицо. Увидел настороженные лица Изи и Алика. На секунду задумался. — А впрочем… — сказал он. — Я только забыл — когда это я тебе написал? Тут нет даты… — Это — не мне. Это — брату… Для меня… Витька торопливо объяснил, как и когда был получен автограф. — В шахматы ты играешь неплохо, — медленно сказал Ботвинник. — А как мой наказ? Выполнил? Он пальцем ткнул в слова — «учись хорошо». Витька кивнул. — Ну, тогда… — сказал Ботвинник. Вынул из кармана шариковую ручку, щелкнул кнопочкой и под прежним автографом красным на белых клетках написал: «Молодец, Витя. Желаю успеха! Михаил Ботвинник». Он снова щелкнул кнопочкой, убрал перо и ушел. А Витька, Изя и Алик еще долго рассматривали два автографа. Они шли по белым клеточкам, по диагоналям, один под другим. Один — синий, другой — красный. Правда, почерк нового автографа немного отличался от старого. Да и сама подпись тоже не очень похожа. Но ведь столько лет прошло. Может же за столько лет измениться почерк?!* * *
На следующий день Витька сидел на химии, но учительницу почти не слышал. Снова видел он Ботвинника. Вот чемпион тронул рукой очки. «Вообще-то… Я предпочитаю… на бумаге, а не на доске… И глаза его. А в глазах — и удивление, и улыбка, и возмущение. Да, да! Именно — возмущение! Чем же? Чем он недоволен? Неужели?.. Голос химички совсем пропал, растаял где-то… Витька видел только глаза. За толстыми стеклами очков. Умные, холодные, жесткие глаза Ботвинника. «Вообще-то… Я предпочитаю на бумаге…» И возмущение… Там, в самой глубине глаз… Витька еле досидел до перемены. Бросился к Изе. Тот слушал спокойно и словно бы даже не удивился. — Факт, — сказал Изя. — Я еще тогда, на сеансе… Факт. Эдькины штучки. — А Ботвинник? Зачем же он… Признал? Изя усмехнулся. — Ну, просто… Ну, пожалел тебя… Вечером, когда Эдик вернулся из института, Витька сидел за столом и молчал. Только глаза его, мрачные и злые, неотрывно следили за братом. — Ты чего? — спросил Эдик. Он ходил по комнате, тощий, на длинных и нескладных, как у кузнечика, ногах. И, как всегда, лохматил шевелюру. — Чего? — тихо переспросил Витька. И вдруг взорвался. — Ты… Автограф… Милый подарочек… Ты… Ты… У него не хватало слов. И главное: в горле так сдавило, он боялся — сейчас заплачет. Только этого не хватало! — Чудак! — усмехнулся Эдик. — Ну подумаешь! Я же хотел, как лучше. И вышло совсем недурственно. И в школе ты — без двоек. И в шахматы… Цель оправдывает средства! — Что? — заорал Витька. — Цель оправдывает? Ни черта! Все равно это… Это — свинство!.. Свинство! Подлое свинство! Он чувствовал — сейчас заплачет, и, опрокинув стул, стремглав выскочил из комнаты.
 ТРУДНАЯ РОЛЬ
ТРУДНАЯ РОЛЬ
С. Чекану, заслуженному артисту РСФСРАртист Евгений Пивоваров, стоя под душем, с удовольствием вскидывал то одну руку, то другую, наклонялся, приседал, радостно, шумно, как морж, фыркал и звучно похлопывал себе по груди и бокам. Целый день шла съемка. Он еле дождался минуты, когда можно было сбросить с себя одеяние испанского гранда: широкий плащ, давно уже потерявший цвет, короткие, в обтяжку, штанишки, которые связывали его, как пеленки, бархатный камзол, пахнущий нафталином. В костюмерной уверяли, что одежда чистая, прошла дезинфекцию. Но Пивоварова преследовало ощущение, что все эти тряпки — пыльные, пропитаны чужим потом, чужими запахами. В длинной, разделенной на шесть кафельных клеток душевой молча мылись еще несколько артистов. Слышался лишь легкий звон и плеск упругих струек, да изредка в трубах всхлипывало и урчало. Повернувшись, Пивоваров вдруг обнаружил, что перед его кабинкой стоит режиссер Строков, дородный, бородатый, похожий на патриарха, с неизменным своим ассистентом Борисом Луминцем, которого все называли Лупитц, потому что кожа на его маленьком носике вечно лупилась, как на картофелине. Режиссер и ассистент молча пристально разглядывали моющегося артиста. Пивоварову стало неуютно: голому человеку не очень-то приятно быть объектом изучения. Он даже стыдливо повернулся спиной к Строкову. — А кажется, ничего… — прищурясь, задумчиво сказал тот ассистенту. — Ничего, — подтвердил Лупитц, сморщив свой розовый носик, будто собирался чихнуть. — Подойдет? — Пожалуй… Перекинувшись этими короткими, непонятными Пивоварову фразами, они замолчали и продолжали в упор, придирчиво разглядывать его, как дотошные покупатели — шкаф в мебельном магазине. «Чего им?» — удивился Пивоваров. Режиссер с ассистентом подождали, пока он вытерся, оделся. Втроем прошли в столовую. И тут, за столиком, Строков предложил Пивоварову сыграть заглавную роль в новом фильме, который скоро будет снимать. — А какая роль? — небрежно, стараясь скрыть свою радость, спросил Пивоваров. Он был еще сравнительно молод, работал в театре, а в кино снимался лишь в эпизодах, и такое неожиданное, почетное предложение очень польстило ему. — Чемпиона России. Борца. — Чемпиона?! — артист еще более удивился. — Но ведь тут нужны данные… Мускулы, фигура… — Ничего, — успокоил Строков. — Сложение у тебя — прямо Аполлон. Мускулатурку подработаешь. Всю дорогу домой Пивоваров улыбался. Шутка ли, такая удача! Главная роль! Дома Пивоваров снял рубашку, брюки, подошел к зеркалу, долго, придирчиво оглядывал себя. Из зеркала на него смотрел высокий, чуть огрузневший тридцатидвухлетний мужчина. В юности Пивоваров увлекался спортом, и следы этого сохранились до сих пор: развернутые плечи, прямая спина, хорошая осанка. Но только следы. Глядя в зеркало, он с грустью отмечал: грудь жирновата, и ноги тоже. И даже брюшко намечается. А главное, нет той мощи, которой всегда веет от борца-чемпиона, от его выпуклой, могучей груди, короткой, словно литой, шеи, широких покатых плеч, крепких, как колонны, ног. С трудом выждав несколько дней (для солидности, чтобы у режиссера не создалось впечатления, будто он не раздумывая хватает роль), Пивоваров сообщил о своем согласии. — Ну и отлично! — одобрил Строков. — Съемки начнутся в будущем году. А пока «тренируйся, если хочешь быть борцом!» — басом фальшиво пропел он, чуть переиначив слова популярной песенки. — Тренера достану. Через три дня Пивоваров пришел в спортивный зал Дома офицеров. На толстом мягком квадратном ковре, похожем на десятиспальный тюфяк, пыхтели два борца — полутяжеловеса. Огромные, массивные тела их лоснились, словно смазанные жиром. Один стоял на четвереньках, опираясь на локти и колени, и снизу настороженно следил за малейшим движением противника, а тот пытался перевернуть его на лопатки. На низкой скамейке сидели еще шестеро борцов, внимательно наблюдая за схваткой. — Мне бы Гургенидзе, — смущенно пробормотал Пивоваров, обращаясь к одному из спортсменов, здоровенному парню с тугим красным затылком и белыми, крупными, как клавиши, зубами. — А вот. — Тот показал глазами на высокого мужчину в синем тренировочном костюме. У него были иссиня-черные, коротко подстриженные волосы и такие же черные, быстрые, живые глаза. Тренер оказался в курсе дел. — А, товарищ артист! — воскликнул он, дружески тиская руку Пивоварову. — Нужен чемпион — сделаем чемпиона! О чем разговор?! Говорил он по-русски вполне правильно, но с легким кавказским акцентом. По его указанию Пивоваров разделся и сел на скамейку рядом с другими борцами. На ковре работала уже новая пара. Чувствовал себя Пивоваров неловко. Борцы были все молодые, кряжистые парни, перворазрядники. Артист понимал: рядом с их могучими фигурами, хранящими и сейчас, зимой, следы загара, сам он, белый, словно облитый простоквашей, и рыхлый, выглядит странно, пожалуй, даже смешно. Пивоваров боялся, что горячий, быстрый тренер сейчас предложит ему просто так, для пробы, помериться силами с кем-либо из сидящих. Вот уж будет забава для этих молодых, задиристых ребят, охотно скалящих зубы по любому поводу. Но грубоватый на вид тренер оказался деликатным: он словно забыл о Пивоварове. Все занятие не трогал его, давая успокоиться и приглядеться. И лишь когда спортсмены ушли и зал опустел, улыбаясь повторил: — Нужен чемпион — будет чемпион! О чем разговор?! Он заставил артиста сделать несколько гимнастических упражнений, побегать, попрыгать через скакалку. Кратко изложил основные правила борьбы и дал кое-какие советы. Назавтра Пивоваров поехал в спортивный магазин. Купил гантели и гирю-пудовку. Везти этот груз в троллейбусе было бы тяжело и неловко. Он оставил покупки у продавщицы, вышел на улицу, подозвал такси. Хотел взять сразу и гантели, и гирю, перенести их в машину, но заторопился, одна гантель выскочила из рук, гулко бухнулась на пол. Хорошо еще, никого не стукнула. Все стоящие в магазине разом поглядели на Пивоварова. Отныне жизнь Пивоварова резко изменилась. Как и многие артисты, он привык вставать поздно, часов в десять-одиннадцать. Да и то сказать: пока окончится вечерний спектакль, пока снимешь грим, переоденешься, доберешься до дому, поешь, то да се — раньше часу ночи не ляжешь. А иногда и в два. Но теперь тренер на обложке блокнота записал Пивоварову жесткий режим: «Подъем — 8 часов, зарядка — 8-30». — А спать когда? — растерялся артист. — С двенадцати до восьми все бока отлежишь. О чем разговор?! — А зарядка? Обязательно? — Совсем приуныл Пивоваров. Он уже давно отвык от нее. — Непременно! Нет зарядки — нет чемпиона! Ежедневно проходили и занятия в зале. Как на грех, на первой же тренировке Пивоваров случайно поцарапал себе лицо. — Кожа как у девицы, — сказал тренер. — Походит к нам, задубится, станет щека как подошва, — грубо пошутил кто-то из борцов. Царапина была пустяковая, но некрасивая: шла через всю щеку и даже взбиралась на нос. Жена, увидев ее, передернула плечами, но промолчала. И лишь уходя на работу, бросила: — Пудра на трельяже… Тело у Пивоварова ныло, будто его вчера сильно избили. Ныли руки и особенно плечи, ныли ноги, да так, что нельзя было притронуться к икрам, кололо в пояснице, шея не поворачивалась, словно одеревенела. «Это в первые дни. Потом пройдет», — успокаивал себя Пивоваров, но настроение почему-то не улучшалось. День у Пивоварова теперь был сжат, как под прессом. Зарядка, тренировки на ковре, кроссы. Жену Пивоваров почти не видел. Она уходила на фабрику — он еще спал. Возвращалась — муж был на спектакле. Приходил он — она уже спала. — Все не по-людски, — жаловалась жена. — У других роли как роли, а тут изведешься… Пивоваров иногда и сам жалел, что взялся за эту роль. Возни много, а будет ли толк?! Как добиться, чтобы на экране получился настоящий борец, а не жалкая подделка, которая всегда смешит и раздражает дотошных болельщиков?! Попробовал Пивоваров зайти в гримерную. Главный гример, тощий сутулый старик с косматыми бровями, был страстным любителем кино и изобретал такие штуки, что посторонним даже не верилось. Он с интересом выслушал просьбу Пивоварова, но помочь отказался. — Кино, батенька, это вам не театр, — наставительно и строго произнес он. — Вот в театре запросто из старой песочницы восемнадцатилетнюю красотку сделают, а из девчонки — беззубую ведьму. Там это раз плюнуть. Зритель от сцены далеко, ему не видны ни приклеенные носы, ни накладки на животе или спине. А в кино номер не пройдет! Не прилепишь же мускулы?! Возьмут вас крупным планом, и зритель сразу раскусит подделку. Да кроме того, — старик махнул рукой, — во время состязания все эти «мускулы» полетят к чертям… Броски Пивоваров отрабатывал сперва с чучелом и лишь потом — с живым партнером. Чучело было страшное: брезентовый мешок, набитый опилками и песком. Вместо головы — футбольный мяч. Руки есть, а ног нет. Оно напоминало сразу и снежную бабу, и огородное пугало. С чучелом все выходило гладко. Полусуплес, бросок через спину, — и чучело на лопатках. А с противником приемы «не шли», получались нечисто, с трудом. — Грязь! — укоризненно восклицал тренер. Особенно досталось Пивоварову, когда стали работать с учетом сценария. Артист прочитал его несколько раз. Это была история знаменитого русского борца (автор, вероятно, имел в виду Ивана Поддубного, хотя в сценарии чемпион носил другую фамилию). Этот борец-самородок чуть не до старости выступал во всех концах света и клал на лопатки всех своих прославленных противников. Это все было хорошо. Хуже, что в фильме мало показывалась личная жизнь чемпиона, его мысли и чувства. Зритель видел его главным образом на ковре или возле ковра. — Ничего, — успокоил Пивоварова режиссер. — Это первый вариант. Писатель сейчас дорабатывает. По сценарию в начале фильма будущего чемпиона бросает суплесом на ковер заезжий немец-гастролер. Сценка была очень эффектная. Немца играл артист Кобзев — опытный спортсмен. Он был рыжий и весь густо покрыт волосами: грудь, плечи, ноги, руки и даже пальцы. Этой своей «характерностью» Кобзев, наверно, и пленил режиссерское сердце. Кобзеву этот эпизод полюбился. И чуть не каждый день он порывался тренировать его. А когда тебя бросают суплесом и ты беспомощно летишь, переворачиваясь в воздухе и на мгновение даже теряя представление, где земля, а где небо, — ощущение малоприятное. Пивоваров всячески избегал усиленных повторных репетиций этого приема, советовал партнеру работать с чучелом. Но зловредный Кобзев утверждал, что с чучелом эффект не тот, и снова просил «подрепетнуть» понравившуюся ему сценку. Тяжела была и работа над шеей. Гургенидзе любил повторять: «Для борца шея, как пробковый круг для тонущего!» И Пивоваров вскоре убедился: правильный афоризм. Крепкая шея выручает борца в самом, казалось бы, безнадежном положении. Вот-вот положат его на лопатки, но он, по-кошачьи извернувшись, становится на мост. И как противник ни давит его, «дожать» мост не может. Но, чтобы устоять на мосту, надо ежедневно тренировать, «качать» шею, как говорят борцы. Занятие это нудное и утомительное. А бывало еще, тренер подойдет, когда ты стоишь на мосту, и сядет тебе на живот. И сидит, как на скамейке. А ты стой на мосту, хотя кажется, от страшного напряжения хрустнут шейные позвонки. Усталый, совсем закружившийся в непрерывном хороводе спектаклей, репетиций и тренировок, Пивоваров частенько думал: «Не везет! Сколько сил трачу на эту чертову борьбу! А у других роли врача, продавщицы, извозчика. Никакой специальной подготовки. Красота!» Часто теперь Пивоваров подходил к зеркалу, рассматривал себя. «Плечи стали шире, — с удовольствием отмечал он. — Бицепсы выросли…» Внешне он уже походил на настоящего борца. И очень обрадовался, когда однажды в зале за своей спиной услышал уважительный шепот парнишки из ремесленного училища: — Это кто? Из «Динамо»?.. Так незаметно прошло более полугода. Кончился подготовительный период. Начались съемки. В огромном центральном павильоне киностудии с утра до ночи стучали молотки, шаркали рубанки, звенели пилы. Плотники строили цирк. В дни съемок передние ряды густо заполнялись статистами: тут были и старики, и студенты, и девушки, и какие-то интеллигентные пожилые дамы. А на задних рядах, которые тонули в дыму (им пиротехники специально окуривали павильон, чтобы создалось ощущение «дали», перспективы), на задних рядах к скамейкам приколотили раскрашенные фанерные силуэты людей. Это была «толпа». Теперь, когда начались съемки, Пивоваров почувствовал себя уверенней. Колебания, преследовавшие его последние полгода — сумеет ли он сыграть борца, чемпиона, — кончились. Начались съемки — надо работать, некогда размышлять. Нагрузка была очень большая. Любую, даже самую пустяковую сцену на ковре перед съемкой повторяли много раз, добиваясь предельной четкости и выразительности каждого слова, каждого жеста. Артисты-борцы чуть не целые дни находились, как говорят спортсмены, «в разогретом состоянии». К концу дня Пивоваров бывал совершенно измочален. Были уже отсняты сотни метров, а Пивоваров, просматривая готовые эпизоды, так и не знал: удачна ли его работа, похож ли его чемпион на подлинного борца? Все как будто и неплохо, но все-таки твердой уверенности в конечном успехе не было. И только однажды она вдруг появилась. Пивоваров в тот день должен был бороться с турком Али-Гусейном и победить его. На репетициях точно установили ход схватки: захват руки на ключ, стремительный бросок и туше. Все эти приемы Пивоваров и Али-Гусейн (артист Самохин) повторили десятки раз, и казалось, сцена уже идет как по маслу. Но Пивоваров все же чувствовал неудовлетворенность: скованно, слишком напряженно велась борьба. Это ощущали и режиссер, и Гургенидзе. Трижды снимали эту сцену, и все неудачно. — Повторить! — басом скомандовал Строков. — Мотор! — Есть мотор! И эпизод начали снимать четвертый раз. Разгорячившись, Пивоваров вдруг словно забыл весь этот тщательно разработанный каскад приемов. Он схватился с Али-Гусейном по-настоящему. Неожиданным быстрым полусуплесом кинул его через себя, турок стал на мост, и Пивоваров начал яростно дожимать его. — Так, так! — оживившись, шептал режиссер. Оператор не отрывался от глазка. Пивоваров и сам чувствовал: сцена идет легко, живо, естественно. И когда потом просмотрели отснятые кадры, так и оказалось. Кто не знает, как делается фильм, тому не объяснишь тот подъем, то нервное напряжение, в котором пребывают все исполнители в период съемки. В эти месяцы все, начиная от костюмеров и осветителей и кончая режиссером, сценаристом и директором картины, теряют счет дням и часам, как на войне или у постели тяжелобольного. И Пивоваров, хотя уже привык к съемкам, в эти недели и месяцы чувствовал себя так, словно пульс у него вдруг резко участился, а тело, как в космосе, потеряло весомость. Как всегда, снимали сцены вперемежку: то из финала фильма, то из начала и середины; все путалось, к тому же некоторые эпизоды потом браковались, их надо было играть заново, и у артистов постепенно исчезало ощущение — много отснято или мало? Где конец? Только всеведущий режиссер, не расстающийся с истрепанным, исчерканным цветными карандашами сценарием, знал это. Поэтому Пивоварову показалось неожиданным, когда однажды небритый, осунувшийся Лупитц с шелушащимся, как всегда, носиком на бегу кинул, что завтра-послезавтра конец. И вдруг все оборвалось. Внезапно наступила тишина и спокойствие. Это было почти невероятно. Такое чувство знакомо морякам, когда восьмибалльная буря вдруг сменяется полным штилем. Съемки окончились. Правда, впереди было еще много работы: монтаж, «шумы», музыка и прочее. Но Пивоварова это уже не касалось. Первые два дня он отдыхал. Отдыхал примитивно, но о большем он пока и не мечтал. Много спал, сидел в сквере, полузакрыв глаза, подставив лицо ветерку и солнцу, кормил голубей на площади возле старой церкви. Так приятно было забыть о надоевших тренировках на ковре, о всяких суплесах, переворотах и захватах. Даже зарядку по утрам и ту забросил. В свободное время он с женой обсуждал планы поездки на Кавказ, разрабатывал пеший поход по Военно-Сухумской дороге. Так прошло несколько дней. Но вскоре Пивоваров почувствовал пустоту. Чего-то будто не хватало. «Отдых, как известно, быстро приедается», — подумал он и поехал на студию. Там, на одном из кабинетов, по-прежнему висела табличка: «Чемпион России». Здесь помещался штаб картины. Пивоваров потолкался в длинных коридорах студии среди артистов, операторов, художников, музыкантов, редакторов, режиссеров, всей этой пестрой, шумной и яркой «киношной» братии, наслушался всяких новейших известий и сплетен. Все шло как обычно. Однако непривычное ощущение пустоты и какой-то скованности не исчезало. «Что бы это? — обеспокоился Пивоваров. — Уж не заболел ли я?» Он пошел в буфет. Там встретил Строкова. Патриаршья борода режиссера за время съемок разрослась еще пышнее. — Ну как? — весело воскликнул Строков. — Бросок через бедро? Захват под ключ? — На ключ, — поправил Пивоваров и вдруг ясно почувствовал, как здорово соскучился он по пылкому, темпераментному Гургенидзе, и по смешливым ребятам перворазрядникам, и по мягкому борцовскому ковру. — Вчера видел твоего «кавказского человека», — продолжал Строков. — В бухгалтерии. Тренер там деньги за тебя получал. Последний раз. Да, влетел ты нам в копеечку! Но амба! Пивоваров вышел на улицу. Сверкал солнечными брызгами отличный денек. Небо было чистое-чистое, синее и блестело как эмалированное. Вдали, словно легкий, из марли, задник в театре, колыхался и дрожал нагретый воздух. Сняв шляпу, артист неторопливо шагал по бульвару. Хрустел песок под ногами. Листья на деревьях, промытые утренним дождем, были гладкие и блестящие, словно вырезаны из жести. Налетел ветер, и Пивоварову почудилось даже, что они загремели. До дома было далеко, но Пивоваров не сел в автобус. Больно уж хороша погодка! Он шел, наслаждаясь теплом и светом, и все-таки чувствовал: чего-то не хватает, что-то грызет его. Пересек площадь, миновал мост, потом посмотрел на часы и вдруг, неожиданно для самого себя, свернул к Дому офицеров. Сейчас как раз тренировка перворазрядников. В зале сумрачно, прохладно. На низкой, узкой скамье сидели человек пять спортсменов в трико и туфлях. Пара тяжеловесов работала на ковре. Тут же со свистком во рту и черным, сверкающим, будто напомаженным, ежиком волос стоял Гургенидзе. Пивоваров усмехнулся. Все это живо напомнило ему первый его приход сюда. Так же сидели коренастые, крутоплечие парни на скамье, так же на ковре сопели, как астматики, тяжеловесы, и так же блестели, словно лакированные, волосы у тренера. Встретили Пивоварова радушно. Чья-то крепкая ладонь весомо похлопала по плечу. Кто-то пробасил: — Привет чемпиону! Парень с крупными, как клавиши, зубами (его звали Котя) грубовато сказал: — Чего в штанах-то? Как гость стоишь? Но Пивоваров не раздевался. Студия больше не платит за него. Значит, и эксплуатировать Гургенидзе как-то неудобно. Тренер, вероятно, догадался о его мыслях. — Следующая пара «Лимонов — Рюмин, приготовиться Пивоварову — Мясникову, — скомандовал он. И вскоре Пивоваров в одних трусах уже топтался на ковре, атаковал, хитрил, защищался и снова наступал. А когда схватка кончилась, он, стоя под душем, почувствовал: на сердце снова легко и ясно. С мускулов слетело тягостное ощущение связанности, одеревенелости, сковывавшее их все последние дни. Тело опять было молодо, наполнено силой и взрывной энергией. «Э, нет, — усмехаясь, подумал он. — Из этого зала так запросто меня не вытуришь! Дудки!»

 БОРЬКА СО ВТОРОЙ ЛЕСНОЙ
БОРЬКА СО ВТОРОЙ ЛЕСНОЙ
Гигантский, сработанный из металла и бетона, красавец трамплин властвовал над местностью. Гордо вознесся он и над дачными домишками, и над трубой фанерного завода, и над вершинами самых высоких сосен.
Здесь, неподалеку от города, казалось, все стремилось к этому могучему трамплину. К нему сбегался веер дорог, к нему тянулись просеки в лесу, возле него свернулось, покорно легло кольцо трамвая и встала платформа электрички.
В будни зимой здесь тихо, пустынно. Но по воскресеньям, и особенно в дни состязаний, все оживало. Мелькали яркие костюмы лыжников, гремело радио, подкатывали трамваи, похожие на ежей. Огромного ежа напоминала и платформа электрички, ощетинившаяся остриями палок и лыж.
Нечего и говорить, что все окрестные мальчишки в такие дни теряли покой, а в классных журналах число двоек удваивалось.
Здешние мальчишки знали толк и в прыжках, и в слаломе. Они росли в зоне могучих притягивающих волн громадины трамплина. И такие слова, как «стол отрыва», «воздушная подушка», «гора разгона», вошли в их сознание значительно раньше, чем условия равенства треугольников и законАрхимеда.
В воскресенье утром Борька Филиппов со Второй Лесной вместе с братом шел по улице. Артем — уже студент и старше Борьки на семь лет.
У обоих братьев на плечах лыжи. Но у Борьки — обычные, легкие, а у Артема — настоящие прыжковые, широкие, длинные, особо прочные. Весят такие лыжи чуть не полпуда.
Борька на ходу то и дело здоровался с приятелями. Здесь, на улицах, ведущих к Большому трамплину, он знал всех мальчишек. Вместе учились в школе, вместе гоняли на лыжах. Мальчишки кивали Борьке, но глядели больше на Артема. Артема здесь все тоже знали: вырос тут. Но главное, Артем — классный прыгун.
Недаром Борька вышагивал такой важный! И в самом деле он чувствовал себя самым счастливым из мальчишек всей Второй Лесной и даже всего поселка.
Такой брат — не шуточки!
Борька с любовью оглядывает рослую фигуру Артема, его развернутые плечи. Даже под свитером чувствуется, какие у него могучие мускулы.
Когда Борька был поменьше, он любил подойти к брату, обхватить двумя руками его мягкий, как резина, бицепс и сдавить.
— Сильней, сильней! — смеясь, командовал Артем. Потом он вдруг напрягал руку. Эластичный комок внезапно оживал, вздувался, превращался в огромный булыжник и легко разрывал кольцо Борькиных пальцев.
* * *
…Братья неторопливо идут по улице. Утро веселое, солнечное. Снег брызжет голубыми и оранжевыми искрами. И тени на снегу тоже голубоватые. И далекий гудок электрички — тоже веселый и тоже, кажется, голубой. Артем, увидев лоточницу, подмигивает брату: — Умнем? Борька кивает. Они подходят к лотку; над сверкающим металлическим ящиком вьется вкусный парок. Продавщица знакомая, она достает из ящика четыре горячих пирожка с капустой: Артем всегда берет четыре, и всегда с капустой. На морозце пирожки такие вкусные, прямо тают во рту. Но особенно аппетитными кажутся они Борьке потому, что это Артем угощает. Борька украдкой скашивает глаза: видит ли кто-нибудь? Ага! Трое мальчишек из седьмого «б» смотрят на них, о чем-то шепчутся. …Артем с Борькой направляются к Большому трамплину. Борька остается внизу. А Артем медленно поднимается все выше и выше; вот он уже над холмом, густо поросшим соснами, вот уже и над лесом, выше, выше… Задрав голову, защитив ладонью глаза, Борька смотрит наверх. Скоро ли мелькнет там сжатая в упругий комок знакомая фигура? И вот вдали, высоко-высоко, по гладкому, словно накрахмаленному склону, летит лыжник в синем свитере. На таком расстоянии, конечно, не разобрать лица. И синие свитеры у многих прыгунов. Но Борька сердцем чует: это Артем! Лыжник скользит все стремительней. Вот он делает быстрое движение руками — взмахивает ими, как крыльями. И, кажется, у него вдруг и впрямь вырастают крылья! Оторвавшись от трамплина, летит он по воздуху, парит, наклонившись всем телом вперед. Как свободны, как естественны все его движения! Не отрывая глаз, следит Борька снизу за братом. Сколько пролетит? Пожалуй, за пятьдесят. Артем, описав плавную кривую в воздухе, снижается. Вот его лыжи коснулись снега. Так и есть! За пятидесятиметровой отметкой! Молодец, Артем! Глаза у Борьки сверкают, да не только глаза — весь он сияет! Рядом толпятся мальчишки. Все они на лыжах. И все с уважением глядят на Борьку. Будто не брат его, а он сам совершил этот отличный прыжок. Тренируется Артем долго. Еще и еще раз прыгает с трамплина. Выслушивает замечания тренера и опять прыгает. А Борька стоит внизу и терпеливо ждет. Так он может стоять и час, и два… Но вот — последний прыжок. Артем приземлился, резко затормозил и неторопливо идет к братишке. — Пойдем, Щолазик! — говорит Артем. «Щолазиком» он зовет Борьку. Когда тот был еще совсем карапузом, он, глядя, как Артем прыгает с гор, заливисто смеялся и кричал: «Що лазик!» (Еще разик!) Братья, сопровождаемые целой ватагой мальчишек, идут лесной просекой. Путь их — к другому трамплину, малому. Он только называется так — «малый», а на самом деле вовсе не такой уж маленький: с целый дом! Теперь старший брат стоит внизу, а младший — лезет на гору. Борька набирает скорость… Прыжок!.. — Резче выталкивайся, — говорит Артем, когда Борька подбегает к нему. — И руки посылай вперед… Борька опять карабкается на гору, снова прыгает, и Артем опять учит его, как добиться, чтобы прыжок получался длинным и красивым. Слушают Артема и другие ребята. Борька то и дело ловит их завистливые взгляды. «Нам бы такого тренера! — откровенно говорят эти взгляды. — Уж мы бы, как пить дать, поприжали чемпионов! Везет этому «Щолазику»! И Борька сам себе честно признается: да, повезло. Он радуется, когда кто-нибудь говорит: — Смотрите, до чего ж они похожи! И действительно, братья оба широкоскулые, курносые, светловолосые, и вдобавок — у обоих длинные, густые, косматые брови, которые вечно шевелятся, как маленькие зверьки. Борька подражает брату даже в мелочах. Говорит он тоже медленно и чуть с хрипотцой, как Артем. И тоже, когда читает или думает, теребит мочку уха. Под вечер Артем с Борькой возвращаются домой. После лыж дома всегда особенно хорошо. Тепло. Приятной тяжестью наполнены мускулы. Хорошо теперь полежать на диване, почитать или послушать радио. Борька очень любит эти «послетрамплинные» вечера. Обычно Артем, придя домой, сразу подсаживается к приемнику. Долго вертит чуткие эбонитовые ручки. В комнату врываются то звуки оркестра, то далекая чужая речь, то всплески, завывание волн, то какой-то грохот, будто ревет гигантский водопад. Звуки, звуки, воздушный океан весь полон звуками. Борька готов часами вслушиваться в этот непонятный хаос: как огромен, как необъятен мир! Но сегодня, едва вспыхнул зеленый глазок приемника, в прихожей раздался звонок. Кто бы это? Артем открыл. Вошел какой-то невысокий кряжистый парень в смешной вязаной шапочке с длинной, свисающей к уху кисточкой. — Хо! — обрадовался Артем. — Володя! Какими судьбами? Они прошли к Артему, в его кабинет. Это звучит важно — «кабинет», а вообще-то — маленькая каморка, отец сам отделил ее тонкой переборкой от большой комнаты, когда Артем поступил в институт. — Студенту нужен покой, — говорил отец. — Наука не терпит суеты. Борька остался один. Повертел ручки приемника, но одному неинтересно. Выключил. Взял книгу. Вдруг слышит, сквозь тонкую дощатую перегородку — голос: — Ну, чего упрямишься? — гудит, как шмель, парень с кисточкой. — Ну, чего… Артем молчит. — И Кавказ поглядишь. Бакуриани — это знаешь, какая красотища?! Артем молчит. — Ну, кто узнает? — вкрадчиво доказывает Володя. — И не за Америку ведь будешь выступать… За свою же советскую команду. Ну, не институтскую, а «Трудовых резервов». Эка важность! Борька холодеет. Повернувшись лицом к дощатой переборке, настороженно ловит каждое слово. Чего Артем слушает этого ловкача?! Выгнать — и конец! Ишь какой — переманивает… Артем всегда возмущался — как это подло, бросать товарищей, уходить в другую команду. Чего же он нынче молчит? — И всего ведь на недельку, — опять гудит этот Шмель. — А у тебя как раз каникулы… «Все учел, — думает Борька. — И каникулы, и что Артем давно насчет Кавказа мечтает. Хитрюга!» В кабинете становится тихо. Скрипит половица. Борька поспешно отскакивает к столу, хватает книгу, Еще подумают, что он подслушивает! Больно надо! Но из кабинета никто не выходит. По-прежнему скрипит половица. «Артем», — догадывается Борька. Брат всегда вот так — ходит, ходит, когда обдумывает что-нибудь. «А тут-то чего мыслить? — недоумевает Борька. — Прогнать — и все». — А как же… — в раздумье, медленно, с хрипотцой произносит Артем. — У меня же в паспорте — штамп института… «Что он говорит? — бледнеет Борька. — Что он говорит?!» — Это уж не твоя забота, — вмиг повеселев, гудит Шмель. — Шлепнут тебе заводскую печатку: «Принят». А пройдут соревнования — еще штемпелек: «Уволен». И концы в воду! — парень густо смеется. Опять скрипит, скрипит половица. — И учти, — командировочные, суточные, гостиница и все такое прочее, — небрежно подбрасывает парень, как продавщица — довесок. У Борьки загораются уши, пылают все ярче и ярче, как лампочки. Но тут в комнату входит отец. Он только что из города, весело распаковывает покупки, включает радио. Больше из кабинета ничего не слышно. Вскоре оттуда выходят Артем со своим гостем. Гость глядит на Борьку, потом на Артема, опять на Борьку… — Ого! — улыбается. — Кажется, я нынче не пил. А в глазах двоится. Это что ж — еще один Артем? В другое время Борька очень обрадовался бы. Но сейчас… Он молчит, в глазах его вспыхивают зеленые огоньки. Гость улыбается, что-то еще говорит. Борька молчит. — Пойдем, Володя, — хмурится Артем. — Это ж волчонок…* * *
Ночью Борька ворочается с боку на бок. Снится ему: какой-то лыжник в синем костюме хочет прыгнуть с огромного трамплина. Вот он появляется из люка… Разогнался… Вот уже готов оттолкнуться… Но тут трамплин вдруг обрушивается. И прыгун летит в пропасть. — Ой! — вскрикивает Борька. Но сидящий на судейской вышке судья-информатор почему-то не волнуется. Наклоняется к микрофону и внятно объявляет: «Прыгун хотел сжульничать, не надо, граждане, его жалеть». Борька тяжело сопит, натягивает на голову одеяло, что-то бормочет. И опять снится ему кошмар. Команда выстраивается. Ей должны вручить приз. Главный судья подходит с хрустальным кубком в руке к одному из прыгунов. Протягивает ему приз, но кубок вдруг превращается в стальные наручники, и они с лязгом защелкиваются на запястьях прыгуна. Утром Борька, невыспавшийся, бледный, наскоро проглатывает завтрак и убегает в школу. Артем еще спит: у студентов каникулы. И хорошо, что спит: у Борьки нет никакого желания разговаривать с братом. Когда Борька вернулся из школы, Артем сидел за столом и читал. Борька молча положил портфель, разделся. Молча сели обедать. Младший брат изредка украдкой бросает короткие взгляды на старшего. Тот выглядит как всегда. Спокоен, нетороплив. Это-то больше всего и возмущает Борьку. Как же так? Собирается сжулить, словчить. А спокоен — будто и не было вчерашнего разговора с тем жуком. И ухо теребит… Дурацкая привычка!.. В конце концов Борька не выдерживает. — Значит, едешь? — спрашивает он. — Бакуриани. Это такая красотища… — Значит, подслушиваешь?! — перебивает Артем. — Вы б орали громче! — злится Борька. — Больно мне надо подслушивать! Слышал, а не подслушивал! Артем молчит. Умолкает и Борька. Они долго едят в тишине. — Ведь не за Америку я буду выступать, — негромко произносит Артем. — Своя же команда, советская… — Только не институтская, а «Трудовых резервов»! — весь кипя, подсказывает Борька. Надо же! Артем, его замечательный Артем, будто наизусть зазубрил слова того жулика с кисточкой. И теперь кроет ими, как собственными. — И Кавказ я давно хочу посмотреть, — говорит Артем. — А тут такой случай… Борька молчит. Много мог бы он сказать брату. Но к чему говорить, когда тебе тринадцать, а брату двадцать?! Разве послушает? Взрослые — они всегда уверены, что во всем правы… И все-таки Борька попробовал. Когда Артем уходит в свою комнату, он бросается к брату, обнимает за шею и горячо шепчет: — Ну, не надо! Останься! Это же обман! Не надо… Артем отстраняет его. — Мал ты, Щолазик! — спокойно говорит он. — И многого не понимаешь. А жизнь — штука сложная!..* * *
Да, жизнь — сложная штука, это Борька уже почувствовал. Как же так получается: Артем, тот самый Артем, который до вчерашнего дня был для него самым родным, самым честным, самым прямым, самым уважаемым человеком, вдруг оказался обманщиком?! И зачем Артему это жульничество? Прокатиться на Кавказ? Подумаешь! Подождал бы и со своей командой куда-нибудь махнул. Вон в прошлом году ездили же они в Москву. «Это, наверно, и есть легкомыслие, — думает Борька. — Артем — легкомысленный, факт. Отец сколько раз ему твердил: «Не доведет тебя легкомыслие до добра». Так и есть!» У Борьки еще теплится надежда: а вдруг все сорвется?! Очень даже может быть! Отменят состязания. Или команда «Трудовых резервов» почему-то не сможет ехать. Или окажется, что этот жук с кисточкой набрехал… Но назавтра Артем рано утром уезжает в город, возвращается под вечер и сразу вытаскивает чемодан. Укладывает туда свой синий свитер, брюки со штрипками — у всех прыгунов такие, вязаную шапочку с помпоном, как у малышей. Потом придирчиво осматривает лыжи, свои чудесные лыжи из редкого, особо прочного дерева — гикори. Заботливо проверяет Артем крепления на каждой лыже, специальные горнолыжные крепления, сверкающие сталью пружин и зажимов. Потом так же дотошно ощупывает, чистит свои крепкие прыжковые ботинки. Борька очень любит помогать брату перед состязаниями. Но сегодня у него нет сил смотреть на эти сборы. «Ты еще понюхай, полижи!» — зло думает он, глядя, как брат ласково проводит рукой по скользящим поверхностям лыж. А когда Артем бритвенным лезвием соскабливает старый лак и наждачной бумагой тщательно шлифует лыжи, Борька не выдерживает. Обычно он сам, правда, под пристальным наблюдением Артема, драил лыжи наждаком, а тут… Борька чувствует, что сейчас он или заплачет, или насмерть разругается с Артемом. И он уходит. Уходит на весь вечер к приятелям. Пусть Артем собирается без него. И уезжает без него. Пусть… На улицах сумерки. Тихие, стоят вдоль заборов шеренги стройных сосен. В садах торчат корявые, будто изломанные ветки яблонь. А небо опустилось так низко, кажется, висит на макушках сосен. Шагая по улицам, Борька думает: да, сложная штука — жизнь. Вот уезжает Артем, и — хоть лопни! — никак не отговорить его. А ведь нельзя ехать, нельзя! Сам потом пожалеет — да будет поздно… Сказать отцу? Пусть воздействует? Нет, отец не станет вмешиваться. Артем, мол, уже взрослый, сам знает, что делает. Как удержать Артема? Как? Да, сложная штука — жизнь… Борька вдруг замечает, что, шагая, он теребит ухо, как Артем, и с досадой отдергивает руку. Вот еще, научился!.. Но что делать? Мчаться на вокзал, перехватить там Артема? Все одно — не послушается… Поехать в институт, где учится Артем? Ну, и что? Да и нет там никого — вечер уже… И вдруг Борьку осеняет. Письмо! Написать туда, на Кавказ… И все-все рассказать. Пусть там разберутся. Не допустят Артема к состязаниям. И этому, с кисточкой, всыплют. Идея нравится Борьке. Но, поразмыслив, он начинает колебаться. Это ведь — вроде кляузы. Или доноса… И на кого? На собственного брата, родного брата! Да, сложная штука — жизнь! Обидно, что самые простые, честные поступки, а делать почему-то очень тяжело. «Но ведь я прав! Прав! Я прав, — на ходу яростно убеждает себя Борька. — А Артем когда-то говорил: за правду надо воевать! Вот! Сам Артем говорил…» Долго еще мучается Борька. Трудно следовать велению долга, когда тебе всего тринадцать лет, а выступать надо против собственного брата. Он возвращается домой. Артема нет. «К Томке своей… Прощаться побежал», — догадывается Борька. Берет перо, чернила. Пишет он медленно, мучительно, обмозговывая каждое слово, и вдобавок боится — не наляпать бы ошибок. Теперь нужен конверт. У Борьки конверты не водятся. К чему? За всю свою жизнь Борька пишет, кажется, всего третье письмо. Да, точно. Третье. Одно — домой из лагеря, второе — маме в больницу, когда она еще была жива. Борька заходит в кабинет к Артему. Лезет в стол к брату, в верхний правый ящик. Достает конверт, ищет марку. Потом задумывается. Как-то ему не по себе. Неприятно брать конверт у Артема. Ну его… Накинув тужурку, Борька мчится на почту. И вот он уже опять дома. На конверте крупно выводит: «Грузия. Бакуриани». Это он слышал. Артем говорил, что Бакуриани — это поселок где-то в горах, в Грузии. Только, как правильно — «риани» или «реане»? Два «и» или два «е»? На всякий случай Борька пишет одно «и» и одно «е». «А дальше как?» — Борька грызет пластмассовый кончик ручки, дергает себя за ухо. «Начальнику лыжных состязаний», — наконец пишет он. «А есть ли на состязаниях начальник?» Задумался и, чтобы письмо наверняка дошло, добавляет на конверте: «Или самому главному судье». Хватает тужурку, хочет бежать к почтовому ящику, но тут его снова одолевают сомнения: «А так ли? Хорошо ли? Как ни крути, выходит… ябеда». «Но ведь я прав! Прав! Прав!» — опять яростно доказывает себе Борька. Однако вековечный мальчишеский закон — не фискалить — въелся в него намертво. Борька вертит письмо в руках, разглядывает. Красиво получилось. И марка села в углу ровно, как впаянная, и адрес — без единой помарки. Обидно — неужели все зря?! Он скидывает тужурку, бросается на диван. Да, сложная штука — жизнь. Долго лежит так. Потом вскакивает и сердито рвет письмо. Пополам и еще пополам, и еще… На мелкие кусочки. Уткнувшись головой в диванную подушку, он чуть не плачет от ярости и обиды. «Что же все-таки делать? Что?..» И вдруг он находит… Замечательный выход! Такой простой и такой чудесный! Как он раньше не сообразил?! Борька даже повеселел. И почему-то сразу почувствовал, что здорово голоден. Еще бы! От расстройства, кажется, забыл пообедать. Точно, не обедал. Идет к буфету, отрезает толстый ломоть хлеба, кладет на него кусок ветчины и с аппетитом жует. Смотрит на часы. Половина десятого. Поезд у Артема в одиннадцать. Из города в одиннадцать. А до города — еще сорок минут на электричке. Так… Значит, Артем скоро явится от своей рыжей Томки. Пора… Борька идет в кабинет к Артему. В углу стоят связанные, в распорках лыжи и маленький кожаный чемодан. Все упаковано, все готово к отъезду. Борька берет лыжи. Черт, тяжелые! С полпуда. Такие тащить — упаришься. Торопливо развязывает лыжи, одну оставляет, а другую выносит в прихожую. Надевает тужурку, берет лыжу, хочет идти. «Так-то, Артем! На одной лыже не очень-то распрыгаешься!» И вдруг останавливается. А что, если Артем все-таки поедет? Возьмет у кого-нибудь лыжи и поедет?! На чужих, правда, далеко не Прыгнешь. Но все-таки… Он возвращается в кабинет, быстро обшаривает его взглядом. Ага! На столе — железнодорожный билет. Годится! Борька торопливо сует его в карман. «Вот теперь — порядочек!» Берет лыжу и уходит. Он идет по заснеженным улицам. Темно. Лишь изредка мерцают оранжевые, расплывчатые в тумане пятна фонарей. Борька шагает к приятелю. Прохожие удивленно поглядывают на мальчишку с одной огромной лыжиной на плече. Но Борька не замечает этих взглядов. Сложные чувства бороздят его душу. Мысленно он видит прежнего Артема — такого замечательного, сильного, благородного. Нет уже этого Артема! Никогда не назовет он братишку «Щолазиком», никогда не пойдут они вместе, на зависть всем мальчишкам, к трамплину, не купят пирожков с капустой, таких вкусных, горячих, прямо тающих во рту. И хотя Борьке сейчас вовсе не хочется этих пирожков, сердце у него щемит. Да, тяжело. Сам сломал дружбу с Артемом… Брат не поедет в Бакуриани. Для всех он останется прежним, честным Артемом. Для всех, но не для Борьки… Борька вздыхает, ускоряет шаги. И все же он доволен. Настоял на своем, помешал этому… с кисточкой… Плохо ли, хорошо ли, а Артем дома. На ходу Борька перекидывает тяжелую лыжу на другое плечо и ухмыляется: «Так-то, Артем!»
 ПОСЛЕДНИЙ ТУР
ПОСЛЕДНИЙ ТУР
Есть школы, славящиеся своими следопытами, а есть школы, знаменитые своими математиками. Есть школы с лучшими в городе «КВН-щиками», и есть «волейбольные» школы, из года в год забирающие призы на состязаниях.
64-я школа была шахматная. Этой древней игрой здесь увлекались все: и мальчишки, и девчонки, и десятиклассники, и малыши. Остроумцы объясняли это тем, что сам номер школы — 64 — «шахматный»: ведь известно — на черно-белой доске 64 клетки.
Борис Никитин вечером шел на турнир. Шел пешком, хотя до Дворца пионеров было семь трамвайных остановок. Но… Ботвинник на игру всегда ходил пешком. Борис нарочно вышел за час до начала. Можно идти вот так, спокойно, неторопливо. Глядеть по сторонам. И не думать о шахматах, о предстоящей схватке. Вон электрики ремонтируют уличный фонарь. Фонарный столб, оказывается, полый. И сидит на длинном металлическом штыре. Столб подняли, и теперь он торчит как-то непривычно высоко, а сам фонарь завернулся в сторону и глядит не на мостовую, а наискось — на панель. А из штыря вылез целый пук проводов. Борис постоял, посмотрел, пошел дальше. А вот — девушка. Сапожки яркие, высокие и так плотно облипают ногу, ну совсем как чулки. Симпатичная девушка. И главное — ноги. Ну, прямо как у Брижит Бардо. А вот мальчишки окружили автомашину, стоящую у панели. Машина длинная, широкая, с неестественно вытянутым багажником. И посадка — непривычно низкая. И фары, как гаубицы. «Иномарка, — подумал Борис. — «Мерседес»? Нет, кажется, «фиат». Но он был не уверен. А протискиваться, чтоб разглядеть, не хотелось. Он шагал и шагал. И все-таки нынче никак не удавалось целиком отвлечься, забыть о шахматах. Последний тур! Не шутка… Главное, и у него, и у Ильи Немировского — по девять очков. Последний тур решит, кому быть чемпионом города. В зале Дворца пионеров было полно ребят. И особенно много — из 64-й школы. Каждый из мальчишек перед началом этой ответственной партии считал своим долгом подойти к Борису, похлопать его по спине или по груди и обязательно сказать что-то бодрящее, оптимистическое. Борис кивал всем, старался улыбаться, что-то отвечал. Кивнул он и Семену — своему однокласснику, а сегодня — волею жребия — противнику. Семен был невысокий, рыженький, очень смышленый. Физик однажды, когда Семен, вовсе не по учебнику, а совершенно по-своему вывел какую-то хитрую формулу, даже заявил, что у Семена Крюкина «весьма развито логическое мышление». А у физика попробуй дождись похвалы! С тех пор мальчишки дразнили Семена Сократом, но все-таки поглядывали на него с уважением. А вообще-то в классе Семена недолюбливали. Был он хмур и нелюдим. И главное, какой-то предусмотрительный. Или расчетливый, что ли? Говорили, отец у него — важный плановик. Кажется, начальник планового отдела. В общем, что-то планирует. Вот и Семен, — ничего не сделает попросту, как другие мальчишки. Нет, все обдумает, взвесит, спланирует заранее. Борису иногда казалось, что Семен и в жизни хочет каждый свой поступок рассчитать, как шахматный вариант. Вместе они учились уже три года. Нет, друзьями они не были. Так, одноклассники… В общем-то, Семен, пожалуй, даже нравился Борису. Толковый. И читал все на свете. Только — хитер… Ух, хитер! Правду говорят: человек проявляется в игре. Точно. Семен в шахматах больше всего любил запутанные, головоломные позиции. Там он чувствовал себя, как комар на болоте. Изворотлив был, и цепок, и остер, и находчив. И варианты считал, как электронная машина. Ровно в шесть судья пустил часы. Борис взглянул на Семена и двинул пешку от короля. Партия началась. За соседним столиком, сидя спиной к Борису, играл его главный конкурент — Илья Немировский, огромный, почти двухметровый парень. Было непонятно: почему он занялся шахматами, а не баскетболом? Он, как и Борис, тоже имел первый разряд. Тоже учился в десятом классе. Но в другой школе. И сейчас все болельщики из 64-й школы молили бога, чтоб «этот длинный» проиграл. Вот уже два года подряд чемпионом города становился кто-либо из 64-й. Так неужели же теперь славная традиция нарушится?! Борис играл спокойно, стараясь не горячиться. Главное, не зарываться. Иногда он вставал, неторопливо, словно бы нехотя, подходил к соседнему столику. У Ильи Немировского партия явно клонилась к ничьей. Ну, что ж! Значит, в крайнем случае, и он может сделать ничью. Будут два чемпиона. Хотя, нет! По глазам своих ребят, по их беспокойству, Борис чувствовал: ждут, чтобы он выиграл. Но как?! Семен Крюкин играл спокойно. Сделав ход, он вставал, и, заложив руки за спину, солидно прогуливался по сцене. На нем был глухой черный свитер с огромным белым оленем, вышитым на груди. При каждом шаге олень дергал тяжелыми ветвистыми рогами, и, казалось, готов ринуться на соперника. Семен играл очень четко. Дебют — до 14-го хода — он вел по неоднократно описанной схеме. Потом Борис нарочно сошел с теоретической тропинки. Надо же как-то обострять борьбу! Но Семен не принял вызова. Он, так любящий всякую головоломную путаницу, сегодня играл спокойно, аккуратно и точно. Ребята из 64-й волновались, собирались группками, шушукались, горячо обсуждали варианты, торопливо передвигая фигурки на карманных шахматах. Борис старался не глядеть в зал. Он попробовал атаковать, хотя сам чувствовал — вряд ли есть шансы на успех. И Семен быстро доказал это: перебросил коня на королевский фланг, и сразу стало ясно, что атака захлебнется. Борис задумался. На доске оставалось не так уж много фигур. Партия неумолимо катилась к ничьей. А надо было выигрывать. Непременно. Но как?.. После долгого раздумья Борис передвинул слона. Собственно, особого смысла в этом не было. Так, выжидательное маневрирование. Но притом ход таил маленькую ловушку. Если черные проявят беспечность, последует скромное — слон С4, и, как ни странно, пешка незащитима. А с лишней пешкой!.. О, с лишней пешкой мы повоюем!.. Семен задумался. И красавец олень у него на груди сжался, опустил голову, словно бы тоже задумался. Семен поглядел на Бориса. Снова перевел взгляд на доску. Потом опять — на Бориса. Взгляд у Семена был какой-то странный. Словно глядел он на фигуры, а думал о чем-то совсем другом. Наконец хлестко щелкнула кнопка часов. Семен сделал ход. Борис изумился. Семен не заметил ловушки! Семен… Такой проницательный, такой всевидящий!.. Вот повезло! Дальше события понеслись вскачь. Борис выиграл пешку, потом, сдвоив ладьи по открытой вертикали, вынудил размен их. А потом разменял и слонов, и тогда сразу выяснилось, что пешечный эндшпиль для черных безнадежен. Семен остановил часы. Борис встал из-за столика, спустился в зал. Ребята из 64-й школы тотчас окружили его, хлопали по плечам, улыбались. Подошел и Илья Немировский, могучий, как боксер-тяжеловес. И, как у боксера, уши у него были сплющенные и плотно прижаты, словно бы приклеены к голове. — Поздравляю. — И я — тебя, — ответил Борис. — Второе место — это тоже неплохо. И разница-то… Всего пол-очка. — Да, — прогудел Илья. — Всего пол-очка. Он усмехнулся: чуть оттянул вниз и влево уголки губ. — А я, между прочим, так и знал… — Что? — Я был уверен: ты сегодня выиграешь. — Ну, не скажи! Семен — крепкий орешек! — И все-таки, — негромко, но упрямо повторил Илья. — Я не сомневался. Он снова чуть опустил влево кончики губ, едва заметно, в обычной своей кривоватой усмешке. И отошел неторопливо и солидно, тяжелый, как крейсер.
Борис поехал домой. Автобус был сдвоенный: такие совсем недавно появились в городе. Был он почти пустой и поэтому казался особенно длинным, почти как вагон электрички. Борис встал в центре на огромный металлический круг, соединяющий оба кузова. При каждом повороте круглая площадка чуть шевелилась и перемещалась под ногами, как живая. Забавно! Борис ехал и думал. «Вот я и чемпион! Да, чемпион!» Он всегда радовался победе. Ну, а нынче — особенно. Чемпион города! Звучит! Правда, чемпион среди юношей. Но и Спасский когда-то был — среди юношей… В автобус вошли две девушки. Они прошли в самый конец прицепа. Там, видимо, сильно трясло. Девушки подпрыгивали на каждой выбоине, вскрикивали и смеялись. Были они до удивления схожи: обе тоненькие, светловолосые, с одинаковым разрезом глаз и одинаковыми маленькими аккуратными носиками. И одеты они были одинаково: светло-коричневые искусственного меха пальто, такие же шапочки и черные замшевые сапожки. И когда смеялись, вскрикивали и ахали тоже одинаково. «Двойняшки, наверно», — Борис улыбнулся. Девушки улыбнулись в ответ, но тотчас поджали губы и отвернулись. «Чего это я? — подумал Борис. — Еще решат — пристаю…» Он тоже хотел отвернуться, но девушки были такие забавные и на душе у Бориса было так славно… А тут еще поворотный круг под ногами вдруг зашевелился и поехал влево. И Борис тоже поехал… Он засмеялся. Но девушки сделали вид, что все это их вовсе не интересует… Домой Борис, как ни странно, пришел хмурый. В дороге что-то случилось (он не мог понять — что?), но вдруг настроение у него резко покатилось вниз. Что-то мелькнуло, вонзилось, как заноза, и торчит. Мешает, тяготит. Непонятно. Выиграл же, выиграл! И чемпионом стал. Так почему же?.. Он включил магнитофон, пил чай с сушками и слушал. Негр густым, как нефть, глубоким, черным голосом пел под гитару. Пел яростно, буйно. Так, будто рвал оковы. Борис плохо знал английский, но все же ухватывал… Общий смысл. Он любил эти песни. Коллекционировал их. Бывало скучно, тоскливо, а наладит магнитофон, услышит этот сочный, прямо из души рвущийся голос — и сразу как-то все мелкое, плохое отодвигается, уходит. Он пил чай с сушками, слушал негра, но сегодня легче почему-то не становилось. «Что за ерунда?! — разозлился он. — В чем дело? Ну, по пунктикам». Это было любимое изречение их физика. «Итак — по пунктикам. Перетряхнем весь сегодняшний день». Пунктик первый: школа. Борис лег на диван и, глядя в потолок, стал скрупулезно восстанавливать все, что было сегодня на уроках. Так… Отвечал по физике. Вроде бы неплохо. Во всяком случае, физик четверку соблаговолил… А у Адольфа Михайловича четверка — это как у других пять с плюсом. Так… Ну, Надька на перемене все шепталась с этим длинным из 10 «б» Володькой Гуриным. Ну и бог с ней, пусть шепчется. Ну, что еще?.. На большой перемене Махонин поведал свою тайну. Уже раз пять намекал. А тут удостоил. Раскрылся. Оказывается, он твердо решил посвятить свою жизнь исследованию океанских глубин. И уже сейчас начинает тренировки. Ну что ж, морское дно — это вещь… А впрочем, у Кольки каждый год — новое. И каждый раз — твердо, на всю жизнь! Так… Ну, после школы — домой. Обед. Посмотрел еще раз сицилианскую. Семен ведь всегда играет черными сицилианку. Так… Потом пешком на турнир. «Черт! Вроде бы все… А почему же — кошки скребут?» Он встал, походил по комнате. Стал ход за ходом мысленно разыгрывать сегодняшнюю партию. Да, сицилианка. Шевенингенский вариант. До тридцать второго хода — все гладко, без особых эмоций. А вот тридцать третий!.. Он покачал головой. «Как это Семен так бездарно вляпался?.. В примитивную ловушку?» Да, а вообще-то была бы ничья. И тогда с Ильей Немировским делил бы первое-второе места. А так — чистое первое. Он вспомнил, как после тура к нему подошел Немировский. Наверно, не так-то сладко было этому битюгу. А все же собрался с духом, подошел. И поздравил. Вспомнил кривоватую усмешку Ильи. Его слова: «А я, между прочим, так и знал… Был уверен…» Стоп! Так вон оно!.. «Был уверен…» И эта ухмылка… Намек?! Да, конечно! Как он сразу не понял? «А я, между прочим… был уверен: ты сегодня выиграешь». Бориса аж зазнобило. Значит?.. Но это же свинство!.. Мерзость! Подлость! Этот тяжеловес, значит, думает, что Семен нарочно… Да, нарочно! Умышленно проиграл. Чтобы вывести его на первое место. Именно: помочь своему однокласснику. Он рывком выключил магнитофон. Бросился на диван. Несколько минут он не мог сосредоточиться. От обиды и злой несправедливости что-то словно взрывалось, лопалось в голове. «Ну, брось, — наконец строго прикрикнул он на себя. — Кончай истерику. Разберемся. По пунктикам». Итак… Какие у Ильи основания?.. Пунктик первый. Партия шла ровно. А потом Семен зевнул ловушку. Случайность? Или?.. Он прикрыл глаза. Задумался. И сразу память услужливо, как официант в заграничных фильмах, преподнесла… Вот Семен за доской… Ерзает, то и дело встает, подходит к соседнему столику. Там, где играет Илья Немировский. Тогда, во время партии, Борису казалось: ну и что? Обычное любопытство. Но теперь… Теперь… Зачем же Семен так часто сновал к соседнему столику. Неужели для ориентировки?.. «Если Немировский проигрывает, тогда — он понимал — мне достаточно ничьей. И первое место — у 64-й школы! Если же у Немировского ничья…» Борис заворочался. Пружины в диване тяжко охнули. «Да, если у Немировского ничья, мне нужна победа…» Ах, черт! То-то «скорострел» Семен нынче так медленно вел партию. Думал над каждым ходом. Даже самым очевидным. Значит, нарочно? Тянул время? Выжидал?.. А ловушка… Когда я поставил ловушку? Да, как раз в тот момент, когда этот Немировский вничью кончил свою партию… Неужели же?.. Семен потому и решил… проиграть? И опять — натужно скрипят пружины. И опять — память, как услужливый официант… Вот кончилась их партия. Семен жмет ему руку. И белый олень у него на груди тоже кивает Борису ветвистыми рогами. Мол, поздравляю. Мол, чемпион. Борис глядит прямо в глаза Семену. И видит: горечи нет в его глазах. Ни горечи, ни боли, ни злости. Таких обычных после проигрыша. — Восьмой или девятый… A-а! Ерунда! — махнул рукой Семен, когда Борис сказал что-то утешающее. И олень тоже качнул рогами: мол, ерунда. И в самом деле! Что для Семена этот проигрыш?! Займет он восьмое место или девятое — невелика разница! А главное, может, он хотел подкатиться к ребятам? К одноклассникам?.. От этой мысли Борису стало совсем нехорошо. А что?! Очень даже возможно! Хитер Семен Крюкин! Знает, что в классе его недолюбливают. Вот и придумал… Смотрите, какой я патриот! Для своих товарищей, для своей школы ничего не пожалею. Даже проиграть готов… Неужели так?..
…Ночью Борису не спалось. Он ворочался в постели, ерзал, что-то бормотал. Утром, выпив лишь стакан чаю, — мать даже встревожилась: не болен ли? — заспешил в школу. Ребята в раздевалке встречали его шумно, тискали руку, похлопывали по плечам, даже попытались качать. Оказывается, все уже знали, что он стал чемпионом: утром передали краткое сообщение по радио. Его поздравляли, а он хмурился, говорил какие-то слова, а сам все шарил глазами: где Семен? Еще не пришел? Появился Семен перед самым звонком, запыхавшийся, суетливый. Он всегда опаздывал. Был он в серой вельветовой куртке, длинной, на тоненькой «молнии», тоже длинной — от шеи почти до колен. Едва Семен плюхнулся за парту, вошел физик. Ну, у Адольфа на уроке не побеседуешь. Борис почти не слышал, что объяснял физик. Вернее, слышал, но все шло как-то мимо. Семену он послал записку: «Есть разговор». Тот обернулся, кивнул. И вот — перемена. Семен, стоя в проходе между партами, ждал Бориса. — Ну? — Выйдем, — сказал Борис. Они вышли в зал. Тут на щите уже висел плакат: «Новому чемпиону, Борису (почти Спасскому!) от всей 64-й, гип-гип ур-р-ра!» И красной тушью, крупными мазками, нарисован Борис. И на голове — корона. «Шурки Михалева творение», — подумал Борис, проходя мимо. Шурка всегда безотказно малевал все срочное. Несколько движений кисти — и портрет готов. Иногда получалось даже похоже. Борис увел Семена вниз. Там, в самом конце лестницы, был темный, уютный тупичок. — Давай так — правду, только правду, и ничего, кроме правды. Идет? — сказал Борис. Семен пожал плечами. Он стоял, дергая вверх-вниз пластмассовый язычок «молнии». С мягким шуршанием она открывалась и закрывалась. — Ты вчера нарочно? Проиграл партию? — в упор спросил Борис. Семен усмехнулся, посмотрел ему в глаза. — А тебе зачем? Проиграл, и все. — Он неторопливо раздернул «молнию», и лихо, с треском задернул. — А ежели бы и нарочно — тогда что? — Нет, ты не финти, — Борис нахмурился. — Договорились же: правду, и только правду… — Ну, что ж, — Семен оглянулся. — Мы тут одни. Без свидетелей. Правду? Пожалуйста. — Он снова оглянулся. — Да, я нарочно… Но учти — на благо школы… Скумекал? Борис схватил его за плечи. — На благо школы?! А меж глаз — хочешь? Еще секунда — и он ударил бы Семена. Но тот рванулся, отскочил. — Поберегите нервы, сеньор! — Семен побледнел, но старался говорить насмешливо. — Быстро у тебя чемпионские замашки прорезались. Чуть что — и меж глаз! — Он одернул смятую куртку. — И вообще — чем ты недоволен? Радоваться должен, чемпион. Он с треском защелкнул «молнию» и ушел. А Борис еще долго стоял в тесном, темном тупичке. Стоял молча, неподвижно. Где-то справа, наверху, зазвенел, залился звонок, а он все стоял, привалившись плечом к стене, Борис Никитин, новый чемпион. И радости не было у него в душе. Наоборот: было пусто, и гадко. Будто сделал он что-то мерзкое, подлое. «Но ведь я не виноват?! Я-то ни при чем!» — твердил он сам себе. И все-таки горечь не проходила.

 СУДЬИ РЕШИЛИ…
СУДЬИ РЕШИЛИ…
Геннадию Шаткову — неоднократному чемпиону страныБорис Щетинин долго разглядывал фотографию Пьера Соммера. Да, ничего не скажешь — симпатичный парень. Корреспондент изловчился: заснял его в тот момент, когда Пьер, смеясь, вскинул на огромной ладони, высоко над головой, своего трехлетнего сына. Карапуз, очевидно, уже давно привык к подобным трюкам: не робея, восседал на отцовской ладони, где-то под самым потолком, в восторге дрыгал толстыми ножонками, и вся его милая мордашка расплылась от счастья. Такая же улыбка освещала и лицо Пьера Соммера. Борис взял другой журнал. Опять Пьер Соммер. На этот раз — на ринге. О, тут он совсем иной! Тяжелый взгляд исподлобья, тяжелые, чуть сутулые плечи, широкие брови (наверно, не один шрам рассекает их). Да, «рубака». Из тех, кто главным считает атаку. Во что бы то ни стало. Напролом. Сокрушить, смять, подавить… Пусть сам я получу десять ударов, но и противнику нанесу столько же. Кто из нас крепче? Кто выстоит? Борис отодвинул журналы, задумался. «А может, и Пьер Соммер сейчас вот так же… Придирчиво изучает мою физиономию?» Он усмехнулся. Если бы Пьер Соммер сейчас и впрямь так же дотошно рассматривал фотографии Бориса Щетинина, облик русского удивил бы его. Какое-то совсем «не боксерское» лицо. Неужели этот ленинградец провел уже сто шестьдесят два боя?! Прямой тонкий нос (ни разу, наверно, не перебит). Длинные изогнутые брови; на них тоже не видно шрамов. И уши… Не расплющены, как зачастую у боксеров. А главное (тут Пьер Соммер, наверно, усмехнулся бы и пожал плечами) — лицо у русского… как бы это сказать… чересчур интеллигентное, что ли? А ведь бокс — штука грубая! Это тебе не шахматы! Еще больше изумился бы Пьер Соммер, если бы знал, что Щетинин — юрист, кончил аспирантуру и сейчас готовится к защите диссертации. Боксер — и ученый-юрист? Нелепое сочетание! …А Борис Щетинин еще долго рассматривал фотографии Пьера Соммера. Они прямо-таки наводняли прессу. А как же?! Любимец парижан. Сильнейший крюк левой. Почти девяносто боев кончил нокаутом. «Впрочем…» — Борис покачал головой. В последние годы из бокса все больше уходила грубая «рубка», обоюдная жестокая «молотьба». Конечно, некоторые из зрителей все еще болеют за старый «мужественный» бокс. Но многие уже поняли прелесть тонкой, изобретательной, умной игры на ринге. Именно игры. И сам Щетинин — тоже. Перехитрить противника, заставить раскрыться. И только тогда — удар! Как венец замысла, комбинации. …В дверь постучали. — Кам ин, плиз[6], — крикнул Борис. Вообще-то здесь, в Париже, не плохо бы, конечно, крикнуть ту же фразу по-французски. Но… «Я могу лишь то, что могу». Однако еще в аэропорту Орли, где приземлился их самолет, Борис убедился: многие французы отлично понимают по-английски. Вот и прекрасно! — Под иностранца работаешь? — засмеялся, входя, Грущенков, легковес из их же команды. — Пойдем побродим! Еще часок есть… Они вышли из гостиницы. Вдали в розовато-фиолетовой дымке торчал собор Сакре-Кер. Щетинин видел его впервые, но старинный тяжеловесный собор казался почему-то удивительно знакомым. Впрочем, такое чувство часто возникало у Щетинина в Париже. Весь город был раздерган на кусочки и множество раз повторен на полотнах и литографиях, в романах и кинофильмах. Весь Париж был как одна огромная цитата. И вот эти старые могучие платаны с пятнистой корой, выстроившиеся на набережной Сены, казались странно знакомыми, столько раз видел их Борис на рисунках и акварелях. — Да, как одна огромная цитата, — задумчиво повторил Борис. — Чего-чего? — не понял Грущенков. Борис усмехнулся, махнул рукой. Они пошагали дальше. Однако накануне боя не очень-то залюбуешься даже Парижем. Мысли невольно перескакивают на бокс. Самым странным, самым неожиданным образом. Вот на витрине огромного магазина — хрустальные вазы. И вдруг память вырывает из глубины, словно из темного заброшенного колодца, первый официальный бой. Отец не знал, что его шестнадцатилетний Бориска занимается боксом. Но нельзя же вечно таиться? И сын приглашает отца на матч. Доцент химико-технологического института в панике. Как?! Его Борьку будут изо всех сил лупить тяжелыми, как утюги, кулаками по «хрустальному сосуду». Варварство! Так и запомнился Борьке этот хрустальный сосуд. И теперь у витрины он улыбается. Кстати, потом доцент стал довольно грамотным болельщиком. И даже мать приохотил к боксу… Идут дальше по улицам Парижа. Мимо несутся машины. Стада машин. Потоки. Лавины. Весь воздух — сплошь бензиновая гарь. «И в зале так, — вдруг думает Борис. — Все-таки дико. В зале курить?!» В первые дни советские боксеры прямо-таки задыхались. Зрители дымили нещадно. …Прошли мимо каменной громады Лувра, походили по каким-то узеньким, кривым, видимо очень старым, улочкам и вскоре вернулись в отель. Вообще-то Грущенков рад был еще побродить, но Щетинин круто повернул назад. Грущенкову что? Он уже — за чертой. Вчера проиграл и выпал из дальнейшей борьбы. А у Щетинина нынче — полуфинал. Штука серьезная. Особенно, когдапротивник — Пьер Соммер. Если вдуматься, то сегодня даже не полуфинал, а финал. Да, именно — финал. Потому что общепризнано: Борис Щетинин и Пьер Соммер — самые сильные средневесы Европы. И кто из них выиграет сегодняшний бой, тот победит и в финале. Да, именно так. Борис прилег на диван, задумался. И тотчас перед глазами — Пьер Соммер. Его улыбка. И его взметнувшаяся к потолку рука и дрыгающий ножками карапуз. Умное, твердое лицо. Высокий лоб. Чуть прищуренные глубокие глаза. Да, симпатичный парень. И только одно странно: почему во вчерашнем ночном выпуске «Фигаро», в интервью, Пьер Соммер заявил: «Побью ли я Щетинина? Безусловно! Кто нуждается в деньгах, может смело ставить сто против шестидесяти». Хлесткое, грубое бахвальство! Оно так не вязалось со всем обликом смелого, честного парня. Или это — психологический выпад? Перед самым боем выбить противника из равновесия? Поколебать его веру в себя? «Плюнь и разотри, — сказал Федор Семенович. — Затасканный приемчик. Для слабонервных». Тренеру всегда все ясно. Или делает вид, что ясно? Чтоб не колебнулся авторитет?..
* * *
Противники стояли в противоположных углах ринга. Бориса Щетинина зрители встретили вежливыми, но жидкими хлопками. Когда же меж канатами проскользнул на ринг Пьер Соммер, зал разразился криками, свистом, ревом. Борис не удивился. Пьер Соммер — «наш Бегемотик». Попробуй заслужи такую ласковую кличку у болельщиков! А главное, Пьер Соммер — единственный из всей французской команды — имел реальные шансы на золото. Диктор объявил: — В синем углу — Борис Щетинин, Советский Союз, сто шестьдесят два боя, из них — сто пятьдесят три победы. По залу снова пробежала жидкая рябь аплодисментов. — В красном углу — Пьер Соммер, Франция, — наклонившись к микрофону, гулко объявил диктор. — Сто восемьдесят два боя, сто семьдесят одна победа. Зал вспыхнул, как костер, в который плеснули струю бензина. Группа парней в верхних рядах амфитеатра что-то прокричала дружным хором. Рассыпалась дробь трещоток, взвыли сирены, и весь этот шум пронзила, словно шпага, какая-то визгливая труба. Пьер, подняв руки в перчатках, раскланивался на все стороны. И на лице его опять сверкала улыбка. Та, которую Борис уже видел в журнале. «А ничего парень!» — подумал Борис, мельком оглядывая высокую ладную фигуру противника с грузными, покатыми плечами и сухими, длинными, словно точеными ногами. «Главное, следи за крюком левой», — вспомнилось последнее напутствие тренера. Первый раунд, как обычно, начался разведкой. Противники прежде ни разу не встречались и, конечно, хотели прощупать друг друга, найти уязвимые места. Но вскоре Пьеру Соммеру это надоело. Бой есть бой! Хватит осторожничать! И он рванулся в атаку. Борис ждал этого. Уклон… Нырок… И кулаки Пьера Соммера, со свистом прорезав воздух, прошли мимо цели. Всего в каком-нибудь сантиметре, но мимо. «Ага! Не так шустро, милый!» Пьер словно провалился в пустоту, по инерции пролетев вперед за своим кулаком. Борис успел достать его легким, но чистым шлепком. Однако на Пьера неудача первой атаки, казалось, не произвела ни малейшего впечатления. Абсолютно. Да, уж чего-чего, а упорства и злости у этого Бегемотика хватало! Он опять рвался вперед. Только вперед! Но каждая атака Пьера Соммера на мгновенье раньше предугадывалась Щетининым. И предупреждалась. Зал ревел: — Достань его! — Эй, Бегемотик! — Работай, парень! Однако наиболее опытные зрители видели: нет, так просто этого русского не возьмешь. — Раунд ничей, — в перерыве шепнул Борису Федор Семенович, секундант, обтирая мокрой губкой его грудь. Борис и сам чувствовал: да, первый раунд никому не дал преимущества. Холодные струйки с губки затекали ему под майку — это было приятно. Федор Семенович энергично махал полотенцем, подавая воздух его усталым легким, — это тоже было приятно. Ударил гонг. — Главное — следи за его левой, — шепнул тренер-секундант, берясь за табурет. Борис кивнул и встал. Пьер Соммер сразу обрушился на него. Борис так и предполагал. Он опять уходил, подставлял локти, перчатки и, наконец, улучив удобный момент, провел быстрый прямой вразрез. «Ну, как? Невкусно, а?» Пьер вроде бы поутих. Но ненадолго. Опять ринулся в атаку. И снова лишь мгновенные нырки и уходы спасали Бориса от тяжелых стремительных кулаков. Так прошли минуты полторы, и Борис почувствовал: Пьер Соммер уже до краев налился яростью. Дышал он тяжко, с сопеньем и хрипом; и ноги его, длинные, словно точеные, теперь уже не отплясывали тот вечный танец боксера, который и делает его быстрым и неуязвимым, готовым в любой миг и к грозной атаке, и к мгновенной защите. Нет, ноги огрузнели и двигались уже не так легко, не так стремительно. Но Пьер все еще атаковал. Правда, бессистемно, слишком азартно, но все же — упрямо шел и шел вперед. — Ура, Бегемотик! — Дави! — Крюк левой! Медаль! Золотая медаль! Самым азартным болельщикам казалось: вот она, рядом! Еще один штурм, и Бегемотик уложит этого упрямого русского на брезент. Но многие зрители уже замолчали. Среди французов немало истинных ценителей бокса. И они видели: нет, нынче атака у Соммера что-то не клеится. А Борис Щетинин теперь словно дразнил его. Как мальчишку: «На, ударь, попробуй!» И Соммер снова и снова «пробовал». И безуспешно. И это вызывало в нем новые приступы ярости. Он как бы предлагал обмен ударами. Но Борис на это не шел. Нет, Бегемотик, так будет слишком просто: я — тебя, ты — меня. Примитивно… Так, в хмурой тишине зала, закончился второй раунд. — Порядок, — сказал тренер, помогая Борису вынуть капу[7] изо рта. — И второй раунд — ничей. Ну, а теперь — вперед. Борис и сам это знал. Да, теперь — вперед. В атаку. Посмотрим, у кого сохранилось больше сил! С ударом гонга он вскочил и стремительно пересек ринг, не давая французу покинуть свой угол. И сразу нанес удар. Правой в голову. Отскочил и вновь — правой. — Ого! — зал зашумел. — Чистая работа! Пьер, видимо, вовсе не ожидал такого. Он яростно кинулся в ответную атаку. Но нет! Теперь Борис не желал отдавать инициативу. Нет, ни за что! Он отклонился… Финт левой… И тут же правой нанес мощный удар по корпусу. — Браво! — зал уже все понял. Этот русский с такой трудной фамилией начисто переигрывает Бегемотика. Этот Бори́ Штетинни́ — и свежее, и быстрее. И удар его — весит! Очень даже весит! Все было понятно. Слишком много сил растратил Пьер Соммер в бесплодных атаках первых раундов… Пьер еще держался. Он даже пытался иногда идти на штурм. Но всем бросалось в глаза: он все время запаздывал. Удары Щетинина хоть на чуточку, но опережали его. А в конце раунда Борис загнал француза в угол и провел два таких сильных и чистых прямых, что только необычайная стойкость помогла Пьеру Соммеру удержаться на ногах. И вот последний раз гулко проплыл медный раскат гонга. Сейчас это был радостный, желанный звук. Все самое трудное — уже позади. Так или иначе — но позади. Противники, вмиг утратив весь боевой задор, какие-то обмякшие, потухшие, медленно разбрелись в свои углы. Настала та долгая, томительная пауза, которая так нервирует всех. И боксеров, и зрителей. Кто победил? В футболе или прыжках, в хоккее или у штангистов таких томительных минут не бывает. Если твоя команда забила три шайбы, а противник — две, ясно, кто победил. А в боксе? Кончается бой, и соперники зачастую не знают, кому же из них радоваться, кому горевать? Вот соберут записки у всех пяти судей, тогда и выяснится. А пока… Пока нервничают боксеры, горячатся болельщики, противоречивые мнения высказывают не только неискушенные зрители, но даже многоопытные комментаторы. Борис Щетинин ненавидел эти минуты. Они были изнурительнее самого боя. Кто же? Кто?.. — Порядочек, — сказал тренер. — Бой твой… Он стоял за канатами, в углу ринга, расшнуровывая перчатки Бориса. Да, Борис и сам так думал. Первые два раунда не дали четкого перевеса ни ему, ни французу. «Но третий… Третий мой. Безусловно». И все-таки… Судьи есть судьи. Как и многие боксеры, Борис относился к ним с опаской. Нет, он никогда не сопротивлялся решению коллегии. Не оспаривал его даже в разговорах с друзьями. И все-таки… Он не мог забыть, как навсегда покинул ринг его друг, талантливый Игорь Вадимов. Игорю стукнуло всего двадцать четыре, когда он, раздарив дворовым мальчишкам свои боевые и тренировочные перчатки, боксерки и скакалки, сказал: — Баста… И больше ни разу не появился в зале. А почему? Из-за судей. Игорю с судьями как-то дико не везло. Три раза подряд его объявляли побежденным, хотя и сам Игорь, и болельщики считали, что все три боя он выиграл. Вообще-то Борис Щетинин привык не очень доверять болельщикам. Те ведь оценивают на глазок. А судьи — они, как бухгалтеры: скрупулезно учитывают каждый удар, каждый промах, каждый уход, нырок, умную защиту. Но тут… Тут в самом деле было что-то непонятное. Первые два боя Игоря Борис не видел. Но третий сам наблюдал. И мог бы дать руку на отсечение: победил Игорь. И вдруг судьи объявляют: он проиграл. Цирк тогда чуть не развалился от крика, свиста и возмущенного топота зрителей. А Игорь сказал: баста… Черт побери! Да разве с одним Игорем было такое?! Правда, сам Борис пока не имел оснований жаловаться на судей. Но, как юрист, привыкший к неколебимой точности законов, он особенно остро чувствовал: что-то тут неблагополучно. Правила бокса, в общем-то, четки и точны. Но судьи ведь тоже люди. Со своими эмоциями, пристрастиями, симпатиями и антипатиями. И зачастую два вполне объективных, честных арбитра дают победу разным боксерам. Значит, что-то тут неладно. …Рефери дал знак. Оба боксера подошли к нему. Уже без перчаток, но с бинтами на ладонях[8]. Он взял их за руки и ждал. Так они и стояли теперь, все трое, в центре залитого светом ринга. Справа от рефери — Пьер Соммер, слева — Борис Щетинин. А судьи все еще не объявляли результата. Судьи — два итальянца, испанец, румын и немец — сгрудились возле столика главного судьи. О чем-то шептались. И медлили… Борису Щетинину стало уж невмоготу. Ну! Скорей же! Скорей! Наверно, то же чувствовал и Пьер Соммер. Борис, чуть скосив глаза, поглядел в лицо рефери. Ну? Иногда рефери чуточку хитрит. Он чувствует, как волнуются боксеры, стоя вот так, посреди ринга, в томительном ожидании. А ведь рефери собирал записки у боковых судей и, прежде чем передать главному, заглянул мельком в каждую. Поэтому он, рефери, заранее знает, какой результат объявят. И вот часто рефери, чтобы победитель не волновался, украдкой слегка пожимает его запястье. Как бы сигнал. Мол, не беспокойся. Все в порядке. Ты победил. Но на этот раз бельгиец-рефери стоял с каменным лицом, и Борис не ощущал никаких пожатий. «Вот столб-то!» — сердито подумал Борис. …Так прошло еще и десять, и двадцать, и сорок томительных секунд… И вдруг микрофон ожил. Диктор кашлянул и после короткой паузы четко кинул в настороженный зал: — Победил Пьер Соммер, Франция. Борису показалось — ринг под ним качнулся и канаты вздыбились к потолку. Лампионы все враз словно бы мигнули и тотчас вспыхнули с утроенной силой. «Пьер Соммер?! Как же? Ведь третий раунд… Весь раунд… Я атаковал. И концовка моя…» И сразу перед глазами мелькнуло: вот Чарлз Боуз, английский тяжеловес. Он плачет (да, плачет!) на ринге. Только что объявили решение судей. Боуз не сомневался в победе, но вот — пожалуйста… А это — испанец Хунтрео. Он сидит на брезенте. Наотрез отказывается покинуть ринг. В знак протеста против судей. Сидит целых полчаса, остановив все течение дальнейших боев. И только силой увели его друзья… Все это промелькнуло в мгновение. И опять Борису тяжко ударило в голову: «Пьер Соммер? Но как же так? Невероятно…» Пьер Соммер, тоже, видимо, был поражен. Когда рефери вскинул его руку в знак победы, он как-то странно глянул на Щетинина. В глазах француза мелькали сразу и радость, и удивленье, и какая-то виноватость, и растерянность. А зал!.. Зал свистел, орал, гремел, стонал, разрывался от криков, топота, пулеметной дроби трещоток и воя сирен. — Долой! — Жулье! Зал, французский зал протестовал. Он был против своего же любимца, своего Бегемотика, своего Пьера Соммера. Зал уже не интересовала золотая медаль. Зал требовал справедливости. Всего-навсего. Такой мелочи — справедливости. Французы — они издавна полюбили ее. Издавна и навсегда. Болельщики отлично знали: по международным правилам бокса решение судей окончательное и обжалованию не подлежит. И все-таки зал не мог смириться. Не хотел. Ни за что! Да здравствует справедливость! Борис стоял в растерянности. Да, он слышал о нравах заграничных болельщиков. Слышал, что иногда на футболе разносят в щепки трибуны, стреляют в арбитров. И все-таки такого невероятного, такого сумасшедшего бунта он никак не ожидал. Несправедливое решение, которое сперва так потрясло его, словно бы даже ослепило, теперь стушевалось перед этим шквалом разгневанных трибун. Мельком Борис глянул на электрическое табло: там уже зажглись цифры. «Так… Трое судей — за Пьера, двое — за меня…» Да, исход боя был решен минимальным перевесом. И все-таки… «Три — за Пьера, два — за меня». Он горько усмехнулся. Лучше бы наоборот. Но как же так?.. Неужели он так жестоко ошибся? Говорят, сам боксер необъективен, не может точно оценить ход своего боя. Да, но все-таки… И тренер вот тоже уверен. И все болельщики. Борис качнул головой… «Надо пожать руку», — устало подумал он. Таковы правила. После боя это как символ мира. Поединок окончен. Мы снова друзья. Но Борис видел: Пьер Соммер в растерянности, он не протягивает руки. Он словно боится чего-то… И Борис тотчас понял. Не далее, как вчера, в этом же зале, на первенстве Европы, швед проиграл бой. И так рассердился — наотрез отказался подать руку победителю. И со злости даже плюнул на брезент. «И Пьер боится… что я не пожму…» — подумал Борис. Ему было горько. И так обидно… Нет, не боксер не поймет этого. Золотая медаль и титул чемпиона Европы… Но он пересилил себя. Сердито сказал себе: «Ну?!» И первый, сделав шаг к французу, протянул руку. Этот жест вызвал в зале новый шквал криков и свиста. — Молодец! — Вот это парень! — Долой судей! Пьер Соммер, видимо, только и ждал, как поступит русский. И теперь он рванулся навстречу Щетинину, обеими руками стиснул его руку, долго, с силой тряс ее, словно качал насос. И глаза его опять были и радостными, и виноватыми. И что-то такое же, растерянное и виноватое, он бормотал по-французски. Борис не понял. Хотя… в общем-то, понял. — Конечно, ты ни при чем, — сказал Борис. — Это судьи. Наше дело — драться, их дело — судить… Борис сказал это по-английски. Понял ли Пьер? Наверно, понял. — Сэ ля ви, — прибавил Борис. — Да, да, сэ ля ви! — подхватил Пьер. Так они миролюбиво говорили, не разнимая сцепленных рук, но зал!.. Зал все еще стонал и орал, выл и свистел. Какой-то длинный тощий парень в черном свитере, очень похожий на молодого Черкасова, вдруг лихо вскочил на ринг и сунул прямо в руки Борису Щетинину огромный букет. Тюльпаны. Все, как на подбор, огненно-красные. И, чтобы никто не подумал, что парень просто ошибся, он громко возгласил: — Месье Бори́ Штетинни́… Чего уж лукавить?! Это было приятно Борису. Тощий парень в черном свитере как бы вносил успокоение в его израненную душу. И все-таки Борис чувствовал. Нет, нехорошо… Не годится… И тут он совсем уж покорил французов. — Благодарю, — сказал он по-английски. И добавил: — Но у нас цветы получает победитель. И, шагнув к Пьеру, передал ему букет.* * *
Вечерние выпуски газет выплеснули целую волну восторга. Заголовки были разные, но суть — одна. «Самый галантный боксер!» («Фигаро».) «Русский боксер учит вежливости парижан» («Трибюн».) «Оказывается, есть еще рыцари!» («Орор».)
 СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД
СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД
В ресторане Джеффера — обычном, не слишком роскошном, но чистом и уютном лондонском ресторане — уже четырнадцать лет имелась своя постоянная клиентура: спортсмены, тренеры, массажисты, букмекеры, менеджеры[9], игроки на скачках и просто богатые бездельники, считавшие за честь распить бутылку виски в компании с модным чемпионом.
Нетрудно понять, почему именно у Джеффера собирались спортсмены. Хозяин ресторана сам в молодости был знаменитым центр форвардом. Хитрый, умный и расчетливый, он в пору своей популярности постепенно скопил кругленькую сумму, и в двадцать девять лет, чувствуя, что его футбольная карьера кончается, покинул зеленое поле стадиона и откупил у прогоревшего владельца захудалый кабачок.
Джеффер сразу уволил весь штат кабачка. Новых официантов, буфетчиков, судомоек, швейцаров он подбирал по простому, четкому принципу: все они должны быть в прошлом чемпионами или рекордсменами.
Этот первый шаг Джеффера оказался точным, как удар по воротам с одиннадцатиметровой отметки. Обнищавший Боб Брейк — бывший штангист, чемпион Англии, — лавируя между столиками с подносом, уставленным бифштексами, ростбифами и виски, сразу привлек в ресторан ораву молодых шалопаев.
Еще больший приток клиентов вызвал новый швейцар — огромный (два метра двенадцать сантиметров), одетый в ливрею с галунами — Майкл Фокс, в недалеком прошлом известный баскетболист, уже три года не имевший постоянной работы.
Дела Джеффера сразу пошли в гору. Постепенно он завел в ресторане особую посуду — тарелки с изображениями боксеров, пловцов и теннисистов; стаканы, по форме напоминающие олимпийские кубки; вилки, похожие на маленькие хоккейные клюшки. На стенах зала он приказал нарисовать гонки яхт, схватки у футбольных ворот, стычки хоккеистов.
Для приманки каждому из посетителей ресторана бесплатно выдавалась на память обеденная карточка, на которой внизу сверкали автографы бывших чемпионов: самого хозяина и всех его официантов и швейцаров.
…В этом-то ресторане как-то вечером за угловым столиком сидели два человека. Один — высокий, жизнерадостный, элегантно одетый — то и дело подзывал официанта и заказывал все новые и новые напитки и закуски для себя и своего собеседника.
Это был Майкл Хантер — владелец стадиона и целой «конюшни» бегунов. Спортсмены в разговорах между собой называли его Красавчиком. Бронзовое лицо Хантера четкими, правильными чертами напоминало профили античных атлетов, отчеканенные на медалях.
Его сосед по столику — Чарлз Уильямс, позапрошлогодний чемпион Англии в беге на 5000 метров. Хмурый и усталый, он много ел, еще больше пил и молча слушал своего говорливого собеседника.
Уильямс был уже навеселе, но его голова работала еще достаточно ясно. То и дело он одергивал рукава пиджака, стараясь прикрыть торчащие из-под них несвежие манжеты. На минуту это удавалось, но потом манжеты снова упрямо вылезали.
— Тысяча фунтов! — весело говорил Хантер. — Ей-богу, за такие денежки стоит пробежать пять тысяч метров. За каждые три шага по фунту. Даже король согласится, чтобы ему так платили!
Уильямс молчал.
— И притом учти, Чарли, ведь ты поставишь мировой рекорд!
Чарлз поморщился: он не любил, когда Хантер ласково называл его Чарли, и быстро отодвинулся.
— Мировой рекорд! — восторженно повторил Хантер, будто не заметив резкого движения Уильямса. — Во всех газетах напишут о тебе! А твои сорванцы будут показывать своим сопливым друзьям фотографии в журналах: «Наш папа!»
Уильямс пьяно ухмыльнулся. Действительно, оба его сынишки очень гордились, когда два года назад он завоевал звание чемпиона. Младший, семилетний Боб, на радостях даже решил тоже стать бегуном. Правда, в следующем году на чемпионате страны отец занял второе место, а в этом году — только третье, и сынишка передумал, решив, что выгоднее сделаться шофером.
«Еще бы не передумать! — усмехнулся Уильямс. — Футболистам — тем еще можно жить! Тысячи лоботрясов платят деньги, чтобы посмотреть, как они гоняют мяч. А бегунами никто не интересуется».
К столику подошел официант и бесшумно убрал пустые бутылки.
— Как жизнь, Вилли? — спросил у него Чарлз.
— Благодарю вас, мистер Уильямс.
Вилли отвечал вежливо и четко, как и положено официанту. Чарлз посмотрел на него, покачал головой.
Он знал Вилли Ирвина уже давно, еще когда тот был популярным вратарем в Кардиффе. Правда, Вилли в те годы уже не считался «первым вратарем Британии», но все еще «звучал».
А вот теперь: «Благодарю вас, мистер Уильямс». Да, официант…
«Выходит, и футболистам паршиво, — подумал Чарлз, глядя на грузного, услужливо улыбающегося «первого вратаря Британии»: официантский фрак, перекинутая через руку салфетка. — Но бегунам еще хуже. Бегун должен быть чемпионом. Обязательно. Только тогда ему хоть кое-что перепадает. Но беда, если ты был чемпионом, а потом откатился на второе место, а затем и на третье… Тебя сразу — в тираж, и, не сомневайся, песенка спета…»
Поэтому-то Уильямс так удивился, когда четыре дня назад в его обшарпанную квартиру на окраине города вошел шумный, сверкающий Хантер.
Неужели его, Уильямса, еще не списали в расход?
Хантер погладил по головкам детей, улыбнулся жене и увез Уильямса на своем мощном «паккарде» в ресторан.
Четко изложил он свои условия. Давно не пивший Уильямс быстро захмелел, но даже спьяна сделка сразу показалась ему чудовищной. Правда, тысяча фунтов — целое состояние для такого, как Уильямс. Но бог с ним, с богатством, если оно достанется такой ценой…
В тот вечер они так и не договорились. Хантер отвез его домой и вот сегодня явился снова. Заметив, что у детей Уильямса из игрушек только один трехлапый медведь на двоих, он купил мальчикам подарки — дорогие игрушечные автомобили — и снова увез Уильямса в ресторан.
— Подумай, Чарлз, — убеждал Хантер. — Неужели лучше стать официантом, как Ирвин? Тысяча фунтов — твоей семье хватит на два года… И мои врачи помогут тебе, ручаюсь…
— А вдруг я не побью рекорда?
— Побьешь!
— Неужели такое верное средство?
— Абсолютно! Во всяком случае — тысяча фунтов тебе гарантирована. И учти — никто ничего не узнает…
И все-таки Чарлз решил не соглашаться. Нет, это не для него.
К столику снова подошел Ирвин, маленькой щеточкой аккуратно смел со скатерти крошки, убрал тарелки, вилки и принес крепкий кофе с бисквитами.
— Как жизнь, Вилли? — спросил Чарлз.
В голове у него шумело; он забыл, что совсем недавно уже задавал официанту этот вопрос.
— Благодарю вас, мистер Уильямс.
Ответ последовал тотчас, вежливый и учтивый. Вилли словно бы и не заметил, что этот вопрос он уже слышал недавно. Нет, все в порядке. «Благодарю вас, мистер Уильямс».
Время было уже позднее, «непробиваемый вратарь», очевидно, очень устал. Неловко поставив поднос, он вдруг опрокинул чашечку кофе прямо Хантеру на пиджак. Тот вскочил. Со столика со звоном полетела посуда. Из-за стойки к месту происшествия быстро подлетел сам Джеффер.
Растерявшийся официант с салфеткой бросился вытирать Хантеру пиджак, но Джеффер оттолкнул его:
— Вон! Чтобы ноги твоей!..
Оробевший Ирвин пытался что-то объяснить, но хозяин не слушал: повернувшись к нему спиной, он извинялся перед Хантером.
Вскоре все успокоилось.
— Хорошо! Я согласен! — устало сказал Уильямс.
Хантер радостно вскочил, протягивая ему бокал.
— Деньги — все полностью — вперед! — твердо прибавил бегун.
Очевидно, он хорошо знал своего собеседника и имел основания не доверять ему.
— Нет, это не по-джентльменски, — возмущенно воскликнул Хантер. — Ведь я иду на риск…
— Мой риск немножечко побольше вашего, — жестко произнес Уильям. — Деньги вперед!
Хантер долго спорил, но в конце концов согласился выдать семьсот фунтов. Остальные — после состязания.
На следующий день Уильямс пошел в банк. Ему оплатили чек Хантера, десять фунтов он отложил в боковой карман, а в обмен на остальные шестьсот девяносто фунтов получил маленькую синюю книжечку.
Впервые в жизни держал он в руках чековую книжку, долго рассматривал плотные глянцевитые листки с водяными знаками.
«Да, все-таки приятно иметь собственный счет в банке».
Но мрачное настроение не покидало его.
Жене он решил не показывать чековую книжку. Станет, конечно, расспрашивать, откуда такая куча денег? А он ведь обещал Хантеру: никому ни слова. Да и вообще — жене сказать нельзя. Встревожится, расплачется…
«Нет, нет. Вот пройдет забег, тогда и скажу».
Но ему очень хотелось как-нибудь порадовать жену и ребятишек. Десять фунтов лежали в боковом кармане, и Чарли казалось, через подкладку и рубашку он чувствует тепло этих маленьких хрустящих бумажек.
Хорошо бы купить что-нибудь. Подарок жене. Но как? Как объяснить, откуда деньги?
«Э, ладно, скажу — одолжил три фунта», — решил Чарли и зашел в магазин.
Жена давно мечтала о хорошем маникюрном приборе. Чарли долго, с удовольствием перебирал изящные кожаные и пластмассовые футляры, открывал их, рассматривал крохотные щипчики, пилочки, ножнички. Наконец выбрал один прибор.
Сынишкам купил огромный надувной мяч.
Все вместе стоило чуть больше фунта. В кармане еще оставалось почти девять фунтов.
«Что бы еще?»
Вспомнил, как любила жена восточные сладости. И как давно не ела их.
Зашел в магазин, попросил рахат-лукума, щербета, халвы. Купил виноград, и бананы, и апельсины. И соки.
Нагруженный покупками, веселый, приехал домой. Сразу поднялась суета; ребятишки кричали от радости, жена глядела удивленно и чуть встревоженно: что за пир, что случилось?
— Одолжил, — беззаботно объяснил Чарли. — Надо же когда-нибудь встряхнуться! — И видя, что беспокойство не сходит с лица жены, добавил: — Наклевывается работенка. Тренером в «Паласе». Устроюсь — и все будет ол-райт.
Он подхватил жену на руки, закружил по комнате.
…Тренировки начались уже на следующий день.
На стадионе Чарли часто встречал своего старого знакомого — низенького, толстого, пожилого врача Броунинга.
Коллеги-медики считали Броунинга чудаком. Специалист по спортивным травмам, он имел широкую практику в самых богатых лондонских клубах, однако работал и на захудалых профсоюзных стадионах, от которых ни денег, ни солидной репутации.
Маленький толстяк врач всей душой любил легкую атлетику и не раз открыто возмущался махинациями менеджеров. Но те считали Браунинга «оригиналом» и смотрели сквозь пальцы на его «чудачества».
— Как дела? — в первую же встречу спросил Броунинг, протягивая Чарли короткую, пухлую руку.
— Ничего… Вот тренируюсь…
— У кого?
— У Хантера…
— У Хантера? — толстячок недовольно вздернул брови. — Н-да… Ну, и как?
Уильямс увильнул от ответа.
На душе у него стало еще тоскливей.
«А не рассказать ли все Броунингу? — подумал он. — Врач… Как раз может дать хороший совет».
Но тотчас отверг эту мысль. Нет, он дал слово Хантеру — ничего никому — и сдержит свое обещание.
* * *
Трибуны шумели. Чемпионат страны был в самом разгаре. Уже прошли соревнования метателей, прыгунов, быстро промелькнули забеги на короткие дистанции. Через несколько минут должно начаться одно из самых интересных состязаний — финал бега на 5000 метров. Болельщики волновались. Все знали: в финал допущены восемь спортсменов — лучшие бегуны, и среди них — чемпион Англии Рисли, который сегодня попытается обновить национальный рекорд. Так он сам объявил корреспондентам. Большинство болельщиков держало пари за него. И вместе с тем по стадиону ходили слухи, что Хантер — ловкий, всезнающий Хантер — ставит крупные суммы за победу Уильямса. Это было непонятно. И тревожно. Ведь Рисли уже дважды бил Уильямса, а на недавнем первенстве страны чемпион прошел дистанцию на целых двенадцать секунд лучше Уильямса. Тот, судя по всему, уже сходил с дорожки. В чем же дело? …Хантер, как всегда веселый и оживленный, то мелькал на гаревой дорожке, то скрывался в раздевалке, то подходил к ложе, где сидели почетные гости и корреспонденты. Мысленно он подсчитывал, сколько дадут ему ставки. Немало, ей-богу, немало! Но не только это радовало Хантера. Он был честолюбив, да и для дела совсем неплохо, если во всех газетах сообщат, что бегун, тренировавшийся под опекой Хантера, поставил мировой рекорд. Только бы Уильямс не подвел! Не струсит ли он в последний момент? Хантер снова помчался в раздевалку, где в отдельной кабинке сидели Уильямс, его тренер, массажист и врач. Врач отвел Хантера в угол и шепотом доложил: — Все в порядке! Уильямс не мог слышать этих слов, но, очевидно, догадался, о чем речь, и усмехнулся: — Да, теперь уж придется пропеть мою «лебединую песнь»! До конца! — Выше нос, мальчик! — весело хлопнул его по плечу Хантер. — Еще полчаса, и ты станешь рекордсменом мира!.. …Выстрел стартового пистолета словно толкнул в спину восьмерку бегунов. Не успел еще рассеяться пороховой дымок, а они уже преодолели вираж и выскочили на прямую. В сутолоке первой сотни метров невозможно было толком разобрать, кто идет впереди. Но вот бегуны растянулись цепочкой вдоль бровки, и все зрители увидели: ведет бег спортсмен в синей майке — Уильямс. Шел он в необычайно быстром темпе — так бегут спринтеры. Казалось, бегун забыл, что впереди еще целых двенадцать кругов. Резко и сильно работая руками, он стремительно мчался по дорожке, все больше отрываясь от соперников. — Уильямс! — взревели трибуны. Но тотчас раздался еще более мощный крик: — Рисли! Достань его, Рисли! Однако Рисли спокойно шел в середине цепочки бегунов. Чемпион не торопился. Борьба еще впереди! Да и какой смысл догонять безумца? Вскоре он сам выдохнется и отстанет. Но прошло уже четыре круга, а Уильямс не сбавлял темпа. Просвет между ним и остальной группой бегунов достиг уже семидесяти метров. Прошел шестой… седьмой… восьмой круг… А Уильямс летел все так же неутомимо. Казалось, он именно летит: широкий, упругий шаг создавал впечатление парения, полета над дорожкой. Словно какая-то волшебная сила несла его. Будто он и не устал. В конце каждого круга, когда Уильямс пробегал мимо Хантера, тот, стоя возле дорожки, громко кричал: — Плюс одна! Жми, мальчик! На самом деле Уильямс бежал уже на две секунды быстрее графика. Но Хантер все время сообщал бегуну, что он выигрывает лишь одну секунду. Красавчик боялся, что, узнав правду, Уильямс сбавит темп. Трибуны громыхали. Было уже ясно: Уильямс стремится не только прийти первым, но и улучшить национальный, а возможно, и мировой рекорд. Это должно было радовать лондонцев, но, наоборот, многие зрители сердились на слишком резвого бегуна: пропадут их ставки. И с каждым кругом все громче и яростнее ревели трибуны: — Жми, Рисли! И Рисли не выдержал. В середине десятого круга он резко увеличил скорость. С каждой секундой все ближе и ближе подбирался он к лидеру, и с каждой секундой все яснее чувствовал: все пропало, такой темп ему не выдержать. — Рисли! — радостно выли трибуны, видя, как неуклонно сокращается просвет между бегунами. Но на одиннадцатом круге Рисли вдруг прижал руки крест-накрест к груди, будто собрался молиться, сделал шаг влево на футбольное поле и ничком упал в траву… К нему бросились санитары. Трибуны на миг замерли и тотчас разразились улюлюканьем, свистом и дикой бранью. …А Уильямс по-прежнему стремительно покрывал одну сотню метров за другой. Не прошло и полминуты, как зрители, охваченные спортивным азартом, переметнулись на его сторону. Казалось, все эти спекулянты, маклеры, игроки и богатые бездельники вдруг стали истинными патриотами Британии. Они поняли: деньги все равно потеряны, и теперь до них наконец-то дошло, что Уильямс вот-вот поставит рекорд. — Жми, Уильямс! — взревел стадион. — Сделай рекорд! Шел уже двенадцатый круг. Бегун показывал отличное время. Только бы не сдал, только бы выдержал взятый темп до конца! Рот Уильямса был широко, судорожно раскрыт, из груди вырывался хрип, обезумевшие глаза, казалось, не видели ни дорожки, ни трибун. И все-таки он по-прежнему автоматически взмахивал руками и мчался вперед. Судьи уже натянули в конце финишной стометровки белую ленточку. Хронометристы приготовили секундомеры. Последние метры… Рывок… Бегун грудью упал на ленточку… Стадион взревел. 13 минут 34,6 секунды! Рекорд сделан! Сразу, даже не дождавшись решения судейской коллегии, заработали репродукторы, бросая в толпу радостное известие. Стадион гремел и ликовал. И только небольшая часть зрителей молчала, не сводя глаз с победителя. Уильямс, сорвав финишную ленточку, по инерции пробежал еще несколько шагов и вдруг, скорчившись, упал. Широко раскинув руки, он ногтями скрюченных пальцев судорожно царапал землю; раздирая в кровь губы, грыз мелкую, хрустящую гарь беговой дорожки. Рот его был набит песком, гарью, с губ стекала кровь и слюна. Дежурные врачи и санитары бросились к нему. Впереди всех, в халате, с развевающимися на ветру полами, бежал тот врач, который перед стартом в кабинке Уильямса докладывал Хантеру: «Все в порядке!» Он быстро вынул из чемоданчика шприц и сделал бегуну укол. Игла в пальцах врача дрожала. Левой рукой он то и дело хватался за сердце. Там, на груди, в портмоне, рядом с пачкой полученных от Хантера ассигнаций, лежала аккуратно сложенная бумага. Всего несколько строк. Врач помнил их наизусть: «Находясь в твердом уме и здравой памяти… Прошу перед забегом… Ввести мне новый препарат… Предельную дозу… Я хочу поставить мировой рекорд. Всю ответственность целиком беру на себя». И подпись: «Уильямс». Хантер вертелся тут же. — Доппинг! Обычный доппинг! — суетливо объяснял он окружающим. — Сейчас… Пройдет… Невдалеке от беговой дорожки, в широком асфальтированном проходе между трибунами, уже стоял заранее приготовленный «паккард». Хантер махнул рукой шоферу, чтобы тот помог погрузить спортсмена. Надо как можно быстрее и незаметнее увезти его со стадиона. Но Уильямс оттолкнул шофера. Приподнялся с земли, обвел всех мутными, невидящими глазами, сделал два шага и снова грузно осел на дорожку. — Это не доппинг! Это преступление! — крикнул Броунинг, бросаясь к бегуну. Уильямс, с трудом приоткрыв тяжелые веки, узнал Броунинга. Толстяк врач, задыхаясь после вынужденной пробежки, сделал знак санитарам, и те поднесли носилки. — Что с вами? — спросил Броунинг, наклонившись к спортсмену, в то время как его укладывали на носилки. — Новый препарат!.. — еле шевеля распухшим языком, прошептал Уильямс. — Стрихнин, феномин, и еще какая-то дрянь… Двойная доза… Врач оторопел. Обслуживая состязания, он уже привык к доппингам и перестал возмущаться многочисленными наркотиками, которые медленно, но верно расшатывают здоровье спортсмена. Но стрихнин?! Сильнейший яд, которым травят крыс! И притом в лошадиной дозе! Такого еще не встречалось в его врачебной практике. А впрочем… Все понятно: очень слабый раствор этого страшного яда — тысячные доли грамма — иногда применяется для активизации центральной нервной системы. Но здесь гораздо большая доза! В комбинации с феномином это вызывает лихорадочное возбуждение, которое, однако, очень кратковременно. А дальше — неизбежная расплата… Между тем плавно покачивающиеся носилки медленно продвигались к раздевалке. — Стойте! — вдруг скомандовал больной. Он приподнялся, открыл глаза и хрипло сказал: — Мне лучше. Дойду сам… К нему тотчас подскочил Хантер, помог встать и обнял бегуна за плечи, поддерживая его. — В ушах… — виновато, словно оправдываясь, прошептал Уильямс. — Звенит… Он, качаясь, стоял на месте и вслушивался в разноголосый шум трибун. Репродукторы разносили по стадиону мощный бас диктора: — …британские спортсмены, поставив новый мировой рекорд, вновь доказали всему миру… Уильямс горько усмехнулся. Только сейчас он заметил: рука Хантера лежит на его плече. Оттолкнув Красавчика, бегун, неуверенно ступая, двинулся к широко раскрытой двери раздевалки. Ему опять стало плохо. Но он сжал зубы, стараясь подавить нахлынувшую слабость. Он шел, мечтая быстрее укрыться от толпы в раздевалке, лечь, отдохнуть… А Броунинг стоял, пораженный ужасом. Уильямс, как безумный или слепой, тыкался в каменную стену трибуны возле входа в раздевалку и никак не мог втолкнуть свое тело в распахнутую дверь. Он не понимал, что с ним происходит, и, вместо того чтобы сделать шаг влево, где под трибуной находилась дверь, двигался вправо и еще вправо… И лицо его опять было беспомощным и словно виноватым. «Потеря ориентировки! — стиснув руки, с ужасом думал врач. — Калека… И, вероятно, навсегда…»
 II. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
II. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
 ЧЕТВЕРТЬ КАРАНДАША
ЧЕТВЕРТЬ КАРАНДАША
Валерка-Шлагбаум (кличку эту он получил недавно, но приклеилась она намертво), Валерка-Шлагбаум вошел в класс, остановился возле учительского стола и поднял палец.
Внимание!
Так всегда делает химик, формулируя новый закон.
— Ну? — выкрикнул Алик.
— Есть идея! — сказал Валерка.
Маленький, костлявый, с хилыми — торчком вперед — плечами, в больших очках, криво сидящих на остром носике, он сейчас был очень серьезен, и даже голос дрогнул.
В классе сразу вспыхнул шум.
— Уличные шлагбаумы, да? — ехидно подсказал Алик.
— Конфеты из воздуха! — крикнул Яшка.
За партами засмеялись.
Да, Валерке вечно приходили в голову «идеи». Ребятам они сперва казались прямо-таки замечательными, ну, просто ослепительными, но потом все «идеи», все без исключения, почему-то лопались.
Вот эти «шлагбаумы», например. Однажды весь класс был потрясен. Тут вот, рядом, возле самой школы, задавило Лешку Крылова из седьмого «б». Насмерть. Валерка тоже очень переживал. А потом выдал «идею». Чтоб никто больше не попадал под колеса. Никто и никогда. Все панели обнести металлическими загородками. А на перекрестках устроить маленькие автоматические шлагбаумы. Зажегся в светофоре зеленый свет — шлагбаум сам открывается. Пожалуйста, переходи улицу. Вспыхнул красный — шлагбаум сразу опустился. Проход закрыт.
И все. И жертв не будет. И транспорт может нестись с любой скоростью.
— Конгениально! — сказал Алик. — Сходи в ГАИ. Раз насчет автомашин, значит, надо в ГАИ.
Алик — чемпион по шахматам и вообще толковый парень. Его слушались.
Целая ватага мальчишек проводила Валерку на соседнюю улицу, где находилось отделение милиции. Там же, на втором этаже, ГАИ.
Ребята остались у парадной, а в ГАИ поднялись Валерка с Аликом.
Вернулись они через полчаса, и по их лицам мальчишки сразу поняли — ничего хорошего.
Оказывается, инспектор принял их очень вежливо, пригласил сесть, слушал внимательно. А потом сказал:
— Нам предлагают много подобных проектов. Но… Подумайте, хлопцы. Если понастроить возле каждой панели железную ограду, улица станет как тюрьма: вся в решетках. А шлагбаумы? Сколько их надо? На каждом перекрестке по восемь штук. Только знай чини их. Не улица будет, а прямо-таки железная дорога. И все равно не поможет: недисциплинированный пешеход — он и через шлагбаум перешагнет.
Вот так и лопнула очередная Валеркина «идея».
А «конфеты из воздуха»? А «голубиный двигатель»?
И вот нынче — опять…
— Нет, ребята, не смейтесь. На этот раз — железная идея. Госидея!
— Чего? Какая гроссидея?
— Не гросс. Гос! Государственная идея! — Валерка говорил тихо, но внушительно.
Видно было — его прямо-таки трясет. Как малярика. Валерку всегда бил озноб, когда его осеняла новая идея.
— Вот, — сказал он и вынул из кармана новенький, еще даже неоточенный, карандаш. — Это что?
— Приспособление для начертания на бумаге различных знаков, — глубокомысленно изрек Алик. — Как, например: «Сам дурак!», «Брось трепаться!» и тэ дэ.
Валерка кивнул. Так спокойно, так отрешенно, будто и не уловил насмешки в Алькиных словах. Так объективен и сосредоточен бывает ученый в лаборатории, поставив важный эксперимент.
Достал из кармана другой карандаш, уже наполовину исписанный.
— А это что?
Ребята переглянулись.
— То же приспособление в несколько укороченном виде, — стараясь не сбиться со своего «научного» стиля, возвестил Алик. — Исполняет те же функции, в смысле начертания… Например: «Долго еще будешь валять дурака?»
— Ага, — Валера опять кивнул, будто клюнул своим острым носиком.
Вынул из кармана еще один карандаш. Совсем малюсенький карандашик. Коротышку.
— А это?
Алик покрутил головой. Вот, мол, фокусник!
— Огрызок! — сказал он. — Для начертания уже неудобен…
— Умница! — Валера кивнул. — Ты есть золотой ребенок! А какой отсюда вывод? Ну?
Алик поднял брови. Лобик у него был и без того узенький, а когда он вот так задирал брови, — лоб совсем исчезал.
Ребята молча переглядывались. Вывод? Какой еще вывод?
— Если для письма этот коротышка неудобен, тогда… Ну? Что тогда? — подталкивал Валера.
Он снял очки и сунул роговую дужку в рот. Ребята уже привыкли: когда Шлагбаум задумывался, он часто жевал очки.
Алик задрал брови еще выше, к самым волосам.
— Тогда — выбросить!
— И все! — поддержал кто-то.
— И конец госидее!
Валерка повернулся к Алику. Маленькое худенькое личико Валеры стало скорбным.
— Нет! Ты не есть золотой ребенок! — сказал он. — Ну, поднатужься. Шевели извилинами. Если карандашный огрызок не годится, то… Что?
Алик наморщил лоб, пожал плечами.
Остальные ребята тоже недоуменно молчали.
— Э-эх! — сказал Валера. — Вникните: если этот огрызок все равно надо выбросить, зачем же было на фабрике делать его? А? Зачем?
Ребята переглянулись.
— Значит, мастерить карандаши без концов, что ли? — съехидничал Алик.
— Конец будет. Но пустой, — сказал Валерка. — Поняли? Пустой! Без графита. Кчему наполнять карандаш во всю длину графитом? Заполнить на три четверти! И все. А конец — оставить просто деревяшку. И все! А экономия какая? А?
Замысел был такой ошеломляюще простой и великолепный, что ребята прямо оторопели.
Конечно! Тут и думать нечего. Безусловно!
— Подсчитаем, — сказал Яшка. — Так сказать, экономический эффект.
Яшка вообще был очень дотошный и любил все считать. Наверно, наследственное: у него отец — главный бухгалтер.
— В нашей стране двести сорок миллионов жителей. Так? — сказал Яшка. — Уберем грудных пискунов и глубоких старцев.
— Тогда останется двести миллионов, — подсказала Ленка.
— Так. Предположим, каждый расходует два карандаша в год. Итого — четыреста миллионов.
— Точно, — поддержал Алик. — И если от каждого карандаша четверть графита сэкономить — значит, можно сделать сто миллионов лишних карандашей.
— Сто миллионов! — ахнула Ленка.
— Именно — сто миллионов, — повторил Валерка.
Увлекшись подсчетами, ребята совсем забыли о нем. А теперь вновь глядели на него во все глаза.
Какой молодчага! А на вид — совсем хлюпик. И опять вот свои оглобли жует. А какую идею выдал!.. Только… Как же она раньше не пришла никому в голову? Никому — ни академикам, ни инженерам, ни изобретателям. Ведь само напрашивается…
— Давно известно: все гениальное — просто, — солидно сказал Яшка.
* * *
Химик Илья Борисович был, бесспорно, самым приметным человеком в школе. И не только потому, что огромного роста. Толстый. И лицом, и комплекцией очень похож на Петра I. И даже усами передергивал точь-в-точь, как знаменитый император. И не только потому, что говорил химик басом. Не говорил — гудел. И любил петь. Ребята это случайно узнали от рыжего Сименухина, который жил в том же доме, где химик. Сименухин рассказал, что химик каждый вечер распевает, да так, что с нижнего этажа (а химик на пятом, под самой крышей живет)… так вот с четвертого прибегают жильцы — мол, посуда на полках прыгает, вот-вот раскокается. Ребята долго упрашивали Илью Борисовича спеть. Но тот упрямо отнекивался. Мол, ни слуха, ни голоса. Но ребята понимали: химику просто неловко. Учитель — вдруг поет! Добро бы учитель пения! А то — химик… Но, главное, поговаривали, что Илья Борисович — самый ученый во всей школе. Все знает. Что ни спроси. Ходили слухи — даже диссертацию пишет. Очень мудрую, ученую диссертацию. И уже само название ее такое сложное и заковыристое, что даже десятиклассники и то не могли повторить. И вот сейчас, на большой перемене, трое мальчишек во главе с Валеркой пришли к Илье Борисовичу. Посоветоваться. Илья Борисович слушал ребят, чуть наклонив голову. У него привычка такая: слушает, будто бодается. Когда Валерка дошел до сути дела, Илья Борисович передернул усами. Пригладил их рукой. И опять — стриганул усами. Мальчишки замерли. Все в школе знали: если химик дважды дергает усами — хорошего не жди. — А что?! — вдруг весело прогудел химик. — Проектик, а?! Остроумен! Но… — он поднял палец. — Надо все обдумать. И, во-первых, почитать насчет производства карандашей. Узнать технологию этого дела. Может, производственный процесс такой, что идею никак не воплотить. Ребята нахмурились. Валерка сразу сунул дужку очков в рот и задвигал челюстями. — А может, лучше прямо сходить на фабрику? — предложил он. — Прийти к директору. Так, мол, и так… Химик кивнул. — Да, на фабрику — это, конечно, лучше. Одна только беда, — он усмехнулся. — В Ленинграде нет карандашных фабрик. — Ни одной? — удивилась Ленка. — Ни одной. Впрочем, это надо проверить. — Химик встал, положил руку на плечо Валерке. Илья Борисович был высокий, грузный, и весь Валерка кончался у него где-то под мышкой. — А вообще-то — молодец! — прогудел химик. — Четкое самостоятельное мышление! Не поддаешься отупляющему нажиму авторитетов. Это самое главное! Ребята тайком подмигивали Валерке. Ай да Шлагбаум! Химик — он зря не похвалит, это все знают. Из него пятерку клещами не вытянешь. И хоть было не совсем ясно, что он сказал насчет авторитетов и их отупляющего нажима, но несомненно — Илья Борисович здорово доволен Валеркой.…На следующий день химик принес в школу тоненькую книжечку. На обложке — длинный сверкающий карандаш. — Вот, читайте, — сказал Илья Борисович. — Только аккуратно. Библиотечная собственность. На всех переменах ребята бросались к Валеркиной парте. Читали вслух, разглядывали картинки и чертежи. Оказалось, карандаш — штука древняя и интересная. Раньше, когда еще не умели делать современных карандашей, мастерили серебряные палочки для письма. Или свинцовые. Стоили они страшно дорого. Ну, а потом, лет полтораста назад, научились делать настоящие карандаши. Но делали их неумело, вручную. И опять же — карандаш стоил дороже поросенка. Теперь на карандашной фабрике все механизировано. Автоматически делаются дощечки с шестью бороздками-желобками; они так и называются — «шестерки». В желобки укладывают шесть тоненьких «макаронин» из графита. Сверху другую такую же дощечку приклеивают. Намертво. А потом разрезают на шесть частей, шлифуют, полируют, и карандаши готовы. — Все ясно, — шмыгнул носом Валерка. — Теперь, значит, в «шестерки» надо будет укладывать «макаронины» покороче. Всего и делов! — Именно! — поддержал Яшка. — Ура! Даешь сто миллионов!
Из всех ребят только Гришка Мыльников отнесся к Валеркиной идее неодобрительно. — Крохобор! — он усмехнулся. — Четверть карандаша! Ты вот автомобиль на воздушной подушке изобрети, чтоб без колес над дорогой, как самолет, шпарил. Или пилюли, чтоб от рака — раз! — и вылечили. Вот это — изобретение! А то — ха! — четверть карандаша! — Гришка даже сплюнул от возмущения. Ребята дружно накинулись на него: — Трепло! — Болтун! — Просто завидует! Но Гришка махнул рукой и снова веско кинул: — Крохобор!
Прошли две недели. Каждый день теперь, приходя в школу, ребята сразу бросались к Валерке. — Ну? Есть? Тот лишь хмуро мотал головой. И так — день за днем. Ждать становилось совсем невтерпеж. А ответа с фабрики нет и нет. — Ну, давай снова подсчитаем, — сказал Яшка. — Мы отправили письмо в Воздвиженск шестого. Так? Ну, допустим, три дня — на дорогу. Значит, девятого письмо прибыло. Ну, допустим, пять дней — на всестороннее изучение Валеркиной идеи. И три дня — пока там, в Воздвиженске, соберутся написать ответ. Итого — семнадцатого кинули письмо в ящик. Двадцатого должно прийти. Яшка хмуро развел руками. Было уже двадцать седьмое. — Да, не торопятся, — подытожил Алик. — Бюрократы чертовы! — с яростью пробормотал Валерка. Прошло еще три дня и еще три… Валерка прямо почернел от нетерпения и злости. — Пошлю телеграмму, — однажды на перемене сказал он Яшке. — Знаешь кому? В Кремль, Косыгину! Он этим бюрократам всыплет. — Ой! — Яшка открыл рот. — Прямо Косыгину? — А что?! Так, мол, и так… Зажимают ценное изобретение! Государство терпит убытки! Пошли к химику. Илья Борисович сидел в химкабинете, а пахло тут так, хоть беги. Будто под каждым столом лежали груды тухлых яиц. Но химик, казалось, не чувствовал запаха. — Косыгину? — Илья Борисович шевельнул усами. — У него, пожалуй, и без того дел хватает. Побарабанил пальцами по столу, задумчиво поглядел в окно. — А знаете, давайте позвоним на фабрику! По телефону. Узнаем, почему не отвечают на наше письмо. — Ура! — крикнул Яшка. В тот же день собрали монетки. Кто дал пять, кто — десять копеек. Купили на почте талончик для междугородного разговора. Звонить решили из школы. — А кто будет говорить? — Яшка посмотрел на Илью Борисовича. — Нет, нет! — сказал химик. — Не я! Сами с усами. Тогда постановили — звонит Валера. Ведь идея-то его. Валерка крякнул, мотнул головой и храбро снял трубку. Телефонистка на междугородной станции дотошно выспросила номер талона, и когда куплен, и где куплен, и на сколько минут. Потом сказала: — А какой номер в Воздвиженске тебе нужен, мальчик? Валерка со злости чуть не ругнулся. Ведь так старался басом говорить, даже кашлянул для солидности, и вот на тебе — «мальчик»! — Дайте мне самого директора карандашной фабрики. Лично. — Лично директора? — телефонистка там, на станции, видимо, улыбнулась. — Хорошо, мальчик. Попробую. Телефон тренькнул и умолк. Теперь оставалось только ждать. Прошло с полчаса. Телефон молчал. — Черт! — Яшка с ненавистью смотрел на беленький, маленький, словно игрушечный аппарат с ярко-голубым пружинящим шнуром. — Онемел? — Терпение — залог здоровья! — изрек Алик. И опять они ждали. Наконец телефон дзинькнул и вдруг выплеснул длинную пронзительную струю. Валерка схватил трубку. — Воздвиженск вызывали? — торопливой скороговоркой выпалила телефонистка. — Да, да! — Говорите! Воздвиженск на проводе. Валерка вмиг охрип. — Нам… Мне… — сказал он. — Директора фабрики… — А зачем тебе, мальчик, директора? — девушка в Воздвиженске явно усмехнулась. — Может быть, я смогу вместо него? — Нет. Мне директора, — Валерка нахмурился. — Мы посылали ему письмо. Насчет этого… этого… На языке вертелось «насчет делания карандашей». Валерка чувствовал, что «делания» — это как-то нехорошо, но другое слово, как назло, не подворачивалось. Вот так всегда, когда срочно нужно слово — оно как под пол проваливается. — Насчет нового способа делания карандашей, — махнув на грамматику, сказал Валерка. — Изготовления, — прошипел Яшка. Валерка кивнул, но теперь хорошее слово уже было ни к чему. — О-о! — в голосе девушки звучал смешок. — Новый способ! Это замечательно! Так что же ты хочешь, мальчик? Валерка объяснил. — Письмо, наверно, передали в БРИЗ, — сказала девушка. — Куда-куда? — поперхнулся Валерка. — В БРИЗ, в бюро рационализации и изобретательства, — пояснила девушка. — Я им напомню. Дней через пять получишь ответ. Но прошло пять дней, и еще пять дней — письма не было. Валерка прямо шипел от злости. Будь он взрослым — знал бы, как неторопливо, с каким скрипом движутся иногда шестерни наших учреждений. И у взрослого больше выдержки. Но Валерке было всего тринадцать!.. — Хватит! — сказал он, когда прошло три недели после телефонного звонка. — Пишу Косыгину! Точка! Химик глянул на пылающие Валеркины глаза, сжатые губы. — Минутку, — сказал Илья Борисович. — Есть другое предложение… После школы химик с Валеркой и Яшкой сели в автобус. — Куда это мы? — не удержался Яшка. — Секрет! Вскоре химик подвел их к дому, где возле парадной висела внушительная доска: «Комитет народного контроля». Мальчишки переглянулись. Их принял какой-то лысый дядька. На правом глазу у него была узкая черная повязка. — Слушаю, — сказал он и нацелился своим единственным глазом на ребят. Но они молчали. Пусть Илья Борисович… Химик коротко изложил Валеркину идею. — Я консультировался с профессором Василевским, — стараясь, чтоб его бас не очень гудел, сказал химик. — Профессор в принципе считает идею весьма плодотворной. Яшка сделал большие глаза. Валерка тоже удивился: он и не знал про профессора Василевского. — Прошло почти два месяца, — произнес химик. — А ответа с фабрики нет. Одноглазый оказался неразговорчивым. — Минутку, — сказал он, и тут же в кабинете появилась секретарша. Наверно, он позвонил ей, хотя звонка на столе ни Яшка, ни Валерка не видели. — Соедините меня с Воздвиженском. Срочно, — велел одноглазый секретарше. — А вы, товарищи, посидите в приемной. Вскоре учителя и ребят снова позвали в кабинет. — Я говорил с директором, — сказал одноглазый. Он не пояснил, каков был разговор, но, судя по жесткому взгляду и подрагивающим уголкам губ, беседа прошла не «в теплой дружеской обстановке». — На днях получите с фабрики ответ. Теперь письма не пришлось долго ждать. Уже через два дня в школу прибыл конверт с длинным прямоугольным штемпелем «Карандашная фабрика». — На, читай, — химик протянул письмо Валерке. Тот нетерпеливо оторвал полоску сбоку и вытащил листок бумаги. — Ну? — крикнул Яшка. — «В ответ на ваше письмо… сообщаем… Хотя ваше предложение… определенный интерес… однако практическое осуществление его связано с крупными изменениями производственного процесса. В ближайшие годы фабрика вряд ли… это сорвало бы выполнение обязательного государственного плана выпуска продукции». Валерка положил письмо, снял очки и уныло сунул оглоблю в рот. Алик сидел, опустив плечи, и глядел в угол, на швабру. Яшка закусил губу. И даже Гришка Мыльников молчал. Он было уже открыл рот, чтобы съязвить: «Ну, огребли по шее, крохоборы?!» Но, увидев хмурые лица ребят, лишь промычал что-то неразборчивое. — Вот так, — тихо пробормотал Яшка. — Значит, опять — «шлагбаум». Все молчали. Старались не глядеть на Валерку. — Трусы, — сказал Алик. — Я в одной пьесе видел. Там тоже такие вот трусы… Шесть лет мурыжили изобретение. — Ага, — сказал Яшка. — А у нас в доме один изобретатель даже свихнулся. Правда, правда! На Пряжку попал. Тоже из-за бюрократов и трусов паршивых. Ребята все поглядывали на химика. Он молчал. — Там, на заводе, им тоже нелегко, ребята, — наконец сказал химик. — Вы представьте. Вот фабрика. Каждый месяц выпускает она миллионы карандашей. Все налажено, все идет как по маслу. И вдруг появляется какой-то Валерка. И предлагает «идею». И надо все ломать. Придумывать новые станки, чертить чертежи, выкидывать старые приспособления, мастерить новые. Вот не было печали!.. И еще неизвестно, что из этого получится! А вдруг — пшик?! Валерка сердито посмотрел на химика. Острый носик у Валерки еще больше заострился и побелел. Голос дрогнул. — Значит, вы за них, Илья Борисович? — Нет, нет! — химик засмеялся. Гулко, как в колодец. — Я за нас! Но просто хочу, чтобы вы поняли… — Мы поняли! — хрипло перебил Валерка. — Мы поняли, что там — трусы. И не заботятся о государственной выгоде. Все снова замолчали. — Да, внедрить изобретение всегда трудно, — в раздумье сказал химик. — Опытные люди даже говорят: изобрести легче, чем внедрить.
* * *
Прошло четыре дня. Валерка бродил как в воду опущенный. Что же теперь? Так все и бросить. Конец идее? Точка? Он все ждал: может, химик что придумает. Что-нибудь мудрое. Взрослое. Мужское. Это неправду говорят, будто мальчишки больше всего на свете хотят быть самостоятельными. То есть это, в общем, правда, но не всегда. Иногда, честно говоря, мальчишке очень хочется, чтобы взрослый дядя, такой вот огромный, усатый, сильный, подошел, положил руку на плечо и сказал: — Знаешь, Валерка, в этом трудном положении я бы поступил так… Все-таки взрослый — он не зря взрослый. Он кой-чего повидал на своем веку. Валерка нарочно все перемены отирался возле химкабинета. Выйдет химик, увидит. Заговорит. Но Илья Борисович торопливо проходил мимо. Кивнет, и мимо. «Сто миллионов карандашей, — занозой торчало в мозгу у Валерки. — Сто миллионов задарма!..» Он думал об этом и на уроках, и на переменах, и шагая в магазин за хлебом, и поедая котлеты. «Сто миллионов! А вот в Африке, например, обучают неграмотных. Там еще есть полудикие племена. Вот их учат. А сколько им карандашей нужно? А? Если бы эти сто миллионов туда… Даже не сто… Десять миллионов, и то бы здорово!» Часто думал он и о другом. Вот станут выпускать его карандаши. Его, Валеркины карандаши. Может быть, их так и назовут: «Валерка». А что? Очень даже звучно. И покупатель будет входить в магазин: — Нет, мне не этот… Мне — «Валерку»… И сбоку на одной из шести полированных граней карандаша, будет четко выдавлено: «Валерка». И даже в газетах, может быть, появятся заметки: «Изобретение пионера». Или лучше так: «Самый юный изобретатель в мире». И Гришке Мыльникову надо нос утереть. Обязательно! А то — крохобор! Ишь ты! А впрочем… Впрочем, все это бесполезно. Фабрика не хочет браться. Как ее заставишь? Яшка уже несколько раз подходил к Валерке. Но молчал, только глядел вопрошающе. Валерка пожимал плечами. А что он — гений, что ли? Или министр? Откуда он знает, что надо делать? — Может, опять сходим к этому… — Яшка зажал ладонью правый глаз. Валерка поморщился. Сходить-то нетрудно. Но что они скажут там, в Комитете контроля? Нет, главное, не торопиться, не натворить глупостей в спешке. Главное — все хорошенько обмозговать. И найти правильный ход. Это — как в шахматах… Найти единственное, точное продолжение… И вдруг Валерке показалось, что он нашел. Да, точно, нашел! Надо поехать туда! Поехать в этот чертов Воздвиженск! Прийти на фабрику и все толком объяснить. В письме ведь много не скажешь. А там, на месте, прижать директора в угол. Как, мол, так?! Отказывается от такой госидеи! Ведь это трусость! Да, трусость. Валерка сунул оглоблю очков в рот и, стараясь не горячиться, еще раз все обдумал. Да, точно. Ехать! Только — кому? Кто должен ехать? Не колеблясь, он тут же решил: химик! А кто же иначе? С мальчишками директор фабрики, пожалуй, и говорить не захочет. Да и не пустят еще на фабрику. Паспорт… Давай удостоверяй личность… Что ты, значит, не диверсант, не собираешься взорвать всю эту карандашную фиговину. А какой у Валерки паспорт?! Была еще одна заковыка: деньги на поезд. Ну, это Валерка сразу решил: сложимся, кто сколько может. Наскребем! Не обязательно в мягком ведь. И в купе тоже пусть министры ездят! А мы — и в обычном, сидячем… Не баре! Рассказал Валерка свой замысел Альке. Тот подумал и изрек: — Блестяще! Именно — к директору! И именно — химик! После уроков Валерка пошел к Илье Борисовичу. Ребят в химкабинете уже не было. Учитель что-то искал в шкафу: переставлял колбы, реторты, пробирки, какие-то пузатые бутыли с притертыми стеклянными пробками. — А? Это ты?! — прогудел Илья Борисович. Он был в мягкой кожаной куртке с шестью «молниями». Все мальчишки на эту куртку давно уже заглядывались. — Я к вам… Посоветоваться, — сказал Валерка. — Угу, — прогудел химик. — Давай советуйся. Валерка рассказал о своем замысле — съездить на фабрику. Химик слушал. Валерка кончил. Химик по-прежнему сидел молча, словно готов был и дальше слушать. Или он просто задумался? Он так ничего и не ответил насчет поездки. Будто и не слышал. — А знаешь, ты — кстати, — медленно, в раздумье, сказал химик. — Я тоже хотел с тобой поговорить. Он вынул трубку, огромную, с длинным полированным мундштуком. Валерка никогда прежде такой не видел. Непонятно было даже, как такой длинный мундштук умещается в кармане. Химик набил трубку, раскурил ее. И сразу — будто вишнею запахло. Или — медом? — Понимаешь, — сказал химик. — Жизнь — она штука сложная… Валерка кивнул. Да, это он уже усвоил. Жизнь — в самом деле, непростая штука. — Вот я и хотел с тобой потолковать… — продолжал химик. Валерка насторожился. Чего это Илья Борисович мнется? Непохоже на него… — Видишь ли, — сказал химик. — Идеи, даже очень хорошие, сами не осуществляются. За идеи надо драться. И очень крепко, упорно драться… Он посмотрел на Валерку. Тот кивнул: что ж, это он уже тоже понял. Драться? Он готов… — Ну, а я не могу, — сказал химик. — Занят. Понимаешь, у человека только одна жизнь. Цейтнот, понимаешь? Валерка молчал. — С диссертацией я уже три года вожусь. Пора кончать. А если всерьез заняться твоими карандашами — опять диссертация полетит… Химик выпустил огромное душистое облако. — Я с тобой — как мужчина с мужчиной. Так честнее… Валерка кивнул. Что ж, может, и честнее. А вообще-то… Все это было так нелепо, так дико… Валерку прямо как обухом по лбу. Он все-таки собрался с духом и повторил Илье Борисовичу о своем замысле — съездить на фабрику. — Что ж, — химик пожал плечами. — Съезди. Но сомневаюсь, очень сомневаюсь… Тут война предстоит окопная, затяжная… А может, лучше подождать? Вырастешь, поумнеешь. Соавтора себе подыщешь. Инженера, специалиста по карандашам. Он чертежи сделает, все расчеты, технологию. А так, сейчас… — Илья Борисович выдохнул ароматную струйку. — Вряд ли…* * *
Валерка возвращался домой хмурый. Шел, натыкаясь на прохожих. Как же так? Илья Борисович, мудрый, всезнающий, и вдруг — в кусты. Что он — струсил, что ли? Неужели такой огромный, сильный дядька — и сдрейфил? Или ехать неохота? Время терять?.. А за идеи надо драться — это химик прав. Может, потому все прежние его идеи и лопались как пузыри. «Не дрался. Точно. Сразу отступал. А может, — шлагбаумы бы появились на улицах? И голубиные двигатели?..» Дома Валерка тоже места себе не находил. Включил телевизор: какой-то пухлый, как младенец, старичок, очень довольный жизнью и собой, что-то говорил, но что ́— Валерка так и не понял. Даже о чем говорил упитанный старичок — и то Валерка не сказал бы. Все шло как-то мимо… Старичок ухмылялся, вертел в руках карандаш. Карандаш был толстый, красивый, шестигранный. «Вот попишет еще немного, а огрызок выкинет», — мелькнуло у Валерки. Он рано лег. — Болен? — забеспокоилась мать. Обычно Валерку раньше одиннадцати никак не загонишь в постель. — Нет, нет, просто устал, — Валерка накрылся с головой, отвернулся к стене. Приснился ему пулемет. Какой-то странный пулемет. Необычный. Валерка во сне присмотрелся. А, все ясно! Стрелял пулемет карандашами. Раз!.. И вылетает из дула целая очередь карандашей. Два! Еще очередь!.. Три!.. И карандаши странные. Валерка не мог понять, в чем дело? Но чем-то они отличаются от обычных. Пригляделся внимательней. Да. У этих карандашей сзади, на срезе, не было черной точки в центре. «Значит… — Валерка даже вздрогнул во сне. — Значит… Конец без графита. Просто деревяшка!» Да, это была его идея! Его карандаши! Но вдруг — пулемет исчез. А вместо него появился Гришка Мыльников. Ухмыляется и кричит: «Крохобор! Тоже мне Эдисон!» На следующее утро Валерка пришел в школу рано. Дождался Алика. Отвел его в самый низ лестницы, в тупичок — дальше ступеньки упирались в железную дверь подвала. Здесь всегда было темно, пусто и поэтому чуть-чуть таинственно. — Значит, так, — сказал Валерка. — Я решил… За идею надо драться. Верно? Джордано Бруно за идею — даже на костер… Так? — Так, — кивнул Алик. Он еще не очень ясно представлял себе, куда клонит Валерка. — Будем драться, — сказал Валерка. — Надо — самому Косыгину напишем. Только теперь Алик понял. — Правильно! — сказал он. — И к этому, одноглазому, снова пойдем. И к профессору Василевскому. И на фабрику… — Вот-вот, — сказал Валерий. — И Гришке Мыльникову докажем… — Он поднял кулак. — Клянусь! Бороться и искать! И не сдаваться! — Найти и не сдаваться! — тихонько поправил Алик и тоже поднял кулак.
 СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА[10]
РАССКАЗ-БЫЛЬ
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА[10]
РАССКАЗ-БЫЛЬ
За окном дежурки хлестал тяжелый осенний ливень. В темноте его не было видно. Только равномерный глухой гул. Казалось, мимо тянется бесконечный железнодорожный состав.
А в дежурке тепло и даже уютно.
Лейтенант Анатолий Стеринский сидел за столом в благодушном настроении. Ночь предстояла спокойная. Во-первых, пятница. А лейтенант давно уже подметил: в пятницу всегда меньше происшествий. Может быть, скандалисты и хулиганы берегут силы на субботу и воскресенье? А во-вторых, ливень. Лейтенант за свою семилетнюю службу в милиции убедился: в непогоду меньше всяких ЧП. Даже жулики предпочитают отсиживаться по домам.
Лейтенант достал конспекты по уголовному праву и аккуратно разложил их на столе. Лейтенант вообще отличался аккуратностью. И конспекты у него были чистенькие, обложки обернуты целлофаном. И подворотничок — свежий. И пробор на голове — ровный, как струна.
Спокойная ночь была очень и очень кстати. Через три дня — зачет, а Анатолий Стеринский, скажем прямо, был не слишком-то готов к нему.
Вдруг дверь в дежурку хлопнула. Сразу ворвались с улицы разбойничий посвист ветра, и дробный стук воды по желобу, и невская сырость.
Вбежала девушка, невысокая, в простеньком пальто, вязаной шапочке с помпоном, как у малышей, и в легких, насквозь промокших туфельках.
Она влетела в комнату и с разгона остановилась, не зная, к кому обратиться.
Губы у девушки дрожали, прядь мокрых волос выбилась из-под шапочки с помпоном и некрасиво свисала к подбородку. Видно было: еще секунда, и девушка заплачет.
— Ну, ну, — сказал лейтенант. — Ну, не надо… — так он обычно успокаивал свою четырехлетнюю дочку. — Что случилось? Садитесь…
— Ой! — всхлипнула девушка. — Скорей! Я у-у-убийца! Из-за меня че… че… человек…
Она заслонила лицо рукавом пальто и заревела громко, на всю дежурку.
«Весело, — подумал лейтенант, убирая в ящик аккуратно разложенные конспекты. — Вот тебе и пятница!»
По привычке мельком глянул на часы: двадцать три пятнадцать.
Успокаивая девушку, лейтенант стал выяснять, что же случилось. Оказалось, Галя Терехова работает неподалеку в аптеке. Практикантка. Сегодня вечером она случайно («Поверьте уж, сама не знаю как… Ну просто ума не приложу…») допустила ужасную ошибку. Страшную ошибку. Непростительную. («Нет, нет, я сама понимаю… Судить меня надо, я понимаю…»)
Лекарство для ребенка надо было изготовить из корня алтея, а она, наверно, из-за усталости, был уже поздний вечер, взяла траву термо́псис. («Они, понимаете, так похожи, оба эти порошка, — желто-коричневые и запах одинаковый».) И только после смены вдруг заметила красную наклейку: «Осторожно!»
Бросилась на выдачу, но микстуру уже унесли…
— Так, — сказал лейтенант. — А этот… термосин… термосис… Это опасно?
— Опасно?! — Галя снова громко всхлипнула. — Это смертельно! Удушье…
Галя опустилась на стул, уронила голову на руки и заплакала.
А перед глазами снова маячила колба с огненно-тревожной этикеткой «Осторожно!»
А рядом — туфельки. Остроносые бежевые туфельки на «гвоздиках». Вчера в магазине Галя долго примеряла такие. Купить? Слов нет — хороши туфельки! Но вот на днях по телевизору демонстрировали новые чешские модели. И модельерша сказала, что в будущем сезоне остроносые выйдут из моды. Обидно: купишь, а они устареют. Галя не миллионерша какая-нибудь — каждый месяц новые туфли покупать.
Готовит Галя микстуру, а перед глазами — туфельки эти, легкие, изящные, на тонюсеньком металлическом каблучке…
Но как же?.. Как же все-таки это получилось?!
Ни она сама, ни фармацевт, руководитель ее практики, ничего не заметили.
И такая доза! Пять граммов! Пять граммов «алтейки» — пустяк! Но пять граммов термопсиса…
Галя застонала.
Это и взрослому — смерть! В двадцать раз бо́льше предельной нормы! А ребенку… Ребенку термопсис вообще запрещен. Даже в самых микродозах. А тут — пять граммов! Ой-ой-ой!
— Ну, успокойтесь, — сказал лейтенант. — А кому прописано лекарство?
Галя замотала головой.
— В том-то и беда! Помню только фамилию — Медведев. Или Медведева. То ли мальчик, то ли девочка. А больше — ничего.
— Совсем ничего? — нахмурился лейтенант.
— Совсем…
— А имя?
Галя качнула головой.
— Возраст?
Галя всхлипнула.
— А кто забрал лекарство? Мужчина или женщина? Молодая или старая?
Галя опять отрицательно качнула головой.
— А рецепт? Где и кем был выписан рецепт?
Галя заплакала:
— Его… его… вернули вместе с микстурой…
Лейтенант задумался.
— Товарищ начальник! Умоляю! — Галя вскочила. — Надо срочно отыскать! Лекарство забрали поздно вечером. Ребенок, наверно, уже спал. Значит, лекарство ему не давали. Значит, есть шанс. Малюсенький, но шанс! Первый раз дадут утром. Умоляю!
— Понятно, — лейтенант встал. — А теперь помолчите…
Он вышел из-за стола и медленно зашагал взад-вперед по дежурке.
Галя исподлобья с надеждой следила за ним:
«А может, что-нибудь и придумает?»
Сапоги его при каждом шаге обнадеживающе поскрипывали.
«А может, в самом деле, придумает?»
«Впрочем, — она всхлипнула. — Вряд ли… Попробуй найди в четырехмиллионном городе какого-то Медведева. И, главное, — быстро, в одну ночь».
Как ни странно, Галя вовсе не думала о суде. Да, понимала: она — преступница. Да, понимала: за такое, конечно, по головке не погладят. Но не думала об этом.
А лейтенант все ходил и ходил по комнате. Ходил, приставив кулак к подбородку. Он всегда, когда думал, прижимал кулак к подбородку.
Украдкой поглядывал на Галю. Была она такая маленькая, худенькая. И губы — пухлые, совсем детские. А туфли и чулки — такие жалкие, исхлестанные грязью, промокшие.
«Лет шестнадцать, ну, семнадцать», — подумал лейтенант.
Он сказал:
— Сядьте к батарее.
Галя непонимающе посмотрела на него.
— Что?
Потом пересела. Туфельки она сняла и поставила на батарею, а ноги сунула меж труб. Без туфель, в этой домашней позе она стала совсем похожа на ребенка.
«Статья сто шестая, — подумал Стеринский. — Убийство по неосторожности. До трех лет…»
Он покачал головой и снова, потирая кулаком подбородок, медленно зашагал взад-вперед по дежурке…
«А все-таки неплохая девчушка, — думал он. — Честная. И не трусит. Понимает ведь: будут судить. Могла бы утаить. Авось не узнают. А она пришла. Сама. И выложила все…»
23 часа 25 минут. Лейтенант позвонил по телефону в управление милиции. — Товарищ дежурный по городу? Докладывает лейтенант Стеринский… Кратко изложил историю с лекарством. — Что собираетесь предпринять? — Во-первых, свяжусь с ЦАБом[11]. Узнаю адреса всех Медведевых, проживающих в Ленинграде. Попрошу в первую очередь отобрать мне Василеостровских… — Так. Дальше. — Сейчас же пошлю людей во все детские поликлиники района. — Однако учтите: ночь… — Так точно, ночь. Но постараемся разыскать хоть вахтеров. Надо в регистратурах проверить картотеки. Выявить всех Медведевых. По карточкам узнаем, кто из детей Медведевых сейчас болен и чем. — Так. Действуйте. О ходе розысков докладывайте мне каждый час. — Есть докладывать каждый час. Галя подумала: «А почему они ищут только тут, на Васильевском? Может, ребенок живет вовсе в другом районе. Может, просто мать работает где-то здесь. Ну, возле своей работы и заказала лекарство…» Хотела сказать о своих сомнениях лейтенанту, но промолчала. Честно говоря, какой-то он… Несолидный… Молод слишком. И такой чистенький, аккуратненький. И зубы сверкают так, будто у него их не тридцать два, как у других людей, а все пятьдесят. А в кино — умные следователи, они всегда пожилые, небритые, в мешковатых пиджаках и брюках с пузырями на коленях. «Впрочем… Пожалуй, он прав, — подумала Галя. — Сперва надо искать на Васильевском. А уж если не найдется здесь, тогда по всему городу…» О том же думал и лейтенант. Да, сперва — Васильевский. Все равно — весь Ленинград за одну ночь не обшаришь. А главное, — в аптеке забрали микстуру поздно вечером, около десяти. Значит, — кто-то близко живущий. Именно живущий, а не работающий тут: ведь в десять с дневной смены давно разошлись, а вечерняя еще не кончилась…
23 часа 35 минут. Лейтенант Стеринский позвонил в «Скорую помощь»: — Не поступал ребенок Медведев? Нет? Предупредите все пункты «Скорой». И «Неотложную». В любую минуту может поступить. Да, Медведев. Да, термопсис…
23 часа 40 минут. Стеринский позвонил в ЦАБ. — Вынуждена вас огорчить, — сказала дежурная сотрудница адресного бюро. — В Ленинграде более семи тысяч Медведевых. Пока мы выпишем адреса всех, пройдет неделя. — А вы отберите только василеостровцев. — Все равно. Потребуется два-три дня. А сейчас в ЦАБе я одна. Ночь ведь…
0 часов 10 минут. — Выезжайте и просмотрите картотеки! — сказал Стеринский оперуполномоченным — Жаркову и Беленькому. Жарков был молчаливый, а Беленький — говорун. И сейчас Беленький тоже ответил за двоих: — Есть просмотреть картотеки поликлиник. «Одно плохо: больные там не по алфавиту, — думал Стеринский, — по адресам. Как же искать?» За окном уже нетерпеливо фырчали машины, а лейтенант все сидел, приставив кулак к подбородку: неужели просматривать сплошь картотеки всех детских поликлиник района? Адская работка! — Ничего не попишешь, — вздохнув, сказал он Беленькому. — Придется крутить все барабаны подряд. — Придется, — согласился тот и шагнул к двери. — Да! И обязательно проверьте: не отложены ли у врачей отдельно карточки с последними, срочными вызовами?! Может, как раз там этот Медведев?! — Есть! Машины уехали.
…А дежурка жила своей обычной жизнью. Вот привели пьяного с разбитым лицом и слипшимися в кровавый ком волосами. Вот двое разъяренных мужчин притащили паренька: пытался снять колесо с их автомашины. Все это было привычно. Семь лет, изо дня в день занимался лейтенант пьяницами и хулиганами, ворами и тунеядцами. Занимался усердно. Однако сегодня все это злило его. На счету каждая секунда, а тут… колесо! Подумаешь! Ребенок гибнет, а они — колесо! Лейтенант быстро распорядился насчет пьяного. Не задерживаясь на подробностях, составил протокол об автоворишке. Его отправил в камеру, а шумных, возбужденных свидетелей, готовых, кажется, всю ночь рассказывать, как они случайно выглянули в окно, а на дворе этот парень поддомкратил машину и уже снял крепящие гайки с колеса… шумных этих свидетелей лейтенант перебил: «Вы свободны». И, кажется, вызвал их неудовольствие своей поспешностью. Галя глядела на громкоголосых жизнерадостных автомобилистов с ненавистью. Будь ее воля, показала бы им колесо! Лейтенант незаметно подмигнул ей. Мол, ничего, мы все это быстро… Автомобилисты ушли, но, как назло, в дежурку тотчас ввалилась какая-то лохматая тетка. — Вот, — плачущим голосом причитала она. — Муж! Линейкой… И подсовывала лейтенанту, и Гале, и дежурному милиционеру свою голову, на которой вспух огромный, с грецкий орех, желвак. — Муж! Это рази ж муж? Ирод это! Лейтенант, не глядя на желвак, сухо сообщил адрес пункта, где освидетельствуют пострадавших, и косматая тетка скрылась.
1 час 10 минут. — Товарищ дежурный по городу? Докладывает лейтенант Стеринский. Положение усложнилось. В поликлиниках никого нет, даже вахтеров. Наши стучали, звонили — без результата. — Так. Что намерены предпринять? — Буду действовать через постовых. Прикажу им обойти свои кварталы, поговорить с ночными дворниками. Нет ли жильцов с больным ребенком, по фамилии Медведев? — Действуйте!
1 час 15 минут. Время… Как быстро мчится время… Лейтенант посадил у телефона уполномоченного угрозыска Илью Местера, высокого парня в кожанке. Он почему-то так и сидел в кожанке, хотя в дежурке было тепло. — Звоните на все наши посты. Запишите: «Всем постовым милиционерам. Срочно. Обойти свой участок, опросить всех дежурных дворников. Найти больного ребенка, фамилия — Медведев или Медведева. Об исполнении немедленно доложить. Лейтенант Стеринский». Местер писал. Медленно, аккуратно; буквы крупные и с наклоном, как у ребенка. — Давайте я, — сказала Галя. Местер повернулся к ней. Глаза у него были тяжелые. — Сиди уж. Заварила кашу… Галю словно хлестнули. Сжалась, побледнела. — Товарищ Местер! — лейтенант неодобрительно покачал головой. Местер хотел что-то сказать, но махнул рукой, подсел к аппарату и стал звонить. — Постовой Рябушкин? Слушайте срочное распоряжение дежурного по отделу… — Постовой Тринчук? Срочное распоряжение… — Постовой Малинин? Слушайте… А Галя сидела у стола. «Так мне и надо… Так и надо… Заслужила…» Потом чуть успокоилась, прикрыла глаза. Вот сейчас на углу улицы, возле их аптеки, наверно, загудела сирена (Галя не раз из окна аптеки разглядывала ее: серебристый рожок, а под ним — такой же серебристый металлический ящик с красной полосой). Загудел рожок, постовой спешит к нему, открывает ящик, берет телефонную трубку: — Постовой Рябушкин слушает! «Медведев, Медведев, Медведев», — наверно, повторяет он про себя, чтобы запомнить накрепко. — Есть. Будет исполнено! И вот уже спешит он по тихим ночным улицам. От подворотни к подворотне. И тормошит заспанных дворников: — Нет ли в вашем доме ребенка Медведева? Больного ребенка Медведева? Нет? Идет дальше. А сирены гудят на улицах. Гудят, зовут… — Постовой Тринчук слушает… — Постовой Малинин слушает… — Постовой Азарян слушает… «Вот, — думает Галя. — Как в кино. Как называется картина? А! «Если парни всей земли»! Там тоже сколько людей затормошилось. И тоже из-за лекарства. Только там все наоборот: рыбакам позарез нужно одно редкое лекарство. Срочно! А тут, — Галя горько качает головой, — тут наоборот. Надо срочно изъять лекарство. Там оно — спасение. Тут — гибель». «Да, — думает Галя, — там все хорошо кончилось. Но то же кино… В кино-то всегда как по маслу…» Галя вздыхает.
1 час 40 минут. — Лейтенант Стеринский? Говорит дежурный по городу. Новости есть? — Никак нет, товарищ майор. Сообщений от постовых еще не поступало. — Слушайте, лейтенант. Запишите: Ж 3-73-63. Профессор Карасик, Александр Львович. Записали? Да, Александр Львович. Этот профессор — лучший специалист по детским болезням. Поняли? Сейчас он вам сам позвонит. Хочет побеседовать с вашим фармацевтом. А потом, когда найдете пострадавшего ребенка, немедленно пошлите машину за профессором. Он согласился сразу же выехать к ребенку. Ясно? Да, в любое время.
1 час 45 минут. — Это милиция? Гражданина Стеринского можно? Это профессор Карасик. Да, да. Не церемоньтесь, пожалуйста. Тем более — меня уже разбудили. А у стариков сон плохой, больше уж не засну. Нет, ничего, ничего. А эта девушка из аптеки — она у вас? С профессором Галя говорила как в тумане. Все путалось в голове, нервный комок застрял в горле, и его было никак не сглотнуть. А профессор словно не замечал ее состояния. Дотошно и медленно, как все старики, выспрашивал подробности: как она готовила лекарство и когда? Какие дозы? И как попала на стол колба с термопсисом? Ведь эту траву полагается держать в особом шкафчике. Как попала на стол? Это Гале понятно. Незадолго до того приготовляла микстуру с термопсисом — и вот, не успела убрать. Да, она, конечно, виновата, очень виновата… Галя вспомнила про туфельки и закусила губу… Дозы? Она снова мысленно видела свои аптекарские весы. Острая черная стрелочка уткнулась в тонкую черточку — пять граммов. Уверена ли она? Абсолютно. Именно термопсис. И именно пять граммов. — М-да! — сказал профессор. Видимо, хотел что-то добавить, но ничего больше не сказал. И Галя чувствуя, что сейчас совсем разревется, положила трубку. Лейтенант слушал этот разговор, а сам видел свою четырехлетнюю дочку, свою Анечку. Вот она смотрит по телевизору балет, хмурится и говорит: — Пап! А почему не берут в балерины тетенек повыше? Чтобы им не надо было все время стоять на цыпочках. А вот Анечка, радостная, пришла из детсада: — Я сегодня две пятерки получила: одну — за пение, другую — за шею… А если бы Анечке? Такое лекарство? С термопсисом… Анатолию Стеринскому вдруг очень хочется позвонить домой. Спросить жену: как там Анечка? Он уже протягивает руку к трубке, но тотчас отдергивает ее. Фу ты! Ночь ведь… Глядит на Галю. Худенькая, бледная. Тоже, в общем-то, еще ребенок. «Статья сто шестая», — думает лейтенант. Он сидит, привычно приставив кулак к подбородку. «Преступница…» Глядит на щупленькую девушку, на ее детскую шапочку с помпоном и хмуро пожимает плечами…
2 часа 20 минут. — Докладывает постовой Рябушкин. Обошел всех ночных дворников на участке. Ребенка Медведева никто не знает.
2 часа 35 минут. — Докладывает постовой Тринчук. Обход закончил. Безрезультатно. Так что ребенок не обнаружен.
2 часа 50 минут. — Докладывает постовой Азарян. Нет, не найден… «Вот именно, — хмурилась Галя. — Вот именно. В кино — там всегда просто. Раз — и нашел. А тут… И время… Время-то идет… Уже почти три…» Глядит на лейтенанта, на его крупные сверкающие, словно с рекламы, зубы, на ровный, в струнку, пробор и отворачивается. Силы вдруг оставляют ее. Галя теперь словно отупелая. Вдруг будто опустело у нее все внутри. И такая вялость… Сейчас вот заснет, и все… Заснет, и все… А перед глазами почему-то только одно: вот мать в больнице гладит худыми желтыми пальцами ее руку и шепчет: — Как одна-то, доченька? Как жить будешь? И снова видит Галя сухие синеватые губы, невесомые, словно насквозь прозрачные пальцы… — Как одна-то, доченька? Как жить будешь?..
3 часа 5 минут. — Говорит дежурный по городу. Запишите, лейтенант. В приемном покое Педиатрического института… Записали? Приемный покой Педиатрического института. Так вот — там доктор Калинкина предупреждена, что в любую минуту к ней может поступить ребенок Медведев с отравлением термопсисом. Ясно? Как только найдете ребенка, — немедленно везите в Педиатрический. Там все наготове. И профессора Карасика сразу доставьте туда же… Ясно?
3 часа 10 минут. Лейтенант сидел за столом, прижав кулак к подбородку. Он всегда, когда думал, прижимал кулак к подбородку. Честно говоря, не совсем ясно, что еще предпринять? Срочно связаться с начальником ЦАБа? (Наверно, у дежурной сотрудницы есть его домашний телефон.) Пусть начальник ЦАБа немедленно вызовет в адресное бюро нескольких людей? («А как? Есть ли у них телефоны? И как они ночью доберутся до ЦАБа?) Впрочем, все равно поздно. Лейтенант посмотрел на часы — уже скоро утро. А утром ребенку, конечно, дадут лекарство… Пока свяжутся с начальником ЦАБа, да пока сотрудники доберутся до бюро… Да исколько адресов они проглядят за два, три часа?! Нет, этот путь безнадежен… А что еще? Узнать кто выписал рецепт? Достать список детских врачей Ленинграда? И обзвонить всех: кто выписал «алтейку» Медведеву? Нет, утопия. Врачей — сотни. Да и где сейчас возьмешь их телефоны? Нет, ерунда! Галя сидит усталая, безучастная, словно оцепеневшая. Так бывает во сне. Видишь все, хочешь вмешаться, а даже пальцем не пошевельнуть… Хмуро следит Галя за лейтенантом. Что он сидит? И кулаком трет подбородок. Глупейшая привычка! А время-то идет! Надо же что-то делать. Что? И вдруг ей словно стукнуло в голову — радио! Немедленно! Передать по радио: «Внимание, внимание! Чрезвычайное сообщение! Вчера вечером в аптеке на Васильевском острове ребенку Медведеву неправильно приготовили лекарство. Принимать его нельзя! Ни в коем случае! Внимание, внимание!» Галя аж встрепенулась. Вот он — выход! Настоящий, безошибочный! Если даже семья Медведевых не слушает радио, все равно кто-нибудь из знакомых или родственников передаст им. «Да, радио!» Вероятно, она сказала это громко, потому что лейтенант вдруг повернулся к ней, покачал головой. — Я уже думал об этом, — сказал он. — Транслировать начинают в шесть утра. Чтобы передать такое «чрезвычайное сообщение», нужно особое разрешение. От самого высокого начальства. Раньше, чем в восемь-девять утра, не удастся. Впрочем, — лейтенант махнул рукой, — до восьми редко кто и слушает радио. Тем более — когда в комнате больной ребенок. А где гарантия, что в восемь ему уже не дадут лекарство? — он встал и заходил по комнате. — Нет, мы должны разыскать Медведева в пять-шесть, ну, максимум — в семь часов… — А если… Не получится?.. — прошептала Галя. — Тогда используем и радио. Как крайнее средство. Самое крайнее. А лучше бы — без него. Представляете? После такого радиосообщения весь город всполошится. А народ и так нервный. Будоражить его лишний раз ни к чему… Лейтенант Анатолий Стеринский вообще полагал, что хороший милицейский работник должен как можно меньше тревожить посторонних. Происшествия в городе — каждый день. И каждый день можно давать объявления в газеты и по радио: «Граждан, знающих что-либо об ограблении квартиры на Литейном, дом шестнадцать… просят зайти в управление милиции…» «С Гагаринского переулка угнана машина «Волга», черного цвета. Имеющих какие-либо сведения… просят сообщить…» И так — без конца. И все это будет свидетельствовать только о беспомощности милиции. Да, о бессилии. Анатолий Стеринский и так был нынче недоволен собой. Столько людей втянул в это ЧП! Стольким нарушил сон, выгнал под ливень! Никто не отказался. Но злоупотреблять этим нельзя. Нет, нельзя. Однако что же делать? А время-то идет. Идет время. Осталось до утра всего часа четыре…
3 часа 25 минут. Лейтенант позвонил начальнику своего райотдела милиции. — Эх, и не хочется будить! Хотя бы одну ночь дать человеку отоспаться досыта, — сказал он Гале, слушая зовущие гудки в трубке. Впрочем, взяли трубку быстро, словно звонка ждали и словно вовсе не четвертый час ночи. Начальник отдела слушал не перебивая. — Да, историйка, — сказал он, и лейтенант мог бы поручиться, что сейчас начальник, сидя в темноте на постели, в раздумье, потирает ладонью щеку. — Да, историйка, — повторил начальник. — Я подумаю. А вы держите меня в курсе…
3 часа 35 минут. И опять ходит, ходит, ходит лейтенант. Времени — в обрез. Надо срочно что-то придумать… Срочно… А мысль, словно заблудившийся путник в лабиринте, тычется все в те же глухие тупички: ЦАБ… дворники… постовые… поликлиники… Нет, все уже испробовано. И отброшено. Не то. Не то… Какая обида! В век техники, когда столько умнейших, тончайших приборов к услугам милиции… А вот тут ни одного не применишь. И приходится — логикой, одной лишь логикой… Ходит лейтенант, ходит, упер кулак в подбородок… И опять бьется мысль в том же проклятом лабиринте. А если? Все же — поликлиники? Узнать домашние телефоны главврачей? Или заведующих? Так… А они-то, уж конечно, знают, где их вахтеры, где ключи от входных дверей. Войти в поликлиники. А там — адреса больных детей Медведевых…
3 часа 45 минут. — О, это идея! — громко радуется начальник отдела. И уже шепотом (вспомнил, наверно, что жена спит): — Молодец! — Но как раздобыть телефоны главврачей? — хмурится Стеринский. — Не знаем ни их фамилий, ни адресов… — Минутку, — перебивает начальник и кладет трубку.
3 часа 55 минут. — Я позвонил домой заведующему горздравом, — сказал начальник отдела. — А у него, к счастью, был домашний телефон заведующего Василеостровским райздравом. Поднял с кровати и того. И вот у меня теперь четыре домашних телефона. Это главврачи всех четырех детских поликлиник нашего района. Понятно? Немедленно разбудите их, пошлите за ними машины, отвезите в поликлиники… «Да, — думает Галя. — Это дельно. Если… если ребенок живет на Васильевском… А если нет?..»
4 часа 15 минут. — Ох, и всыплют мне завтра за перерасход горючего! — хмуро шутит шофер. Его «раковая шейка» — синяя, опоясанная красной полосой машина — нынче всю ночь мечется по городу. Сейчас он отвез одного главврача, едет за другим. Крюки приходится делать изрядные: мост Летейнанта Штидта и Дворцовый мост все еще разведены. Машина вынуждена колесить через Петроградскую. Хорошо, хоть ночные улицы пустынны: шофер развивает такую скорость, о которой днем нельзя и мечтать. Привез главврача, а вахтера-то нет. Как попасть в поликлинику? Счастье, что главврач знал: живет сторожиха тут же, неподалеку, на Большом проспекте. Слетали туда, подняли старуху. Забрали ключи, и мигом обратно, в поликлинику.
4 часа 55 минут. Все четыре главврача доставлены в свои поликлиники. Обе милицейские машины теперь носятся по городу за медсестрами: без них в регистратурах утонешь. Не повезло: только у одной из сестер есть дома телефон. А у остальных — пока поднимешь с кровати, пока объяснишь что к чему, пока оденутся, то да се, а время идет, машина стоит, ждет.
5 часов 25 минут. Шесть медсестер уже в поликлиниках. Начинают поступать первые адреса Медведевых… Прежде всего надо обшарить участок, прилегающий к аптеке… Галя словно видит: медсестра поворачивает тяжелые барабаны, плотно забитые историями болезней. Проворные, привычные пальцы снуют по карточкам: «Не то, не то, не то…» Но вот — Медведев! Сестра быстро выдергивает карточку, откладывает в сторону. И опять скользят по рядам ловкие пальцы… Галя сидит в углу, возле стола. Сидит прямо, не облокачиваясь, не наваливаясь на спинку стула. Всю ночь сидит она так. Чуть прикроет глаза — и сразу видит: весь город, весь огромный город проснулся, тревожится, движется. И все из-за нее одной, из-за ужасной ее ошибки! Сколько людей не спят! Галя пытается мысленно представить себе: снуют от дома к дому постовые, переговариваются ночные дворники, мечутся милицейские машины. Покинули свои квартиры главврачи всех поликлиник, и медсестры, и сторожа. Разбужен и начальник милиции, и профессор Карасик, и заведующий горздравом. Бог ты мой! И сколько еще людей думают об этом ребенке! И только одна она, Галя, виновница всего, сидит за столом, в тепле, сидит сложа руки… «Ох, — думает Галя. — Помочь бы! Но чем? Как?» Она уже просила лейтенанта, чтоб послал ее за главврачом, но тот махнул рукой — сидите, мол. Куда потащитесь? Ночью, одна… А вместе с шофером — ни к чему. Он и сам… Но теперь Галя опять умоляюще смотрит на лейтенанта. И он кивает: — Садитесь к телефону, записывайте адреса. А сам смотрит на часы. Время-то… Идет время. Осталось до утра всего каких-нибудь два часа…
5 часов 50 минут. Две милицейские машины снуют по Васильевскому. В машинах, кроме водителей, — Жарков и Местер. Илья Местер дежурит нынче ночью по угрозыску, но происшествий нет, и он, оставив все на лейтенанта Стеринского, включился в поиск ребенка. Получив пять-шесть адресов, бегает Местер по лестницам, звонит в квартиры. — Медведевы здесь живут? — Что-что? — спросонья не понимает старушка. — Медведевы живут тут? Голос у Ильи Местера — как из бочки. Таким в самый раз по ночам людей будить… — А конечно! А как же?! Живут, батюшка. А что стряслось-то, господи? — Да ничего не случилось, не волнуйтесь, бабушка. А сын у них есть? Или дочка? — Илья старается, чтоб голос звучал как-то помягче, деликатнее. — Да есть, есть. Конечно, есть! Доченька, Валюша. — Здорова? — Да, конечно, здорова. Пока бог миловал, здорова. А что стряслось-то, батюшка? — Да ничего, ничего! Здорова — и все в порядке. Машина летит дальше. — Медведевы тут живут?.. — Отворите, пожалуйста. Не пугайтесь. Медведевы у вас проживают? Объехав очередные адреса и убедившись, что все дети Медведевы здоровы, Местер не возвращается в милицию. На счету каждая минута! Из ближайшего автомата звонит — «02». Телефонистка на коммутаторе милиции уже запомнила его трубный «глас» и, даже не ожидая номера, сразу соединяет с лейтенантом Стеринским. Получив новую порцию адресов, Местер мчится дальше. По пустынным темным дворам, гулким ночным лестницам. — Медведевы тут живут? — Кого-нибудь из Медведевых можно? А где-то неподалеку так же мечется по лестницам Жарков…
6 часов 20 минут. Как много Медведевых даже на одном лишь Васильевском острове! Да что там на острове! В прилегающем к аптеке районе — и то обошли уже более сорока квартир. Медведевы — да не те. Звонят из поликлиники. Галя записывает два адреса. Один — возле самой аптеки… Сердце у нее стукнуло и остановилось. «Он!» Галя почему-то твердо верит — он! Валерик Медведев. — Можно, я?.. Сама!.. — просит она Стеринского. Тот глядит на нее удивленно. Пожимает плечами. И вот Галя уже несется полутемными улицами. Девятнадцатая линия… Так… Вот тут… Пожилая дворничиха подозрительно оглядывает Галю, долго расспрашивает, кто она, да к кому. Потом так же долго копается у ворот, гремит цепью. Наконец-то! Одним махом взлетает Галя на третий этаж, звонит, звонит, звонит… — Медведев? — переспрашивает за дверью чей-то заспанный голос. — Валерик? Ну и что? Жив-здоров. В детсад ходит. А что?.. Галя молчит. — Эй! — говорит за дверью. — Кто там? Зачем вам Валерик? Галя молчит. Медленно спускается по ступенькам…
6 часов 50 минут. Это — как в плохом детективе. Да, сотруднику угрозыска Илье Местеру кажется, что он читал что-то похожее в какой-то дрянной книжонке. Он звонит на Четырнадцатой линии. Входит в квартиру. — Медведевы здесь живут? — Нет, таких нет… — Как — нет? — Илья все сдерживал голос, а тут забыл и перешел на полную мощность. — Как — нет? Вот у меня же — из поликлиники. Медведева Люба… — А! Любочка! Есть! Есть! Ее фамилия, кажется, и впрямь Медведева. Родители-то ее здесь не живут. Они — в Туле. А девочка — у дедушки. А его-то фамилия — Никитин… Местер, почти не слушая, идет по коридору за говорливой женщиной. Стучит в комнату. — Войдите! Отворив дверь, видит: маленькая девочка на кровати, а около нее — старик. А на столике… Цепкие глаза Ильи Местера сразу выхватывают из груды чашек, ложек, игрушек, книжек коричневато-желтую бутылочку. Словно онемев, молча, неотрывно, глядит он на эту бутылочку. Глядит и молчит. Старик беспокойно следит за его взглядом. — Лекарство, — испуганно бормочет старик. — Внучке… Видимо, он не на шутку встревожен этим непонятным ранним визитом. — Извините! — гудит Местер. — Извините! Сейчас объясню… Только скажите: вы уже давали? — стучит он ногтем по коричневатому пузырьку. — Нет, еще нет. А что? — Полный порядок! — грохочет Местер. — Все, — говорит лейтенант Стеринский, когда раздается звонок Ильи Местера. — Нашли… Он глядит на Галю. Маленькую, худенькую. Чулки и юбка на ней заляпаны грязью. Грязь уже высохла и теперь особенно заметна. Волосы растрепаны. Глаза воспалены. — Ой! — шепчет Галя. Она улыбается и вдруг — плачет, навзрыд, на всю дежурку. Кусает губы, зажимает рот рукой, но не удержаться… — Ну, ну, — говорит Стеринский. — Ну, не надо… — так он всегда успокаивает свою четырехлетнюю дочку. — Ну, не надо же…

 В ГОСТИ
В ГОСТИ
Витька, высокий, гибкий, как хлыст, семиклассник, в щеголеватой, легкой, несмотря на морозец, тужурке, стоял возле своей парадной и исподтишка наблюдал за этим пареньком.
Странный парнишка! В кургузом пальтеце, в треухе, в галошах. Обшарпанный чемодан все время держит на весу, будто боится опустить на панель. Так и стоит — уже долго, привалившись спиной к фонарному столбу.
«Из деревни», — догадался Витька.
Об этом говорили галоши. На улице было сухо. Какой ленинградский мальчишка в такую погоду напялит их?
И еще: чемодан у паренька фанерный. Видимо, когда-то он был ярко-бордовый. Но краска облезла, и теперь чемодан не то рыжий, не то пегий.
Вообще-то стоять да глазеть вокруг Витьке было некогда. Его ждала недостроенная модель: катер с подводными крыльями. Не катер — чудо! Но уж больно занятный парнишка. Витька неторопливо, вразвалку подошел к нему и небрежно осведомился:
— Колхозничек?
Парнишка насупился, глаза у него сузились. Острый кадык дернулся, выпятился и опять пропал, будто парнишка проглотил что-то.
— А чего картошку слабо копаете? — не унимался Витька. — Наш сосед ездил помогать. У самих — кишка тонка? Да?
Парнишка опять молча дернул кадыком. Был кадык у него такой острый — казалось, в конце концов, проткнет кожу на шее.
— Зачем приехал? — спросил Витька.
— К тетке, — наконец разжал губы паренек.
— Чего ж не зашвырнул к ней свой сундук? — Витька щелкнул ногтем по чемодану. Промерзшая фанера зазвенела, как барабан.
— Нету тетки, — сказал парнишка. И хмуро пояснил: — Совсем нету…
— Как это — совсем? — не понял Витька.
Паренек набычился, мотнул головой. Видно, ему не хотелось беседовать с первым встречным. Но Витька настаивал. И паренек, запинаясь, рассказал.
Оказалось, он приехал на каникулы издалека, из деревни Верхние Рожки. Здесь, в Ленинграде, живет его тетя Лидия Гавриловна. Филя, так звали паренька, никогда ее не видел. Но отец с матерью говорили, что тетка добрая, живет одна в большой комнате и, конечно, приютит Филю на две недели.
Адрес тетки у родителей не сохранился. Когда-то переписывались с нею, но с годами письма шли все реже, а потом и вовсе прекратились. Помнили родители только, что жила тетка на Лиговке, а дом и квартиру начисто забыли.
— Не беда, — говорили они, отправляя сына. — В Ленинграде есть хорошие знакомые — Зыковы, из той же деревни. Зыковы с теткой Лидией — друзья и, конечно, покажут, где она проживает.
И вот приехал Филя в Ленинград, пришел к Зыковым, а те, оказывается, еще лет шесть назад поссорились с теткой и забыли дорогу друг к другу. И вдобавок сама-то Зыкова в командировке и вернется нескоро, а муж ее понятия не имеет, где живет тетка.
— Вот какая запятая, — печально сказал Филя. — Придется, значит, домой вертаться. Зазря, выходит, катался. Да на билеты тратился…
— Темнота! — сказал Витька. — Так ты у этих… у знакомых… у Зыковых приткнись.
Филя уныло покрутил головой.
— Что? Не звали? — догадался Витька.
— Предлагали, — вяло сказал Филя. — Да как-то… так… И тесно у них. Ну, я сказал, у других погощу.
— Соврал?
Филя кивнул. Мальчишки замолчали.
— Постой! — вдруг вскрикнул Витька. — А фамилию тетки знаешь?
— Конечно. Еленева.
— Порядочек. Пошагали!
— Куда?
— Шагай, шагай! Эх, ты, темнота!
Витька торопливо шел по улице, ловко лавируя в толпе. Филя едва поспевал за ним. Чемоданом он то и дело цеплялся за прохожих, вслед ему неслись недовольные реплики и смешки. Свернули на бульвар к ярко-окрашенному, словно игрушечному, киоску «Ленсправки». Витка постучал в стеклянное окошко.
— Адрес можно узнать? Так. Лидия… Как дальше?
— Гавриловна, — подсказал Филя. — Еленева.
— Год рождения?
Филя наморщил лоб:
— Отец говорил: она ровно на двадцать лет старше меня. Значит, с тридцать шестого…
Витька сунул в окошко монетку.
— Подождите! — окошко захлопнулось.
Мальчишки не отходили от киоска.
— Учись! — торжествуя, сказал Витька. — Темнота! Это тебе не в деревне! Культура! Техника! Кибернетика!
Он поглядел на уличные часы: половина третьего. А модельный кружок — в два. Но не бросишь же этого?! Ну, ничего. Сейчас…
Вскоре окошко открылось.
— Не проживает, — сказала девушка.
Ребята обомлели.
— Как не проживает? Совсем?
— Повторяю: по данным адресного бюро гражданка Еленева Лидия Гавриловна в Ленинграде и области не проживает, — окошко со стуком захлопнулось.
Был солнечный, звонкий денек. По бульвару мимо ребят весело сновали прохожие, а они стояли как пришибленные. Вот те раз! Вовсе не живет! Лицо у Фили было растерянное, острый кадык ходил взад-вперед, как поршень.
Витька пожал плечами:
— Может, в другой город переехала…
— Как же?.. — растерянно пробормотал Филя. — У нас из деревни один в Ленинград ездил. Сказывал, тетка в городе. Ненароком на улице повстречал.
— Когда?
— Да с месяц назад…
Витька задумался. Ребята долго молчали.
— А может… Ты фамилию переврал? — вслух подумал Витька. — Может, не Еленева? Оленева? От слова «олень»?
Филя уныло покачал головой. Но Витька все-таки постучал в окошко. Снова заполнил бланк, но теперь на «Оленеву».
Девушка в окошке сердито посмотрела на него, но ничего не сказала. Опять стали ждать. Ждали долго.
— Не проживает, — сказала девушка и усмехнулась. — Можно еще «Иленеву» поискать. Или «Яленеву»…
Витька вздохнул. Посмотрел на висячие электрочасы: без пяти три. Яков Семенович там, во Дворце, конечно, уже шипит, как сало на сковороде. И правильно. Обещал ведь на каникулах закончить модель, и вот здрасте…
Поглядел на Филю. Тот стоял, часто-часто моргая.
— Сядем, — сказал Витька.
— Не… — Филя мотнул головой. — Поеду…
— Куда?
— Известно куда. На вокзал.
Витька сердито взял его за рукав и потащил по заснеженному бульвару к скамейке. Сели. Филя сжался в комок. Глядел себе под ноги, будто изучал свои калоши.
— Ну ладно, — сердито сказал Витька. — Ты эти похороны брось! Подумаешь! Ну, нет тетки. Ну и что?!
Витька привык, что все в жизни делается быстро и легко. Отец у Витьки — глазной врач, заведует поликлиникой. Живет Витька без забот. И в школе — одни пятерки да четверки.
Он взглянул на Филю, растерянного, унылого. И вдруг Витьке очень захотелось сделать что-нибудь благородное, красивое.
— Идея! — воскликнул он. — Будешь у меня жить. Всего-то десять дней. Подумаешь!
— Не, — пробормотал Филя. — Негоже. Твои-то… Скажут, приволок невесть кого. Може, бандит…
— Поговори еще! — Витька решительно взял Филин чемодан и пошел.
Филя — хочешь не хочешь — потащился за ним.
…Дверь открыла Витина мама. Подняла брови, увидев незнакомого мальчишку, да еще с чемоданом, но ничего не сказала. Мать знала: Витя сам все расскажет. Не надо его торопить. И действительно, вскоре Витька выложил невеселую Филину историю.
— Как в кино, — сказала мать. Окинула быстрым взглядом серебряные ложки на столе и ушла на кухню.
— Я лучше того… на вокзал, — заерзал Филя.
— Сиди! — отрубил Витька.
Вскоре мать вернулась.
— Ты из какой деревни? — спросила она.
— Из Верхних Рожков. Из-под Казани.
— Понятно, — мать опять скользнула глазами по серебряным ложкам, словно пересчитала их, и ушла.
— Чесслово… я лучше на поезд! — взмолился Филя.
— Сиди! — зашипел Витька. Посмотрел на часы. — Сейчас отец придет.
— Ох, — сказал Филя. — Я лучше…
— Сиди!
Честно говоря, Витька был недоволен собой. Сгоряча притащил Филю. А теперь, успокоившись и сообразив, что придется все каникулы возиться с этим «колхозничком», заскучал. Вот влип! И главное, этот Филя какой-то неживой. Молчит. И глаза унылые. И кадыком дергает — дурацкая привычка!
Отец вошел, как всегда, шумно. Еще не скинув пальто, крикнул:
— Голоден как волк!
— У нас гость, — поджала губы мать.
— Гость?! — отец посмотрел на Филю. — Тем лучше! Надеюсь, нежданный гость не откажется потрапезничать с нами?
— Не откажется! — быстро подтвердил Витька, наступив под столом на Филину ногу. — Мы дьявольски голодны! Как стая волков!
За обедом Филя сидел красный и держал ложку как-то странно, далеко оттопырив мизинец. Или он думал, что так красивей?
— У меня конструктивное предложение, — пообедав, сказал отец. — Давайте-ка обратимся к Марии Федоровне. Авось поможет…
— Точно! — обрадовался Витька.
Как он сам не сообразил?! Конечно, надо съездить к Марии Федоровне! Она все на свете знает. И работа у нее такая: инструктор справочной службы!
— Ну, а пока, — продолжал отец, — Филимон, конечно, поживет у нас.
Вскоре ребята уже шагали. Прошли по мосту через Неву, свернули на Невский, а с него — на улицу Герцена. На одном из домов висела вывеска — «Контора «Ленгорсправка».
— Сюда! — сказал Витька.
Повел Филю по извилистому коридору. Видно, он не раз бывал здесь: шел уверенно, ни у кого не спрашивая. И так же уверенно открыл одну из дверей.
Большая комната. Все стены сплошь закрыты стеллажами с книгами. Казалось, в комнате вообще нет стен. За тремя столами — три женщины: две молодые, одна пожилая. А на столах несколько телефонных аппаратов.
Витька направился к пожилой женщине и только заговорил с нею, как зазвонил телефон. Мария Федоровна махнула Витьке рукой и взяла трубку.
— Это девятнадцатый? — переспросила она. — Песенка Максима? «Крутится, вертится шар голубой». Что? Шар или шарф? Хорошо. Выясню. Да, через четверть часа.
Велела мальчикам сесть, а сама стала куда-то звонить. Попросила кого-то посмотреть старый песенник, потом позвонила в Союз композиторов.
— Чего она зазря тормошится? — шепнул Филя Витьке. — Всем известно — «Крутится, вертится шар голубой». Я тыщу раз по радио слыхал. При чем тут шарф?
Витька ткнул его в бок — молчи!
Опять зазвонил телефон.
— Девятнадцатый? — спросила Мария Федоровна. — Так вот, передайте клиенту: и он, и его приятель — оба правы. В старину действительно пели «Крутится, вертится шарф голубой», то есть: девушка танцует, и над ней вьется ее легкий шарфик. Но потом этот первоначальный смысл был утрачен, и стали петь «Крутится, вертится шар голубой».
Мальчики переглянулись. Витька украдкой показал Филе язык: что, съел?
Опять зазвонил телефон.
— Двадцать седьмой? Кто был чемпионом СССР по футболу? Когда? В тридцать девятом? Хорошо, выясню.
Мария Федоровна положила трубку, но сразу — новый звонок.
— Двенадцатый? В какой цвет был окрашен Зимний дворец в день Октябрьского штурма? Выясню.
Опять звонок.
— Что? — переспросила Мария Федоровна. — Сколько лет Олегу Попову? Клоуну Попову? Хорошо.
Мальчики только переглядывались. Ничего себе! Вопросы сыпались, как из дырявого мешка. И все разные, все заковыристые. И на все надо ответить.
Когда телефон чуточку угомонился, Мария Федоровна подвинулась к ребятам.
— Ну, выкладывайте. Что случилось?
Витька торопливо — а вдруг опять затрезвонит телефон? — рассказал, зачем они пришли.
«Лидия Гавриловна Еленева, 1936 года рождения», — на бумажке записала Мария Федоровна.
— А больше ничего о ней не знаешь? — повернулась она к Филе.
Тот наморщил лоб:
— Нет, вроде бы… Хотя… Вот еще… Жила, кажется, на Лиговке…
Мария Федоровна на бумажке записала «Лиговка» и рядом поставила большой вопросительный знак.
— Так. Значит, месяц тому назад ее видели здесь? А в адресном бюро нет? Странно, — задумалась она. — Впрочем… Возможно, твоя тетя просто приезжала. В командировку или погостить… — Мария Федоровна опять задумалась.
— А когда эти… Зыковы… поссорились с ней? Лет шесть назад? Значит, шесть лет назад она наверняка жила здесь? Так?
— Так, — подтвердил Филя, не понимая, куда она клонит.
Тут опять разом зазвонили все три телефона.
— Что? — спросила Мария Федоровна. — Когда было последнее извержение Везувия? Хорошо.
— Слушаю! Водятся ли киты в Охотском море? Понятно.
— Когда был создан «Чапаев»? Книга или фильм? Фильм? Узнаю.
На бумажке Мария Федоровна быстро записывала все вопросы.
— Мы пойдем, — шепнул ей Витя.
Мария Федоровна кивнула.
— Как выясню что-нибудь, позвоню, — прикрыв ладонью телефонную трубку, сказала она.
Домой мальчики вернулись уже поздно вечером. На ночь Филе поставили раскладушку рядом с Витиной кроватью. Родители ушли в свою комнату, а мальчики остались лежать в темноте.
«О чем бы поговорить?» — подумал Витька.
Спросил насчет шахмат. Оказалось, попал в точку. Оба они любили эту игру.
— Сразимся! — сразу загорелся Витька.
— Идет! Только не сейчас.
В двенадцать ночи выяснилось, что Филя умеет водить трактор.
— Сам? Не врешь?
Филя пожал плечами:
— Приезжай! А что? Летом приезжай! Поживешь у меня, покуда не надоест. А на тракторе научу. И, знаешь, на охоту сходим. У отца — ружье. Тулка!
«А в самом деле? — подумал Витька. — Махнуть бы! Чем киснуть на даче…»
— У нас знаешь как здо́рово? — мечтательно сказал Филя. — Перепела — прямо из-под ног, с треском — р-р-р! Клевера́ пошибче твоего одеколона пахнут. А в лесу — озеро, круглое, будто тарелка. Черное, как нефть. За озером зверь на зорьке трубит. Глухо так, печально трубит…
«Ишь! — удивился Витька. — Как заговорил колхозничек-то! Будто стихами!»
Вскоре Филя уснул. А Витька еще долго лежал в темноте. Изредка по потолку скользили светлые блики — от фар проезжавших мимо машин — и тогда весь дом мелко-мелко подрагивал.
«А я ведь никогда не держал в руках ружья, — думал Витька. — Чего уж там тулку! Даже малокалиберку… Наверно, это здорово — на охоту».
Он повернулся к стене, но сон все не шел.
Заснул он еще нескоро и, засыпая, слышал, как где-то далеко, за круглым, черным, как нефть, озером, печально трубит зверь. Был он большой, похожий сразу и на слона, и на оленя, и немного даже на волка. Трубил зверь по-разному, то высоко, нежно, как флейта, то густо и мощно, как паровоз…
Утром Филя спросил:
— А эта, Лиговка, далеко?
Витя прищурил глаз, усмехнулся:
— Так! Поздравляю!
— А чего? — не отступал Филя. — Обшарю все дома подряд.
— Но их там штук двести, а то и триста! Обшарь-ка! И все огромные, по пять-шесть этажей.
Но сколько Витька ни отговаривал, Филя стоял на своем:
— Ничего! Сдюжу. Ты только растолкуй, как ехать.
Витя стал объяснять, потом подумал: заблудится. Факт!
— Упрям же ты! — с досадой сказал он. — Двинем вместе. Поеду, лишь чтобы доказать тебе, как это глупо.
На автобусе добрались до Московского вокзала.
— Вот это и есть Лиговка! — Витя ткнул рукой. Широкая прямая улица убегала вдаль, и конца ее не было видно.
— Ничего проспектик, подходящий, — сказал Филя. Длиннющая улица, видимо, все-таки смутила его, но он старался скрыть это. — Вот с первого дома и начнем!
Лестница за лестницей стали обходить квартиры. Звонили и спрашивали:
— У вас Еленева не живет? Лидия Гавриловна?
Кое-где быстро выяснялось, что такой нет. Кое-где не отворяли, — видимо, дома никого не было. А кое-где завязывалась длинная беседа: кто такая Еленева? Да зачем она мальчикам? Да какая она из себя?
— Лидия Гавриловна? — переспросила высокая костлявая старуха. — А может, Лидия Макаровна? Рыженькая? Конопатенькая?
— Не знаю, — пожал плечами Филя.
— Тетку свою не знаешь? — подозрительно уставилась старуха. — Шагай, шагай! — вдруг пронзительно закричала она. — Ходют тут всякие-разные. А потом вон, в четырнадцатой, чайника не досчитались.
Мальчики прочесали все восемь лестниц этого дома. Посмотрели на часы: ничего себе, целых пятьдесят минут ухлопали!
— Кустарщина! — вздохнул Витька. — Как кошки, по лестницам шныряем. Уж если искать — надо к управхозу. Или к дворникам. И потом, в подворотнях же — списки ответственных съемщиков…
Теперь дело пошло быстрее. Ребята проглядывали списки, а потом еще шли к управхозу. Вдруг тетка жила здесь и переехала в другой дом? Или вдруг она просто съемщик, не ответственный?
Плохо было только, что управхоза часто не оказывалось на месте. Приходилось ждать. А время шло…
После обеда Витька собрался было во Дворец, но потом передумал и пошел с Филей: надо же познакомить его с Ленинградом?!
Долго бродили по улицам. Один — высокий, гибкий, как хлыст, в щегольской куртке на молниях и модной кепочке, другой — приземистый, в потертом пальтеце и треухе. Вышли на Неву. Витька показал Филе и сфинксов, и Медного всадника, и Исаакиевский собор, и Кунсткамеру, и Петропавловскую крепость.
Филя глядел на все молча и только крутил головой.
На одной улице из подворотни большого дома густо валил дым.
— Пожар! — Филя бросился в подворотню.
Витька — за ним.
Двор был глухой, мрачный, как глубокий каменный колодец. Посреди полыхал огонь. Нет, не пожар. Просто костер. Витька пожал плечами: странно. В центре Ленинграда, как в лесу, — костер.
Вокруг стояло несколько мужчин. Они не суетились, молча, хмуро глядели в огонь.
Но самое удивительное — мальчики даже не сразу поверили глазам — в костре горели не ящики, не стружка, не поленья, а целые столы, стулья, тумбочки. Горели они ярко, с треском; видно, дерево было сухое, и только краска на досках кипела и пузырилась. Еще целая гора таких же письменных столов, прикроватных белых тумбочек и самых разных стульев высилась неподалеку от огня.
— Что такое? Зачем добро палят? — тревожно повернулся Филя к Витьке.
Тот пожал плечами.
— Приказано, вот и жгем, — мрачно сказал стоящий рядом пожилой дядька в брезентовой куртке, надетой поверх пальто. — Директор гостиницы велел. Он новую мебель купил. А это имущество, считай, обветшало.
— Зачем же палить? — возмутился Филя. — Ведь еще вовсе ладные столы. Ну, для гостиницы не хороши, там, видать, шик нужен, так отдайте людям. Зачем палить?
— По закону, — хмуро сказал другой рабочий. — Отдать нельзя. Раз вещь отслужила, положено уничтожить. И акт составить…
— Не может быть такого закона! — взвился Филя. — Добро палить?!
Он так побелел — Витя даже испугался. А кадык ходил взад-вперед с утроенной скоростью.
— Да брось, — шепнул ему Витька. — Ну чего ты из-за барахла?.. Ну, сожгут это старье — и черт с ним…
— Нет! — выкрикнул Филя. — Разве это старье? Да у нас в колхозе такие столы еще как бы сгодились!
— Вообще-то оно конечно, — медленно произнес пожилой рабочий в брезентовой куртке. — Обидно жечь…
Возле костра вертелся маленький толстенький мужчина в шляпе, с портфелем. В руке у него трепыхались какие-то бумажки.
— А ну, малец, иди-иди! — крикнул он Филе. — Тут все по закону. А раздать нельзя. Материальные ценности! Разреши их раздать, так всю гостиницу по своим халупам разнесут. И шагай отсюда. Нечего тут пропаганду-агитацию разводить.
— Пойдем, — шепнул Витька.
— Нет, — Филя повернулся к толстяку. — А вы не кричите. Двор не ваш. Захотим и будем стоять, — и он скрестил руки на груди.
Витька тоже скрестил руки: как Наполеон на известной картине.
Так мальчики и стояли, а двое рабочих по команде толстяка опять стали швырять в костер стулья.
— Нет, не могу! — шепнул Филя. — А если в милицию? К начальнику? Мол, преступление…
Витька махнул рукой.
— Пока доберешься до этого начальника… Да он и слушать нас не станет…
— А может, в народную дружину?
Витька опять махнул рукой.
— Слушай! — вдруг воскликнул Филя. — У тебя отец кто?
— Ну, глазной врач.
— Да нет, ты говорил — депутат?
— Ну, депутат.
— Позвоним ему. Депутат — это сила…
Витькин отец слушал Филю не перебивая.
— Безобразие! — сказал он. — Какая гостиница? Так. Сейчас.
Ребята вернулись к костру. Он теперь пылал еще ярче. Рабочие затолкали в огонь большой стол, и он стоял на ножках, как какое-то странное обугленное животное.
А отца все не было…
Бросили в костер несколько стульев.
А отца все не было.
— Пока он приедет, только зола останется, — пробурчал Филя.
В костер полетели три тумбочки, потом еще одна и два стула…
Филя стоял, чуть не плача от ярости.
Вдруг наверху открылось окно. Высунулась чья-то седая голова.
— Прекратите, — сказала голова. — Сейчас же.
— То есть как это, товарищ директор? — закричал суетливый толстячок. — Вы же сами…
— Прекратите, — окно захлопнулось.
Филя ехидно подмигнул толстяку с портфелем, и мальчики ушли.
…Отец пришел домой поздно.
— Ну, герой, — сказал он Филе. — Победил?
Филя смутился.
— А скажите, — спросил он. — И впрямь есть такой закон — палить мебель?
— В постановлении сказано: пришедшие в негодность материальные ценности надо или уничтожить по акту или… — отец торжественно поднял вверх палец, — или безвозмездно передать другой заинтересованной организации…
— То есть подарить? — воскликнул Филя. — Ура! Пусть нашему колхозу подарят!
— Нет. Твой колхоз далеко. Гостиница уже с соседним домохозяйством договорилась. Там для красного уголка как раз позарез…
— А почему же он хотел непременно спалить? — спросил Филя.
— А ему просто лень возиться, — хмуро пояснил отец. — Искать заинтересованную организацию. Да оформлять. Проще — раз и в огонь… Есть еще такие деятели…
Отец насупился. Потом разогнал морщины.
— А ты молодец, — сказал он Филе. — Упорный. Так и надо.
Отец повернулся, молча посмотрел на Витьку. Тот стоял, опустив голову.
— Н-да, — сказал отец. — Вот именно… — и ушел в свою комнату.
На следующий день Витя повел Филю осматривать Невский. Долго бродили по сверкающему проспекту.
— Завернем к Марии Федоровне, а? — предложил Филя.
Витька кивнул.
В комнате у Марии Федоровны по-прежнему наперебой надрывались все три телефона.
По-прежнему из киосков передавали сюда самые сложные, самые заковыристые вопросы, на которые там, на месте, не могли ответить. И по-прежнему шуршали страницы толстых справочников, энциклопедий, указателей.
— Вы кстати зашли, — сказала мальчикам Мария Федоровна.
— Сколько лет твоей тетке? — повернулась она к Филе. — Тридцать четыре?
Он кивнул.
— Значит, еще молодая?
«Молодая? — Филя гмыкнул. — Старуха! Целых тридцать четыре!»
— Появилась у меня идея, — улыбнулась Мария Федоровна и положила руку Филе на плечо. — Приходи завтра.
На следующее утро Филя с Витькой опять поехали на Лиговку. Опять смотрели списки съемщиков, опрашивали дворников и управхозов. И опять слышали один и тот же ответ: «Нет, не проживает».
Бродя по жилконторам, разыскивая беспокойных управхозов в котельных, подвалах, в домовых прачечных, ребята на ходу беседовали. Обо всем. И о последнем шахматном матче: оба переживали неудачу Петросяна. И о книгах. И об охоте.
Насчет книг — оказалось, Витька намного опередил Филю. Витька рассказывал и про путешествие на «Кон-Тики», и про тунгусский метеорит, который, может быть, вовсе и не метеорит, а космический корабль.
Филя слушал и думал:
«А культурный этот Витька. И живет культурно. Одних книг — полных три шкафа!»
Когда Витька устал говорить, Филя рассказал, как однажды зимой в лесу встретил лосиху. Огромная, она стояла по брюхо в снегу и глодала ветки осины. Нет, даже не обгладывала, а прямо целиком поедала мерзлые прутья толщиной аж в два пальца.
— Запросто делянку осинника подстригла. Ровнехонько как ножницами. Будто это фруктовый сад!
Филя усмехнулся.
— И осиновую кору лосиха любит: сдирает лентами, словно корзины надумала плести. Да… А потом увидела меня — и как рванет по снегу! Как плуг, идет и в обе стороны отваливает кучи снега. Аж канаву пробила в сугробах! Глубоченную! А за лосихой по той канаве трусят две махонькие телочки. Только уши торчат.
И Витька опять удивился: вот как умеет говорить этот молчун!
И позавидовал:
«А я вот ни разу лося не видел. Только на картинке…»
— Ну вот что, — сказал Витька, когда они вернулись домой. — Больше на эту чертову Лиговку не таскаемся. Глупо!
Филя кивнул.
— Будем считать, что твоя тетка уехала, — сказал Витька. — Ты остаешься у меня. Куда завтра махнем? В Панораму? На Зимний стадион?
Витина мама, проходя мимо, подсказала:
— В Мариинку! Вернее, в Театр оперы и балета. Обязательно! Ленинградский балет — лучший в мире!
Мальчики поморщились. Не очень-то уважали они дрыгоножество.
— В Эрмитаж! — из кухни крикнула мама. — Лучший музей мира!
У мамы все в Ленинграде — лучшее в мире.
Назавтра ребята поехали в панорамное кино. Вернулись уже к обеду.
— Двинули на Зимний стадион! — предложил Витька.
— Двинули. Только сначала позвоним Марии Федоровне. Так, для порядка…
— Все отлично, — вдруг сказала Мария Федоровна. — Запиши: Горячева Лидия Гавриловна, адрес…
— Какая Горячева?! — закричал Филя. — Мне нужна Еленева!
Мария Федоровна засмеялась:
— Горячева — это и есть Еленева. Замуж она вышла. Понял? Пиши: Лиговка, дом сто шестьдесят восемь…
Это было так неожиданно, Филя даже растерялся.
— Как же вы нашли? — пробормотал он, дергая кадыком. — Ведь другая фамилия…
— А я старые адреса подняла. Узнала, где шесть лет назад жила Еленева. Ну, а дальше было уже просто.
Повесив трубку, Филя повернулся к Витьке:
— Ну вот… Надо переезжать…
Кадык его опять ходил взад-вперед, как поршень. В голосе не слышалось радости. Пожалуй, он и не переселился бы. Но неловко и дальше стеснять чужих.
Молча стал Филя упаковывать чемодан.
— Подожди, — сказал Витька. — Мы ж еще даже в шахматы не успели. И отца нет. Надо же с ним попрощаться.
Расставили фигурки на доске. Сыграли три партии. Все три выиграл Витька. И очень обрадовался. А то все Филя да Филя. Мебель из огня — Филя. На охоту — Филя. Трактор водить — Филя. Пусть знает: и мы кое-что умеем! Эх, жалко, не сводил Филю во Дворец, пусть бы посмотрел модель катера на подводных крыльях.
Вернулся с работы отец.
— А зачем переезжать? — сказал он. — Поживи у нас. Каникулам скоро каюк.
— Нет, поеду, — настаивал Филя.
— А то оставайся? — предложила и Витина мать. — Чего таскаться-то с места на место?!
— Нет, поеду.
Был уже вечер. Витька проводил своего нового товарища до автобусной остановки.
— Найдешь?
Филя усмехнулся:
— Еще бы! Немало мы по этой Лиговке порыскали!
— А если что́ не так — возвращайся. Слышишь? Если тетка с характером… Или муж ее — жмот какой-нибудь. Или пьяница. Возвращайся. Слышишь?!
— Да, слышу, слышу! — Филя усмехнулся. — А ты летом приезжай. Адрес не потерял?
Подошел автобус. Мальчики пожали руки, и Филя с чемоданом влез в машину.
— Приезжай! — крикнул он.
Автобус, мигнув красными огоньками, укатил.

 НОЧНОЙ ЗВОНОК
НОЧНОЙ ЗВОНОК
Моей дочке АнеНочью в спящей квартире было тихо-тихо. Только изредка глухо урчало в водопроводных трубах да негромко, по-щенячьи подвывал холодильник. Вдруг в коридоре коротко тренькнул телефон. Казалось, он боялся разбудить усталых людей. Осторожно дзинькнул еще раз, но потом внезапно, отбросив всякое стеснение, пронзительно затрезвонил на всю квартиру. Володька спал возле самых дверей, почти под телефоном. Спросонья он обалдело вжал голову в подушку. Но телефон снова выплеснул длинную звенящую струю. Володька в одних трусах выскочил в темный коридор и, ударившись локтем о дверь, схватил трубку. — Анна три шесть девять тридцать два? — требовательно спросил женский голос. — Чего? — не понял Володька. — Это. А три шесть девять тридцать два? — сердито повторила женщина. — Не вешайте трубочку. Вас вызывает Солнцево. — Меня? — растерялся Володька. — Какая Солнцева? Спросонья он не сразу сообразил, что Солнцево — это дачный поселок. Телефон умолк. Володька в темноте переступал босыми ногами на холодном каменном полу и уже хотел зажечь свет и сбегать за тапочками, но тут в трубке раздался мальчишеский голос. — Мне Володю! — кричал этот голос. — Володю Чашкина! — Я, — сказал Володька. — О, Володь?! Хорошо, что ты дома! — обрадовался мальчишка, как будто сейчас, в час или два ночи, Володька мог быть на улице или в кино. — Узнаешь? Это я, Кешка! Да, Володька уже узнал. Кешка, конечно, это Кешка! — Володь! — кричал Кешка. — Выручай! Пожар! — Чего-чего? — Пожар! У меня дома, наверно, пожар! Ты же знаешь: я с бабушкой на даче. А сегодня съездил в город. Ну, вернулся на дачу, лег спать и только сейчас вспомнил, что оставил дома плитку. Включенную электроплитку! Понимаешь? А мама в командировке. Дома никого… — А может, тебе это приснилось? — сказал Володька, почесывая пяткой о пятку. — Нет, не приснилось. Я хотел сейчас же в город, да последний поезд уже ушел. Володь, будь другом, слетай ко мне! Бабушка тут чуть не плачет, а я прямо не знаю… — Три минуты кончились, разъединяю! — четко произнес женский голос. В трубке что-то щелкнуло. Наступила тишина. «Вот не было печали!» — Володька в раздумье постоял еще немного в холодном коридоре и, стараясь не скрипеть дверью, на цыпочках прошел в комнату. Но отец уже проснулся. — Кто это там ночью бесится? — шепотом, чтобы не разбудить мать, спросил он. — Это Кешка, — тоже шепотом сказал Володя. — Ну, который ушами здо́рово шевелит… Ну, шахматист… Лохматый такой… — А! — сонным голосом пробормотал отец. — Скупка кошек? Володя кивнул. Как-то Кешка сам рассказал об этом отцу. Однажды в школе появилось объявление: «Покупаем кошек. Только сегодня, в три часа. В кабинете директора». Вся школа тогда заполнилась кошками. Директор и учителя не понимали, что случилось? А оказалось — Кешка… А один раз Кешкудаже чуть не побили за эти его «шуточки». Он подошел к незнакомой квартире и стал что есть сил колотить в дверь кулаками и каблуками. Жильцы выскочили, думали, дом рушится. А Кешка говорит: «Вы же сами просили», — и показал на дверь. А там звонок не работал и висела записка: «Просим стучать!» …Володька рассказал отцу, зачем звонил Кешка. — Очередной розыгрыш, — зевнув, сказал отец. Говорил он медленно, словно вдруг забыл все слова. — Ишь какой! Ты побежишь, а он потом смеяться будет и хвастать: «Во, как ловко я обманул!» Володька ничего не сказал. Молча сидел на кровати. Вообще-то, хоть Кешка и друг-приятель, но… болтлив. И все-таки… Володька вспомнил голос Кешки, тревожный, чуть не плачущий. — А вдруг не розыгрыш? Вдруг в самом деле плитка?.. — Ну, предположим, — вяло согласился отец. — Если там уже горит — соседи, конечно, проснулись и без тебя вызвали пожарных. А если не горит, тем более тебе тащиться не резон. Спи. Повернулся к стене и вскоре мелодично засвистел носом. Как флейта. Отец всегда «музыкально» спал. А Володька по-прежнему сидел в темноте на кровати. «Легко сказать — спи! А вдруг там плитка уже раскалилась?! Пока-то еще ничего… Но пройдет полчаса или час, и тогда…» Володька как раз недавно видел по телевизору киноочерк насчет пожаров. Там тоже оставили включенную плитку. Она стояла на скатерти. Постепенно накалилась. Больше… больше… Докрасна… Скатерть потемнела, потом стала тлеть, потом задымился стол — и пошло… «Вот история», — подумал Володька. Честно говоря, тащиться на другой конец города, в Кешкину квартиру, чертовски не хотелось. Володька еще ни разу за всю свою жизнь не ходил ночью один. Наверно, страшно. Пусто везде. И темно. И, главное, пожалуй, отец прав: все это трёп. Володька вспомнил хитрые, узкие, как щелочки, Кешкины глаза, жуликоватую усмешку… Ясно, разыгрывает! Натянул одеяло на голову: кончено, спать. Уже совсем задремал, как вдруг словно стукнуло: «А если… пожар?..» Сбросил одеяло, сел. Вот чертовщина! Посидел, посидел и тихонько стал одеваться. В темноте задел книгу, та гулко шлепнулась на пол. Володька замер. Но нет, отец не проснулся. А мать тем более, — она всегда спит крепко. Володька оделся. Хотел уже идти, но подумал: «Мои-то, когда проснутся, забеспокоятся». Зажег настольную лампу, вырвал из тетради листок, быстро, крупно написал: «Я ушел к Кешке». Куда положить, чтобы утром сразу заметили? Ага, возле кровати на стуле — отцовские брюки. Положил записку на них. …На улице было темно, прохладно. Володька торопливо шагал, и каждый шаг его четко отдавался в тишине. Всегда ему казалось, что до Кешки недалеко. Сел на трамвай и минут через пятнадцать — пожалуйста. Но сейчас, ночью, когда трамваи и автобусы не ходили, выяснилось, что до Кешки — почти как до луны. Володька шел и шел, сперва по своей улице, потом по набережной, потом через мост. На проспекте Ленина стоял трамвайный вагон; в темноте он казался празднично ярко освещенным. С трамвайного провода свешивались тонкие шесты, густо утыканные лампочками. И это еще усиливало впечатление праздничной иллюминации. Два сварщика, заслонившись щитками, склонились к рельсам. Слепящие голубые сполохи с шорохом загорались и гасли. Володька остановился, хотел понаблюдать за сваркой, но вспомнил — надо спешить. Вздохнул и торопливо пошел дальше. После яростного сияния автогена переулок казался особенно темным, узким и мрачным. Вон впереди, в подворотне, кто-то притаился. Факт. Ждет, когда Володька пройдет, и тогда сзади — бац по голове! Володька остановился. Прислушался. Тихо. Только где-то каплет вода. Озираясь, бесшумно подошел к подворотне. Осторожно заглянул в темный провал. Пусто. «Эх, трусище!» Двинулся дальше, нарочно громко стуча каблуками по каменным плитам. Он размахивал руками и даже пробежался. Какая холодина! Володька полагал, что летом тепло, и вышел из дому в одном пиджачке. И вот — здрасте! Прямо мурашки по коже… За углом, возле магазина, он замедлил шаги. Впереди стоял милиционер и подозрительно смотрел на него. «Чего он?» — подумал Володька. Хотел на всякий случай перейти на другую сторону, но потом рассердился на самого себя и зашагал дальше, прямо к милиционеру. — Ты куда, мальчик? — спросил тот, когда Володька поравнялся с ним. — На улицу Красной Конницы. — Ого! — милиционер поднял брови. — Далеко. А зачем? Володька насупился. Сказать? А вдруг Кешке тогда попадет? Может, штраф полагается, раз плитку оставил, нарушил эти… пожарные правила. — Нужно, — сказал Володька. — К приятелю. Милиционер опять подозрительно оглядел его: — Это ночью-то? Пожар, что ли? «Угадал», — подумал Володька, но промолчал. — Ладно, шагай, — сказал милиционер. — Налево возьми, по Чкаловской. Так короче… Володька пошел дальше. Было холодно. Он устал. И, главное, обидно: зря все. Натрепался этот Кешка, а ты тащись как проклятый. Сам-то, конечно, спит сейчас в теплой постельке и еще ухмыляется во сне: ловко, мол, я глупого Володьку обвел! Володька даже плюнул с досады. Почему-то вспомнилась знаменитая Кешкина история с заиканием. Как-то Кешка вдруг стал заикаться. Выйдет в классе к доске и так тягуче выдавливает из себя слова, — у учителей прямо терпение лопается. Ставят ему пятерку или четверку и сажают на место, прослушав лишь начало ответа. Ребята стали бродить за ним на переменах: — Кеш, а Кеш, научи… Вскоре в классе появились еще два заики. И тогда обман, конечно, раскрылся… «Трепач. Трепачом и умрет», — сердито подумал Володька. Он шел, стараясь держаться возле трамвайных путей: а вдруг появится какой-нибудь заблудившийся вагон? Из ремонта. Или грузовой. Или учебный. Или по особому заданию. Но трамваев не было, ни грузовых, ни учебных, ни по особому заданию… Только изредка мелькал зеленый глазок такси, но на него Володька не обращал внимания. Не привык он — на такси. И, главное, денег не было. Больше часа, наверно, торопливо шагал Володька по пустынному ночному городу. Вот и улица Красной Конницы. Володька оживился. Быстро отыскал знакомый дом. Но ворота были заперты. Висела тяжелая цепь с замком. Потряс цепь — может, откроется? Может, так повешена, «для страху». Нет, ворота скрипели, но не отворялись. Вдруг сзади раздался голос: — Ну, чего трясешь-то? Не груша… Это был дворник. — Ишь приспичило! В чужой дом. Середи ночи, — ворчал он. — К кому? — Мне, дяденька, к Кешке. В сорок вторую… — А чего там забыл? «Начинается», — подумал Володька, вспоминая свой разговор с милиционером. — Нужно. Дворник хмуро посмотрел на него: — Жидко врешь, малец. Кешка-то на даче. — Все равно нужно, — пробормотал Володька. — Дуй-ка отсюда подобру-поздорову, — сказал дворник. — Не то свистну участкового. Много вас тута шастает, шантрапы. А украдут чего — кто в ответе? Дворник в ответе! Повернулся и зашагал прочь. «Так, — подумал Володька. — Так… Выходит, зря через весь город топал? Не говорить же ему про плитку? И все равно не поверит…» Он снова потрогал цепь на воротах. Неужели так и уйти? Вспомнил, что Кешкин двор — проходной. Осторожно, чтобы не попасться на глаза дворнику, пробрался ко вторым воротам. Тьфу, черт! Тоже на замке! Огляделся. Ворота невысокие. Железные перекладины, завитушки… В переулке никого… Э, была не была! Стараясь не шуметь, Володька полез на ворота. Они раскачивались, скрипели. «Увидит кто, — примет за вора», — думал Володька, но лез. Вот он уже наверху. Перекинул тело. Повис… Отпустил руки и шлепнулся на камни. «Порядок!» Украдкой пересек двор. Взбежал по лестнице на третий этаж, позвонил в сорок вторую квартиру. Тишина. Опять позвонил. Еще и еще. Звон стоял такой, даже на лестнице слышно. Но по-прежнему никто не открывал. «Весело», — подумал Володька. Что есть сил забарабанил кулаками в дверь. Тишина. Усталый Володька сел на ступеньку. Вот история! Вдруг дверь открылась. Выглянул пожилой мужчина в трусах. — Ну, чего? Чего грохаешь-то? Чего ломишься? — лениво гудел он, поглаживая рукой волосатую грудь. — Стряслось что? Приглядевшись, узнал Володьку: — А Кешки, между прочим, нет. Володька кивнул, вошел в прихожую. Ох, как здесь тепло! И пахнет чем-то очень вкусным. Жареной картошкой, что ли? Интересно, кто это ночью жарит картошку? Прислонившись к стене, Володька рассказал заспанному жильцу, зачем пришел. Как ни странно, тот нисколько не встревожился. Или он еще не совсем проснулся? Или характер такой — непробиваемый. — Пока не сгорели, — зевая, сказал он. — Авось и не сгорим. Вдвоем они подошли к запертой Кешкиной комнате. Жилец приблизил нос к замочной скважине. Нет, дымом не пахло. Володька тоже понюхал. Нет, не пахнет. — Ложная тревога, — сказал жилец. — Пошли досыпать. У меня как раз диван простаивает. — Спасибо, — Володька покачал головой. — Я немножко посижу. А потом — домой. Мамаша, знаете, заволнуется… — А то — ночуй, — сказал жилец. — Нет, спасибо. — Ну смотри, дверь хорошенько захлопни… Жилец ушел. Володька принес из кухни табуретку, поставил ее возле Кешкиной двери, сел, притулившись в угол. Хорошо в теплом коридоре! Володьку сразу разморило. Но вдруг ему показалось, что потянуло гарью. Наклонился к щели между дверью и косяком. Нет, не пахнет. «А может, сейчас нет, а через час загорится? — подумал Володька. — Не пойду домой. Покараулю у двери. Если что, — сразу всех разбужу». Честно говоря, главное было не в этом. Главное — очень не хотелось опять тащиться ночью через весь город. Ноги ныли. Голова была тяжелая. «Чуть свет позвоню нашим. Из автомата, — подумал Володька. — А ночью они же спят. Значит, не волнуются». Он устроился поудобнее на табуретке. Задремал. Во сне дергался, что-то бормотал. Приснилась ему раскаленная добела плитка. Вот загорелся стол, обои, занавески. Дым валит столбом, густой, черный… Володька открыл глаза. В коридоре было по-прежнему тихо, мерцала лампочка под потолком, гарью не пахло. «Хорош караульщик! — разозлился Володька. — Так вся квартира сгорит, пока я дрыхну». Но голова сама опускалась на грудь. «Засну, — устало подумал он. — Факт, засну». И тут его осенило. Взял табурет, поставил его к электросчетчику, влез и выкрутил пробку. Лампочка сразу потухла. «Значит, и плитка, если включена, тоже погасла». В темноте Володька слез с табурета, на ощупь переставил его опять к Кешкиной двери, уселся поудобней и сразу заснул. …Проснулся он внезапно. Кто-то гулко бил его прямо в голову. Как в барабан. Володька вскочил. Грохот продолжался. Тут только Володька сообразил, что это на лестнице дубасят в дверь. — Кого еще леший носит? — услышал Володька. По темному коридору, чиркая спички, пробирался все тот же пожилой жилец. Вероятно, в квартире больше никого не было: лето, все разъехались. — Еще и свет испортился, — зевая, бормотал волосатый жилец. — Вот напасть! И спичка последняя. Одно к одному… Дрожащий огонек погас. Володька в темноте пробрался на помощь мужчине. Нащупал замок, открыл. Кешка! Это был Кешка! Бледный, взлохмаченный. — Здрасте, пожалуйста! — сказал жилец. — У вас что? Пионерский сбор? Ежели еще кто заявится, сами отворяйте. И, перебирая руками по стене, ушел. — Я звонил-звонил. Ни черта! Вот — колошматить стал, — сказал Кешка. — А! — Володька кивнул. — Это я пробку вывинтил… Оставив входную дверь открытой, чтобы с лестницы проникал свет, Кешка подошел к своей комнате. Ключ в темноте все не попадал в скважину. Наконец мальчики вошли в комнату. В окно уже струился рассвет. Кешка бросился к столу. Вот плитка. Не включена!.. — Так, — сказал Володька. — Так… По уху тебе съездить, что ли? Он устало опустился на стул. Мельком глянул на большие стенные часы: четверть седьмого. — Это что? Стоят? — Нет, — сказал Кешка. — Правильно. Четверть седьмого. — А чего же ты в такую рань? Значит, поездом часов в пять выехал? — Ага! — Кешка насупился. — Видишь, Володь… Я, по чести говоря, сомневался… Думал, не побежишь ты ночью… — Это почему же? Что я — трус? — Нет, видишь ли, — замялся Кешка. — В общем, моя бабушка, знаешь, как меня зовет? «Бадья с горохом»! Ты, говорит, внучек, вечно тарахтишь, как бадья с горохом. А балаболкам веры нет, — он смущенно потер подбородок. — Вот я всю ночь и не спал, а чуть свет — на поезд… Володька засмеялся: — А бабушка у тебя толковая! Кешка тоже засмеялся: — Еще какая! Я тебе про нее сейчас такой случай расскажу! Только вот разденусь и пробку вверну. Кешка вышел. Когда он вернулся, Володька сидел у стола, положив голову на руки. Он спал.

 СРЕДНЕГО РОСТА…
СРЕДНЕГО РОСТА…
Заместитель начальника угрозыска, Андрей Прокофьевич, готовился к совещанию.
В кабинет вошел дежурный. Вид у него был неуверенный. Мол, знаю, вы заняты, но…
— Тут старичок, — сказал он. — Прямо рвется к вам. Между прочим, очень пробивной папаша. Шумит…
— Ладно. Пусть войдет, — перебил Андрей Прокофьевич. — Да поживее.
Старичок выглядел необычно. Длинные, почти до плеч, седые волосы, белый крахмальный воротничок, черный галстук «бабочка». Голос густой, с красивыми «перекатами».
«Художник, — подумал Андрей Прокофьевич. — Или артист».
Он угадал.
— Гаршин, Михаил Эрастович, — представился старичок. — Народный артист РСФСР, пенсионер.
В своем кабинете Андрей Прокофьевич за многие годы работы перевидел самых разных людей, не только преступников. Бывали у него и писатели, и ученые, и генералы, и кинорежиссеры. Даже замминистра однажды был. Но как-то так получилось, что артиста судьба привела сюда впервые.
Когда-то, в молодости, Андрей Прокофьевич очень увлекался театром. Не пропускал ни одной премьеры в Александринке и в Большом Драматическом, а у Акимова смотрел некоторые спектакли по три-четыре раза. Был Андрей Прокофьевич суховат, малообщителен, не речист. В противоположность многим завзятым театралам, не вступал в бурные споры об артистах, пьесах, режиссерах. Но любил театр истово, всей душой.
И сейчас, с интересом разглядывая старичка, он мысленно удалил его седину, морщины, припухлость век и сразу вспомнил… Гаршин! Ну конечно! Лет тридцать назад это имя гремело в Ленинграде. Да и не только в Ленинграде!
— А я вашего Отелло помню, — сказал Андрей Прокофьевич и вцепился в воздух руками, будто в ярости сдавил шею Дездемоны.
Старичок, довольный, улыбался и в знак благодарности приложил руку к сердцу. Жест был мягким, изысканным: так умеют только артисты.
Андрей Прокофьевич вспомнил про заседание — «Время-то идет!» — и, сменив тон, подчеркнуто официально сказал:
— Слушаю вас, товарищ Гаршин.
— Перед вами — покойник! — воскликнул артист. Поднял глаза на Андрея Прокофьевича, ожидая услышать удивленный возглас.
Но тот промолчал.
— Да, да, почти покойник! — заметно волнуясь, но все же привычно играя своим бархатным голосом, сказал артист. — Я вчера чуть не попал под машину. Да, да! Представьте себе! Зазевался и чуть не угодил под колеса…
Артист сделал паузу, видимо, призывая Андрея Прокофьевича подать какую-либо сочувственную реплику, но тот лишь молча качнул головой: вот, мол, неприятность!
— Понимаете, сбоку выскользнула машина. А у меня, как на грех, подвернулась нога. Машина — уже рядом. Еще бы секунда и… Но тут вдруг — дэус экс махина[12], — артист, как крыльями, взмахнул руками, — молнии подобный, с тротуара рванулся какой-то юноша. Рискуя жизнью, прыгнул к машине и буквально выдернул меня из-под колес…
Андрей Прокофьевич снова покачал головой: бывает же, мол, такое!
Он все еще не понимал, что, собственно, надо народному артисту. Ну, чуть не попал под машину. Печально, конечно. Но при чем тут уголовный розыск?
Был Андрей Прокофьевич маленького роста, мелкие черты лица, очки в металлической оправе, синий, потертый на локтях, бостоновый костюм. Встретишь на улице — никогда не подумаешь, что это руководитель угрозыска. Долгие годы работы в милиции приучили Андрея Прокофьевича к терпению. И сейчас он тоже, хотя и торопился, выжидательно молчал.
— Потом вскочил этот парень в автобус и укатил, — продолжал старик. — Я и оглядеться не успел. Фамилии не узнал, даже руку не пожал. Да… А я как раз на днях читал в газете: зазевался малыш на рельсах. Обходчица бросилась за ним. Ну, и обе ноги ей… Выше колен…
Артист сокрушенно вздернул свои косматые, будто две гусеницы, брови.
— И еще вот, — он положил на стол маленький рыжий кошелек. — У парня был пиджак перекинут через руку. Жара. Ну, когда бросился на помощь, — вероятно, кошелек и выпал. Потом один гражданин подобрал…
Андрей Прокофьевич молча раскрыл кошелек. Пересчитал деньги: одиннадцать рублей сорок две копейки. Скомканные автобусные билеты, девять штук. Больше ничего.
— Сумма, конечно, не ахти какая, — сказал артист. — Но мне вдвойне обидно. Мало того, что парень спас меня, так еще и кошелек из-за меня потерял. — Он огорченно покачал головой. — Прошу вашей помощи. Найдите моего чудесного спасителя. Хочу всем сердцем поблагодарить его. И напечатать в газете. Пусть все знают, какие изумительные подвиги ежечасно творят советские люди.
— Так! — сказал Андрей Прокофьевич. — Прекрасно!
Он с любопытством разглядывал артиста. Неужели тот всерьез полагает, что именно угро должно заниматься таким делом? Пенсионер, вероятно, думает, что у оперативников уйма свободного времени. Равняет всех по себе.
В памяти всплыл детский стишок:

 ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА
ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА
Пляж, казалось, сейчас расплавится. Сморщатся, покоробятся пестрые деревянные грибки и легкие, без крыш, словно недостроенные, будочки для переодевания. Расплавится и потечет прозрачными стеклянными ручьями кафе-мороженица. А ажурная металлическая вышка спасательной станции мягко осядет, будто станет на колени.
Даже здесь, возле самого моря, пари́ло нещадно. Ни ветерка.
— Хорошо! — сказал Генка. — Как на сковороде!
Он лежал на песке кверху животом, блаженно раскинув руки.
— Еще подбросить бы градусов так с десяток — совсем бы лафа! — поддакнул Митрий.
Генка не откликнулся. Это уж Митрий просто бахвалился: и так было тридцать восемь. В тени. А на солнце? Поди, все сорок пять?
В такую жарищу, казалось бы, только и сидеть в море. Но пекло так, что даже в воду лезть было лень.
Они лежали — оба худющие, ребра так и торчат, закрыв глаза, не шевеля ни рукой, ни ногой. Ни дать ни взять — мертвецы.
— Эй, робя! — послышалось вдруг. — Гляньте-ка!
Но ни Генка, ни Митрий не открыли глаз. Разморило на солнце. Да и чего смотреть-то?! Яшка — он трепач известный.
— Да гляньте же! — не унимался Яшка. — Во штуковину выудил.
Генка, по-прежнему не шевелясь, чуть приоткрыл один глаз.
Яшка стоял мокрый, в одних плавках, и в руке держал бутылку. Самую обыкновенную. Поллитровку.
Но держал ее почему-то так осторожно, словно это граната. Уронишь — взорвется.
— В море вот плавала, — каким-то странным дребезжащим фальцетом пробормотал он.
Такой козлиный фальцет обычно появлялся у Яшки, когда он стоял у доски на немецком.
— Ну? — сказал Генка. — Ну и закинь сей хрустальный сосуд обратно в эту… В набежавшую волну. Или лучше — сдай в ларек. Как раз — на эскимо.
— На эскимо! — передразнил Яшка. — Протри очки-то. Видишь?
Обеими руками он осторожно протянул вперед бутылку.
Генка приоткрыл и второй глаз, но опять ничего интересного не обнаружил. Бутылка как бутылка.
— Мальчику напекло затылочек? — участливо спросил Генка. — Приложить холодный компресс?
Но тут он заметил, что бутылка-то обыкновенная, но головка у нее какая-то странная. Будто запечатана чем-то густым и твердым. Сургуч, что ли? Хотя нет. Сургуч красновато-вишневый. А тут что-то темное.
— А внутри? — спросил Генка. — Пусто.
— В том-то и штука! — опять противным дребезжащим фальцетом выкрикнул Яшка. — Что-то там лежит. Записка, кажись…
— Записка?! — Генка сразу вскочил.
Приподнялся и Митрий.
Это уже кое-что значило: Митрий никогда зря не суетился.
Генка выхватил бутылку у Яшки, поглядел на свет. Да, внутри определенно что-то лежало. Вроде бы, и впрямь, листок бумаги. А горлышко заткнуто пробкой и наглухо запаяно. Варом, что ли? И вообще бутылка какая-то странная. Вовсе не поллитровка. Это ему издали так показалось. Сплющенная. Как фляга. Он таких бутылок еще и не видел.
— Знаю! — вдруг нервно выкрикнул Яшка. — Это — кораблекрушение! SOS. Точно. Я читал!..
— SOS?! Очень возможно, — словно раздумывая вслух, негромко сказал Генка. — Откроем?
— Конечно! — Митрий, не вставая, потянулся к штанам, лежащим тут же, на песке. Неторопливо достал из кармана перочинный нож.
Митрий все делал неторопливо.
— Дай! — Генка взял у него нож и стал отскабливать смолу. Делал он это осторожно, тщательно, словно боялся неловким движением поцарапать бутылочное горлышко.
— Да быстрей же! — крикнул Яшка. — Люди где-то тонут, а ты!..
Генка не ответил. По-прежнему аккуратно снимал он вар. Стружку за стружкой. Отколупывал твердые, как асфальт, кусочки, а сам видел…
Горит корабль. Пламя с ревом мечется по палубе. Струи дыма и огня рвутся из иллюминаторов.
Радист бросается к передатчику. Но рация повреждена…
И вот — на воду торопливо спускают шлюпку.
Плывут… И день, и два… И кто-то кидает в воду бутылку. Вот эту самую бутылку.
Там, на клочке бумаги, нацарапано. Широта… Долгота… Спасите наши души!
А может, не так. Может — буря… Волны — с дом. Корабль с маху швыряет на скалу. Мелькают в волнах обломки…
— Значит, так, — торопливо сказал Яшка. — Мы сейчас прочитаем и сразу — в пароходство. К начальнику. Нас, конечно, сперва не пустят, но мы покажем записку — SOS! Гибнут люди! И нас сразу к самому главному. А тот сразу телефонную трубку — раз! Приказываю самому быстроходному кораблю немедля выйти на спасение…
— Для этого есть специальные суда-спасатели, — веско перебил Митрий.
— Вот-вот! Приказ: кораблю-спасателю немедленно выйти в море. Квадрат такой-то. И вот из нашего порта на всех парах выскакивает…
— Ни черта не выскакивает! — опять перебил Митрий. — Может, тонут-то за тысячу километров отсюда. Сразу по радио — приказ. Всем судам, которые, значит, поблизости от данного квадрата, немедленно изменить курс…
— Вот-вот! И сразу пять или даже десять кораблей меняют курс и идут на помощь.
Они несутся так, что вода кипит за кормой. «Полный вперед!» — командует капитан.
— «Самый полный!» — уточнил Митрий.
— Да, да! «Самый полный!» — командует капитан. Яшка в азарте размахивал руками. — Над морем — туман. Волны, как разъяренные львы, рыча, бросаются на корабль. Но он рассекает их и мчится вперед. Пятьдесят, нет, даже шестьдесят километров в час…
— Узлов, — поправил Митрий.
— Шестьдесят узлов в час! И вот — впереди, в тумане какое-то рыжее пятно. «Вижу! — кричит вахтенный. — Впереди — огонь!»
— «Впереди, по курсу, огонь!» — опять уточнил Митрий.
— Да, «впереди, по курсу — огонь!» И корабль еще быстрее несется туда. А там…
— Постой… — Митрий нахмурился. Задумался. — А вообще-то… — Он махнул рукой. — Все одно… Безнадюга… Эту бутылку, может, неделю, а может, и месяц по волнам трепало. В шлюпке все уже, наверно, с голодухи поумирали. Да… И записка, конечно, размокла. И ни шиша теперь не разберешь…
Генка молча продолжал сдирать вар.
«Умерли? А может, и не умерли? — подумал он. — А насчет записки — чепуха. Запаяна бутылка на совесть. Такая хоть пять лет будет мотаться по морю — ни капли вовнутрь не просочится».
Генка счистил вар.
Пробка сидела глубоко. Он вогнал между нею́ и стеклом кончик лезвия, плавно нажал. Тугая пробка не поддавалась. Он загнал нож с другого бока, снова надавил. Нет, не поддается. Нажал сильнее. Кусок пробки отломился.
— Так будешь час ковыряться! — крикнул Яшка. — Кокни о камень — и порядок.
«Точно, — подумал Генка. — Все равно ведь записку сквозь горлышко не протащишь».
— Бить? — спросил он.
— Лупи! — крикнул Яшка.
Митрий кивнул.
Генка тихонько, словно боясь, — в самом деле, не разбить бы! — плавно кинул бутылку, целясь в торчащий из песка камень. Не попал.
К бутылке подскочил Яшка. Схватил ее и с маху, с силой швырнул. Бац! Брызнули осколки.
Но на них никто не обратил внимания. Все трое торопливо шарили глазами: где записка?
Ага, вот! Лежит вместе с расколотым наискось днищем бутылки. Генка бросился туда. Схватил записку.
— Привет!
Он аж присвистнул.
Яшка нетерпеливо заглянул в бумагу через его плечо.
Записка была напечатана на машинке. Блеклые, ровные строчки. И нисколько не повреждены. Но вот беда: не по-русски.
— Ну-ка! — Яшка взял записку.
Ребята уступили ему безропотно. Яшка — как ни крути — отличник.
— Одно ясно, — сказал Яшка, после долгого разглядывания машинописных строк. — Не по-немецки.
— Молодец, Яшенька! Голова! — сказал Генка. — В мире, кажется, восемьсот семьдесят три языка? Значит, теперь нам уже легче. Осталось всего лишь восемьсот семьдесят два.
Втроем они долго рассматривали таинственный листок.
— Ай-яй, мальчики! — сказал Генка. — А между прочим, кто-то из классиков давно подметил: незнание иностранных языков — первый признак общей некультурности.
— Тут цифры… семьдесят четыре — тридцать два. И еще… — хмуро сказал Яшка. — По-моему, это долгота. Да…
— А время идет, — сердито пробормотал Митрий. — И пока мы тут треплемся, где-то люди…
Все замолчали.
Они стояли, трое мальчишек, почти голые, на солнечном пляже. Все трое хмурые, злые.
— А давайте поищем: может, тут кто из культурных загорает? — предложил Генка. — Какой-нибудь профессор? Или академик?
— Идея! — ухватился Яшка.
Они пошли по пляжу. Но, наверно, нынче было слишком жарко. Пляж, на котором обычно не повернуться, сейчас был почти пуст. Не мудрено: даже идти было нелегко — раскаленный песок обжигал ступни. Листья на кустах и то скрутились, как опаленные.
А море лежало гладкое, зеленое, как огромная глыба льда. Только, к сожалению, этот лед не давал прохлады.
Если кто нынче и был на пляже, то все больше мелкота. А с ними — тетки под зонтиками.
К одной из таких теток, помоложе и поинтеллигентнее на вид, и подкатился Яшка. Показал записку.
— О нет, мальчик! Я без очков — как слепая, — женщина виновато улыбнулась.
— Тетеря, — прошипел Яшка, когда они отошли. — Чего ж с собой очки не носишь?
Подошли еще к одной гражданке, толстой, в ярко-алом купальнике.
— Это — по-английски, — сказала она. — Но я, мальчики, изучала языки лет тридцать, нет, лет сорок назад. Все перезабыла.
«Еще бы! — подумал Генка. — За сорок-то лет…»
Мальчишки отошли от толстой тетки и остановились.
«Что же дальше?»
Все трое молчали.
— Идея! — вдруг крикнул Яшка. — В милицию! А что?! Отнесем в милицию. Там разберутся.
— Ну что ж, — сказал Генка.
Честно говоря, идти в милицию ему не хотелось. Один только раз был Генка в милиции, когда залез на чердак пустого дома, где шел ремонт. И хотя тогда все кончилось, в общем, благополучно, и лейтенант даже в школу не пожаловался, но больше в милицию Генку что-то не тянуло.
— Да, пожалуй, — сказал Митрий. — В милицию.
Но тоже без энтузиазма.
И тут им повезло.
Из кафе-мороженицы вышел Вовчик — высокий, загорелый, в темных очках. И с тоненькими усиками. Эти усики всегда удивляли ребят: были они ровные, прямые, как стрелки. И тоненькие-тоненькие. На голове у Вовчика — шикарная зеленая шапочка. Вернее, не шапочка, а козырек. Из тонкого зеленого пластика. Он нежно светился под солнцем, и весь лоб у Вовчика от этого козырька был бледно-зеленым. И нос тоже.
Вовчика мальчишки знали давно. Студент, учится в Ленинграде, а сюда приезжает к родителям на каникулы.
Нет, дружбы с Вовчиком у ребят не было.
Студент! А они — всего лишь семиклассники. А главное, был он всегда как-то снисходительно небрежен. И ядовито остроумен.
Но сейчас Вовчик был как дар небес. Студент! Уж он-то английский знает!
Ребята бегом бросились к нему.
— Понимаешь, Вовчик, — торопливо сказал Яшка. — Я тут, в море, выловил бутылку. Понимаешь, где-то — кораблекрушение. SOS…
— Минутку! — перебил Генка и четко, коротко изложил в чем дело.
— Вот, — сказал Генка. — Читай! — и протянул Вовчику записку.
— Блеск! — сказал Вовчик и снял темные очки. — Мальчикам захотелось романтики? Им опостылели пресные будни? — он обвел мальчишек насмешливым взглядом.
— Читай! — сказал Генка.
В другой раз он нашел бы, что ответить. Но сейчас не хотелось обострять отношений.
— Читай. И, пожалуйста, побыстрее! — взмолился Яшка.
Вовчик взял записку.
— Ого! На машинке?! — он усмехнулся. — Значит, так. Буря. Авария. Шлюпка. И в шлюпке — изможденный человек. Стучит на пишмашинке? SOS! Интересно одно: откуда у него в шлюпке — машинка?
— Я об этом уже думал, — насупился Генка. — Конечно, не в шлюпке. А может, так: на судне пожар. Рация горит. И кто-то сразу — за машинку: SOS! Спасите!
— А на корабле машинки есть. Это уж точно… — добавил Митрий.
Вовчик усмехнулся.
— Гипотеза возможная, но маловероятная…
— Да читай же ты! — опять взмолился Яшка. — Спорить потом будем!
Вовчик поднес записку к глазам, долго разглядывал ее.
Ребята молча ждали.
— Итак, мушкетеры, — наконец, сказал Вовчик. — Должен вас огорчить. Во-первых, дата письма — четвертое июня тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. Понятно? Пятьдесят девятого! Следовательно, если кто-нибудь и потерпел аварию, он уже давно или — а — умер с голоду, или — бэ — утонул, или — вэ — съеден акулами.
— Пятьдесят девятый! — ахнул Яшка. — Значит… Значит, одиннадцать лет?..
— Именно, — подтвердил Вовчик. — Именно так. Одиннадцать лет бутылка носилась по волнам.
Он с сожалением развел руками.
Ребята нахмурились.
— Все равно! — вдруг выкрикнул Яшка. — Надо изучить. Может, тут какая-то тайна. Морская трагедия…
Вовчик сделал строгое лицо.
— Должен вас вторично огорчить, мушкетеры. Никаких тайн. Никакого кораблекрушения. Никаких SOS. Никакой романтики. Все очень просто. Это записка гидрографической экспедиции. Они, видите ли, изучают морские течения. Вот и бросили в воду эту бутылку в таком-то пункте четвертого июня пятьдесят девятого года. И просят каждого, кто поймает бутылку, сообщить, когда и где он ее нашел. Вот и адрес: Англия, Ливерпуль, Королевское океанографическое общество. — Вовчик усмехнулся, снова надел очки. — Итак, мушкетеры, у вас есть возможность подтолкнуть старушку науку. Напишите в Лондон. Если, конечно, денег на марку не жаль.
А вообще, мушкетеры, разрешите дать вам совет. Как старший товарищ. Смотрите на жизнь проще. Без розовых слюней. Жизнь — она примитивна. Поел, поспал. Опять поел, опять поспал. А всякие кораблекрушения и SOSы — это все из старых романов. Салют, мушкетеры!
Вовчик приложил пальцы к нежно-зеленому козырьку и неторопливо зашагал по пляжу.
Ребята молча провожали его глазами.
— Паразит, — хмуро пробормотал Митрий.
Генка и Яшка молча кивнули.
Да, вроде бы Вовчик сказал все правильно. И ни в чем он не виноват. Не SOS, а гидрографы. Все точно. И все-таки…
— Есть же такие люди, — сказал Яшка. — Чтоб кому жабу за шиворот сунуть — это ему первое удовольствие.
— Паразит, — повторил Митрий.
Мальчишки по-прежнему стояли на раскаленном пляже.
— Ну ладно, — сказал Яшка. — Что будем делать, мушкетеры?
— Я вот тебе, во-первых, за «мушкетеров» сейчас врежу, — пригрозил Генка. — Ишь перенял… А делать?.. Потопали к нашей немке. Она хоть и немка, но и английский тоже знает. Будь здоров! Разберется. И ответ напишет.
— К Наталье Николаевне? — Яшка и Митрий переглянулись.
— А что?! — сказал Яшка. — Потопали. Поможем толкать науку.
Мальчишки стали торопливо одеваться.
Яшка натягивал штаны, рубаху и думал:
«Вот обида! Один раз подвернулось настоящее приключение — и на тебе!.. Сорвалось».
Генка одевался рядом.
«А оно ведь и лучше, что никакого крушения, — думал он. — А просто — для науки. Сейчас, в двадцатом веке, самое главное — наука. И наша бутылка, и письмо в Англию — это тоже для науки.
А кстати, надо почитать про гидрографов. Какие у них экспедиции? И как это они бутылки бросают? Наверно, не одну, а сразу штук сто? А может, даже тысячу?»
А Митрий думал свое:
«Этого Вовчика надо все-таки как-нибудь ущучить. Может, на спину ему записку приляпать: «Я — подлюга»? Или на пляже спрятать его шмотки? Пусть через весь город в одних плавках дует! В плавках и зеленом козырьке!»
Митрий был реалист. И не любил плохих людей.

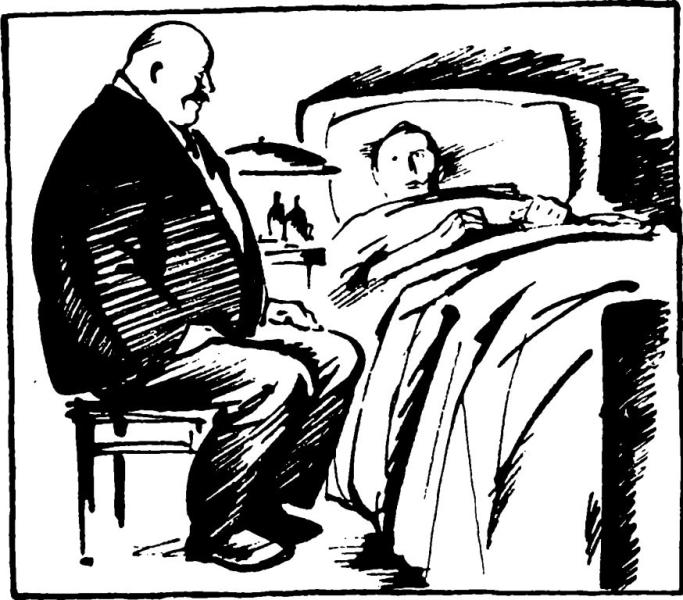 ОТЕЦ
ОТЕЦ
На третьем этаже большого старого дома открылась форточка:
— Геннадий!
Генька стучал во дворе костяшками домино. Он поднял голову. Отец в подтяжках стоял возле окна и махал рукой.
— Иду! — неохотно буркнул Генька.
Еще немного поиграл с приятелями — пусть видят: не очень-то он торопится, он человек самостоятельный, — и поднялся домой.
— Ужинать, — сказал отец.
Генька стал привычно накрывать на стол. Расстелил скатерть, положил вилки, ножи. Отец принес из кухни сковородку с яичницей, кипящий чайник. Через плечо у отца перекинуто полотенце. Это висящее полотенце всегда раздражает Геньку: «Как у кухарки».
Отец небрит. Усталые глаза на худощавом, морщинистом лице. Надо лбом — глубокие залысины. Ему меньше пятидесяти, но Геньке он кажется стариком.
Молча поели. Потом вместе быстро убрали со стола.
Генька сел за уроки. Отец принес из кухни эмалированный таз, налил горячей воды, надел на себя фартук. Все движения его: и когда он мылил белье, и когда тер его на ребристой металлической доске, были хваткими, спорыми.
— Я ж вчера целый тюк уволок в прачечную, — хмуро сказал Генька. — Чего ж не все сдал?
— Мелочишка! — улыбнулся отец. — Платки, носки… Не сдавать же каждую тряпицу? Да мы что, мы люди привычные… Солдат — он, знаешь, и пуговицу пришьет, и кашу сварганит, и постирает. Солдат шилом бреется, дымом греется.
Генька отвернулся. Отец всегда, когда стирает, отшучивается, и прибаутку насчет солдата Генька уже слышал. А сам небось на кухне не стирает. Все в комнате. Стыдно, видать, на кухне-то стирать. Среди женщин…
Генька уже привык без мамы. Столько лет прошло… И все-таки… Главное, пусто как-то без мамы. Пусто и слишком тихо. Мама была веселая и смеялась так, что даже отец-молчун и тот, бывало, расшевелится. И дома… Будто бы порядок: и обед отец сам стряпает, и белье чинит, и пол моет по очереди с Генькой. А все не так…
Нет, вообще Геньке в жизни не везет. Определенно не везет. Мама умерла. А отец… Отец тоже не очень-то…
Нет, он не дерется, не пьет. И все покупает Геньке. Вот недавно с получки сразу две рубашки принес. И еще фонарик-динамку.
Но… какой-то он скучный… Слишком обыкновенный. И работа у него — кладовщик — тоже какая-то… Нет, Генька уже не маленький, Генька отлично понимает, что и кладовщики нужны. Без кладовщика никакого порядка не было бы, все инструменты и материалы валялись бы где попало, без присмотра, без ухода.
А все-таки, как ни крути, кладовщик — это не физик-атомщик. И не летчик-испытатель. И даже не тракторист.
…Быстро расправившись с уроками, Генька, не надевая тужурки, спустился этажом ниже к Кольке Алехину. У того классный магнитофон. И ребята сговорились покрутить вечером новые записи.
Когда Генька вошел, Коля сидел с отцом у круглого стола, заваленного какими-то альбомами, вырезками из газет, фотоснимками.
— Подсаживайся, — кивнул Колька и опять повернулся к отцу. — А это что? — он держал в руке снимок.
Генька посмотрел: связанные одной веревкой, пятеро альпинистов, маленькие, точно мухи, карабкались по сверкающей ледяной горе.
— Восхождение на Кызыл-Тау, — ответил отец. — Это давно, в пятьдесят первом… Ну, а где тут я?
Колька и Генька стали вглядываться в фотографию. Была она большой: 12 X 24. Но все равно альпинисты, снятые откуда-то снизу, казались крохотными и одинаковыми: все в темных очках-консервах, все с огромными, как сундуки, рюкзаками и ледорубами.
— Вот! — сказал Колька.
Генька указал на другого.
Но, оказалось, оба не угадали.
— Ох, и досталось нам на этом Кызыл-Тау, — покрутил головой Колькин отец. — На подступах к вершине легли на ночь в палатки. А утром — не вылезти. Пурга. Замело совсем. Два дня и три ночи отсиживались, — он опять покрутил головой.
Генька во все глаза глядел на него. Смелый, наверно. И лицо, как в кино: нос орлиный, крутые скулы, серые навыкате глаза. И косой шрам на лбу — не портит, а словно даже украшает, делает еще мужественней. И пиджак какой-то необычный. Вроде и пиджак, вроде и нет. Широкий, как куртка, из мягкой, ворсистой шерсти, и на лацкане значок — «мастер спорта».
«Это тебе не кладовщик!» — с горечью подумал Генька, но тотчас обозлился на себя. В конце концов, это нечестно. Несправедливо. Отец не виноват. И не всем же быть мастерами спорта?!
Домой Генька вернулся часов в десять. Отец уже лежал в кровати.
— Ты что? — удивился Генька. Обычно отец ложился гораздо позже его.
— Знобит чего-то. Простыл, верно… — отец зябко поежился под одеялом, и голос его звучал виновато: вот, мол, захворал, теперь лишние хлопоты.
— Чаем напоить? С малиной?
Так всегда делала мать, когда Генька простужался.
Не дожидаясь согласия отца, Генька поставил чайник на газ, попросил у соседки малинового варенья, напоил отца и сам вскоре лег. Отец никогда не болел, даже насморком, и теперь Генька растерялся. Надо завтра в аптеку сбегать, врача позвать, надо обед самому сварить…
«Только этого и не хватало», — словно подслушав его мысли, вздохнул отец, и кровать под ним тяжело заскрипела…
* * *
Прошло уже дней десять, а отец все лежал. У него началась какая-то «атака на сердце», ревматическая атака. Генька не знал, что это такое, но одно понял твердо: отцу надо лежать, спокойно лежать, может быть, недели три, а может — и целый месяц. Обязательно лежать, иначе… С сердцем шутить нельзя. Отец не привык болеть и не умел болеть. Он все тревожился, что Генька не накормлен, что уроки ему теперь делать недосуг, так недолго и на второй год… Беспокоился и насчет работы: кто там теперь в кладовой? Наведет, наверно, порядочек!.. Отец и вообще-то казался Геньке скучным, а болел он совсем скучно. Как-то слишком тихо. Лежит целый день на спине, подложив руки под голову, и глядит в потолок. Что он там нашел интересного, на потолке? Все трещинки, наверно, наизусть вызубрил. Лежит, словно бы размышляет. А чего ему размышлять? Не физик-атомщик: тот может лежать и какую-нибудь новую теорию изобретать. И не поэт: тот, наверно, и когда болеет, стихи сочиняет. А кладовщику-то что размышлять? Генька притащил отцу целую стопку книг: и классиков, и про шпионов, и фантастические. Но отец почитает с часок, а потом опять лежит, потолок изучает. И одно развлечение: друзья-приятели. Генька и не знал, что их у отца столько. Раньше они домой к нему не ходили. А теперь чуть не каждый день кто-нибудь. А бывает, и по два, по три за вечер. Придут — и говорят, говорят, говорят… Все вспоминают. Только и слышно: «а помнишь?», «а помнишь?», «а помнишь?». Геньке сперва смешно было — придет какой-нибудь толстый, лысый дядька, а отец ему: «Здорово, Васька!» Ничего себе «Васька» — пудов на шесть! А тот отцу — «Петька-дружище!» Странно, когда твоего отца — «Петькой»… Полюбились Геньке эти посещения. Нет, вовсе не потому, что отцовы друзья всегда приносили какие-нибудь гостинцы. Да и носили они, будто сговорились, одни яблоки. «Витамины!» А Генька с малолетства эти самые витамины не уважал. Эскимо, или там конфеты, или орехи — куда лучше. Нет, друзья отца нравились Геньке своими разговорами. Придут и говорят. И даже отец, обычно такой молчаливый, оживляется и тоже говорит, говорит, говорит… Первым навестил отца тот самый шестипудовый «Васька». Огромный, тяжело дышащий — еще бы, поноси-ка такую тушу! — он уселся возле кровати и долго обтирал лысину платком. Геньке он напоминал моржа: жирный, аж лоснится, и фыркает, и усы торчат, а глазки — острые, как буравчики, сверкают где-то в глубине. Отдышался этот «Васька», да как загрохочет. Голос у него — что труба! А смеется — гулко, будто обвал в горах. Сперва они с отцом наперебой каких-то дружков вспоминали. — А Мотьку помнишь? — А Симу помнишь? — Это черненькую-то? С кудерьками? Которая с дерева сверзилась? Ну, как же!.. — А Федю-ушастика помнишь? — А Томку? Глупый какой-то разговор. Генька сидел в углу, за столом, делал алгебру и одним ухом слушал эти бесконечные «а помнишь?» И не надоест им?! Но вскоре разговор стал настоящим. — Эх, Петька, Петька! — вдруг растроганно сказал «Васька». — Умирать буду, захочется в последний миг что-нибудь самое важное, самое стоящее вспомнить. И вспомню я… — Знаю, знаю, — перебил отец. — Кукушкино… — Верно. Кукушкино, — огромный «Васька» вдруг помрачнел. — Нет, ты не отмахивайся! Не шуткуй. Это ж подумать!.. Я и теперь, хотя двадцать шесть годков минуло, как не сплю иль на душе кошки скребут, — вспомню, как ты меня, раненого, через эту чертову реку тащил, — и все… Все мелочи куда-то сразу пропадают, все поганое проваливается, а на душе — только свет. Я теперь аж представить себе не могу: ты, клоп такой, меня — слона, с оружием и в амуниции на себе через реку прешь… И холод — осень ведь… И фрицы по реке палят. А ты плывешь и меня… — Да брось! — засмеялся отец. — Ну, что в самом деле?! Как встретимся — обязательно ты эту переправу… Да ну ее! Выбрались — и ладно… Ты вот лучше скажи: Костика видишь? Где он теперь? И разговор перешел на какого-то Костика, который, оказывается, работает в министерстве и чем-то там ворочает. Чем — Генька не разобрал. Генька сидел у себя за столом. Уши у него пылали. «Вот так-так! Отец-то! Отец!» Генька знал, конечно, что отец когда-то воевал. И орден имеет, и медали. Но рассказывал отец о войне неохотно и то лишь, когда Генька очень уж приставал. И выходило по его рассказам, что, в общем-то, на войне ничего интересного: ну, окапывался, ну, из болот месяцами не вылезал, ну, бывало, не спишь трое суток. А оказывается!.. Прикрыв глаза, Генька видит мутную осеннюю реку, столбы воды от разрывов и плывущего отца. Одной рукой загребает, другой тащит за волосы этого шестипудового «Ваську». А тот весь в крови. Вон до сих пор возле уха отметина. Непонятно только, как отец держит винтовку? Ведь обе руки заняты. А может, у него автомат — на ремне? Или пистолет? Хотел Генька спросить об этом, да застеснялся. А «Васька» с отцом уже о другом говорят: как ворвались вслед за танками в один немецкий городок, входят в уцелевший домик, запыленные, разгоряченные, пить страшно хотят, а немец-хозяин побледнел, сует им какие-то часы, браслеты, цепочки. — Нет, нет, — объясняет отец. — Пить! Тринкен! — и руку ко рту подносит, будто пьет. Но немец с перепугу не понимает и все тычет, тычет свои золотые вещички. «Васька» гулко грохочет, даже стул под ним прыгает. Отец, лежа, тоже смеется, тихо, словно про себя. Да, здорово тогда немец струхнул! Долго еще сидит «Васька». Они с отцом все говорят, говорят, а потом вдруг начинают петь. Генька беспокоится: не вредно ли это отцу? Но тот улыбается: «Ничего, я тихонько». Песни очень хорошие, незнакомые Геньке. Сперва про землянку, где в тесной печурке бьется огонь и на поленьях смола, как слеза. Потом про девичье окошко, на котором все горит огонек. И про дороги, где пыль, туман да степной бурьян. Отец словно бы и не поет, лишь чуть-чуть намечает мелодию и раздумчиво, грустно, с большими перерывами подкрепляет ее словами. Прикрыв глаза, он ведет песню так душевно, что у Геньки в горле аж накипает комок. Только поздно вечером уходит «Васька». А Генька еще долго не ложится. Сидит за столом, пытается решать задачи, но они сегодня что-то никак не решаются. То и дело украдкой бросает Генька быстрые взгляды на отца: лежит он, худой, небритый и тихий-тихий. Лежит, глядит в потолок. Такое будничное, неприметное лицо. Генька мысленно видит, как отец несет сковородку с яичницей и на плече у него висит кухонное полотенце. В голове у Геньки все еще как-то не совмещается это полотенце — и переправа под огнем, таз с грязным бельем — и танковый рейд в Германии. Поздно ложится он спать. Долго ворочается с боку на бок, слушает, как бормочет, тихо стонет во сне отец. Наконец засыпает и Генька. И снится ему бушующая река, столбы кипящей воды, разрывы мин и плывущий отец. Плывет и тянет через реку шестипудового «Ваську». Немцы злятся, в ярости бьют по реке из автоматов и минометов. А отец плывет! Плывет, несмотря ни на что! Как Чапаев плывет!
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

Последние комментарии
16 часов 33 минут назад
18 часов 50 минут назад
1 день 9 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 18 часов назад