Ключ-город [Александр Израилевич Вересов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Александр Вересов Ключ-город

ДВЕ ПОВЕСТИ О ПЯДИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
К этой книге я шел много лет. Можно назвать даже день, когда возник ее замысел. Это был морозный январский день 1943 года. Войска Шестьдесят седьмой армии ринулись через заснеженную Неву к гитлеровским позициям. Начались бои на прорыв блокады Ленинграда. Вот тут-то я и увидел нечто такое, что врезалось в память на всю жизнь. Старинная Шлиссельбургская крепость вела артиллерийский и пулеметный огонь по врагу. Ее амбразуры, давно уже не знавшие боевого огня, освещались багровыми орудийными вспышками. И тогда в сознании с поразительной отчетливостью встали рядом советский солдат в дубленом полушубке и петровский гвардеец в суконном зеленом бостроге, с тяжелым мушкетом в руках. И в гул войны Великой Отечественной вдруг вплелась мортирная канонада иной войны, Великой Северной, отгремевшей давным-давно. Между ними пролегло без малого два с половиной века. Одна из них вывела Россию к морю, а в другой решалось, быть или не быть нам на земле. В этой книге — две повести о пяди родной земли. Речь идет именно о пяди, о крохотном островке на Ладожском озере, в невском истоке. Островок этот в несколько минут пройдешь от берега до берега. Но какие большие пути скрестились над ним! Каждая из этих повестей имеет свою историю. Материалы для «Невской легенды» начали собираться после Отечественной войны. «Марсова книга», воинские дневные заметки и рапорты, походные журналы, фотокопии собственноручных записей Петра I. Все было очень важно, значимо. Но пока еще никак не вязалось, не складывалось. До такой степени, что пришлось оставить работу. Через несколько лет я повстречался на Ладоге с удивительными людьми, местными старожилами. В их числе были старый водник, впоследствии председатель городского Совета Петрокрепости (Шлиссельбурга), А. А. Гормин и учительница из поселка Морозово В. Н. Осипова. Я познакомился со многими другими ладожанами. Они рассказывали бывальщины, старинные легенды, простые истории о событиях близких дней. Это было захватывающе интересно, а главное, согрето огромной любовью к своему краю. И тогда произошло необычное. Словно волшебная палочка прикоснулась к моим бесчисленным тетрадям. Все ожило, как бы наполнилось дыханием, стало на свои места. Повесть «Орешек» складывалась иначе. Во время Великой Отечественной войны и после нее довольно много писалось в газетах и журналах о морской артиллерийской батарее, находившейся на шлиссельбургском острове. Батарейцы воевали превосходно и вполне заслужили добрую славу. Но по необъяснимой случайности оказался совершенно забытым подвиг стрелкового батальона, державшего оборону крепости, хотя он-то и составлял основную часть островного гарнизона. Газета ленинградской молодежи — «Смена» — в 1958 году начала поиск. Длился он долго. Было найдено двадцать солдат, защитников Шлиссельбургской крепости[1]. То, что они рассказали, легло в основу повести «Орешек». В обеих повестях, вошедших в эту книгу, описаны действительные события. В «Орешке» некоторые фамилии изменены. Само собою разумеется, что тема этой работой ни в какой мере не исчерпана. Здесь нет полной картины обороны Шлиссельбургской крепости. Цель книги весьма скромная — рассказать о некоторых судьбах и фактах из истории земли питерской, ленинградской. Рассказать молодому читателю о том, что такое пядь родной земли в ее сути, величавой, трагической, горестной и прекрасной. «Невская легенда» и «Орешек» — повести во многом разные. Они отличаются языковым материалом: не одинаков строй речи двух эпох. Неизбежно отличаются они и масштабом событий: в петровское время Орешек был одной из сильнейших европейских крепостей, ее взятие имело государственное значение. Ныне — это только музей, а в 1941–1943 годах здесь проходил всего лишь небольшой (батальонный) участок Ленинградского фронта. Но и само это различие подчеркивает внутреннюю общность боевой героики. Воевали с врагом русские солдаты. У них одинаковая верность Отчизне. Верность превыше жизни. Два с половиной столетия — срок немалый. Но в подвиге двадцатого века сильно и ясно отозвался подвиг восемнадцатого. Разное время, а подвиг единый. Народный подвиг. А. ВересовНЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА

I. В ПОХОДЕ

1. УРОЧИЩЕ МОХОВОЕ
Долог путь к Орешку. Не скор и тяжек. Но пройти его надо, чего бы то ни стоило… Всю ночь повозка Сергея Леонтьевича Бухвостова пробиралась сквозь Хотиловские леса. Родион подремывал на козлах. Васенка смотрела на черные, будто нехотя расступающиеся деревья. Она придумывала сказку. В сказке жили злые палачи — кнутобойцы. Они протягивали к Васенке лапы, норовили побольнее хлестнуть. За шумом деревьев слышны были их настигающие голоса. Но что это? Мелькнул огонек и погас. Снова мелькнул, но в другом месте. Огонек не один, вот еще и еще… Васенка закрыла глаза ладонью. Потом глянула в щелку меж пальцами. Огоньки были не в сказке. Они и взаправду светились. Девочка растолкала Бухвостова: — Дядь Сергей, а дядь Сергей… Смотри! Бухвостов поднялся с дурманно пахучего сена, набросанного в повозку, растер лицо, и сон с него словно ветром смахнуло. Сразу заметил, что лошади дрожат и жмутся друг к другу. — Гони! — крикнул он Родиону и взвел курки тяжелой, короткостволой пистоли. Родион с перепуга вскочил, затряс вожжами над головой. Лошади понесли. Возок бился о деревья, чуть не опрокинулся, наскочив на пень. Крик Родиона воем отдавался в лесу. Мгновенное зарево выстрела выхватило из темноты мохнатые ветви елей, толстые, в уродливых наплывах, стволы берез. Ночь стала еще темней. Крохотные огоньки отпрянули. Но вот зароились еще гуще. Все ближе, ближе. Бухвостов высекал искру из кресала. Но отсыревший трут только дымил. Огоньки уже рядом. Это совсем не страшно. Страшно, что кричит Родион и возок трещит так, будто сейчас развалится. Васенка изо всех сил зажмурилась. Открыла глаза и увидела, что «дядь Сергей», раздувая щеки, дышит на тлеющий трут. Зажигает пучки сена и бросает их в темь. Горящие тонкие былинки разлетались и гасли. Кони вдруг выскочили на луговину, заросшую высокими травами. Родион, почти падая назад, натягивал вожжи. Из-под веревок, накрученных на руки, сочилась кровь. Закиданные пеной кони остановились. Косят одичалыми глазами. Наступало утро. Солнце выкатилось над зубчатым краем леса. Было очень тихо. Где-то невдалеке тихонько выпевала пастушечья жалейка. Бухвостов выпряг лошадей и велел Родиону выводить их, а сам пошел на голос жалейки. Старика пастуха он нашел на краю лесного озера, посреди стада. — Дед, скажи, будь ласков, где мы? — спросил его. — Из Оглоблина держим путь. Что за место лесом проехали? Старик исподлобья посмотрел на зеленый мундир неожиданно появившегося человека. Шапку он, видать, потерял. Черные с проседью волосы шевелились под ветром. Глаза смотрели прямо, без доброты. Широкие усы топорщились над жестким ртом. Выскобленный и все же щетинистый подбородок торчал над красным суконным воротником. Нет, с этим человеком не пошутишь. Старик долго шевелил губами, прежде чем заговорить: — Поди, Моховое урочище перемахнули, — в голосе прозвучало сомнение; пастух разглядывал оловянные пуговицы на мундире незнакомца и двигал безволосыми бровями, — да ведь дорога там непроезжая, волки стаями ходят… Ну, а тут, стало быть, самый Хотилов и есть… Бухвостов расспросил еще о дороге на Валдай. Возвратясь к повозке, он широкой темнокожей рукой растрепал Васенкины белобрысые косицы. Весело объявил: — Доставай мешок с харчами. Привал! Он расстегнул мундир и лег на росистую, еще не просохшую траву. Лежал и смотрел, как качаются в небе верхушки деревьев, похоже — хоровод ведут. Правду сказать, жизнь не баловала сержанта Преображенского полка Сергея Леонтьева, сына Бухвостова. Нет, не баловала. Но сейчас необыкновенно мила она ему, жизнь на родимой неласковой земле. Так всегда бывает: после того как минует опасность, столкнешься нос к носу со смертушкой и обойдешь ее, курносую. Вот оно небо какое раздольное, а лес-то синий, а озеро тихое. Но сколько же горя людского под этим небом, и пролитой крови, и слез, и ожесточения. Бухвостов приподнялся, оперся о шершавый ствол березы, перегрыз зубами горькую травину. Потянуло к своим, в полк, к серебряно-трубным зорям, к артельному котлу с горячей кашей или сбитнем — одному на дюжину человек. В полк, в полк, где, как ни кинь, все равны перед бьющими наповал пулями, перед летящими ядрами. Который месяц ездил сержант по вышневолоцким вотчинам с именным петровским указом — «кликать вольницу в солдаты». Да и не только вольницу. Сержант положил руку на грудь и ощутил в кармане, под сукном, твердую, вдвое сложенную бумагу с грозными словами; он знал их на память: «Указали мы, великий государь, боярам нашим и окольничим, и думным, и ближним, и всяких чинов служилым и купецким людям наш указ сказать и по градским воротам прибить письма: чтоб о дворовых своих людях сказки подавали. И по тем сказкам тех людей к смотру объявляли в приказе военных дел, из дворовых пятого. А к смотру старее тридцати и моложе двадцати лет не приводили, а увечных и дураков не было б. А в сказках писать без утайки под смертною казнью…» За словами указа Бухвостов видел того, чьим именем был он дан, долговязого, торопкого, исхудалого до черноты, с бешеными глазами, с верткой головой на смуглой шее. До чего же не подходит к нему титул великого государя, а вот любимое им простецкое звание шкипера, или бомбардирского капитана, или корабельного баса — в самую пору… Подошел Родион, безъязыко залопотал, схватил сержанта за рукав, повел смотреть разнесенную в щепы ось. Тут же выбрали ровненькую березу, свалили ее, окорили, принялись прилаживать под возок. У Васенки на костре кипит уже вода в закоптелом глиняном жбане с щербатыми краями. Пока чинили повозку, она успела обойти луг, побывать на озере. Вернулась с охапкой пахучих трав, корешков, веток. Сергей Леонтьевич заметил, что в охапке нет ни одного цветка. Васена ловкими пальцами перебирала неказистую добычу, смешно по-старушечьи шепелявя — передразнивала бабку-знахарку, — рассказывала о травах. Вот это заячья капуста, без нее квас не забродит. Это одолень, от кликушной болезни. Это пупной, помогает, если кто с пупа сорвет. Вот еще одна полевая жительница — разрыв-трава: перед нею самые крепкие узы распадаются. А если надо, чтобы побыстрей рана затянулась и кровь унялась, то лучше этих корешков ничто не поможет, зовутся они петров крест. А вот это — истинное чудо! Васена растерла в руках тонкие стебельки и шишечки. На ладонях осталась желтая пыльца. Медленным — Бухвостову показалось, — чародейным движением девочка рассеяла пыльцу над костром. Вспыхнула пыльца ясными звездочками. — Плаун, плаун горит! — зазвенел тоненький голосок. Сержанту невольно припомнилось прозвище, каким в деревне честили сиротку из хаты на отшибе: «Лешачья дочь!» Васена уже сидит у костра, уткнув подбородок в острые колени, внимательно смотрит, как Бухвостов ест замешанное на озерной воде толокно. Взгляд не девчоночий, любопытство не детское, готовность все понять. — Дядь Сергей, куда мы едем-то? — Я ж говорил тебе, — сержант жует со вкусом, — едем к Орешку. Васена знает, что так зовут крепость на острове, на далекой реке Неве. Но очень уж интересно рассказывает «дядь Сергей». Девочка готова слушать снова и снова. Она смотрит строгими, выпытывающими глазами. Серые эти глаза не видят уже ни Бухвостова, ни догорающих угольков в костре. Видит Васенка высокие-превысокие каменные стены. За ними — русские ратники. Вокруг шведские воины, или, как их часто называют, «свей». Они на воде, в ладьях, на берегу с пищалями и мечами. Множество неисчислимое. Вот герольд, в приметном алом плаще, переправился через реку к крепости, подошел к стене, прокричал, что славный и могучий король шведский требует сдачи крепости. Орешек молчит. Тогда поверх боевых зубцов герольд пустил стрелу с грамотой, обещавшей русским дружинникам жизнь, а воеводам сверх того — деньги и почести на коронной королевской службе. Орешек молчит. Тогда ладьи, взяв парусами ветер, черной тучей надвинулись на остров. На берегах пушки вместе с ядрами выбросили пламя. Вздрогнула земля. Волны пошли по воде. День за днем, неделя за неделей русские защищали Орешек. Отстреливались. Опрокидывали осадные лестницы. Забрасывали штурмующих камнями, обливали горячей смолой. Выпустили на врага рои разъяренных пчел. Пришла пора, когда, по расчету шведов, у осажденных не должно было оставаться ни ядер, ни пороха, ни хлеба. Орешек все держался. Дружинники дрались мечами, дубинами, кулаками. Но крепость уже горела. Пламя поднималось выше стен. В тот тяжкий час вдруг заскрипели на пудовых петлях окованные железом двери. Медленно стал опускаться подъемный мост через ров у воротной башни. Бой прекратился. Шведы кинулись к мосту. Но тут же остановились в изумлении. Из ворот крепости вышли двое, в окровавленных рубахах. Они шли, положив руки на плечи друг другу. Когда один обессиленно падал на колени, его поднимал товарищ. Они не хотели, чтобы враг видел их, хотя и полумертвых, на коленях. Только эти двое остались в живых из всей русской дружины, и они вдвоем держали крепость в последние дни. Осаждающие молча расступились перед героями. Шведские солдаты сняли перед ними шеломы. Офицеры обнаженными клинками салютовали мужеству противника. Так сдали врагу Орешек. Случилось это давно. Не только Васенки, но и отца ее, и деда еще не было на свете. А прадеду, пожалуй, шел шестнадцатый годок, как сейчас Васене. С тех пор, без малого сто лет, крепость — под чужеземцами. И вот русские рати идут освобождать Орешек. Идет «дядь Сергей», идет Родион… Девочка не слышала, как крепкие руки подняли ее и отнесли в возок. Не слышала, как пронзительно выпевали колеса на березовой оси. С лесной дороги повозка свернула на большую, от Москвы к Новгородщине. По ней тянулись обозы. Обгоняя рогожные кибитки, мчались конные фельдъегери. Вместительный неповоротливый рыдван увяз в грязи. За слюдяной дверцей виднелось старое, злое лицо в седых буклях. Солдаты проходили, сгибаясь под тяжестью заплечных котомок. Посмеивались, шутили над незадачливым путешественником. Десяток лошадей в одной упряжи тащил медную мортиру. Пушкари, ухватясь за ступицы и лафет, в лад выкрикивая, подталкивали мортиру. Сизолицый пушкарский урядник орал, размахивал дубиной, бил ею по лошадям и по людям. Повозка Бухвостова поравнялась с огромной, как башня, стенобитной пращой. Праща подвигалась едва заметно. Над нею косо торчало коромысло, вытесанное из цельного дуба. Гуськом вытянулись двуконные телеги. В них — кожаные кули с порохом. Каждый куль затянут веревкой, наподобие кисета. На огромных косматых лошадях с гиканьем промчались драгуны в темных накидках… Войска спешили к шведскому рубежу. Русь вела войну, тяжелую и неизбежную.2. „НАРВСКАЯ КОНФУЗИЯ“

Веками утверждалось могущество Швеции, самой сильной державы на Варяжском море. Ее армия держала в страхе всю северную Европу. Шведы считались непобедимыми. В 1612 году, после многолетних сражений, шведское войско захватило древние русские земли на побережье Невы и Ладожского озера. В Стокгольме, по русскому наименованию — Стекольне, собрался сейм. Король Густав-Адольф обратился к дворянству с гордой речью: — Великое благодеяние оказал бог Швеции тем, что русские теперь навеки должны покинуть гнездо, из которого так часто нас беспокоили. Русские — опасные соседи… они могут выставить в поле большое войско. А теперь этот враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить на Варяжское море. Большие озера — Ладожское, Пейпус, — Нарвская область, тридцать верст обширных болот разделяют нас. У России отнято море… Так оно и было. Огромная Россия оказалась оторванной от европейского мира. Путь к морю перекрыт линией крепостей, над башнями которых вьются белокрестные шведские флаги. На западе — Нарва, на востоке — Нотебург, — так шведы теперь называют Орешек. У России осталось на дальнем севере Белое море с портом Архангельском. Но Белое море большую часть года подо льдом. Да и плавание в студеных водах столь опасно, что немногие иноземные купцы решаются рисковать своими кораблями. Необходимо было исправить великую несправедливость и вернуть России море. Шел к концу 1700 год. Война со Швецией началась несчастливо. Сорокатысячный русский осадный корпус обложил Нарву. Первые бои показали, что армия, собранная Петром, плохо подготовлена. Пушки тонули в болотах. Некоторые взрывались на позиции, при обычном заряде. Гарнизон Нарвы держался упорно. В Европе много говорили о потомке Густава-Адольфа, молодом короле Карле XII. Этот длиннолицый, бледный юноша удивлял Стокгольм своими сумасбродствами. То он с ватагой сверстников сломя голову мчался на охоту, то горланил на ночных улицах столицы, то требовал от сейма денег на пышные празднества. Никогда нельзя было знать заранее, что он еще придумает. Король был капризен, скрытен, не любил делиться планами даже с близкими друзьями. Напудренные, затянутые в атлас вельможи европейских дворов ахнули, вдруг узнав, что Карл XII привел флот в сорок вымпелов к берегам Дании. Он первым, по пояс в воде, высадился из шлюпки и повел войска к Копенгагену. Дания, у которой были старые счеты с Швецией и потому поддерживавшая Россию, вышла из войны. Прошло немного времени — и шведские войска, переплыв море, спешат на помощь осажденной Нарве. В ненастный день 19 ноября 1700 года дождь, перемешанный со снегом, падал на русскую и шведскую армии, столкнувшиеся у нарвских стен. Появление Карла XII было внезапным. Сеча разгорелась жестокая. Петру сообщили, что его любимец, знаток огневого дела капитан Гумерт предался шведам. Но это была только первая измена. Находившийся на русской службе, командовавший осадными войсками под Нарвой герцог де Кроа вместе со всем генералитетом отдал шпагу врагу. Больно было смотреть, как гибли полки под шведскими ядрами. Плохо обученные, не видавшие боевого огня солдаты не могли выдержать натиска закаленной шведской пехоты. От полного разгрома армию спасла только храбрость русской гвардии — семеновцев и преображенцев. Они стали у моста через Нарову. По примеру древних русских воинов быстро соорудили Гуляй-город, подвижную крепостцу из обозных телег. Приняли на себя удар и остановили врага. Гвардия прикрывала отход разбитых войск. Она не пустила шведов к мосту. И дралась с такой отвагой, что Карл XII воскликнул: — Каковы мужики! В рядах петровской гвардии в том бою отличились знатнейший среди воинов — князь Михайла Голицын и потомственный конюший, Преображенский сержант Сергей Бухвостов. Они бились рядом и получили ранения: Голицын — пулей в ногу навылет, Бухвостову палашом едва не рассекли голову. Своими ранами оба занялись только после того, как гвардия последнею перешла на ту сторону реки и бой начал затихать. С этого времени офицерам русской гвардии был дан медный знак, носимый на груди. На меди было оттиснуто: «Нарва, 19 ноября»… Героем Европы стал храбрый, сумасбродный и удачливый Карл XII. В честь одержанной победы он велел отчеканить медаль. На ней был изображен царь Петр, бегущий от Нарвы: шапка упала, шпага валялась на земле. По лицу текли слезы. На медали написано: «Изшед вон, плакася горько». Эта медаль, рисунок и надпись должны были напоминать Петру о том, что в день тяжкой битвы его не было в армии, терпящей поражение. Сумрачный, злой, в распахнутом лосином колете, искровавив плетью коня, он мчался в Новгород. В Швеции, да и в России, многие упрекали Петра в трусости. Ни тогда, ни позже он не оправдывал себя. Нет, дело тут было в другом. Петр знал, что уже давно в спальне Карла XII висит до мелочей разработанная карта — «марш на Москву». Эта карта сопутствует ему во всех походах. Теперь русская армия разбита. Потеряна вся артиллерия. Кто может преградить Карлу путь на восток? Почти несомненным казалось, что шведы немедля вторгнутся в глубь России. Петр спешил. Надо было собрать новые полки, укрепить Новгород, Псков, порубежные крепости. В какое-то время он мог испытать страх при поражении армии, гибели своего любимого детища — «большого огневого наряда», артиллерии. Но присутствия духа не потерял. «Шведы бьют нас. Погодите, они выучат нас бить их», — сказал он сразу после «нарвского невзятия». В походном «юрнале», который писался нередко под диктовку Петра, сказано о тех горестных днях: «Полки в конфузии пошли в свои границы, велено их пересмотреть и исправить…» Карл XII, который почти всегда делал противоположное тому, что от него ожидали, остался верен себе и на этот раз. Он оставил многотысячные войсковые заслоны против русских. Главные же силы направил против Польши, другого союзника России. Он был уверен, что там его ждет более ценная добыча. Такого трудного года в жизни Петра давно не было. Он появлялся то в Москве, то снова в Новгороде, то в Архангельске. Надо переучивать всю армию, от ратника до генерала. Надо отливать пушки; их должно быть вдвое больше, чем под Нарвой. Триста штук. Не меньше. Именно тогда, наверное тогда, задумал он прорваться сквозь шведскую линию, замыкающую путь к морю, с другого ее края. И в мыслях Петра предстал маленький остров, который, по странному совпадению, был создан господом богом по всем правилам фортификационной науки, — древний Орешек, шведский Нотебург. Остров так стоит, что мимо него в Неву не то что корабль — малая ладья не проскользнет. У кого Орешек — у того Нева, путь к морю. Правда, есть на реке, в низовье еще одна шведская крепость. Она не в пример слабее Нотебурга. Взяв одну крепость, легче будет управиться с другой. Но за Нотебург шведы будут драться не менее упорно, чем за Нарву. Надо так все наладить, чтобы не случилось новой «конфузии». Нужна медь для литейных дворов, которые дымят в Москве и в Новгороде. Нужен строевой и мачтовый лес для верфей. Нужны деньги, много денег, чтобы накормить и одеть армию. Петр не щадит себя. Не щадит Россию. Он ходит в заштопанных чулках и сношенных ботинках. Иной раз, в поспешности, сам кладет на них заплаты. Забывает сменить пропотевшую рубаху. Он становится скупым и жестоким. Случается, лошадей загоняет до смерти. Денщики при нем не знали покоя ни днем, ни ночью. Все, что надобно было для армии, для чаемой победы, он просил, требовал, выколачивал дубьем и кулаками. Главнейшая же его забота — добыть новых солдат. Армия без хорошего солдата — ничто. Солдат — он и есть армия. Самых верных людей Петр посылает во все края Руси верстать холопов и вольных в полки. Среди этих людей — сержант Сергей Бухвостов. Его послали в Вышний Волочек.
3. ОГЛОБЛИНО

В ночь на 1 января кончился год 7208, и вслед за ним, вопреки обычаю и счету, наступил год 1700. По городам и селам разослан был царев указ отсчитывать лета не от «сотворения мира», и не с 1 сентября, как велось исстари, а от новой эры, от «рождества Христова», и с 1 января, как принято у многих народов. «В знак же того доброго начинания и нового столетнего века» приказано в церквах служить молебны, а жителям друг друга поздравлять с Новым годом. В Москве дымно и трескуче лопались огненные хвостатые шары. Полную неделю палили пушки. По всей России били в колокола. Люди с поклоном говорили веленое «новогодие». Но, отворотясь и приметя, что поблизости нет «ясных пуговиц», крестились, плевали через плечо. Пошли по Руси тайные грамотки. Церковным письмом и слогом они поносили Петра. Слова казались раскаленными ненавистью. Это он, проклятый вероотступник, «собра весь свой поганый синклит в 1-й день генваря месяца и постави храм ветхоримскому Янусу… и все воскликнуша ему: виват, виват, новый год!» Грамотки вопрошали со скорбью и гневом: «Оле, благоразумные чада, вонмите здесь, кому празднуете новый год? Все господние лета истреблены, а сатанинские извещены…» Листки эти — как огонь, поднесенный к сухой стружке. Многие ненавидят Петра. Всю страну взнуздал железом. Никому нет покоя — ни знатным людям, ни холопам. У одних вытряхивает мошну, у других — душу из тощего тела. Затеял царь войну с сильными свеями. Подавай ему то хлеб, то подводы, то деготь, то пеньку. Поборы такие, что люди стоном стонут. Потаенно бурлит Россия. В селе Оглоблино, близ Вышнего Волочка, вот уж год как получены те грамотки. Приехал и поселился в боярских хоромах безвестный инок, тихонький, в скуфейке; елейным голосом говорил страшное. Дескать, государь свою землю всю разорил и выпустошил. Да и не государь он вовсе. Когда Петр ездил в немецкую землю, подменили его там… Писано о нем в книге валаамских чудотворцев, что он головою запрометывает и ногою запинается, и что его нечистый дух ломает… И солдаты все басурманы, поста не имеют… Дьявол, и семя дьявольское… В первый день, как Бухвостов приехал в Оглоблино, приглянулось ему село. Серые избы прячутся среди вязов. За овинами петляет речушка. Берега овражистые, теряются в густолесье. Для жилья сержант выбрал дом, стоявший с краю села, на речном обрыве. Дом был старый, но крепкий, сложенный из позеленевших от времени бревен. Видно, давно уже здесь никто не жил. На припечье стыла холодная зола. Из светца торчала обгорелая лучина. Черепки разбитой глиняной посуды хрустели под ногами. Сквозь рассохшееся, до половины затянутое бычьим пузырем окно летел ветер, шевелил лежалую солому в углу. Солдатский обиход проще простого. Сергей Леонтьевич раздобыл ведерко, скатил пол водою. Вбил колышек в щелистую стену. Повесил на него походный мешок. На пол, поближе к печи, набросал упругие еловые ветки. Вот и готов приют. К вечеру Бухвостов вышел из хаты, сел на поросшую травой завалинку. От оврага, от реки наплывал холодный туман. Перед сержантом заметалась чернорясая тень, затрясла седыми патлами, разлетавшимися из-под скуфейки. — Ох, недоброе же место выбрал ты, — проверещала тоненько, с гнусавинкой, — тут нечистая сила ходит, на разные голоса стонет. Свят, свят, свят! — и тень попятилась от порога. Шагнул вперед Сергей Леонтьевич. Разглядел слезливые, испуганно-умильные глаза. — Не тревожься, отче. У меня от всякой нечисти зарок. Наутро сержанта позвали на боярский двор. Владел селом окольничий Иван Меньшой Оглоблин. По всему видно было — хоромы богатейшие, и живет в них боярин — сам себе владыка. Бухвостова встретила челядь, приживалы, шуты, пронзительно верещавшие. Егери на длинных ременных поводках держали беснующихся псов. На крыльцо, почесывая грудь, вышел в меховом халате нестарый мужчина, рыхлый, с висячими, наеденными щеками. Он шагал — одна нога в сафьяновой туфле, другая босая — и ревел сиплым голосом: — Федька! Подай туфлю! Мальчонка метнулся под руку, протянул туфлю, но тут же полетел с крыльца, оглушенный. Вскочил, смахнул с разбитого лица кровь и, не выпрямляясь, побежал прочь. Шуты еще громче заорали, засвистели. О Меньшом Оглоблине сержант немало наслышан был еще в Вышнем Волочке. Род Оглоблиных старинный. С незапамятных времен правили они царской охотой. Иван Большой Оглоблин в последний год царствования Алексея Михайловича упал с коня и разбился насмерть. Наследовал вотчины и дворцовую должность его сын, Иван Меньшой Оглоблин. Но ему так и не удалось показать себя. Петр Алексеевич псовую охоту не жаловал. Боярина он отставил от должности, велев ему служить по мытной части. Тут выяснилось, что окольничий не знает ни грамоты, ни счета. Приказано было ему учиться. Но как боярская пыха — спесь — не дозволяла потомку рода Оглоблиных слушать наставления простого пономаря, то царь указал ему великий штраф: не жениться, пока не научится грамоте. С тех пор окольничий безвыездно жил в селе. Пожалуй, он уже смирился со своей обидой. Вдруг велено было боярам немедля явиться к войску. Мало того, негаданно приехал в вотчину петровский сержант набирать холопов в солдаты. Что же это? Людей своих отдай царю. Боярин в родительском доме, выходит, уже не господин! Но теперь Оглоблин знал, что ни с Петром, ни с его посланцами спорить не годится. Сержанту он попенял только за то, что тот поселился не на его подворье. — Прощенья прошу, — ответил Бухвостов, — я солдат и несвычен жить на боярских хлебах. Приживалы при таком неучтивстве заголосили. Окольничий посмотрел на них и сокрушенно вздохнул. Дескать, слыхали, какие слова говорят самому Оглоблину! Смиренно, с поклоном подошел седой инок, потряс скуфейкой. Бережно тронул боярский локоток. Оглоблин по-медвежьи неуклюже повернулся, тяжело ступая, ушел с крыльца… Бухвостову приходилось много разъезжать по окрестным деревням. Ночевать всегда возвращался в Оглоблино. В солдаты мужики шли с охотой. Не потому, что ждали там калачей с медом. Знали, что на царской службе хлеб горек. В походах семь потов прольешь, а в бою и кровушку не удержишь. Век солдатский — короткий век. Да не было другого пути избыть тяжкую крепостную неволю. Как-то к Бухвостову пришел парень, рослый, крепкий, на голове копна рыжих волос, ресницы рыжие, глаза коричневые с золотинкой. Парень, ничего не говоря, скинул свитку, показал исполосованную в кровь спину. Подождал, что скажет сержант. Но тот молчал. — Видел? — коротко спросил рыжий. — Ну, видел. — Пиши в солдаты! — крикнул парень. Скрипнув зубами, он вцепился пальцами в столешницу, толстые доски ходуном заходили. — Эх, тут — смерть, на войне — смерть. Так уж лучше помереть молодецки, хоть душу потешу. Пиши в солдаты! — Ты из оглоблинских? — задал вопрос Сергей Леонтьевич. — Из оглоблинского пекла. — Был я у боярина. Там, вроде, все тихо. Рыжий упал головой на стол, заворочался, точно давился чем-то. — Я тебе расскажу про оглоблинскую тишь… Бухвостов спросил имя, прозвание. — Чернов я. А зовут Жданом. — Ну, прощай, Ждан. Приходи завтра. Рыжий поднялся. Разодранная свитка плохо держалась на плечах, не прикрывала багрового, в подтеках, тела. Сергей Леонтьевич порылся в мешке. Достал белую полотняную рубаху, протянул ее Чернову. Парень попятился. — Что ты? Я же замараю кровью. — Бери. Прижимая рубаху к груди, Ждан толкнулся в дверь. Может, за всю свою жизнь он впервые услышал доброе слово… В ту же ночь, после разговора Бухвостова с Черновым, в хате над речным обрывом случилось такое, что поневоле заставило сержанта припомнить слова седого инока про «нечистую силу». Сергей Леонтьевич проснулся от скрипа половиц в сенях. Скрип был мерный, кто-то шел крадучись. Сержант лежал неподвижно, с открытыми глазами. Потом начала подаваться дверь. И вдруг через порог скользнуло нечто легкое, белое. Метнулось по освещенному луной полу. Задержалось у печи. Вдруг упала, загремела заслонка. Сергей Леонтьевич вскочил, одним прыжком кинулся к печи. В руках у него забилось, затрепыхалось. — Вот дьявольщина, — в недоумении крикнул сержант, — ты кто? Что надо? Плачущий голос ответил: — Хлебушка мне, хлебушка… — Да ты кто? — Васенка я.
4. „СЛОВО И ДЕЛО“

Девчонка-подросток всю ночь просидела в закутке за печью. Сергей Леонтьевич и добром звал ее, и пытался вытащить из темного убежища. Она, как зверек, царапалась, кусалась. Но хлеб и миску с молоком взяла, унесла в темноту. Рано утром снова пришел Чернов. В новой рубахе он казался повзрослевшим, важным. Степенно поклонился, пожелал здоровья. Девчонка, услышав разговор, вдруг выбежала из закутка, уткнулась Ждану в грудь, затихла. — Васенушка, ты живая! — только и мог выговорить Ждан. Не веря себе, отстранил ее, посмотрел в залитое слезами лицо и снова прижал к груди. — Живая, живая! Кажется, парень забыл все слова, кроме этого одного. Бухвостов не скоро добился от Чернова объяснения, что это за девчонка и почему она ночью негаданно появилась в хате. — Так куда же Васенке еще идти, — сказал наконец Ждан, — если хата ее. Здесь она последняя хозяйка. И сразу же остерег: — В селе никому не надобно знать, что Васенка тут. Оборони, боже. В этот день Сергей Леонтьевич никуда не уходил и не ездил. Слушал рассказ Ждана об избе на отшибе, о страшной судьбе ее обитателей. …Крутовы исправно работали барщину. В селе у них было немало родичей. И все-таки Крутовых считали ведунами, «лешачьим отродьем». Если кто занеможет либо крепко ушибется, спешили в хату над рекой, просили снадобья. Отец и мать Васенки дивились: — Чего пришли? Ну какие мы знахари? Но часто, сжалясь над му́кой болящих, давали им сухие травы, корешки. Толковали, какие надо на настое пить, какими натираться. И вот ведь чуднó — крутовские «корешки» помогали. Особенно часто доводилось давать пособие от «железа». Приходили те, кого Оглоблин гноил, но не доконал в цепях… Тут Ждан прервал свой рассказ и, понизив голос, хотя никто посторонний не мог его услышать, заметил, наклонясь поближе к Бухвостову: — Ты мне вчера сказал про тишь на боярском дворе. Нет, ты взгляни на потайные клети в лесу. Там хоть кричи — никто не поможет. В тех клетях Оглоблин держал непокорных боярской воле. Томил на цепях, вделанных в стену, по году, по два и больше. Иные в цепях умирали. Помилованные же выходили на белый свет слепые, с отгнившими ногами или с другим увечьем. Только ведуны, жившие в старой хате, утоляли их муку. Крутовы были бессильны вернуть зрение, не могли влить силу в отсохшую руку. Но «железные» язвы закрывались от их «корешков». Оглоблин знал об этом. Он не любил Крутовых за то, что открыто им было слишком многое. А тут еще сказалось и прямое непокорство. Окольничий велел прислать Васену в девичью холсты белить. Старик Крутов упал в ноги, просил повременить, пожалеть девчонку. Оглоблин пригрозил упрятать «лешака» в клеть. Однако больше о Васене не заговаривал. Наверно, так все и осталось бы по-старому. Но вышневолоцкий воевода, родственник окольничьего, предупредил его, чтобы был настороже. Потаенные клети — дело пустое. Запоротые кнутами на дровнях — молодецкое играние. Господин волен в жизни и смерти своих рабов. В том и царь ничего не переменит. Но есть молва, что боярин неладное говорит о Петре, будто не даст ему своих мужиков в солдаты и сам на войну не пойдет. Сие дело опасное. Можно и без головы остаться. Оглоблин встревожился. Сам-то он был с глуповатинкой. Но отец духовный в келейном разговоре посоветовал ему, как одним махом государев гнев толкнуть на другой путь, отвести от себя беду, да еще и наказать непокорных «лешаков». «Слово и дело» на Крутовых возвели по подсказке безвестного инока односельчане, те самые, кто лечились у них. «Государево слово» сказано было в ведовстве и чародействе. Вместе с изветчиками ведунов доставили к воеводе в Вышний Волочек. Там в губной избе Крутовым велели есть добытые ими в лесу травы — не помрут ли от них. Травы поели, живы остались и в ведовстве не покорились. Воеводе только и осталось написать челобитную и при ней отослать Крутовых и их обвинителей в Преображенский приказ. В тот день, когда стариков Крутовых вместе с сыном Родионом увезли в Преображенское, из села исчезла Васена. Ее поискали у родичей, покликали в лесу, не нашли и решили, что девчонка либо утопилась, либо медведь ее задрал. Она же почти все лето пробыла в лесу, питалась ягодами, травой, спала на деревьях. Никто ничего не знал о ней до того дня, когда одичавшая, в истлевшем на плечах платье, полуобезумевшая от голода и одиночества она появилась в родимой хате. Но и тогда о действительной судьбе Васены узнали только двое — Бухвостов и Ждан. К этому времени в Оглоблино стали уже возвращаться изветчики из Преображенского. Лишь самым близким родным рассказывали они, как в кибитках, зашитых рогожей, везли их к Москве, как потом на веревке водили по улицам просить милостыню, чтобы совсем не оголодали в тюрьме, как начался застеночный розыск. Поднимали на виску, выворачивали суставы, жгли огнем. Оглоблинцы хвастали, что пороли их особливо сваренными в молоке кнутами — они как ножом режут. Заплечный мастер ожгет да скажет: «Кнут не архангел, души не вынет». С подъему и с огня изветчики начали оговаривать друг друга. Старик Крутов снес все муки, твердил одно: в ведовстве невинен и чародейного замысла на государское здоровье не имел, а добрые травы лесные действительно знает, тому еще от отца научен, а колдовства никакого не знает. Помер он на шестом подъеме, и как по правилам розыска указано предсмертным речам верить, то помер он от вины очищенным. Жена его в застенке ничего не говорила, только слезами заливалась, и окончила свой век не от пытки — от тоски. Что касается Родиона, о нем известно немногое: под кнутом он злыми словами обругал дьяка, и за эту уже новую вину отнят у него язык. После того никто не встречал парня. Хоть изветчики сделали черное дело, в селе на них не сердились. Понимали — не их воля, не их вина… Вот так чужое горе коснулось сердца Сергея Леонтьевича Бухвостова. Мало ли всяких бед повидал он? Все проходило, всему был конец. То горе в начале. Васенку от посторонних глаз оберегали тщательно. Но однажды, среди бела дня, она с криком выскочила из хаты. Хорошо еще, что побежала в сторону от села, к реке, к дороге, которая вилась по берегу. Бухвостов со всех ног кинулся за девчонкой. Нагнал ее на повороте, у расщепленного молнией тополя. Она держала за руку высокого хлопца, в сером азяме, в пропыленных насквозь онучах, в стоптанных лаптях. Хлопец стоял, опустив голову. Когда он поднял ее, на губах Бухвостова замерли все вопросы, которые он собирался задать. Человек на дороге был очень схож с Васеной, только черты лица грубее. На лбу глубокие ссадины. Шрамы у разорванного рта еще не заросли, кровоточили. Он смотрел на Васенку и бормотал невнятное. Можно было только дивиться тому, что она из окошка вдалеке разглядела брата, идущего к родному селу. Сейчас она сжимала его руку и шептала: — Ох, Родя, горюшко. Что же это сделали с нами? Сергей Леонтьевич при встрече брата и сестры почувствовал, как у него слезы закипают. Однако времени терять нельзя. На дороге в любую минуту могли показаться случайные путники. Он сказал Родиону, чтобы поскорее шел к хате. А сам повел Васенку домой огородами… Начиналась осень. Подступал срок, когда сержант должен был возвращаться к войску вместе с набранными в солдаты. Приходилось немедля решать судьбу осиротевших Крутовых. Ждан говорил, что оставлять их в селе в воле окольничьего — все равно, что убить. Бухвостов соглашался: это и в самом деле так. Можно было подумать о том, как Родиона заверстать в солдаты. Он, хотя и увечный, но все хорошо слышит и разумеет, а силен на редкость. Заступничество Бухвостова за Родиона могло, конечно, много значить. Но когда Ждан Чернов сказал, что надо непременно увезти и Васенку, сержант в испуге замахал руками: — Ты в уме? Увезти беглую! За это как раз под кнут угодишь! Новоизбранных солдат Бухвостов послал вперед. Сам задержался в селе. Накануне Ждан сказал Сергею «Леонтьевичу: — Христом-богом молю — не погуби Васенку. Бухвостов прикрикнул: — Ты забыл, что теперь солдат и говоришь с сержантом? Я тебе напомню! И погрозил кулаком. Сердился Сергей Леонтьевич оттого, что увезти Васену не мог. И оставить не мог. Все время думал, что делать с девчонкой. Да так ничего и не придумал. Через несколько дней из села выехал возок Бухвостова. На козлах сидел Родион Крутов. А на дне возка, под сеном, пряталась Васена.
5. НО́ВИКИ

Оглоблинские новоизбранные солдаты, или, как их называли, нóвики, миновали Валдай и пошли краем поля. Урожай был уже убран. Стерня колола ноги. Шли все в лаптях или босиком, в деревенских портах и зипунах. Ничего солдатского в этих людях не было. Встретившаяся как-то на проселке ямская телега с кладью вдруг повернула, и кучер погнал лошадей во всю мочь. Не иначе, подумал, что встретился с разбойниками. Оглоблинцы улюлюкали, свистели вслед. За Валдаем но́виков нагнала повозка Бухвостова. Он велел до ночи идти, не останавливаясь. Ждан невесело приветил безъязыкого возницу: — Здорово, Родя. Тот ухмыльнулся — дескать, чего со мной одним здороваешься? — и кивнул в сторону русой головенки, чуть высунувшейся из-под крытого верха возка. Возок был новый, в одной из попутных деревень пришлось бросить старый, совсем развалившийся после скачки по колдобинам Мохового урочища, и взять этот. — Васенушка! — завопил от радости Ждан. Но подбежал он не к ней, которую чаял оставленной в селе, — от этой мысли у него холодело сердце, Чернов кинулся к Сергею Леонтьевичу. Сержант снова, как уже было раз, погрозил ему кулаком. Но сейчас этот жест означал другое: втравил ты меня, парень, в неизбывные хлопоты, что теперь делать будем? Тут уж и все оглоблинцы заметили Васену. Без конца дивились ей. Откуда взялась? Где пропадала? Уж не на войну ли она вместе с ними собралась? Так как ни на один из этих вопросов ответа не было, рекруты тут же сами придумали историю, будто Васенка пешим манером ходила в Москву к Ромодановскому и вызволила брата из беды. Только Ждан Чернов ничего не выдумывал, потому что знал правду. Он забыл про усталость, бросился плясать, да так и шел за возком с версту вприсядку. Васенка кричала ему: — А ну, еще, Жданушка! Ах, хорошо… Новикам предстоял путь большой. Лаптями месили грязь на дорогах. Мочило их дождем. Грелись у костров. Васена кашеварила для всех. Щи кипятила в ведре,кашу налаживала в другом. Веселая, как птица, она скрашивала людям дорогу. Бухвостов называл ее «господин каптенармус». Васенку смешило это незнакомое наименование. Она морщила свой короткий нос, фыркала в кулак. С интересом наблюдал Сергей Леонтьевич, как помалу и неприметно для себя оглоблинцы, коренные мужики, становились солдатами. Учились слушать команду, подтягивались и поспешно заканчивали перебранку, увидев сержанта; привыкали к мушкетам. Мушкетов было всего-навсего две штуки. Сначала никто не хотел их нести: еще выстрелит ненароком. Бухвостов толковал о ружье любовно, как о живом существе, самом надежном друге солдата. Дружелюбным, но оценивающим взглядом смотрел сержант на рекрутов. Думал: «Погодите, ужо напялите на себя мундиры, сносите подметки в походе, подышите порохом, и такими еще станете боевыми солдатами…» Теперь вся российская армия — тот же нóвик. Все в ней по-другому, по-новому супротив «отцовского артикула». Дворяне в вотчинах не засидятся. Мужики, набранные в полки, с землей распростились. Волей-неволей подружись с ружьем да с пушкой. Руки до локтей сотри, а научись стрелять, огнем жечь врага. Ежели в поле не выстоишь, струсишь, побежишь, — хоть князь, хоть смерд — будешь своими же бит. Войско мужицкое, не наемное, цена солдату, как и холопу, невелика. Трудно. Тяжко. Да что же сделаешь? Не отстоять иначе родную землю, не вернуть то, что коварно взято у нас врагом. С глубокой думой бродил Сергей Леонтьевич среди оглоблинцев, раскинувших на ночь лагерь. Слушал, как спорили они, громко галдели. Где-то в темноте немудреным перебором тренькала трехструночка-балалайка… Кто из них беспробудно ляжет в Волховских лесах? Кто найдет вечный покой на приневских болотах?.. Ждан Чернов подкатился к Бухвостову, тряхнул кудрями. — Дядь Сергей! Бухвостов нахмурился. Ждан сообразил — возможное Васене ему заказано, — тотчас поправился: — Господин сержант! — Чего тебе? — Господин сержант, а ты настоящее море видывал? — Ну, видывал. — А какое оно? — Большое. Без берегов. — Без берегов? — недоверчиво спросил парень. — Может ли такое быть? — А вот сам увидишь, поверишь, — ответил Бухвостов. Ждан замолчал, стараясь представить себе море. Не с чем сравнить. Воду-то он только в речушке видел. А реку в тысячу раз умножь, расширь — все равно моря не получится. С полем сравнить? Не то. Вот разве — с небом, на землю опрокинутым, дном вниз. Опять не то. Мысли путались… Сергей Леонтьевич отослал молодого солдата посмотреть за лошадьми. Хотелось остаться одному. Вспомнились дорогие друзья, с кем побратались под Нарвой: маленький, остроносенький, верткий балагур и песельник Трофим Ширяй, сильный, безудержно смелый Михайла Щепотев, лохматый, всегда с обожженными руками пушкарский всеведец Логин Жихарев… Мыслью к ним, троим, обращался сержант. Помните, братцы, как с жизнью прощались у моста, горевшего злым пламенем, как смотрели на мутные волны Наровы и тонущих бомбардиров, что бросились с моста вслед за сорвавшейся пушкой? Помните ли, как в час, который казался последним, поменялись мы крестами и с того часа уж держались друг возле друга. Где вы, Трофим, Михайла, Логин?.. Всех разбросала по разным дорогам солдатская служба… До света поднял рекрутов сержант Бухвостов. Надо было спешить. Идут, идут лесами и долами лапотники, вчерашние мужики, завтрашние солдаты. Идут к Орешку. За Орешком — Нева. За Невой — море.
6. „ГОСУДАРЕВА ПРОСЕКА“

В это время далеко на севере Михайла Иванович Щепотев пробивал дорогу через леса, рубил просеки, гатил болота. Строил дорогу неслыханную: кораблям плыть посуху, как по большой воде. Начиналась та дорога у Белого моря. Беломорье. Студеный край. Зверовые пущи, тундра, скупое, не греющее солнце. По первому снежку и всю зиму напролет тянулись сюда обозы от Новгорода, Москвы, Поволжья. Везли сало и воск, деготь и ворвань, юфть и воловьи кожи. По весенней полой воде Северной Двины гнали карбасы с мехами беличьими и соболиными, с пенькой и льном. Чужеземные корабли, едва море освободится от льдов, забирали все это купленное по дешевке добро в трюмы, везли в далекие страны. Купцы спешили прийти в Архангельск. Спешили уйти с товарами. Северное лето коротко. Случалось — суда вмерзали в льды, оставались на вынужденное зимовье. В Архангельске Петр — частый гость. Здесь в юные годы он впервые увидел море. Было так. Из Москвы через Вологду он пришел конным караваном. Свиту оставил у воеводы, а сам с дружками — на шняву. Задувал упругий ветер-шелоник. Шнява легко заскользила к двинскому устью, и оттуда — в Белое море. Петр опьянел от простора, от шири. Сам переставлял паруса, ловил ветер, менял галсы. Мать, Наталья Кирилловна, прислала ему в Архангельск письмо: «Виданное ли дело — государь по морю ездит!» Сердцем, полным тревоги, вверяла сына богородице. Петр писал — раз уж она передала его «в паству божьей матери, почто печаловать?». Подписывался с мальчишеским озорством: «Малитвами тваими жив. Сынишка твой Петрус». Теперешняя поездка Петра в Архангельск была во многом необычной. Из Москвы в поход на север отправились пять боевых батальонов. Петр, не любивший ни пышности, ни лишних разговоров о своей персоне, на этот раз взял большую свиту. О каждом его шаге иноземные послы давали знать своим дворам. Казалось, Петр был очень озабочен тем, чтобы весь мир знал: он едет к Архангельску, и все внимание его обращено к Белому морю, а не к какому-либо другому. Позаботиться же о Белом море было очень и очень нужно. Противник, ободренный успехом под Нарвой, внезапно сделал попытку закупорить и этот последний выход России на запад. В Архангельске давно уже трудился сержант Михайла Щепотев. Он ставил пушки в Новодвинской крепости, на море. Забот у сержанта — через край. Задуманы деревянные бастионы, такие, чтобы и каменным не уступали. Петр вскоре после приезда побывал в Новодвинке. Потом позвал Щепотева и долго с ним беседовал в каморе, где кроме них двоих никого не было. О чем шел разговор, для всех осталось неведомым. Но на следующий день Михаила Щепотев исчез. Что приключилось с ним, никто не знал. В Архангельске у Петра дела много. Надо обезопасить порт на случай нового нападения. Укреплялись берега. Пушки поворачивались к морю. На верфи строили два фрегата: «Курьер» и «Святой дух», на каждом — по двенадцати орудий. Петр до спуска кораблей не уходил с верфи. Работы — на месяцы. Пролетело лето. Осень глянула в окна, вздыбила чугунно-тяжелые волны. Новостроенным кораблям назначено морское крещение. «Курьер» и «Святой дух» вышли в Белое море. Все было по заведенному в таких случаях порядку. Изрядно повеселились, изрядно выпили во славу Ивашки Хмельницкого — так на русский манер окрестили эллинского Бахуса. Но то, что произошло в дальнейшем, весьма озадачило иноземных послов, следовавших за Петром. «Курьер» и «Святой дух» ушли к полуденным берегам Белого моря. Говорили, что фрегаты бросили якоря у маленького рыбацкого селения Нюхча и что там высадились гвардейские батальоны вместе с отрядами поморов. Зачем? Для чего? Никто не отвечал на эти вопросы. Вдруг в одну ночь селение Нюхча опустело: не стало ни кораблей, ни гвардейцев, ни Петра. Эта осень, казалось, полна загадок.
__________
После разговора с Петром в Новодвинке сержант Михайла Щепотев усомнился в возможности задуманного. Все это виделось ему невероятным. Лишь позже понял, что весь расчет основан именно на том, что и противнику покажется сие невозможным. Тем неожиданнее будет удар. Сержант по петровскому указу поднимал целые деревни, гнал мужиков в леса. Там, где от века не ступала человеческая нога, стучали топоры, падали деревья. Лес расступался широкой просекой. Еще в Архангельске Петр получил от Щепотева цидулку, доставленную верховым. Сам вид посланного, его измученное лицо, кожа, натянутая на скулах, руки, до крови искусанные оводами, пропотелая одежда в белых соляных пятнах — все говорило, что он приехал оттуда, где людей не щадят и работают без роздыха. «По слову твоему, — писал сержант, — послал я для чистки дорожной, и тое дорогу делаю от Нюхоцкой волости, и сделана от Нюхоцкой волости до Ветреной горы 30 верст, дорога вычищена и намощена, а место было худое…» Ветреная гора крепко запомнилась и тем, кто позднее, в осеннюю непогодь, вышел в небывалый путь. Под парусами фрегаты «Курьер» и «Святой дух» доплыли до Нюхчи. Здесь без мачт, обнажив гнутый из цельного дуба киль, они двинулись в глубь леса. Двинулись на руках сотен солдат, поморов, крестьян. Плыли фрегаты меж густых елей. Березы клонились над ними, обдавая шелестом суховатой листвы. Осинки махали ветвями, тронутыми холодным огнем ранней осени. Солдаты бросали под суда катки, деревья с начисто снятой корой. Толкали, в самых трудных местах тянули воротами, пеньковой снастью. Фрегаты плыли, как на морской волне, раскачивались на людских плечах. Люди упрямо, с ожесточением пробивались сквозь лес. Щепотевские посланцы ускакали в деревни за подмогой. Просека становилась все длинней — на сажень, другую, на версту, на десяток верст. Научились управляться с огромными камнями — валунами. Если нельзя было обойти, камни «топили» в земле: рядом рыли большущую ямину и в нее сталкивали многопудовую громаду. Отдыхали только возле озер и речек. Здесь фрегатам идти на плаву. Ватаги спешили по берегу, чтобы прокладывать путь все дальше и дальше. Чем ближе к Онежскому озеру, тем больше сел, и люди здесь покрепче, посноровистей. Видимое уже окончание работы радовало. Щепотев писал свои записки коротко, особливо не расписывая труд-му́ку и вовсе не упоминая о смертях, через которые он шагал жестоким солдатским шагом. «Извествую тебя, государь, — писал он, — дорога и пристань, и подводы и суда на Онеге готовы… а подвод собрано у меня августа по 2-е число более 2 тысяч, а еще будет прибавка…» Позже во всем мире заговорят о том, как Петр со своими батальонами и двумя фрегатами прошел лесом от Белого моря к Онежскому озеру за десять дней. Но дивно другое: как была проложена эта 160-верстная просека сквозь нехоженые леса. О сержанте Михайле Щепотеве, о безвестных мужиках, работавших и умиравших в глухом краю, не вспоминали… «Курьер» и «Святой дух» раскачивались на последних верстах небывалой дороги. Впереди уже блестят воды Онежского озера. А дальше — Свирь и Ладога. Идут солдаты, идут поморы. Плывут корабли посуху через леса. Спешат к Орешку. За Орешком — Нева. За Невой — море.7. ТРОХА И ФЕЛЬДМАРШАЛ

Тем временем на другом краю российской земли, от Новгорода, по крутому берегу Волхова шли походом полки Бориса Петровича Шереметева. Впереди одного из полков, наигрывая на березовой сипке, приплясывал низенький, сухой и жилистый Трофим Ширяй. За ним угрюмо тянулись ратники. Устали, пот падал в дорожную грязь. Но услышат Ширяеву прибаутку, ухмыльнутся, и ноги сами делают шаг шире. В обозе того же полка ехал при пушках литец, медного дела мастер, чернокудрявый Логин Жихарев. Работать бы ему в покое, хоть на Московском, хоть на Новгородском литейных дворах. Так нет же, не сидится на месте. Надо ему видеть свои медные детища в деле, в бою, в огне. Вот и меряй дорогу, будь сыт сухарем, спи под звездами, под дождем и ветром. В бою же того и жди, что ядром голову снесет. Но Логин не сетовал на свою судьбу. Хлестнул клячу, нагнал Ширяя: — Жги, Троха! Шматки грязи из-под копыт лошаденки летели в ратников. Жихарев уж во весь опор мчался


к показавшемуся за поворотом дороги большому селу. Солдаты завистливо кричали вслед: — Всегда первый поспеет к парному молочку! — Эх ты, литец, — «железный нос»! Сбоку дороги ехал со своими офицерами Шереметев. Он грузно сидел на вороном жеребце. Лицо серое, невыспавшееся. Под глазами мешки. Широким утиным носом презрительно тянул воздух. Борис Петрович с недавних пор носит звание фельдмаршала. Иноземное слово по несвычности коверкалось каждым на свой лад. Чаще называли фельт-маршалком. Это самое высокое в войсках звание дано ему за битву при Эрестфере. Ох, уж этот Эрестфер. Шереметеву — маршальский жезл, а скольким воинам — крест и вечный покой. Запомнится и шведам Эрестфер, селение нарочито небольшое, поблизости от Дерпта, старинного русского Юрьева. Здесь, в заснеженной речной низине, впервые после Нарвы, встретились крупными силами русские и шведы. Всего-навсего год миновал после «нарвской конфузии». Генерал Эрик Шлиппенбах, командовавший шведскими отрядами прикрытия, посылал в Стокгольм красноречивые и остроумные послания, в коих без особой злобы посмеивался над московитами: о да, они еще помнят урок, преподанный им на берегах Наровы. Но погодил бы Шлиппенбах рассуждать об уроках, погодил бы хоть до этой декабрьской ночи. Декабрь тогда выдался до жути морозный. Шведы стояли лагерем под Эрестфером. Войска Шереметева скрытно приближались к ним со стороны Пскова. В полках набирали охотников для первого боевого промысла. Небольшим отрядом надо было подойти к лагерю Шлиппенбаха. У сиповщика Трофима Ширяя среди сотоварищей какая-то нескладная слава. Дудочник. Скоморошья душа. Правда, под Нарвой он вдруг блеснул смелостью. Так ведь там как было? Струсишь — умрешь. Хочешь жить — дерись… Ширяева отвага в том бою как-то позабылась. А слава дудочника была привычная, постоянная. Вот почему многие не поверили, когда Трофим вызвался идти с охотниками под Эрестфер. Сначала подумали — как всегда шутит, сейчас выкинет коленце. Но ничего смешного не последовало. — Троха, — сказали ему, — там ведь убить могут. Сиповщик осклабился, показал черные, выщербленные зубы и ответил: — По дважды не умирают, а одновá не миновать. От него все еще ждали шутовства. И действительно, перед самым уходом Трофим сказал товарищам: — Вот, робята, загану вам загадку. Летело, вишь, сто гусей. Навстречу им один гусь. «Здравствуйте, — говорит, — сто гусей!» — «Нет, нас не сто гусей: кабы было еще столько, да полстолька, да четверть столька, да ты, гусь, так бы нас было сто гусей». Сколько же их летело? Солдаты до загадок охочи. Прикидывали и так и этак — загадка, как крепенький узелок, не развязывается. — Ну, разгадай, — пристали к Ширяю солдаты, — а то шведы укокошат тебя, а мы и не узнаем, сколько гусей летело. — Думайте, думайте, — засмеялся Ширяй и пошел с поджидавшими его охотниками. — Стой, — закричали ему, — сипку-то оставь! — Да она пригодится мне, — ответил Трофим. — Шведы услышат. — А я тихохонько… Про это «тихохонько» рассказывали потом охотники. Из десятерых вернулись четверо. Когда уж подошли к самому шведскому лагерю, Трофим обернулся к остальным: — Зачем нам, робята, всем идти? Больно уж приметно. Закопайтесь в снег. Я один управлюсь. Тихохонько. Всю ночь пролежали солдаты в снегу, на лютом ветре. Рассвет уже обозначился. Видно, нечего ждать Ширяя — не иначе, попал в лапы к шведам. Решили день переждать в лесу, а ночью попытаться проникнуть во вражеский лагерь. Только поползли к лесу, смотрят — елка, невысоконькая такая, густая, наперерез движется. Солдаты влипли в снег, головы поверх держат, ждут, что будет. Елка подошла, опустила ветки, и все узнали Ширяя. От перепуга, от радости надавали ему тумаков. — Что вы в самом-то деле, — взмолился Трофим, — от супротивника ушел, так свои лупят. — Да ты шведов видел? — Видел у каменного попа железные просфиры. Трофим рассказал, как всю ночь ходил по вражескому лагерю. — Береженья никакого, — говорил Ширяй, — я бы давно вернулся, да хотелось проведать, где у них главный шатер. Нашел, — он в сторонке от лагеря, в дубовой роще. Перед шатром кол с золоченой пикой, а на нем конский хвост вьется. Из-под Эрестфера шли весь день. Близко уж шереметевская ставка. Но тут-то и наткнулись на конных шведов. Судя по всему, и они ходили в гости к нашим, да припозднились. Смяли охотников лошадьми, начали полосовать саблями. Всех бы прикончили. Но на шум выскочили наши драгуны, выручили… Вскоре войска Шереметева покинули бивак и, выслав вперед конницу, направились к Эрестферу. Напали на шведов. Не дали им коней оседлать. Врубились в лагерь. Уверенно пробивались к дубовой роще. Но из лощины развернутым фронтом налетели шведские дворяне в кованых панцирях. Только утро прекратило сечу. Враг, сбитый с поля, поспешно отступал. Там, где был лагерь, лежало около трех тысяч убитых. На земле валялось восемь шведских знамен. Борис Петрович Шереметев писал в Москву о победе. Загоняя лошадей, мчались курьеры туда и обратно: в Новгород, в Псков, к армии. Они везли Шереметеву чин первого русского фельдмаршала. «Мы можем, наконец, бить шведов!» — в радости писал ему Петр. Под Эрестфером войско отдыхало, чистилось. Грелись у костров, разложенных еще шведами. Отсыпались в их палатках, поваленных, а теперь снова растянутых на подпорах. Палатки были из крепкой, не пропускающей ветер парусины. Важно-спесивый, веселый, по лагерю ходил Шереметев. Он не любил тишины. И потому, шмыгнув еще более расплывшимся утиным носом, крикнул: — Сиповщиков вперед! Песни играть! Одурелые со сна сержанты выскочили из палаток. Трофим, хотя и знал, что сипки нет, растерянно шарил то по карманам, то за пазухой. Борис Петрович милостиво, несильно ткнул Трофима в зубы и велел тотчас сделать новую сипку. Никому в голову не пришло сказать фельдмаршалу, что Ширяй и есть тот самый солдат, который ходил во вражеский лагерь, и что сипку он потерял, когда охотники отбивались от шведского разъезда и многие его товарищи погибли под саблями… Солдаты дружно смеялись над Ширяем. — Что скажешь, Троха? Тяжела рука у фить-маршалка? Сам же он всего больше обижался на то, что ему велели сейчас, зимой, делать новый инструмент: — Сипку же не иначе, как из весенней коры режут. Понимать надо… Все дни, пока войско стояло в лагере под Эрестфером, солдаты приставали к Трофиму, чтобы он разгадал им загадку про гусей. Но Ширяй не только не ответил про гусей, а спросил еще и про козу: — После семи лет что козе будет? Солдаты ахнули. — Откуда у тебя, Троха, все это берется?.. А что козе будет? — Осьмой пойдет! — лукаво щуря глаза, сказал Ширяй и под общий хохот добавил: — Думать же надо, это вам не саблюкой махать!
8. ЛИТЕЦ — „ЖЕЛЕЗНЫЙ НОС“

После победы у Эрестфера в русских войсках словно прибавилось и силы и веры. Шереметевские полки готовились к кампании. У Логина Жихарева свои заботы. По правде сказать, в армию он отпросился неспроста. Была у него обида. В Москве на Пушечном дворе при отливке он малость промедлил, сердечник из пушки не вынулся и переломился. Управитель при Литейном дворе не посмотрел, что у Логина прежде таких оплошек не бывало, тотчас настрочил: «За то мастеру до указу, дабы он впредь в таком деле опасение имел, государева жалованья на достальные месяцы не давать». Логин не ругался с управителем. При первом же случае напросился ехать с новыми пушками в войско. Среди «огневого наряда», отсылаемого из Москвы к Шереметеву, была мортира, отлитая Жихаревым. Делал он ее с поспешанием, но любовно, украсил как мог. На зарядной каморе медные дельфины изогнулись, играючи. На казенной части раскинул крылья чеканный орел. По жерлу, по меди вырезаны слова: «1701 год. Весу 76 пу 20 фу. Лил мастер Логин Жихарев». За пояском из перевитых цветов и листьев в неглубокой раковине — запал. Этот запал особенно тревожил мастера. Мортира отлита из колокольной меди. А в ней многовато олова. Не будет ли прогорать? Логин Жихарев, как и все пушечные мастера, был сначала колокольным литцом. Одинаковый металл шел на то и на другое дело. Почти одинаковой была сноровка. Потому и первые русские пушки украшались вязью, гирляндами, чеканным хитрым узором, будто ими не врага крушить, а сзывать людей на праздник. Происходил Логин из старинного, известного на Москве рода мастеров. Он не мог назвать поименно своих предков-литейщиков. Но знал в точности, что они лили колокола и пушки еще при Иване Грозном. Очень хотелось Логину хоть что-нибудь проведать о зачинателе своего рода. Пробовал о том говорить с седыми старейшинами литейного двора. Но напрасно. Кроме причудливых побасенок, они ничего рассказать не могли. Пришлось Жихареву примириться с тем, что имена его далеких предков безнадежно позабыты, стерты временем. Подрастал пареньком среди жарких печей и обжигающего огня. В этом багровом мире литейщики со своими крюками и молотами напоминали чумазых лихих чертей. Здесь чуднó сплеталось богово и дьявольское, благолепное и смертоубийственное. Почему-то Логина больше привлекало пушкарское дело. Именно в этом деле, уже в зрелую пору, получил он мастерское звание и мастерской оклад — «на год деньгами 8 рублей, хлеба 15 четей ржи, овса тож и 4 пуда соли». Хотя много времени прошло с тех пор и стал он умелым пушкарским литцом, а все звали его «железный нос». Была у него привычка при всякой незадаче хвататься пятерней за нос и размазывать по нему копоть. Так и повелось: «железный нос» да «железный нос». Но Логин не сердился. Под Эрестфером баталия была скоротечной. Жихарев даже не успел опробовать свою мортиру. Зато уж в летнюю кампанию довелось потрудиться. Фельдмаршал Шереметев, выведя полки к шведскому рубежу, многократно искал встречи с врагом. Но Шлиппенбах уходил либо обманывал, подставляя под удар арьергард вместо главных сил. Все же неподалеку от мызы Гумельсгоф 18 июля дано было генеральное сражение. Русские выиграли его. Честь победы во многом принадлежала пушкарям. Отменно стреляет Жихарев. Но он ведь не только пушкарь, но и мастер. Логин тревожно кладет ладонь на разогревшийся ствол. Смотрит на почернелую раковину, качает головой и по привычке хвать-хвать себя за нос. Тут задумаешься. В затравке, обожженная порохом, закипает медь. Не годится дело. Чуть иное естество должно быть у пушечного металла. И в сознании мастера, в грохоте и гуле боя, незримо покачивается стрелка весов: красной меди столько-то, олова столько-то… Под Гумельсгофом полегла почти вся шведская пехота, какой командовал Шлиппенбах. Сам же он едва успел бежать с конницей. Отныне именем «Гумельсгоф» отмечена знатная виктория российских войск. Только ведь все это — половина дела. Попробовали силенки, не больше того. Понятно сие и маршалу и солдату. Победа в поле многого не давала. Время было нанести удар решительный — по крепостям, замыкающим путь к морскому простору. И раньше всего — по Нотебургу. Казалось, без того России не быть Россией. Прошлой зимой Петр писал Шереметеву о беспременном намерении «по льду Орешек достать». Но тогда не все было готово. А главное — еще не развеялся страх перед сильнейшей в Европе армией. Теперь — все по-другому. Пора «доставать Орешек». Из Москвы летят к армии указ за указом. Спешить, спешить! В Новгороде звенят пилы, стучат молоты. Столяры слаживают легкие, длинные — на весу прогибаются — штурмовые лестницы. Мехи яростно раздувают пламя в горнах. Кузнецы куют пики и сабли. В пригородных деревнях шьют льняные картузы для пороха, набивают шерстью мешки — стрелкам защита от пуль. Шереметевские ратники начали поход, несмотря на дожди и распутицу. Вниз по Волхову, минуя отмели и пороги, поплыли барки с двухнедельным, для всех полков, запасом печеного хлеба, вяленой рыбы и мяса. Лестницы, укрытые от чужого глаза рядном, везли в лодках. Армия шла пешком по берегу. Месила оплывающую грязь. Объедала дочиста попутные деревни. Впереди своего полка, как всегда скоморошничая, вышагивал Трофим Ширяй. У него новая сипка, лучше прежней. — Эх-ма! — верещит Троха. — Веселое горе — солдатская жизнь! Оступился солдат, чуть не растянулся в грязи, свалил заспинный мешок. Трофим тут как тут: — Вот так паря — обычай бычий, а ум телячий. Язвит, язвит, а все же мешок помогает вздеть на плечи. В коляске, огибая дорогу, прямиком по жнивью проехал важный, толстый полковник. Ширяй остановился, шапку снял с головы, смотрит умильно. Коляска уехала вперед. В глазах Трохи — злые искорки. Говорит солдатам: — А что, робятки, знать, мы и на том свете будем на бар служить: они станут в котле кипеть, а мы — дрова подкладывать. Кругом — хохот, развеселый, удалой. Нет, без Трохи в походе нельзя. О том, как сиповщик ходил с охотниками в эрестферский лагерь, никто не вспомнит. Но под Гумельсгофом случилось — Ширяй на виду у всех удирал от огромного шведского гренадера, едва из-под гранаты увернулся, — об этом не позабыли. До сих пор пошучивают над Трофимом. Он огрызается: — Экой, подумаешь, грех великий! Без головы не ратник, а побежал, так и воротиться можно. Полк еще только входил в деревню, а Логин Жихарев на своей клячонке уже возвращался со жбаном, полным молока. Ширяй крикнул пушкарю: — Давай подержу, расплескаешь! Логин отдает жбан, беззлобно смотрит, как сиповщик, запрокинув голову, пьет молоко. — Эй, мне оставь! — Да что молоко, — с недовольством говорит Трофим, опорожнивший жбан, — мне бы бражки. Молошник у нас на все войско один, да и того сейчас нетути. Жихарев знает, про какого «молошника» говорит Ширяй. — Где-то сейчас Бухвостов? В каком краю бедует? — Скажешь тоже, «бедует», — с ухмылкой замечает сиповщик. — Я Леонтьича во как знаю! Он в сей момент сметану ложкой хлебает. Бражку не жалует. Он ведь молошник, любитель… За Бухвостова Логин рассердился, вылупив глаза, замотал кудрями. — Ну тебя, пустослов… Я другое скажу. Как дело начнется, — Сергея Леонтьича рядом увидим… Он-то на тебя не похож. От гренадера не побежит. Трофим руками замахал: — Дался вам этот гренадер… Привал в деревне был короткий. Налетела гроза с гулкими раскатами, с холодным ливнем, как из ушата. Солдат подняли. — Поторапливайся! Быстрей! — слышно в рядах. Вода в Волхове расходилась, под белыми сыпучими верхушками, темная, неприветливая. Идут, идут ратники и пушкари, герои порубежных боев. Спешат к Орешку. За Орешком — Нева. За Невой — море.
9. ВАСЕНКА-ВАСЕК

От Валдая оглоблинские новики повернули на север. Бухвостов намеревался, не заходя в Новгород, прямиком выйти на низовье Волхова. В долгом своем пути новики обесхлебели. Посконные рубахи, азямы, армяки совсем износились, превратились в рвань. Сергей Леонтьевич подсчитал, что лапти служат ходоку верст семьдесят, не больше. Но будущие солдаты не унывали. Веселило одно — не надо думать о барщине. От этого впору было запеть во все горло. Нужно дойти до войска, которое сейчас тоже где-то в походе, а там все просто. Обуют, оденут, накормят, дадут ружье. Конечно, в бою любого могут прихлопнуть. Так об этом много раздумывать тоже ни к чему. Шли рваные, голодные, с песнями, с ревом, с гамом. Сергей Леонтьевич и сам помолодел с оглоблинскими молодцами. Загорел, лицо обветрилось, нос и уши лупились. Нередкое выражение мрачноватой сосредоточенности исчезло из глаз. Бухвостов научился шутить, чего раньше за ним не водилось. — Объявляется голоштанному полку, — говорил он, поглаживая щетинистые усы, — на должность нашего интенданта пролез Медведь. Пожалуй, это не было шуткой. «Голоштанный полк» прочно перешел на «лесное довольствие». Лес кормил, лес и обувал завтрашних ратников. Васена и Ждан ходили за грибами с мешком и приносили его полнехоньким, даже верх не завязать. Приносили и спелую бруснику. Такая работа нравилась им больше, чем хождение по голодным крестьянским дворам. Просить не наловчились, а отбирать силой последнее совестились. Нашел себе занятие и Родион. Он вырезал кленовый кочедык и плел лапти на всю братию. Лыка вокруг сколько угодно; научился он и сушить его наскоро, на огне. Все шло своим порядком. Жить можно. Только одно беспокоило сержанта. Чем дальше уходили на север, тем ближе день встречи с войском, тем неотложнее надо было решать трудный вопрос: как поступить с Васенкой? Сергей Леонтьевич, человек бессемейный и порядочно огрубелый на войне, против воли все чаще думал о том, что ведь эта белобрысая девчушка могла быть его дочерью. Никому не высказывал, как тревожит его судьба Васены. Отослать ее в Москву, к родным Бухвостова? Тогда надо им все объяснить, а кто согласится рисковать головой, скрывая беглую холопку? О возвращении ее в Оглоблино и думать нечего. Это дело невозможное. Снова в мыслях Сергей Леонтьевич ругал Ждана Чернова, будто он виноват в Васенкиных бедах. Вина же у него одна: пожалел сироту. Да кто же не пожалеет ее в таком великом несчастии? Один на один с Жданом Бухвостов озабоченно сказал: — Что с Васеной будет? — А девок в рекруты не берут? — задал вопрос Чернов, совсем осмелев и даже чуть насмешливо. Он понимал, что сержант никогда не выдаст почти ребенка на смертную муку. — Скучает по нам плаха, — сокрушенно промолвил Бухвостов. — Господин сержант, — сказал решительно Ждан, — я потолкую с нашими парнями, что они скажут?.. Начались у оглоблинцев споры-разговоры. День за днем гуторят. Как только к спорящим подойдет Васенка, все умолкают. А ей и невдомек, что людская забота — о ней. Только раз случилось, что девчушке пришлось вмешаться в разговор. Родион, слушавший все, о чем судили-рядили товарищи, вдруг взволнованно залопотал. Его спросили — чего он? Немой забормотал еще невнятней. Позвали Васену. Лишь она одна умела разбирать косноязыкую речь брата. Васена положила руки ему на плечи. — Что ты хочешь сказать, Родя? Он сразу успокоился. Девчушка прислушивалась и грустно качала головой. — Родя обо мне толкует, — произнесла она, когда тот замолчал, — он говорит: надо, чтобы у него был брат, а не сестра. Чуднó, право. Простая, смелая до дерзости мысль Родиона поразила всех. Когда Васенка отошла, заговорили еще горячей. Новики соглашались с немым. Родион колотил себя в грудь и старался объяснить, что если случится беда и все узнается, он один примет грех. Ему, побывавшему в застенке, отныне ничто не страшно. Тайна Васены, о которой пока и сама она мало знала, теперь известна ее землякам. Ждан тут же от каждого взял великую клятву на кресте: ни под кнутом, ни в огне никому и никогда не выдавать тайну. С этим Чернов пришел к Бухвостову. В списке новоизбранных ратников появилось новое имя: «Василий Крутов. В барабанную науку». Теперь Васенку по общему сговору стали называть Васькóм. Как и всех новиков, ждала ее нелегкая жизнь, тяготы войны. Но, пожалуй, во всем мире не было для нее более безопасного места, нежели в полку, рядом с братом и Жданом. Самый малорослый из земляков отдал ей свою запасную одежду, свято оберегаемые смертную рубашку и порты. По старому обычаю, солдату полагалось перед боем одеваться во все чистое. Но до боя еще далеко, а ради такого дела можно и против обычая пойти. Васенка с самого начала была уверена, что останется с братом и односельчанами, только не знала, как это будет. Она надела новую одежку, где надо подшила, где надо сузила. Повздыхала, расставаясь с белым платочком и косицами. Бухвостов ахнул, увидев мальчишку в подвернутых штанах и в рубахе, съезжавшей с плеч. Васенку не узнаешь. Ее ребяческим рукам не удержать ружье. Но такого славного барабанщика, в самом деле, нет ни в одном полку. — Дядь Сергей, а дядь Сергей, — проговорила смущенная Васенка, очень уж неловко чувствовала она себя переодетой, — а что это за барабанная наука?.. Произошло такое, на что ни Бухвостов, ни Родион, ни Ждан не могли вполне надеяться. Общая хранимая тайна накрепко соединила оглоблинских парней. На привалах сержант учил будущего барабанщика: — Слышь, Васенка, то бишь Васек, — на первых порах и все путали мужское имя с женским, — слышь, как сигнал играют. Это — «зорька», это — «приступ». А то есть еще «шамад». Сергей Леонтьевич пальцами выстукивал по грядке телеги. Васена прислушивалась, наклонив голову. В одном сигнале ей чудилась бодрая прохлада утра, топот многих бегущих ног, в другом — призыв и решимость. Только «шамад» сразу не полюбился. Это был сигнал отступления, тревожный, как удары набата. — Ты пойми, — внушал сержант, — каждый сигнал к месту нужен. Вперед пошли — барабанщик у знамени. Твой стук-перестук смелость людям дает. Солдату барабан что говорит? «Ты не один, ты не один, весь полк с тобой…» Но если неустойка вышла, отбит приступ — вот тут без барабана уж никак нельзя. По нему полк сбирается, раненые, услышав знакомую «дробь», к своим ползут… Понятно тебе, что есть барабанщик при войске? Ритм сигналов Васенка усвоила быстро. Только удар сначала получался несильный — сержант вытесал для нее две палочки и кругляш. Полный день Васенка выпевала или выстукивала сигналы: «тра-тра! тра-та-та! тра-тра!» Ухватки у нее появились мальчишеские, задиристые. Оглоблинцы шутили: — Велико дело — штаны надеть. К тому времени, когда новики вышли к Волхову, Васенка уже вполне постигла нехитрую науку. Впереди рядов вышагивал сероглазый, босоногий мальчуган. Он ладно и звучно выстукивал «дробь». По горделивой стати, по задранному вверх веснушчатому носу было ясно, что стучит он не в чурбачок, а в гулкий, с натянутой кожей орленый барабан, и висит тот барабан через плечо не на веревке, а на самой великолепной лосиной перевязи. Волхов катил мутные, холодные волны. На высоких берегах виднелись курганы.
10. ПОБРАТИМЫ

В невеликом городке Ладоге всё жило войной. Армия, не вместясь в дома, заполнила улицы. За городом, в полях белели ряды палаток. Тут были и шереметевские полки, и дружины ладожского воеводы Апраксина. Все — солдаты обстрелянные. Новики, пришедшие из дальних волостей России, отличались среди них, как воробьи в шумной галочьей стае. Они с завистью смотрели на лихих вояк. С раскрытыми ртами слушали рассказы о вылазках, о стычках, еще не зная, что в тех рассказах правды — любая половина. Но вот парни из тихого села Оглоблино надели зеленые мундиры и в ту же минуту слились со всей солдатской массой. Одна беда — они перестали узнавать друг друга. То и дело слышалось: — Это ты, Ждан? А я думал — какая персона из самой Москвы. Важно! — А Родя-то, Родя! Умора. Крутов переминался, боясь шевельнуть плечами. Мундир на нем трещал по швам. Красные обшлага рукавов съехали к локтям. Вместе с другими оглоблинцами Родиона поверстали в полк без придирок. Его богатырское сложение с лихвой искупало недостаток речи. А на маленького барабанщика решительно никто не обратил внимания. Около солдатских котлов постоянно крутились ребятишки из соседних деревень. Их прикармливали, вспоминая своих мальчишек и девчонок, покинутых в родимом далеке. Только Логин Жихарев с сомнением ткнул Васькá пальцем в грудь, отчего тот отлетел на сажень и растянулся во весь свой росточек. — Больно уж хлипок, — презрительно сказал литец Бухвостову. — Ежели барабанщик из него не получится, отдай мне в подручные, я его человеком сделаю. С нарвскими побратимами Сергей Леонтьевич встретился в кружале на краю города. Они трижды расцеловались. Трофим Ширяй, тронутый тем, что сержант по дружбе выставил на стол штоф хлебного вина, умиленно похаживал вокруг. Он поспешил рассказать про эрестферское дело, и выходило так, что теперь в полку ничего не делается без Ширяя, и сам господин фить-маршалк с ним советуется. — Как же, — подтвердил Жихарев, — у них знакомство самое свойское: Шереметев при всем честном народе нашего Троху по зубам хватил. — Что ты за человечина, Логин, — рассердился Ширяй, — так не так, не перетакивать стать… — Через минуту Трофим приободрился: — Ну, дай бог, чтобы пилось и елось, а служба на ум не шла!.. Втроем в обнимку отправились бродить по Ладоге. Они вышли к берегу реки. Долго стояли здесь, под осенним ветром. Побратимы вели разговор о минувших битвах, а больше всего — о сражениях, что впереди. В Ладоге уже в точности было известно, что главную команду над войском принимает Борис Петрович Шереметев. А государь в том войске будет простым бомбардирским капитаном, под именем Петра Михайлова. Ведомо, что он с пятью батальонами и с фрегатами «Курьер» и «Святой дух» поблизости. В Ладоге его надо ждать со дня на день. Появился же он для всех неожиданно, в крестьянской скрипучей телеге, в сопровождении одного лишь Щепотева. В тревоге, в беспокойстве на городской вал высыпали воеводы и начальствующие над полками. На скосах вала толпился простой люд. Многие впервые видели царя и откровенно посматривали, не покажется ли хвост из-под короткого солдатского мундира. Ведь говорят же — чертово отродье. Петр сидел на телеге, болтая длинными, в нитяных чулках, ногами. Поравнявшись с Шереметевым, не останавливая лошадь, соскочил на грязную дорогу. Щепотев натянул вожжи, когда Петр уже подошел к фельдмаршалу и обнял его. У Бориса Петровича съехала набок треуголка и ныла щека, прижатая к жестким суконным отворотам, но он боялся пошевелиться. Отпустив фельдмаршала, бомбардирский капитан слушал, что говорили встречающие. Он смотрел поверх голов. Увидел Бухвостова и помахал ему зажатыми в кулак шапкой и париком. Парик он не надевал, вытирал им потное, запыленное лицо. Коротко остриженные черные волосы торчком дыбились на макушке. Сергей Леонтьевич мысленно отметил, что государь после долгого пути еще больше исхудал, но бодр. Черная от загара шея истончала, а щеки остались округло одутловатыми. Появилась привычка пощипывать усы. Щепотев, разворачивая коня, чуть не наехал на Бухвостова. — Леонтьич! Садись, покажи, где шереметевское подворье. Михайла Иванович выпрямился в повозке во весь рост, взмахнул вожжами. Повозку сильно трясло на разбитой дороге. Бухвостов упрашивал: — Угомонись, право! Опрокинемся, расшибемся. Въезжая в подворье, чуть ворота не снесли. Щепотев бросил конюхам вожжи, облапил Сергея Леонтьевича. — Ну, здравствуй, мил дружок. Бухвостов рассказал ему, что здесь и Жихарев и Ширяй. Пошли их разыскивать. О пережитом за эти месяцы, о трудной дороге, начатой у Белого моря, Михайла Иванович рассказывал мало. Главное — что дорога подходит к концу. В воинском походном журнале записано было о ней всего несколько строк: «От города Архангельского учинили морем транспорт… мимо Соловецкого монастыря к деревне Нюхче, а оттоль сухим путем до деревни Повенца через пустые места и зело каменистые. А пришед в Повенец, где было изготовлено несколько карбасов, абаркировались на оных через Онежское озеро, и рекою Свирью, до деревни Сермаксы, у Ладожского озера лежащей…». Позади — могилы на «государевой просеке», горбатые отмели Онеги, ревущие Сиговецкие гряды на Свири. На Свирской пристани Петр несколько дней ждал, когда уляжется разбушевавшаяся буря. Но так и не дождался. Велел князю Михайле Михайловичу Голицыну вести батальоны, а двум фрегатам с флотилией озерных ладей, забранных у рыбаков, при спокойной погоде начать последний переход. Сам же, взяв сержанта Щепотева за возницу, укатил в Ладогу. — Теперь ждите, — говорил Щепотев друзьям, — здесь не засидимся. В ночь войска снялись и двинулись вперед. Слабо светила луна. Дул ветер — сиверок, ровный, разлетистый, какой бывает только над большим простором. Волны с гулом ложились на берег. Рядом с дорогой тяжко ворочалась вода. Временами она захлестывала колею. Ждан догнал Бухвостова. — Господин сержант! — Чего тебе? — Эвона воды сколько, не оглядеть. Это и есть море? Настоящее море? — Что ты, малый, — Сергей Леонтьевич тронул усы, — какое море? То пока еще только Ладожское озеро. Здесь Нева начало берет.
II. ОСТРОВОК

1. СТРАЖА НА ЛАДОГЕ
Невский исток открывался взгляду величаво, грозно. Две протоки, как две ладони, держали в плещущих струях маленький остров. Формой своей он, в самом деле, напоминал орех, тупой частью повернутый к озеру, острой к середине реки. Потому и остров и крепость на нем русские звали Орехов, Ореховец, Орешек, а шведы — Нотебург, что было точным переводом его древнего имени, данного еще новгородцами: Орех-город. Второй день над Ладожским озером, в просторечии — Ладогой, гремела гроза. Гулкие раскаты возникали над землей и, повторенные эхом, затихали над водной далью. Косой ливень бил в лицо. Холодный до дрожи ветер насквозь продувал худую одежонку. Солдатам было не до грозы. Лошади рвали упряжь, бессильные вытащить телеги из цепкой глины. Особенно тяжело приходилось пушкарям. Они на руках выносили свои мортиры. Медные чудища по ступицы колес уходили в грязь. Их поднимали; протащив десяток шагов, опускали, чтобы перевести дыхание; снова поднимали. У Логина Жихарева налились кровью глаза, вздулись жилы на лбу. — Берись, молодцы! — кричал он солдатам, вцепившимся в пушку. — Держись крепче! Родион Крутов ухватился за ось, нажал плечом. Логину показалось — мортира потеряла свой вес, стала податливой. — Вот силища! — похвалил он. Немой улыбнулся. Поотпустил колесо, люди под тяжестью зашатались, ноги в землю вжало, шага не могут сделать. Родион снова подхватил колесо. Никогда Жихарев не видел, чтобы человек вот так играл мортирой. Как ни трудно было солдатам, они не завидовали тем, кто находился на судах, разметанных по седому, гневному озеру. За них вчуже страшно становилось. Полки соединились с флотилией у Подкорельского погоста. «Курьер» и «Святой дух» зарывались в волны, переставляли паруса и упорно двигались на большом расстоянии от берега. Вокруг фрегатов лепились, как мошкара вокруг шмелей, ладьи, соймы, карбасы. Их швыряло в сторону. Онито исчезали за вспененной грядой, то появлялись опять. Жихарев залюбовался небольшой лодкой, которая, задевая парусом воду, шла прямо к берегу. Слышно было, как полотнище хлопает под ветром. Казалось, вот-вот смельчак врежется в камни. Но паруса вдруг переместились на единственной мачте, лодка перекачнулась на другой борт и скользнула за косу, где ветер и волны были посмирней. Вынесло ее до половины корпуса на песок. Сразу десяток рук подхватили лодку и вытащили на берег. Из нее выскочил босой парень в кафтане, туго подпоясанном веревкой. Парень спросил, где Шереметев. Ему показали. Пошел неспешно, вразвалку. С фельдмаршалом он говорил смело, без обычных поклонов и величанья. Борис Петрович, видимо, уже знал его. Внимательно слушал. Стоявшие поблизости могли разобрать, что речь — о ближних подходах, к крепости, о возможных шведских заставах на берегу. Парень вернулся к своей лодке. Солдаты рассматривали суденышко, ощупывали, дивились. Оно было слажено из еловых досок, без гвоздей. Доски сшиты толстой белой нитью, крепкой, словно вытянутой из железа. Хозяин лодки постоял, почесал нога об ногу, улыбнулся, на красноватом обветренном лице блеснули зубы. — Нет, ты не смейся, — сказал Логин, — объясни, как ты на этакой скорлупе в бурю по озеру ходишь? — Так это же ладожская сойма, — добродушно ответил парень, — крепче судна нет. — Ты впрямь шутишь, — даже обиделся пушкарь, — нитки сопреют либо перетрутся — и рассыплется твоя сойма, не соберешь. — Какие нитки? — в свой черед и парень обиделся за недостаток уважения к суденышку. — Это — древесный корень, вичина… Ее у нас еще называют вечная. Иной раз дерево разлетится в щепы, а вичина цела. Ничего ей не делается. Всюду поспевающий, где толпа и говор, Трофим Ширяй ввернул вопрос: — Ты сам-то откуда взялся? — Это ты здесь откуда-то «взялся», — глянул на него босоногий, готовый постоять за себя, — а я на Ладоге родился… Окулов я, Тимофей Окулов. — Очень уж ты бесстрашный, — сказал Трофим, желая загладить неловкое слово. — Чем же я бесстрашный? — искренне удивился парень. — Вот батюшка мой, тот действительно, говорят, человек смелый. — Кто твой батюшка? — Видать, ты на Ладоге впервой, — олонецкого попа Ивана Окулова не знаешь… Не в обычае ладожанина было сердиться, злобиться. Он посмотрел на просветлевшее небо и сказал: — Буря на убыль пошла. Для большинства солдат Тимофей Окулов — незнакомец. Между тем он хоть и не носил воинского мундира, был человеком необходимым в армии: на озере — лоцманом, на суше — проводником. Должность не пышная — знатец. А без него воеводам и шага не ступить. Младший Окулов, один из немногих русских, побывал в Нотебурге. На сойме он за последние два года под видом рыбака обошел и Ладожское озеро и Неву. Шведы хорошо знали этого улыбчивого простоватого парня, с копной нечесаных белокурых волос. Они называли его «русский Тим» и охотно покупали у него рыбу, потому что парень не дорожился. Окулов неприметно ко всему приглядывался, запоминал расстояния, мерял глубины вод. У Шереметева, приведшего войско к Неве, среди самых важных документов в ларце хранилась «сказка ладожан». В точности ее сверил у отца и старожилов не кто иной, как этот самый, столь бесхитростный на вид «русский Тим». В той «сказке» в подробности был указан путь судам и войску: «От Волховского устья до Птиновского погоста озером 20 верст, путь в добрую погоду свободен, а в ветры труден: суда разбиваются о берега и камни… От Птиновского погоста до Подкорельского 25 верст: ехать в соймах верстах в двух или трех от берега свободно… До Морского носа 40 верст: идти от берегу верст пятнадцать; иначе нельзя от каменных мелей. До Посеченого носа 35 верст: то же. От Посеченого носа до Орешка 3 версты: невским истоком с правой стороны мимо Орешка, подле самой стены и башни суда ходят в 10 саженях; к берегу податься нельзя от мелей…». Не счесть, сколько судов и сколько жизней спасено от потопления и гибели лишь потому, что написана «сказка ладожан», и этот босоногий парень первым прошел дорогу, по какой шагать петровской армии. Сам он о том говорил нехотя. На расспросы про Нотебург — Орешек Тимофей так ответил: — Крепость — штука серьезная. Солдаты придвинулись поближе, так что Окулов ощутил их дыхание. — Стены сложены из гранитных валунов да здешней плиты, — продолжал он, — прошибить их нелегко. Толщина — две сажени, вышина без малого пять сажен. По углам — башни, на них пушки в три яруса. — Ух ты! — протянул Жихарев. — Погоди, еще послушай, — остановил его рассказчик, — главное дело — зацепиться за те стены трудно. У подошвы узкая полоска земли, троим встать тесно, не то что полку подойти. — Со стенобитной махиной туда и не суйся, — озабоченно проговорил Жихарев, — ядрами колотить придется. — И опять-таки не все еще сказано, — Тимофей Окулов задумался; не хотелось ему до времени пугать ратников, да пусть лучше заранее знают, что дело предстоит смертное, — ну, стены разобьем, либо ворота разнесем, ворвемся в крепость. А там… опять крепость. Есть у шведов хитрость: угол крепости, что к озеру, обнесли они двумя стенами. Снаружи не видать. Называется — цитадель. Напоследок могут они в ней держаться. Трофим подступил к ладожанину. Ширяй был пониже его ростом и смотрел снизу вверх. — Ты прямо скажи — взять эту крепость можно? — Велят — можно, — ответил ладожанин. Был бы Тимофей Окулов поученей, знал бы, что за несколько лет перед тем здесь, в верховье Невы, побывали знаменитые фортификаторы чуть не со всего света. Они осмотрели остров, сооружения на нем и решили: «Нотебург — неприступнейшая крепость в мире». Но ладожанин не мог знать о том, что было напечатано в иноземных ведомостях. И слушатели согласились с ним: — Коль прикажут — нельзя не одолеть. Троха — ну и въедливый же этот сиповщик! — опять пристал к Окулову: — А можешь ты про Орешек все как есть нам поведать? Как в старину воевали тут? Как его ворогу отдали? — Про то не могу, — честно признался Тимофей, — вот батя мой рассказал бы. А я не могу. Отдыхать бы солдатам, ночь будет боевая. Они же толпятся у соймы, толкуют о Неве, об озере, о крепости. Летят тучи над полями и долами. Древняя земля Ладожская, Орешек — слава русская.2. „ЗЕМЛЯ ОТЧИЧ И ДЕДИЧ“

В незапамятные времена приневский край составлял Ижорскую землю, где жили племена — ижоры, водь. Позже этот край образовал Водскую пятину Новгорода. В Водской пятине одним из самых важных присудов, или уездов, был Ореховецкий: главный город Орешек и «присудные» ему, то есть приписанные судом и данью, селения на всем протяжении Невы от истока до взморья… «Ходили новгородцы с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставили город на устье Невы, на Ореховом острове». Такая запись сделана в летописи в 1323 году. Это год рождения Орешка. Князь московский Юрий Данилович возвращался в то лето с новгородскими дружинами из похода на Выборг. Появление крепости у истоков Невы было приметным событием в отечественной истории. Здесь пролегал великий водный путь «из варяг в греки». Корабли, груженные товарами, из Варяжского моря выходили в Неву. Плыли по ней в Ладожское озеро, дальше по Волхову поднимались в озеро Ильмень, оттуда — в реку Ловать. Волоком тащили суда до верховьев Днепра. По Днепру спешили в Черное море, к Царьграду. Водная дорога связывала север и юг, народы двух морей. При том пути возрос и достиг могущества Новгород на Волхове — «Господин Великий Новгород». Существовал он издревле. Арабы называли его — Славия, скандинавы — Хольмгард, греки — Немогард. На великом пути и столкнулась Русь с сильной Швецией. Уже в 1164 году скандинавы напали на город Ладогу. В 1240 году на Неве одержал знаменитую победу над шведами князь Александр Ярославич. В 1300 году здесь же, на Неве, произошло очень важное событие, о котором летописец рассказывает: «Придоша из заморил свеи в силе великие на Неву, приведоша из своей земли мастеры, и из великого Рима от папы мастер приведоша нарочит, поставиша город над Невою, на усть Охты реки, и утвердиша твердостию несказанною… нарекоша его Венец земли». Венец земли, или Ландскрона, — так называлась крепость, поставленная ради господства над Невою. В стародавние времена на этом месте был русский рыбацкий поселок. Новгородцы, не медля, большой ратью пришли на Неву. Они опустошили Ландскрону, оставили дымящиеся развалины. Но теперь Новгород не знал покоя, пока не утвердил свой передовой пост на Неве. Это сделал князь Юрий, поставив крепость на острове Ореховом. Вначале крепость выглядела просто — за земляными валами несколько хат. Ждали нападения на остров. Но произошло неожиданное. Шведы заговорили о мире. Так в год основания крепости на Неве, 1323-й, был заключен первый в российской истории письменный мирный договор. Назывался он Ореховецким. Подписавшие договор поклялись: «А кто изменит крестное целование, на того бог и святая богородица». Но прошло немного времени, и шведы напали на Орешек, где дана была клятва. Так начались сражения за крепость у входа в Неву, не стихавшие веками. Меж битвами Орешек строился. Взамен земляных валов возвели каменные стены. Снарядили костры — башни с бойницами. В 1478 году Новгород и с ним Орешек склонили голову перед набиравшей силу Москвой. А борьба со шведами продолжалась. На самом берегу реки, ближе к Ладожскому озеру, есть место, которое зовется «Красные Сосны». Сосны там растут самые обыкновенные, стройные, с густыми кронами и шелушащейся коричневой корой. В народе сохранилось о них предание. Деды рассказывали сыновьям и внукам, а те — своим сыновьям, что однажды на холме, склоны которого уходили в Неву, после похода лег отдохнуть полководец шведского войска. Пока он спал, над ним выросла сосна и пригвоздила его к земле. С великим трудом удалось освободиться от крепких корней. В страхе он бежал с берегов Невы. Он понял, что нельзя завоевать страну, где непокорны не только люди, но и деревья. В невских притоках издавна местами виднеются полугнилые черные столбы. В окрестных болотах и лесах тянутся неизвестно где начинающиеся забытые дороги; на них рядами лежат почернелые стволы и валежины. Пожалуй, никто уже не знает, когда сделаны те гати. Но жители ближних сел непременно скажут, что это «Понтусовы дороги», а о смоленых столбах скажут, что это остатки «Понтусова моста». Кто же он, чье недоброе имя сохранилось в поколениях? Кто он, полководец, пригвожденный к земле, которую пришел завоевать? Горе и беды невского поморья, вероломство, предательство, жестокость, алчность — все выражено в одном имени — Понтус Делагарди. Полководец он был умелый. В короткое время Делагарди покорил многие города Ижорской земли, придвигаясь все ближе к Новгороду. На пути завоевателя встал Орешек. Осенью 1581 года Делагарди осадил крепость. Он расставил лодки вплотную, борт к борту, от берега до острова. По ним послал войска на приступ. Шведы поднялись уже на стены, но ореховцы отбросили врага и погнали его с острова. Это было первое поражение полководца. Первая неудача, предвестие заката. Началась распутица. Дороги стали непроходимыми. Шведам нечего было думать о покорении Новгорода. Они согласились на встречу и мирные переговоры с русскими. Во время этих переговоров случайно Делагарди утонул. Как писали в донесении, — «выволокли из воды Пунцу». Но у Понтуса подрастал сын Яков. Тот был удачливей отца. Наступило грозное для России «смутное» время. Яков Делагарди свиделся с шведским королем и убедил его, что пришла пора утвердиться на Неве. Он строит крепость на излучине Невы, там, где еще виднелись руины Ландскроны. Грабит русские корабли и города на Ладожском озере. Осаждает Орешек. В 1612 году, после тяжелой осады, армия Делагарди взяла Орешек. Именно тогда защитники крепости совершили бессмертный подвиг; они дрались, пока из всего гарнизона не остались два человека, да и те были изранены так, что не могли держать оружие. Пали Ям, Копорье, Корела, многие русские города. Мир, подписанный в 1617 году в деревне Столбово, на полпути между Тихвином и Ладогой, узаконил этот захват. Войска Делагарди дали Швеции то, к чему она давно стремилась, — безраздельное господство на Неве. Орешек шведы переименовали в Нотебург. Небольшая крепость, заложенная Делагарди на месте Ландскроны, разрослась в крупный купеческий город Ниеншанц. Это была вторая твердыня шведов на Неве. Девяносто лет — великий и конечный срок в человеческой жизни. Но ни земля, ни люди не покорились порабощению. Борьба за приневский край была непримиримой, вековой. Здесь тучнели семьи завоевателей. Сначала — Делагарди. Потом на смену ему пришли другие помещики и рыцари. Шлиппенбахи. Пиперы. Они были еще жадней, еще беспощадней. Но добрый свет надежды уже проблеснул над Невой. Ижорская земля ждала своего освобождения… В числе первых воевод Орешка был Наримонт, по-русски — Глеб, сын великого князя литовского Гедимина. Через сотни лет сюда же, к стенам старой крепости, пришел потомок этого рода, князь Михайла Голицын, командир Семеновского полка петровской гвардии. Героем последних битв за Орешек, битв, в которых отвагой русских восхищались даже шведы, был воевода Семен Шереметев. Миновали десятилетия — и к истоку Невы привел русскую армию его правнук, фельдмаршал Борис Шереметев. Решался вековой спор. Народное сказание о «Красных Соснах» сбывалось по-новому. Россия готовилась пригвоздить врага к захваченной им земле.
3. „КРОТОВЬЯ ВОЙНА“

Ночным переходом войска продвинулись по левому берегу Невы, до невысокой горы, которую называли Преображенской. Голицын со своими семеновцами шел по кромке берега. Михайла Михайлович распорядился выставить у самой воды кордоны. Гонцы, посылаемые из Нотебурга, исчезали сразу, как только высаживались на берег. Дорог каждый час, когда еще можно скрыть от врага грозящую ему опасность. Комендант Нотебурга Густав Шлиппенбах, брат Эрика Шлиппенбаха, разбитого под Эрестфером, знал о приближении русских войск. Первую тревожную весть он получил от пограничной стражи на Лаве и дал знать о том в Корелу и Нарву. Он ждал помощи. Но ему казалось, что главные силы русских еще далеко. Появившиеся подвижные отряды счел авангардом. Шлиппенбах готовил крепость к бою, но так, как это делают, когда противник еще далеко. Дорого же заплатил за свою ошибку шведский полковник. Русские действовали с неожиданной быстротой. Прежде чем Шлиппенбах мог опомниться, они оказались рядом. Осадный корпус развернулся фронтом к крепости. Ставка фельдмаршала находилась позади линии войск, в «Красных Соснах». Всю ночь с 26 на 27 сентября в шатре с откинутым пологом горели свечи. Здесь допрашивали захваченных гонцов из крепости. Определялись позиции каждого полка и каждой пушкарской команды. Полуполковник Голицын рано утром возвращался из шереметевской ставки. Он думал о сражении, которое, собственно, уже началось. Михайла Михайлович был сторонником полевой войны. Когда в поле встречаются две армии, есть где разгуляться. Полк с полком столкнулся грудь к груди, и тут уж победа за тем, кто осилит в честном, прямом поединке. Зато уж в осадном, крепостном бою все спутано, ни в чем не разберешься, все навыворот. Тут сметливый может одержать верх над смелым. И побеждает далеко не всегда тот, у кого больше солдат. Битва у стен крепости неизменно напоминала Голицыну схватку человека в панцире с человеком в простом домотканом кафтане. Один подставляет под удар грудь, закованную в железо, другой — живое, незащищенное тело. Те, кто в крепости, прикрыты каменными стенами. У тех, кто идет на приступ, одна защита — беззаветная смелость. Здесь стремительность воюет с упорством. Михаила Михайлович называл все это «кротовьей войной». Да что толку думать о том, что уже определено самим ходом времени и что изменить не можешь. Для Голицына это было не первое сражение. Он казался спокойным. Полуполковник был очень молод. Его радовала свежесть утра, и то, что старый брюзга Шереметев на сей раз без спора поставил семеновцев в первую линию, и сознание, что он, князь Михайла, идет к своему полку, где все будет сделано в точности, как он прикажет: на приступ — так на приступ, норы рыть — так норы рыть! В полку Голицын застал переполох. Вызван он был прибытием окольничьего Ивана Меньшого Оглоблина. Солдаты обступили рыдван, любопытствуя, как добралось сюда это чудовище и сколько же лошадей тащили его по ухабам. Оглоблинская челядь отгоняла бесцеремонных солдат. Но те все же успели разглядеть и пуховики, и погребцы с домашними яствами и вином. Посмеивались, спрашивали, куда собрался боярин, на войну или на свадьбу? Началась уже драка между оглоблинскими «казачками» — им было лет по тридцать — и гвардейцами, которые норовили пощупать пуховые перины. В это время появился Голицын и разогнал озорников. Он подошел, скрипя широкими раструбами ботфортов. Резко повернулся, услышав бабий, дрожащий голос. Рядом на пне, покрытом ковром, сидел окольничий. Его толстые щеки побагровели и так обвисли, что касались ворота дорожного полукафтана, расшитого жемчугом. Совсем необычным для него тонким голосом он жалобно стонал, растирая спину и поясницу: — Господи, за что такая мука? Всего разломило, каждая косточка гудет. Меньшой Оглоблин не понимал, что происходит вокруг. Чего гогочет это мужичье, без страха, без должного почтения к роду и знатности? Вдруг он увидел грязные, заляпанные глиной сапожищи, топающие прямиком к нему. Отшатнулся, поднял глаза и узнал Голицына. Обрадовался, как родному: — Князь Михайла, что делается? Или уж свету конец? Мокрыми губами чмокнул Голицына в жесткую, плохо выбритую щеку. Тот не отвечал, щурил зоркие глаза под высокими, густыми бровями. Меньшой Оглоблин встал и, важно поклонясь, протянул полуполковнику бумагу: — Прими, князь, государев рескрипт. «Рескрипт» представлял собою неровно оборванный кусок серой, толстой бумаги. Этот обрывок еще ночью Петр вручил окольничьему. Оглоблин разыскал царя у пушки, которая никак не становилась на бревенчатый настил. Царь ругался черными словами и, не понимая, пучил глаза на рыхлого толстяка. — Пошел ты отсюда! — рявкнул и снова занялся пушкой. Но так как толстяк не уходил, молитвенно лепетал непонятное, Петр поманил его пальцем, нагнув голову, выслушал. Вспомнил. Понимающе хмыкнул. С треском разорвал бумажный пороховой картуз и, примостив обрывок на спине подскочившего пушкаря, размашисто написал две строки. Полуполковник Голицын читал эти пляшущие короткие строки и хохотал так заливисто, что засмеялись и стоящие рядом, еще не зная, в чем дело. Даже у Оглоблина расползлись в улыбке губы. Улыбаться ему как раз не следовало. «Рескрипт» был беспримерно короток: «Окольничьего и его холопей — в солдаты. Знатность — по годности считать». Спустя минуту Голицын уже не думал ни об окольничем, ни о его странной судьбе. — Ребята! — крикнул он семеновцам. — Начинаем шанцы делать. Бери лопаты! Рыть землю — дело свычное мужицким рукам. Родион Крутов и Ждан Чернов работали с радостью. Пусть хоть и не под посев, и не сошкой, а боевым железом, все ж хорошо поднять землицу. Голицын показал, где рыть шанцы, где кетели. Ходы ложились все глубже в грунт, ветвились, незримо близились к крепости. Но из Нотебурга не могли видеть этот спорый и грозный труд. Его прикрывал густой лес. Местами деревья начали валить и делать из них срубы. Самый трудный шанец копал Ждан Чернов со своими земляками, оглоблинцами. Чем ближе к берегу, тем опасливей работали. В прокопанной скользкой щели стояли на коленях. Землю выбрасывать было нельзя — блеск лопат выдаст. Ждан и Родион, плечом к плечу, пробивались первыми, землю откидывали без размаха стоящим позади, а те следующим. В конце дня оглоблинцы работали на самом берегу. Ждан поплевал на ладони и повел шанец глубже, чтобы тут, на виду у врага, надежней укрыться в земле. От Невы тянуло холодом. Ждан то и дело высовывался взглянуть на речную ширь. Он первый и заметил, что из озера вошли в Неву два корабля и поплыли вдоль берега. Работы прекратились. Солдаты во все глаза смотрели на корабли с незнакомыми темными парусами на косых реях. На берег прибежал Голицын, с ним — офицеры. Толпились, вытягивали шеи. Бледнея, как всегда перед боем, князь сказал: — Господа шведы пожаловали для досмотра, кто к ним в соседство пришел… А ну, мушкатерию сюда! Корабли проплывали близко; видна была беготня матросов на палубе. Слышно, как упали бортовые люки. Ядро раскатисто прогудело в воздухе и переломило сосну. Сразу задымились, затрещали мушкеты на берегу. Ждан стрелял, будто делал обыкновенную работу, неторопливо, на совесть. Аккуратно выбирал цель на палубе, старался свалить ее с первого выстрела. Досадовал, что весь берег затянуло дымом и стало труднее смотреть перед собой. На хлестко шлепающие в землю ядра старался не слишком обращать внимание. Чернов услышал громкий, насмешливый голос полуполковника: — Не трусь, рыжий! Иное ядро, что свинья, любит землю рыть. — Некогда мне трусить-то, — ответил новик, — мне бы вот того черта добыть. Выстрелил в показавшуюся за дымом судовую корму, в стоявшего на ней сизолицего раскоряку. Промахнулся. — Плечо небось болит? — уже без насмешки, сочувственно спросил Михайла Михайлович. — Саднит, сил нет, — признался Чернов. Плечо распухло, чуть не вывороченное из суставов отдачей мушкета. — Сначала всегда так, — ободрил Голицын, — ну, с первым тебя боем, рыжий! На берегу кричали весело и яростно. Несколько человек по пояс вошли в воду, потрясая над головой оружием. Шведские корабли грузно разворачивались и уходили. Ждан выпрямился и тем же голосом, каким сейчас разговаривал с ним Голицын, чуть насмешливо и дружелюбно поздравил товарищей: — С первым боем, братцы! Помедлив, добавил тихо, словно раздумывая, про себя: — Ничего, и швед под пулей падает… В воздухе сильно пахло гарью. Полуполковник Голицын в своей палатке писал донесение фельдмаршалу о первой стычке с врагом. Писал, как должно, почтительно, все же с легким озорством: «Противник раковый ход восприял». Отнести бумагу в ставку велено было Чернову. На посыл всегда гоняли новиков. Ждану это на руку. Ему во что бы то ни стало надо повидать Бухвостова. В первый день, когда в полку внезапно появился Меньшой Оглоблин, на него наткнулся Васек Крутов. Правда, бывший окольничий не признал в Ваське Васену. Но на всякий случай барабанщика, как малолетку, хорошо бы отослать в полковой обоз к княжеским поварихам. Обо всем этом нужно было поскорей посоветоваться с Сергеем Леонтьевичем.
4. „ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ“

Бухвостов почти постоянно находился при Петре. Отлучался лишь по его приказу. Во всех сражениях был рядом. При дворе неразговорчивого сержанта называли «собственным государевым стрелком». Его недолюбливали за крайнюю незнатность рода. Отец Бухвостова был дворцовым конюшим, и сам он пребывал в той же должности с пятнадцати лет. Чванливые вельможи трудно мирились с присутствием «худородного». До сих пор с сочувствием, прикрывавшим злобу, ему поминали унизительную челобитную конюшат, как писалось в той челобитной: «Живем мы, холопи, у государевых лошадей, жилые и гулящие месяцы безпеременно, платьишком ободрались и сапоженки обносились… Царь-государь, смилуйся!» — и как «другим не в образец» выдали конюшатам «по портищу сукна амбурского». Быть бы ему тем довольным, радоваться бы. Так нет, залетела ворона во дворец. Царь без него — ни шагу. Почему? Зачем? «Собственный государев стрелок» чаще всего молчит, сжав тонкие губы. О чем молчит? Близость Бухвостова к государю началась с события, казалось бы, малозначительного. Зимой 1683 года к десятилетнему Петру пришел широкоплечий, могучего сложения детина. Поклонился до земли и степенно сказал, что «самохотно» просит записать его в «потешные солдаты». Тогда в селе Преображенском и соседнем — Семеновском — Петр затевал невиданные игрища со своими «потешными». Он забросил листки-картинки, разрисованные веницейской ярью, позабыл о луках-недомерочках с яблоневыми стрелами, простился с маленькой своей кареткой — четыре крохотные лошади в упряжи, четыре карлика на запятках. Все игрушки — в сторону. Вместо них — походы, штурм земляных городков, драки до крови. Немногие понимали, что в той игре — начало нового войска. Сотоварищами Петра были его однолетки, боярские дети. А тут просится в «потешные» настоящий взрослый молодец. Петр недоверчиво, исподлобья смотрел на парня, — не шутить ли осмелился? Бухвостов же — это был он — видел перед собой царя-мальчишку, долговязого и тощего, одно плечо выше другого, на длинных руках с черными ногтями — синяки, на коротком, ширококрылом носу — царапина. Кажется, они понравились друг другу. С тех пор Петр не расставался с Бухвостовым, дав ему необычное звание — «первый российский солдат». Мальчишка-царь кликал думных бояр и князей Гришками, Алешками, Митьками. Вчерашнего конюшонка — только так: Леонтьич. При Бухвостове, бывало, Петр отпрашивался у матери, Натальи Кирилловны, на богомолье в Переяславский монастырь. Но сворачивал к озеру и там до кровяных мозолей тесал доски, рубил бревна, слаживал первые свои корабли. Топор в царских руках — виданное ли дело! Когда стала известной причина частых отлучек на озеро, не таился. Пропадал там месяцами. Отделывался от материнских забот коротенькой цидулкой, посланной с Леонтьичем: «В Москве я быть готов, только гей-гей дела есть, и то присланной известит явнее». Бухвостову всегда казалось, что Петр далек от матери, от ее тихих теремов, неусыпных забот и тревог. Но когда Наталья Кирилловна умерла, Петр три дня не выходил из покоев. Один лишь Сергей Леонтьевич видел его тоску и слезы. Оплакивал мать уже не мальчишка, а великий государь, безудержный в своих страстях, жестокий и беспощадный на пути к цели. Люди, близкие к царю, никогда не забывали о своей выгоде. Его денщики становились генералами и сенаторами. Бухвостов же не выходил из солдатского звания. Как-то незаметно для себя он утратил право на жизнь, отдельную от Петра. Стал и в самом деле его «тенью», привычной до неприметности. Петр бывал сватом и кумом на свадьбах и крестинах почти у всех своих гвардейцев. Но когда Сергею Леонтьевичу приглянулась девица такого же, как он сам, незнатного рода и он заговорил о женитьбе, Петр уставился на него, словно впервые увидел. — Помилуй, что это тебе в голову взбрело? — спросил с гневом. — Нам в Воронеж ехать, а ты жениться надумал. Потом надо было спешить в Псков. Потом — в Архангельск. Затем как-то случилось, что девицу просватали за другого. Над неудачной женитьбой Бухвостова долго шутили на пирушках. Прошло время, и шутки позабылись. Самому Сергею Леонтьевичу тоже стала казаться странной мысль, что он может жить своим домом. Так остался он бессемейным. С судьбой своей примирился. В самом деле, когда солдату о семье думать? Но встреча с Васенкой все всколыхнула, и «первому российскому солдату» впору было завыть от тоски. Конечно же, у него могла быть такая дочь. Ее сиротская участь трогала и волновала. Хотелось защитить этого ребенка, заслонить от всех бед. Никому не рассказывал, какие думы будила в нем ясноглазая девочка, переодетая пареньком. Оглоблинцы давно поняли, что сержант Бухвостов — их первый союзник в задуманном укрытии «беглой крепостной девки». С той минуты, как началась перестрелка на невском берегу, сержант не находил себе места. Человек, по своему ремеслу привычный к ядрам, пулям и смертям, он теперь вздрагивал, услышав зловещий посвист. Ему все казалось, что каждое ядро летит в Васену. Он, наверно, сам побежал бы в полк, но увидел Ждана Чернова. Ждан хитрил. Подробно рассказывал о выкопанных, но не вполне законченных шанцах, о своем разговоре с Голицыным, о том, как шведские корабли удирали от мушкетного огня. Сергею Леонтьевичу почудилось, — Ждан умышленно мелет обо всем подряд, чтобы не сказать о страшном. — С Васенкой что случилось? Говори! Чернов прикрыл ладонью невольную улыбку. Подумал: «Хватит мудрить, сержант. За девчонку тревожишься не меньше нас». Уже без лукавства сообщил об опасной встрече Васены с Оглоблиным. Что ж, пока и голицынский обоз для нее подходящее место. Но Сергей Леонтьевич твердо решил, что при первом случае сам отвезет девчонку в Ладогу, приищет старуху-бобылку, умолит ее приютить Васену. Ждан Чернов ушел. Снова, снова горькие мысли об одиночестве. Только то и хорошо, что одному помирать легче. Никто над тобой слез не прольет.
5. ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Надо было торопиться. Несомненно, шведы готовились к битве. Промедление могло дорого стоить. В «Красных Соснах» собрался военный совет. Главное — закрыть врагу все пути для «сикурса», для подмоги. На Ладожском озере — наша довольно большая флотилия. Зато со стороны Невы, от Ниеншанца, корабельной защиты нет. Значит, часть нашего флота надо переправить из озера в Неву, ниже крепости. Тогда Нотебург окажется зажатым в клещи. Но как это сделать? О том и спорили в «Красных Соснах». Петр, по своему званию бомбардирского капитана, молчал. Он курил, наполняя шатер едким табачным дымом. Старшим на совете был Шереметев. Полководец смелый, даже отважный, когда войско лавиной идет на противника, Борис Петрович заметно терялся, едва лишь бой принимал непривычный, «неправильный» ход. Так было и сейчас. Фельдмаршал зябко кутался в плащ, посматривал с недовольством на собравшихся в шатре и время от времени напоминал дребезжащим старческим голосом: — Прошу ваше мнение, господа военный совет! «Господа военный совет» представляли собой картину занятную. Поближе к Шереметеву на раскладных стульях сидели генералы, командиры полков. Некоторые были одеты просто, по-походному, другие — в мундирах, расшитых золотом по обшлагам и на груди. В отдалении же, у входа, затянутого полотнищем, толпились военные в небольших чинах и простые люди, знатцы, которые могли понадобиться на совете. Среди них выделялись двое: Михайла Щепотев — высоким ростом и веселой независимостью, сквозившей в посадке гордой головы, даже в том, как он курил, пуская дым через плечо, и Тимофей Окулов — красным смышленым лицом и босыми ногами с закатанными до колен штанинами. Генералы косились на эту компанию, обменивались негромкими замечаниями. Сложность положения не нарушала степенности совета. Генералы превосходно знали, что в таких случаях безвыходность решалась лихим наскоком, удалым ударом, в котором сгорали сотни или тысячи жизней. И фельдмаршал понимал, что ничего другого придумать не удастся: ладьи выйдут из озера в протоку и через нее в Неву. Для этого надо будет пробиться через огонь, который шведы, конечно, откроют из крепости. Борис Петрович, прищурясь, глянул поверх голов. — Тимофей, поди сюда. Окулов подошел, смущенный тем, что приходится босыми ногами ступать по ковру, брошенному на землю. Поклонился, руками взялся за опояску. — Какой протокой надобно идти? — спросил Шереметев. — Правой, — коротко ответил ладожанин, — она глубже. — От башен нотебургских судам далеко ль держаться? — Недалеко, Борис Петрович, — вздохнул Окулов, — так недалеко, что местами — совсем вплотную. Протока узка, мелей много. — Пройти можно? Тимофей молчал. Шереметев повторил вопрос: — Пройти можно? В шатре тишина. В свечах вокруг фитилей трещит воск. — Отчего ж не пройти, — не поднимая головы, сказал, наконец, Окулов. Фельдмаршал задумался, крепко растирая ладонью морщинистые щеки. В упор посмотрел на Тимофея: — Тебе ведомо, сколько пушек у шведов в башнях. Много ли судов при той атаке потопить могут? — Половина прорвется, — считай, счастливая звезда нам светит. — Ты сам поведешь ли первую ладью? Тимофей выпрямился, и в эту минуту никто не смотрел на его по-рыбацки босые, грязноватые ноги. — Пойду кормчим, — твердо произнес ладожанин и тряхнул русыми волосами. — Ступай, — отпустил его Шереметев. Генералы беседовали тихо. Они явно склонялись к прорыву через протоку. Велика жертва. Но и Неву незакрытой оставлять нельзя. В эту минуту над едва слышным, почтительным говором дерзко и громче, чем надо бы в тесной палатке, прозвенели слова: — Флот можно провести в Неву, не потеряв ни единого судна! Все повернулись на голос. Слова эти были сказаны Щепотевым. Он, улыбаясь, смотрел на обращенные к нему лица. Из чубука, отнесенного от губ, вилась легкая струйка дыма. Сержант поклонился Петру: — Господин капитан бомбардирский знает, что корабли не только по воде, но и по суше ходят. Петр дернул головой. Шагнул к Щепотеву. — Разве что на архангельский манер? Волоком? — Прошли же мы этак от Белого моря до Онеги, — сказал сержант, все еще улыбаясь. Улыбка его была такая открытая и душевная, что верилось, — человеку этому должно все удаваться. Капитан бомбардирский все же заметил: — Не забывай, Михайла, тут неприятель поблизости. Волоком-то волоком, да огонек рядом… Петр посмотрел вверх. Макушка шатра была откинута, чтобы дать выход табачному дыму. Сквозь проем виднелись звезды. Капитан бомбардирский тихо сказал: — Добро. Кивнул Шереметеву и, отбросив парусину, вышел на берег Невы. Река катила тугие, посеребренные луной волны. «Господа военный совет», негромко переговариваясь, шли от «Красных Сосен» к полкам… В ближайшую ночь началась передвижка флота. Сержант Щепотев накануне днем подбирал команды к ладьям — самых крепких, сильных и смелых солдат. Показывал им, как тесать бревна — катыши. Весь предстоящий путь выровняли и слегка углубили. Пролегал он в низинке, не видной со стороны крепости. К вечеру в озерной бухте, глубоко врезанной в материк, первые суда были поставлены на катки. Тимофей Окулов подошел к Щепотеву: — Михайла Иваныч, возьми меня в свою команду. Подсобить хочу. — Становись к головной, — согласился Щепотев и махнул рукой солдатам: — Двигай! Никто не произнес больше ни слова. Слышно лишь, как кругляши скрипят, мочалятся под тяжестью, да сотни людей от натуги дышат трудно. Окулов шел в лямке при первой ладье. Он изо всех сил упирался ногами, руками же едва не касался земли. Когда впереди проблеснула Нева, Тимофей горстью смахнул со лба пот. Ладья с берега шлепнулась о воду, зарылась в нее носом, выровнялась, легко поплыла. Из темноты уже надвигался второй крутобокий корпус. Суда тянули одно за другим, со всею оснасткой. На них можно было, не теряя ни минуты, плыть, куда надобно, воевать. Щепотев замыкал это ночное шествие. Перед рассветом, встретясь с Окуловым, на радостях стукнул его по плечу так, что тот пригнулся: — Правду говорят — храбрым бог помогает. Тимофей Окулов медленно и громко, чтобы слышали стоящие рядом, сказал сержанту: — Разумом своим, Михайла Иваныч, спас ты сегодня много солдатских душ. Да и мою тоже. Спасибо тебе. На это Щепотев ничего не ответил. — Ты смотри, — промолвил он, — смотри! По Неве, розовато освещенной первыми лучами солнца, плыл флот в пятьдесят вымпелов. Видели это и шведы с нотебургских стен. Белое облачко взлетело над островом. Ядро, дымясь и разбрызгивая воду, упало среди ладей. Запоздалый выстрел не причинил вреда. Флот отошел за излучину. Над одной из башен крепости появился флаг с короной. Шведы вывесили королевский штандарт в знак осады и призыва на помощь. Бело-голубое полотнище расстилалось по ветру.
6. ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ

«Кротовья война» продолжалась с прежним упорством. Но теперь то и дело ядра, посланные из крепости, рвались среди работающих. Слышались стоны. Раненых и убитых относили поодаль. На берегу Невы, против крепости, был врыт в землю целый городок. Скрещивались подземные ходы. Неприметные со стороны, широкой полосой раскинулись укрепления. Ходы начинались на опушке леса, в 650 саженях от Нотебурга. Глубокими зигзагами они вели к реке, расходясь здесь двумя ветвями, в общей сложности на полверсты. На выдвинутом вперед мыске — мортирная батарея, которой командовал Петр. Рядом — другой редут, на котором также виднелись пушки с задранными в небо стволами. Некоторые из них вели ответный огонь. Другие еще только ставились на выровненные площадки. Солдаты работали, не замечая грохота летящих ядер. Ждану Чернову приходилось трудно. Стоя по пояс в земле, он наотмашь кидал лопатой вязкую глину. Когда Ждан уставал, его сменял Родион Крутов. Они прокладывали ход к шанцу, где возились со своими громоздкими детищами пушкари. Родион и Ждан рыли землю близко от шанца и ясно слышали громкий говор. Новики — после того как они повидали врага, походили под огнем, их так называли изредка, — с последними взмахами лопат ввалились к пушкарям. Не успели осмотреться, слышат: в только что прорытом ходу кто-то ругается, человек, пригнувшись, спешит. По черному плащу с разлетающимися полами узнали Голицына. Михайла Михайлович выпрямился, крикнул пушкарям: — Видали, как ядра летят? Откуда шведы стреляют, не пойму. Пушкари ответили вразнобой: — О том и спорим. — Стреляют-то, вроде, вовсе не из крепости. — Зря глотки дерете, — прикрикнул полуполковник, — давно бы уж надо посмотреть, откуда бьют. Огляделся и полез на огромный вяз — его толстый окаменелый ствол не поддался топорам. Одинокое дерево высилось среди поваленных сородичей, разбросавших по земле еще не увядшие ветви. Редут тылом упирался в этот вяз. Его корни дыбили землю под орудийными лафетами. Голицын забрался невысоко, не удержался, заскользил по стволу вниз. Лизнул языком ссадины на ладонях, зло глянул на хохотавших пушкарей, на Ждана и Родиона, смеявшихся вместе со всеми. — Чего гогочешь, рыжий? — Михайла Михайлович повернулся к Ждану. — Не княжеская сноровка — по деревьям лазать, — ответил Чернов и дернул за рукав немого земляка, — подсади-ка, Родя! Ждан вскочил на плечи товарища, ухватился за сук, ловко перекинул свое сильное тело с ветки на ветку. С высоты крикнул завистливо следившему за ним Голицыну: — Чего надо смотреть-то? — Гляди, где дымки родятся! — велел полуполковник. Шведы стреляли нечасто. Чернов аккуратно сообщал: — От средней башни! От правой! Залез он на самую крону. Неловко было сидеть на прогибающихся ветвях. — Слезать, что ли? — спросил он Голицына, убедясь, что враг больше не стреляет. Михайла Михайлович все это время не отходил ни на шаг. — Гляди хорошенько, — требовал он. — Да есть уж больно хочется, — пожаловался Ждан. Родя закинул ему на дерево краюху хлеба. Как раз в это время громыхнуло, и Чернов закричал сверху: — С нового места стреляют. Похоже — из-за острова! Опять громыхнуло. Чернов крикнул уверенно: — Точно! Из-за острова! — Теперь слезай! — разрешил Голицын. Зашуршала по-осеннему пестрая листва, затрещали ветки. К подножию вяза скатился Ждан с краюхой в зубах. Не было времени доесть ее. Полуполковник озабоченно разговаривал с бомбардирами. Несомненно, у шведов сильные батареи не только на острове, но и за его пределами, на правом берегу. Их заслоняла всем своим массивом крепость. Чернов спешил к Голицыну рассказать о том, что видел с вершины вяза. Но до редута не дошел. Прозвенел хлесткий, как удар бича, свист. Ждан услышал крик полуполковника: — Ложись! Все — ложись! Земля под ногами Чернова странно вспучилась и поползла в сторону. Больше он ничего не помнил… Полковой обоз размещался в березовой роще. Лошади были выпряжены. Телеги стояли с поднятыми оглоблями. Васена, увидев брата, побежала навстречу. Лишь вблизи заметила, что Родион несет на руках безжизненное тело солдата. Очень трудно было пройти эти шаги, отделявшие ее от Родиона. Он поправил затекшие от тяжести руки, голова солдата мотнулась, и Васена узнала Ждана. Лицо его стало каким-то чужим, бледное, с закатившимися белками глаз. — Сюда, сюда! — крикнула брату и показала на телегу, до половины набитую сеном. Васена ни о чем не расспрашивала Родиона. Его разорванный, забросанный землею мундир, одичалые, странно косившие глаза яснее всяких слов говорили о том, что сейчас на Неве солдаты повстречались со смертью. Казалось, в одну эту минуту Васена выросла, стала старше, строговато-серьезной. Она сбросила с себя суконный, военного покроя кафтан, подсунула Ждану под голову. Расстегнула пуговицы его мундира, припала ухом к груди. Дышит ли? Бьется ли сердце?.. Васена с трудом уловила слабое биение сердца. Встрепенулась, будто сама ожила. Кому-то крикнула, чтобы принесли горячей воды. Принялась растирать Ждана. Бережно и так умело, что можно было только дивиться, девушка приподняла голову солдата, влила несколько горячих капель в запекшиеся губы. Ждан открыл мутные глаза. Увидел Васену. У него по-ребячески задрожал подбородок. Он опять закрыл глаза. Грудь его ровно поднималась и опускалась. — Спит, — прошептала Васена, точно невесть какое чудо происходило у нее на глазах. И снова она почувствовала себя маленькой, слабой девчонкой, разревелась, причитывая. То, что она была одета в мужскую солдатскую одежду, ничуть не мешало ей плакать. С первого дня в полковом обозе княжеские стряпухи поняли, что маленький барабанщик вовсе не мальчишка. Девушка без утайки все рассказала этим незнакомым женщинам. Они очень горевали над ее несчастной судьбой. Посочувствовали, ласково приветили… Васена не успела успокоиться, как вдруг услышала: — Барабанщик Василь Крутов! На войнеслезы лить не положено. Она узнала притворно сердитый голос сержанта Бухвостова. — Дядь Сергей! — и прикоснулась щекой к жесткому царапающему шерстяному рукаву. Неумело и стыдясь глядевших на него людей, сержант пригладил коротко остриженные белые волосики. — Ну, чего ты? Ждана ведь не убило, только оглушило ядром, всего и делов. Через день-другой на ноги поднимется. Васена кулачишками вытерла глаза. Но стоило узнать, что Сергей Леонтьевич пришел за нею, чтобы отвезти в Ладогу, разревелась снова. — Нет, нет, — твердила она. Так как Бухвостов молчал, она, всхлипывая, повторяла: — Куда мне ехать? Зачем? Зачем? Двуконная повозка въехала в рощу, остановилась у того места, где лежал Ждан. — Собирайся быстрей, — стараясь не глядеть в серые, заплаканные глаза девушки, сказал сержант. Она перестала плакать. — Что собирать? У меня ничего нет. Подошла к Родиону. Поцеловала его. Подошла к спящему Ждану. Подумала. И его поцеловала. Сергей Леонтьевич укутал Васену в армяк с высоким воротом. Посадил ее рядом с собою, под меховую полость. Подбежала одна из стряпух, низенькая, дородная. Она сунула в руки Васены узелок. В нем был ржаной калач. Девушка безучастно взяла узелок. Стряпуха дрожащей рукой погладила ее опущенную голову. Лошади рванули с места и помчались по дороге к Ладоге. — Перестань хныкать, — сказал сержант, — и без того тошно. Васена не ответила.
7. НА ПРАВОМ БЕРЕГУ

После полудня, как это часто бывает на Ладожском озере, подул шелоник. Заходили тучи. Волны ударили в берега. В такую непогодь все живое старается найти кров, переждать свирепый ветер… Этой же ночью, когда деревья тревожно шумели и гнулись, полк, приведенный Шереметевым из Новгорода, был поднят и поставлен в строй. Капралы придирчиво смотрели, как свернуты палатки и связаны котомки. В чистоте ли мушкеты? Не отсырел ли порох в запалах? Трофима Ширяя от ночного холода пробирала дрожь, зуб на зуб не попадал. Он крутился меж рядами, покрикивал, передразнивал капралов: — Стой не шатайся, ходи не спотыкайся! Трофим, как все, был голоден. Как все, недоспал. Но задиристо скалил щербатые зубы: — Нам все ништо, из пригоршни напьемся, на ладони пообедаем. Маленький, быстрый, он сыпал смешливые слова, притопывал, наигрывал на берестовой сипке. Полк колыхнулся, двинулся лесом. Шли недолго. Свернули. Опять показалась Нева. Ничем она не напоминала дневную тихую реку. Тускло блестевшие волны осыпали белые гребешки. Только тут поняли солдаты — шагать им по другому берегу. — Сейчас, робята, горячее начнется, — пообещал Ширяй. Он посунулся ближе к реке, чтобы разглядеть, что делается под обрывистым берегом. От удивления, от несомненной близости боя зябко поежился. На берегу были приготовлены полувытащенные из воды ладьи. Тут же покачивались другие суда, которые не сразу можно было узнать — так изменился их вид. Каждое несло на себе длинный бревенчатый настил. Стучали плотницкие топоры. Суда выравнивались бок к боку уже на середине Невы. Так это же мост, летучий мост! Не приведи боже пройти по такому, пляшущему на волнах, сооружению. Внезапно невдалеке встало багровое зарево, погасло и снова вспыхнуло. Вокруг заухало. Вода взметнулась к черному небу. Солдаты заспешили. Побежали к ладьям. Оступаясь в воду, отталкивали их от берега. Уже на плаву, скинув котомки, взялись за весла. Гребли поперек течения. Потеси гнулись, трещали, того и гляди, обломятся. Гребли долго, руки закаменели, и казалось, не будет края ни ночи, ни реке. Прошуршал песок под днищами. Ладьи ткнулись в берег. Солдаты выскакивали, держа мушкеты над головами. Капралы не дают отдохнуть, кричат: — Бегом! Бегом! Изо всех сил мчится Трофим. Слышит, как рядом, спереди и сзади топочут товарищи. Бегут по правому берегу Невы. Прямиком на зарево, на воющие пушки шведского штерншанца. Зарево начинает тускнеть. Оно опадает, уступая мгле. Долго ли еще бежать? Сердце колотится, мешает дышать. Впереди раздалось протяжное, будто поднимают тяжесть: — Ра-а-а! Ра-а-а! Крик вырывается из сотен глоток, разрастается, крепнет. Солдаты взбежали на насыпь, ударили в штыки — багинеты. В ночи ничего не разобрать. Кто-то тягуче стонет. Кто-то во все горло вопит: — Теперь шанец наш! Только до времени, видать, обрадовался. Шведы крепко вцепились в свои окопы. Бросились к пушкам. Ширяй почувствовал, как его схватили за руки. Он спросил сам себя, не понимая: — В плену я, что ли? Но от Невы снова нарастает, близится: — Ра-а-а! Опять рядом — знакомая, родная речь, руготня. Солдаты рассыпались по всему обширному шведскому штерншанцу. Еще раны не перевязали, не отдышались — раздается команда: — Насыпай вал! Окопы меняют фронт, поворачиваются дулами и жерлами к крепости. Никто не заметил, когда начало светать. Неожиданно увидели, что небо просветлело, а вода в Неве все еще темная. И посреди нее сурово и громоздко поднимаются стены Нотебурга. Но теперь солдаты видят крепость с другой стороны, от квадратной воротной башни. Темнеют глубокие бойницы. Через Неву переправились пушкари. Логин Жихарев ощупывал первые взятые с боя орудия. Одно шведы успели заклепать, одно утопили в протоке, спеша переправиться на остров. Жихарев выбирал место для своих мортир. Он облюбовал небольшую плоскую поляну вблизи штерншанца. Пушкари торопились, копали ходы, разворачивали лафеты, подтаскивали ядра. Всем мешал Трофим Ширяй. Он путался среди пушкарей и жалостливым голосом рассказывал: — Я же у шведов в плену был. — Ври больше, — посоветовал ему Логин. — Вот те крест, — клялся Троха. Вместе со свитой на завоеванный штерншанц прискакал Шереметев. Черный жеребец под ним перебирал копытами. Фельдмаршал, грузно трясясь на размашистой иноходи, подъехал к берегу. Жеребец, раздувая ноздри, вошел в воду по колена. Борис Петрович вытащил трехсуставчатую подзорную трубу. Долго смотрел на Нотебург. С угловой башни выстрелили. Пуля слегка взбуравила воду. Черный жеребец вынесся на берег. Фельдмаршал подъехал к штерншанцу, поблагодарил солдат: — Молодцы, лихо вышибли шведов! Через минуту плащи Шереметева и его свиты черными крыльями взмыли над протоптанной уже дорогой к переправе. Спешили вернуться в ставку. О событиях этой ночи в поденном «юрнале» было записано: «В I-й день октября о 4-х часах по утру, тысяча человек… в суда посажены, и на другую сторону Невы посланы, где неприятельский шанц и окоп стояли, дабы оныя взять, и проход на другой стороне занять, и в том щастливое споспешество получено». После полудня загремели барабаны на левом берегу. Дробь подхватили на правом. Солдаты повылезали из окопов. На стене крепости появились шведы и среди них — высокий старик в железном шлеме под длинным, развевающимся пером. Наверно, это был сам Шлиппенбах, комендант нотебургский. Рядом с ним стояли офицеры, их можно было различить по золотым шнурам на мундирах. Офицеры показывали Шлиппенбаху на группу всадников на левом берегу Невы. Один всадник спешился, отстегнул шпагу и сел в лодку. С трудом выгребая против течения, поплыл прямо к крепости. Шведы ушли со стены. С берега видели, как на острове встретили лодку. Посланного повели за башню, в ворота. Шереметев подъехал к батарее на мысу. Сняв жесткую, обшитую позументом треуголку, приветствовал командира той батареи Петра Михайлова. Они совещались, посматривали в сторону Нотебурга. Посланный от Шереметева увез в крепость письмо к Шлиппенбаху. Так как Нотебург обложен русскими войсками со всех сторон, говорилось в письме, так как защита острова приведет только к напрасному кровопролитию, шведам предлагалась немедленная и почетная сдача. Ответа не было. Посланный не возвращался. Бомбардирский капитан Петр Михайлов сказал Шереметеву: — Поверь, Борис Петрович, задержать не осмелятся. Но когда фельдмаршал отъехал, велел пушкарям зарядить мортиры. Солдаты на правом берегу первыми заметили парламентера. Ширяй, с удобством растянувшийся на макушке холма, сообщал тем, кто был в шанце и из-за вала не мог все видеть в таких подробностях: — Ведут… В лодку посадили… Оттолкнули лодку… Шереметев поспешил встретить парламентера. Долго слушал его, наклонив голову. Потом вместе с ним отправился на батарею к Петру. Комендант Шлиппенбах на требование о сдаче отвечал уклончиво. Сам он своею властью столь важный государственный вопрос решать не может. Он просил четыре дня, чтобы дождаться совета и разрешения от старшего по чину, коменданта Нарвской крепости. Петр криво усмехнулся маленьким жестким ртом. — Старая лиса, этот Шлиппенбах. Знаем, зачем ему надобна отсрочка. Толковать с ним больше не о чем. Дозвольте, господин фельтмаршалк, начинать… Мортиры капитана Петра Михайлова первыми начали прямой обстрел Нотебурга. Подали громовые голоса и соседние и заречные батареи. О том в боевом журнале — новая запись: «Понеже о сем комендантовом вымысле о продолжении времени у нас дозналися, того ради соответствовано ему на сей комплемент пушечною стрельбою и бомбами со всех наших батарей разом, еже о 4 часах после полудня начато…». С этой минуты рев пушек на Неве не умолкал.
8. СНОВА В ПОЛКУ

Почти каждый вечер Родион Крутов приходил в полковой обоз к Ждану. Если Родиона не пускали, он садился в стороне на пенек и издали смотрел на земляка скучными глазами; кто-нибудь непременно сжалится и скажет немому: — Ладно уж, иди к своему дружку. После контузии Чернов поправлялся хорошо. Как-то с вечера он предупредил Родиона: — Завтра к своим потопаю. Я уж вовсе крепко стою. На следующий день немой с утра торчал в обозе. Ждан заметно исхудал, вытянулся. В пути, хоть и недалеком, Родион бережно поддерживал земляка. Ждан часто отдыхал. Заметив тревожный взгляд товарища, сказал: — Ничего, расхожусь. Понимаешь, непривычное для нас дело — на боку валяться… Если и раньше Родион и Ждан были дружны, то теперь стали совсем неразлучны. Беспокойство за Васену сблизило их еще больше. Прежде они часто виделись с нею. По крайней мере, знали, что она рядом. С тех пор как ее увезли в Ладогу, надежды на встречу не было никакой. Сержант Бухвостов неотлучно находился на петровской мортирной батарее. Едва лишь началась осадная битва, Петр с ближними людьми перебрался из ставки в «Красных Соснах» на передовой редут. Ждан и Родион о Васене с сержантом не разговаривали; ни о чем его не расспрашивали. Сергей Леонтьевич не мог выдержать их укоряющих взглядов. «Думаете, обманул я вас, — говорил он мысленно, — знали бы, как мне-то тяжело». Бухвостов часто вспоминал тот день, когда простился с Васенкою в Ладоге. Поместил он ее у пожилой женщины, швеи при зелейном амбаре. Она с утра до вечера шила мешки для пороха. В амбаре всеми делами заправляли служилые инвалиды. Называли их «безногой командой». Правда, безногих среди них не было. Только урядник сильно хромал, — след плохо зажившей раны. Сергей Леонтьевич строго приказал ему, чтобы никакой обиды мальчонке Василю не было. Кормить досыта. Работой не томить. Разве что пусть мешки от швеи подносит да за амбаром присматривает. — За мальчишку ты передо мной в ответе, — сказал Бухвостов уряднику. Васена была молчаливой, ко всему безразличной. Но когда застучали лошадиные копыта, стремглав выбежала за ворота. Сергей Леонтьевич оглянулся на нее, тоненькую, в солдатском широком мундире. Васена не уходила, пока повозка не скрылась за холмом. С этого часа подросток Василь Крутов числился на работах при Ладожском зелейном амбаре. Но спокойствия сержант не нашел. Все время видел он перед собой Васенку, как стояла она, маленькая, одинокая, и смотрела вслед… Утешительно одно — теперь не грозят ей ни ядра, ни пули. На Неве же воздух, казалось, раскаляется ог летящего свинца и железа. Стреляли с берега и из крепости. Часто, настойчиво. Как будто запертые в крепости хотели сказать осаждающим: «Мы на острове и уходить не собираемся». А осаждающие отвечали: «И мы тут, на берегу. Посмотрим, кто кого». Так и шла эта железная перебранка. На батарее капитана Петра Михайлова — порядок, как на смотру. Бомбардиры щеголяли этим порядком. Мортиры выравнены в ряд по линейке. Выстрелит пушка, все вокруг застелется черным дымом. Полыхнет огонь. Зло просвистит в воздухе. Пéкло, настоящее пéкло. Но ветром разнесет гарь. Мортира — на месте, хоть сейчас снова стреляй. И пушкари тут же, подзакоптились малость, но вид отменно бодрый. Подносят новое ядро, на жердинах, в вервяной «люльке». Жердины прогибаются. Бомбардиры нарочно идут не в ногу, чтобы «люлька» не раскачивалась, не прибавляла тяжести. Нередко случается, шведский снаряд-каркас вскинет землю, забросает пушки грязью. Но через несколько минут площадка опять выровнена, медные жерла блестят. На батарее крепко боялись командира. Боялись его не как государя. Не напрасно ведь говорится: «До царя что до бога — далеко». Боялись именно как капитана. Он тут, близехонько. Может дубиной по загривку пройтись, а то протянет лапу и за ухо выдерет, как нашкодившего кутенка. Петр Михайлов любил порядок. Сержант Бухвостов находился при фланговом орудии. От других солдат Сергей Леонтьевич отличался только сединой на висках. Он старательно следил, чтобы вовремя засыпáли порох в дуло. Сам крепко укладывал его деревянным тяжелым прибойником. Ставил тугой тряпичный пыж. Помогал бомбардирам поднять ядро. С некоторою торжественностью принимал горящий пальник, подносил его к фитилю. Ладонью затенив глаза, следил, как ядро падает на крепостную стену. Могучая стена. Пылится, не крошится. Но пушкари — народ упрямый. — Давай ядро! — кричит сержант солдатам. Привыкли бомбардиры к огню, привыкли к проносящейся над головой опасности. Бухвостов командовал громко, все делал отчетисто. Он старался хоть в бою отдалиться от мыслей, не дававших покоя. В этот день случилось событие, истинное значение которого было скрыто почти от всех. На батарее появился человек странного вида. Его широченные плечи распирали поповский подрясник. Наперсный крест с оловянной цепью болтался на груди. — Э-эй! — совсем не по-священнически крикнул вновь прибывший. — Не видал ли кто моего сынка Тимошку? Все, кому хоть раз доводилось встречать Тимофея Окулова, сразу узнали его отца. С сыном они были, что называется, на одно лицо. У олонецкого священника Ивана Окулова была такая же докрасна обветренная кожа, облупившийся нос и зычная речь. Только седые, даже пожелтевшие, волосы отличали его от сына. Появился он на батарее неожиданно. Сначала никто не заметил пришедшего с ним солдатика. Тот жался к стороне, утирал коротковатый нос обшлагом рукава, в котором утопали пальцы. Священник взял солдатика за плечо, поставил перед собой и объявил громогласно — иначе говорить не умел: — От самой Ладоги везу молодца. Со слезами умолил, говорит — необходимейшее у него дело к сержанту Бухвостову. Я лошаденку хлестнул, а он за мной версты две вприскочку бежал, пока не упал на дороге. — Окулов закашлялся, точно в бочке загрохотало. — Кто тут Бухвостов? Сергей Леонтьевич давно уже разглядел солдатика. Хотел подбежать к нему, да вовремя сообразил — этого делать нельзя. Наверно, все обошлось бы. Но на громкие голоса из холщовой палатки выглянул сам бомбардирский капитан. Он выполз на четвереньках. А когда выпрямился, оказался на голову выше всех стоявших рядом. Васенка даже на цыпочках не достала бы до верхнего кармана его лосиного камзола. — Ты кто? — спросил Петр. Солдатик, вытянувшись и задрав подбородок, пропищал: — Барабанщик Василь Крутов! Васена не знала, кто этот великан. Она удивленно смотрела на него, на толпившихся вокруг солдат. В эту минуту поблизости заухало ядро. Бухвостов бросился к барабанщику, прижал его к земле, закрывая русую головенку. Петр взглянул на сержанта и с укором пробасил: — Во многих баталиях видал я тебя, Леонтьич. А вот как струсил, вижу впервой. Бомбардирскому капитану не хотелось позорить «первого российского солдата», и он снова повернулся к маленькому барабанщику. Длинным протабаченным пальцем прикоснулся к его лбу, сказал неодобрительно: — Смазлив, как девчонка. Бухвостов заговорил торопливо: — Совсем ребятенок. Его бы в обоз отослать… — Зачем? — спросил Петр. — Нечего ему за бабий подол держаться. Вчера у Голицына барабанщика убило. В полк! Бомбардирский капитан не смотрел больше ни на солдатика, ни на растерявшегося сержанта. Он разговаривал с Иваном Окуловым: — Издалека ли пожаловал, батюшка? — В Ладоге был, у владыки, — ответил священник и повторил вопрос, с каким появился на батарее: — Не знаешь ли, господин офицер, где мой сын, Окулов Тимошка?
9. КАЛЕНОЕ ЯДРО

Осадные орудия с обоих берегов Невы били по крепости. Но не причиняли ей приметного вреда. Ядра дробили крепкий плитняк. Стены стояли несокрушимо. Правда, удалось проломить кровли башен. Ядрами снесло козырьки бойниц. Результат слишком ничтожный. Шведы безбоязненно ходили по стенам. На русском языке выкрикивали ругательства, насмешки. Ожесточившийся Петр велел не жалеть пороха и ядер, бить кучно, меж двух башен. Полдня над стеной висело облако измельченного камня. Когда оно рассеялось, увидели — наконец-то сделан пролом. Но он был так мал и на такой высоте, что никак не мог облегчить штурм. Шведы разгуливали по стенам как ни в чем не бывало. Бомбардирский капитан поносил пушкарей последними словами. Не могут-де как следует прицел взять. Он съездил на правый берег, чтобы обругать батарейцев штерншанца. — Вот же ходят, — Петр тыкал пальцем в сторону острова, — смеются над нами. Чем ответим? Пушкари от тех слов, от несомненных неудач ходили мрачные, злые. Им, бомбардирам, начинать приступ. А зачина-то и нет. Похоже, ядра отскакивают от Нотебурга. Трофим Ширяй отводил душу, вышучивал закадычного своего приятеля Жихарева: — Хороша слава — «железный нос». А что толку? Долбишь, долбишь, все не впрок. — Так ведь стены-то какие? — оправдывался Логин. — Нашей, российской кладки. Одно слово — Орешек. — У хренова воина все так, — язвил Ширяй, — что ни хвать — то ерш, то еж. Вдоволь насмотрится Трофим, как приятель пыхтит, фырчит. Скажет веско: — Насчет городка этого ты правду сказал. Крепость важная. Про нее на Руси издавна пословица ходит: «Орешек и перца горчае». Муторно на душе у пушкаря. Понимал — упреки заслужены. Да разве в том дело, что Троха над ним потешается? Вот загвоздка: как достать врага, схоронившегося за крепкими стенами? От дум Жихарев стал еще лохматей и на вид страховитым. Не говорил — огрызался. Глаза от бессонницы покраснели и распухли. Никому ничего не объясняя, Логин за ракитником поблизости от штерншанца начал рыть неглубокую ямину. Принялся подтаскивать жженый уголь: у кашеваров этого угля — горы. Стал прикидывать, как мехи соорудить. Трофим тут же вертелся. Спрашивал: — Чего задумал? Литец отмахивался, словно от надоедной осы. — Курчавый волос — кудрявые мысли, — донимал Троха. Теперь он зубоскалил реже. Помогал приятелю. То березовых поленьев нарубит, то из старых ржавых багинетов крючья соорудит. Но всего дороже был для литца кусок парусины, которую Ширяй стащил у кого-то на левом берегу. Парусину Логин скатал в трубу, зашил ее с одного конца. Получились мехи на славу. Многие дивились — чудит литец. Мастерскую с горном соорудил под носом у шведов. Но пушкари поопытней давно уже сообразили, в чем дело, и одобряли товарища. Мехами Жихарев раздул горн. Потом вкатил в него ядро. Когда металл раскалился и по нему загуляли белые звезды, ядро выхватил самодельными крючьями, подтащил к пушке. У орудия Жихарев остался один. Даже пушкарям, даже Ширяю велел отойти прочь. Так как Трофим его не послушался, а убеждать не было времени, литец дал ему такого тумака, что он выкатился за шанец. Ширяй ныл и на все корки ругал этот чертов «железный нос». Пушкари урезонивали: — Дурья голова, он же тебе жизнь спасает. Уходи подальше. Троха лег за бугорок и расширенными глазами следил за каждым движением Логина. Тот заглянул в дуло, для чего-то пощупал его рукой, вытер руку о порты. Нагнулся к раскаленному ядру и поддел его железной снастью. Закряхтев от натуги, литец выпрямился и вкатил ядро в пушку. От мгновенного удара дрогнула земля. Все затянуло дымом. Пламенно-красное ядро, разгораясь все ярче, летело к крепости. Перемахнуло через стену и исчезло среди покатых крыш. Пороховое облако отнесло в сторону. Жихарев ползал вокруг сдвинувшейся с места пушки, ощупывал ее теплое медное тело. — Цела, родимая, — шептал он, — выдержала, матушка. Некогда было стирать гарь, густо покрывшую лицо и руки. Этаким чертом литец бросился к горну и принялся калить второе ядро. Стрельба теперь шла спокойно, размеренней. Жихарев допустил помощников. У пушки орудовали трое, четверо. По остерегающему оклику Логина «бо-ойся!» все находящиеся поблизости падали на землю. Огненный шар, прокладывая в воздухе искристую дугу, летел в Нотебург. После второго ядра шведы перестали прогуливаться. Но результатов обстрела заметно не было. Лишь после четвертой посылки возле башни, обращенной к Неве, дым и пламя взлетели к небу. На правом берегу закричали: — Ура-а-а! На левом тысячами глоток подхватили. Пошли в ход каленые ядра. Дело это было не в диковинку. Калить железо умели давно. Сейчас огневое это мастерство пришлось в самую пору. Нотебург пылал. Через некоторое время на стене крепости появился шведский барабанщик. Видно было, как мелькают палочки в его руках. Но дроби не слыхать. Лишь когда стихла стрельба, слабо долетел многократно повторенный сигнал к посылке парламентера. Шведы хотят говорить. Знак добрый. Солдаты, радуясь тому, что хоть какое-то время можно не опасаться летящего со свистом железа, высыпали из окопов. Лодка под белым флагом поперек течения поплыла от крепости к левому берегу, к петровской батарее. Шведский офицер церемонно снял треуголку, склонясь, помахал ею и вытащил из-за отворота мундира белый листок. Решив, что самый высокий среди обступивших его артиллеристов и есть главный начальник над русскими, он передал ему листок. Это было послание от шлиппенбахши, жены нотебургского коменданта. Петр велел толмачу громко читать и переводить. Офицер почтительно заметил, что письмо адресовано благородному господину фельдмаршалу. Петр не менее почтительно объяснил офицеру: — Мы тут все благородные. И уже сердито крикнул толмачу: — Читай! С первых слов на батарее раздался хохот, который не смолкал до конца чтения. Шлиппенбахша в жалостливых выражениях писала о «великом беспокойстве от огня и дыму», о «бедственном состоянии, в котором обретаются высокородные жены господ офицеров». Супруга коменданта просила, чтобы их выпустили из крепости. — Припекло шлиппенбахшу! — А чего они, сюда, как блохи, прискакали? Сидели бы в своей Стекольне! — Жиреют на чужой стороне! Гневные голоса пушкарей неслись со всех сторон. У Петра шевелились усы. Маленький красный рот скосился и поехал к уху. Шведский офицер понял свою ошибку. Он снова попросил, чтобы письмо было передано Шереметеву. — Не имею времени разыскивать его, — сказал Петр, — но знаю доподлинно, что господин мой фельтмаршалк не пожелает опечалить супругов разлукой. — Господин капитан! — швед поднял руку, готовясь произнести речь. Но Петр не стал слушать. — Ежели высокородные офицерши желают покинуть крепость, — бросал Петр жесткие слова, — никто не будет чинить им противства. Но пусть они заберут с собою и своих любезных мужей. На батарее снова громыхнул хохот, словно рявкнула мортира. Швед закусил губу. Бомбардирский капитан подмигнул. Здоровенный пушкарь черными от пороха лапищами поднес парламентеру наполненную до краев чару. Швед поперхнулся, но выпил до дна. Неотрывно глядя на великана с шевелящимися усами, парламентер попятился к лодке. Кажется, он понял, с кем разговаривал. Едва лодка под белым флагом скрылась за башней, барабанщик сошел со стены крепости, и сразу же там зарявкали пушки. Произошло это так скоро, что ясно было: во время переговоров шведы держали на прицеле петровскую батарею. «Сей комплемент знатно осадным людям показался досаден, — отмечалось в поденном «юрнале», — по возвращении барабанщика тот час великою стрельбою во весь день на тое батарею из пушек докучали паче иных дней, однакож жадного урона не учинили…» Ядра вздымали землю, рвали ее. В какой-нибудь час превратилась она в поле, по которому словно прошло стадо диких кабанов. Пушкари сплевывали пыль, набившуюся в рот. — Снаряжай зажигательный каркас, — распоряжался бомбардирский капитан, закиданный грязью с головы до пят, — господам шведам, вишь, жара не нравится!
10. ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Канонаду внезапно сменила удивительная тишина. «В сей день ничего знатного не учинилось», — так обозначено в походном «юрнале». А для Васенки и Ждана, кажется, во всю жизнь не было дня краше. Солдатам дали целые сутки отдыха. Васена же на этот день отпросилась у капрала собирать травы. О том, что маленький барабанщик — девчонка, в полку знали все. Впрочем, все, да не все. И это самое удивительное в судьбе Васены Крутовой. Правду о ней знали солдаты. Ничего не было известно офицерам, кроме Бухвостова. Голицын был твердо убежден, что в его полку барабанщик — мальчишка, подросток, как и в других полках. Это был солдатский сговор. Никому и в голову не приходило выдать крепостную, бежавшую от злого боярина. А то, что она так неожиданно встретила его в полку, придавало сговору особенную значимость. Окольничий Меньшой Оглоблин «за ненауку», «за поносные слова государеву имени» находился в тяжелой опале. И еще должен был благодарить бога, что остался жив. Петровская опала чаще всего вела на плаху. По сравнению с этим солдатская служба считалась милостью. От Оглоблина в строю было мало прока, и его вскоре отослали в обоз. Дело бывшему окольничему дали самое милое. Он таскал в батальоны ведра с кашей. Однажды при таком походе Оглоблин встретил маленького барабанщика и узнал Васенку. Мысль рассказать о ней Голицыну была заманчивой. Но только в первую минуту. Хотя опальный боярин отроду не был наделен мудростью, он без труда сообразил, что в таком случае немой Родион либо Ждан, а то и первый попавшийся солдат раскроит ему голову. И никто не станет придирчиво разбираться, отчего он погиб — от шведского ядра либо от русского тесака. Васена же ничуть не испугалась встречи с Оглоблиным. Даже вызвалась помочь ему нести ведра. Осмелела девчонка, знала — есть кому заступиться за нее… В полку так привыкли к маленькому барабанщику, что обойтись без него казалось уж совсем невозможным. Солдат, услышав дробь барабана, мысленно говорил себе: «Тут она, Васенка-Васек, с нами, русая головка без косиц». Когда начиналась перепалка, барабанщика прогоняли в обоз, а то укрывали за земляным бруствером. Никто не говорил дурного слова. Только однажды увидела девушка сердитое лицо Ждана и услышала его сердитый оклик. В тот день шведы сильно донимали наших мушкетным огнем. Васена слушала, как свистят пули. Стук — в дерево угодила, шмяк — в землю зарылась… Вдруг ее схватили за плечи и отбросили прочь. Это был Ждан. — Уходи! — кричал он. — Видишь, что тут творится? Уходи скорее! Васена очень обиделась, даже разревелась. Потом поняла, что Ждан уберег ее от пуль, и лицо у него было не только сердитое, но испуганное. Обида прошла. Была еще причина, по которой Васенка очень быстро стала нужным человеком в полку. Это — унаследованное от отца и матери умение врачевать травами. Многие раненые солдаты спешили к ней, а не к полковому лекарю. Дело тут, конечно, и в том, что у лекаря — безжалостные лапищи, у Васены же легкие, ласковые пальчики, и голосок срывается от жалости. Главное — хорошо помогали ее травы. Вот почему капрал без лишних уговоров отпустил барабанщика в поля за травяным припасом. Васенка и Ждан ушли на болота за речку Назию. Места тут неказистые. Кочкарник порос калиновыми кустами. Рябина светилась переспелыми, схваченными морозцем ягодами. Ольха под ветром трещала оголенными ветвями. Все здесь неприглядно, как бывает на болоте поздней осенью. Но Васена прыгает с кочки на кочку, как птица, сбоку поглядывает на Ждана и говорит без умолку. Ждан диву дается, когда она успела разузнать все про здешние поля, леса и болота. Словно тут родилась, и нет для нее окрест ничего скрытого. — Смотри, смотри, Жданушка! — зовет Васена. И молодой солдат таращит глаза, сам не понимая, как прежде не замечал такой красоты. Васенка носком сапога отбросила с тропинки черный, жухлый листочек, а под ним — другой, точно из серебра кованный, весь светится снежными звездочками. Вот темно-зеленый мох — ягель, а рядом — глубокие, еще не залитые водой лосиные следы. Видать, недавно добрый зверь прошел. А там алеет клюква, как самоцветы, брошенные щедрой рукой. У Васенки горсти полны темных, блеклых стебельков. — Это — зверобой, — объясняет она, — это цвелый ландыш. А это — царские очи. Молодому солдату невдомек, почему скукоженная на холоде травка зовется таким именем. — Посмотрел бы ты, как цветут царские очи, — говорит девушка, — утром мимо пройдешь, не заметишь. А в полдень остановишься, как завороженный. Цветок этот раскрывается всегда в полдень… Старухи знахарки сказывают — есть у него приворотная сила. Не знаю. А что он кровь вяжет, — правда… Долго вдвоем бродили по болотам и перелескам. Время летело быстро. Ждан удивился, увидев предвечерний туман на полях. «Хоть бы заблудиться», — подумал молодой солдат. Но впереди уже виднелись огни лагеря. Над Невой — тишина. Крепость посреди реки кажется высеченной из одного камня. И там тоже — ни выстрела. Как будто война кончилась… Ждан рванул полог палатки, радостный, говорливый, нагнулся под холщовыми скосами. — Тишина, как у нас в деревне бывало, — сказал он. — Похоже, людям воевать надоело. В палатке на брошенной наземь шубе сидел Бухвостов. Он поднял голову, посмотрел на солдата и сказал внушительно: — Зря тишине радуешься. Бывалые воины тишины боятся. Она всегда перед грозой. Сергей Леонтьевич только что вернулся из «Красных Сосен». Невеселые мысли тяготили его. Осада крепости шла трудно. Несмотря на сильный пушечный обстрел, несмотря на удачную первую вылазку, Нотебург держался крепко. Решимость шведов обороняться отнюдь не была поколеблена. Все старые, испробованные во многих боях средства к взятию твердыни здесь, под Нотебургом, не годились. Попытались через протоку переправить стенобитную махину. Шведы ее потопили вместе с ладьями, на которых она была уложена. Но и переправили бы — какой от нее толк? Кромка суши у стен так мала, что махину не развернешь. В старину верней всего брали крепости подкопом. Выроют ход под землей, вкатят туда бочки с порохом, пустят к нему огненную змейку через пеньковую вервь. И взлетят в воздух башни и стены. Но как быть тут, на берегу Невы? Вырыть ход под речным руслом? Нашли обвалившиеся подкопы — им не один десяток лет. Пробовали углубить. Залило водой. Бросили. О таком деле и думать нечего. Грустно Сергею Леонтьевичу оттого, что он знает — будет так, как и прежде бывало. Все решится кровью. То, что огнем и ядром не сделано, сделают человеческие руки. Те холопьи загрубелые и бессмертные руки, что пашут землю и поднимают города повсюду на Руси. Тысячи жизней будут брошены в сражение, как стружка в костер… Бухвостов много лет уже в безысходных боях и походах, а все не может привыкнуть к тому, как умирают люди. Сергей Леонтьевич вцепился пальцами в шубную шерсть. Запах отсырелой овчины душит, душит… — Господин сержант, а видал ты когда-нибудь цветок царевы очи? Это спрашивает Ждан. Он сидит на земле, обхватив колени, и смотрит в темноту. — Чего ты мелешь? — недовольно отзывается Бухвостов. — Какой еще цветок?
11. „ВЗЯТЬ ВЗЯТЬЕМ!“

Как только стало известно, что крепость велено «взять взятьем», то есть приступом, на обоих берегах Невы начали готовиться к большому бою. Пожилые солдаты были торжественно серьезны. Переодевались во все чистое. Один у другого просили прощения в обидах вольных и невольных. Ширяй сидел на высокой кромке штерншанца, болтал ногами и с умильным видом приставал к Жихареву: — Логаша, не попомни злым словом… Логаша, язвил я тебя. Поверь, без умысла… Жихарев, поглощенный работой, покосился цыганским глазом на Ширяя. Приметил смешинку в его растянутых губах, сказал неодобрительно: — Суеслов ты, Троха. Право, суеслов! Пушкарь длинным банником будто нечаянно задел сиповщика. Тот обиженно спрыгнул с краешка окопа, ушел. На штерншанце пушкари обхаживают своих медных красавиц, убирают и чистят, готовят к сражению, как невесту к свадьбе. Жихарев перекладывает горн, перешивает мехи. Значит, снова пойдут в ход каленые… Повсюду в полках солдатам розданы приступные лестницы. Тонкие, длинные, на весу гнутся. Голицын учил солдат, как те лестницы переносить, ставить к стенам, как бежать со ступени на ступень вверх. Прислоненные к елям, легкие, едва сколоченные планчатые лестницы падают, рассыпаются. Михайла Михайлович бегает в своем развевающемся плаще, сам лезет на ступени. С последней перекладины размахивает клинком, лицо раскраснелось, глаза — огонь. Будто князь и в самом деле попирает стены Нотебурга. Вдруг Голицын начинает ругаться. От гнева вздрагивают крылья тонкого носа, брови плотно сдвинулись. Полуполковник то взбежит на лестницу, поглядит вниз, то с подножия смотрит в высоту. Так и есть — недомерок! Голицын приказывает наращивать лестницы, прибавлять по две, по три ступени. Но многого сделать уже нельзя. Темнеет. С левого берега отваливают лодка за лодкой. Их много. Не одна сотня. На лодках — набранные по всем полкам удальцы. Михайла Щепотев — в мундире с парадной перевязью. Ярко начищенный эфес шпаги светится в темноте. Щепотев во весь рост стоит на раскачивающемся суденышке. Командует гребцам: — Навались! На другой лодке — Тимофей Окулов. Он еще у причала; слушает последнее напутствие. Отец Иван перегнулся, весь подался вперед, чтобы быть услышанным: — Как камни минуешь, берегись мелей. — Все упомню, — покорно отвечает сын. — Потом держи на Посеченный нос. Слышь? На Посеченный! Лодка отошла. Отец Иван не выдерживает и, подоткнув рясу за пояс, прямо по воде делает два шага, отделяющие его от лодки. Грузно переваливается через борт и усаживается на корме, рядом с сыном. — Уж лучше я с тобой поплыву. Один беспременно на мель напорешься. Окулов-младший знал, что так будет. Ничего не говоря, подсовывает бате сухие сапоги. Окулов-старший, кряхтя, выливает из своих зачерпнутую воду. Флотилия прошла по курсу несколько верст. В ночной мгле развернулась. Ни шума, ни всплеска. Гребцы чуть шевелят веслами, лишь бы не снесло течением. В тишине неестественно громко слышится голос Щепотева: — Где ты, Тимоша? В ответ раздается: — Я тут, Михайла Иваныч. Щепотев руками расталкивает ближайшие лодки, пробирается к Окулову, становится рядом с ним, борт к борту. Все молча вглядываются в чернеющий впереди массив крепости, справа и слева сжатый водой… В это время на левобережном редуте, размахивая длинными руками, крупным шагом вперед-назад расхаживал капитан бомбардирский. Он остановился, прищурясь, посмотрел на луну, желтым светом озарившую реку и окрестные леса. Потом повернулся к подошедшему Бухвостову: — Леонтьич, давай сигнал! Сержант выхватил шпагу, подбежал к пушкарям. Сталь на взмахе холодно блеснула, застыла над головой. Пушкари зажгли запальники. Бухвостов взмахнул шпагой. Еще. И еще. Согласно и могуче заухали орудия. Прогремели нетерпеливо ожидаемые всей армией «три выстрела из пяти мортиров залфом». Минуту длилась тишина. Должно быть, на батарее эта пауза показалась нескончаемой. Петр с такой силой сжал плечо Бухвостова, что он невольно посторонился, пошевелил рукой, проверяя, целы ли суставы. Но вот оглушительно заревели десятки медных стволов. Ночное небо прорезали ядра. С берегов реки и с озера, со всех сторон к Нотебургу приближались густой стаей лодки, челны, парусники. Началось! Внезапно вся крепость осветилась яркой вспышкой. Что-то там взорвалось. Не пороховая ли казна? В черное небо летели бревна, остатки кровли, комья земли. Занялся пожар. Когда флотилия с озера подходила к Нотебургу, высокое пламя отражалось в воде. Лодки плыли, словно сквозь огонь. С ходу врезались в песчаник. Солдаты прыгали на остров. Тут же выгружали лестницы. Бежали с ними к стенам. Впереди солдат огромными прыжками мчался Щепотев. Он слышал за собой топот ног. Бежали вдоль берега к проломам, черневшим посреди каменных стен. Здесь уже валялись разбитые лестницы. Стонали раненые и обожженные варом, который потоком стекал с башен. Солдаты с правого и левого берегов первыми поспели на остров, к крепости, и первыми схватились с осажденными. — Посторонись! — крикнул Щепотев Трофиму Ширяю, который юлой кружился на месте и ладонями прибивал на себе тлеющий мундир. — Ну, силища, ну, страховито! — вопил Ширяй, дуя на руки. По лестницам ползли в высоту, в клубящийся дым солдаты. Ползли и падали обратно, нередко вместе с лестницами. Где-то рядом дрался со шведами Тимофей Окулов. Слышался его голос: — Получай! Узнал «русского Тима»? Вот тебе, знакомства ради. Щепотев заметил, как отец Иван, стоя у подошвы башни, крестом благословлял идущих на приступ. Потом сунул крест за пазуху, схватил тесак, вывалившийся из рук убитого, и сам полез на лестницу. Сержант видел это уже с высоты. У него не было времени ни ободрить, ни предостеречь старика. Щепотев по лестнице поднялся почти вровень с краем пролома. Но шведы не давали шага сделать дальше. Пролом густо щетинился саблями и пиками. Оттуда летели камни. Почти в упор стреляли из мушкетов. С другой стороны острова, на противоположном фасе крепости, вел на штурм семеновцев полуполковник Михайла Михайлович Голицын. В квадратной башне виднелись под аркой окованные железом ворота. Но пробиваться в эти ворота было бесполезно. Наглухо забитые, загороженные бревнами, они не поддавались никакому напору. К тому же ворота были сбоку башни, и солдаты не могли вломиться в них грудью, а непременно должны были повернуться, подставляя себя под удар. Только один путь оставался в Нотебург — через стены. Приходилось взбираться на самый верх. А там стояли в ряд «железные люди», латники. В блестящих доспехах отражалось пламя. Они звенели под ударами, острия штыков оставляли на них только вмятины. «Железные люди» опрокидывали лестницы, сталкивали со стен на штурмующих огромные камни, рубили мечами. Падал один латник — его место занимал другой. Голицын бросал на стены батальон за батальоном. Успеха нет. Родион и Ждан уже по нескольку раз побывали на лестницах, и либо падали, либо спускались на ощупь, полуослепленные огнем и дымом. Отдышавшись, хватались за мушкеты, посылали в шведов пулю за пулей. Но целиться снизу было неловко, затекали руки. Ждан злобно глядел на латников. Они перемещались вдоль стен грузно, неспешно. Молодой солдат думал, что теперь в доспехах уж не дерутся. Так вот же они, гремят стальными рукавицами. — Добраться бы до них, только добраться! Чернову казалось, что он те слова не сказал, а подумал. Но в действительности прокричал их во всю глотку. Находившийся неподалеку Голицын услышал и ответил: — Доберемся! Слышите? Слышите? Вот какую подмогу нам пушкари кидают! Полуполковник обращался к семеновцам, желая их ободрить, бросить вперед, снова вперед, к стенам. В воздухе гудело, гремело, переливались густые звоны. С лязгом прокладывали себе путь двенадцати- и восемнадцатифунтовые ядра. Разбрасывая и крутя воздушные потоки, летели на цель трехпудовые бомбы. Все это рвало и кромсало сердцевину Нотебурга. Бой, тяжкий рукопашный бой, накалялся у самых стен. Сколько времени длится битва? Голицыну показалось, что пожар внутри крепости стих, языки пламени потускнели. Он огляделся и понял — давно уже кончилась ночь. И над горящим островом, над людьми, задыхающимися в кровавой схватке, багровым оком поднялось дневное солнце. В отчаянии, что крепость еще в руках у шведов, и враг силен, и не удалось ни на шаг подвинуться к победе, Михайла Михайлович закричал семеновцам: — За мной! Снова, уже не считая, в который раз, Голицын повел солдат на приступ. Ждан повернулся к Родиону. — Посмотрим, какие они железные! И первый кинулся к лестнице. Ее верхние перекладины горели неярким, чадным огнем.
12. СТРАШНЫЕ МИНУТЫ

От бомбардирского капитана, командовавшего на левом берегу Невы, к Шереметеву, который со своей свитой обосновался на правобережье, через летучий мост непрестанно мчались конные вестовые. Плохие были вести. На всем протяжении крепостных стен не взято ни с аршин места. Пробиться в бреши не удавалось. Ломовая артиллерия не затихала. От частой стрельбы начали плавиться пушки. Шведы держались непоколебимо. Да и не надо было никаких донесений от фельдмаршала, от командиров полков. Зачем? Вот она перед глазами — картина битвы. Смежить бы веки, не видеть ее. На береговом откосе, усамой воды стучат барабаны. Барабанщики стоят шеренгой. Летают палочки в их руках. «Вперед — на приступ! Вперед — на приступ!» — выпевает неумолчная дробь. У самого маленького в шеренге, белокурого, тоненького, остекленели глаза, вздрагивают губы. Для одних барабаны бьют посыл в битву, для других — отходную. Через протоку к острову напрямик сквозь всплески, вскинутые ядрами, плывут лодки с солдатами. Возвращаются лодки с убитыми и ранеными. Солнце миновало зенит и клонится к закату. Баталия у стен Нотебурга длится бесконечно. У капитана бомбардиров землистое лицо, синие губы. Он видит, как гибнут его лучшие солдаты… Тень нарвского побоища витала над любимыми полками. Нельзя, нельзя допустить их разгрома! Посреди быстрой реки высятся стены, которые и в самом деле кажутся заколдованными. Не разбить их ядрами. Не испепелить огнем. Что же это? Снова поражение? Нет сил снести тяжесть этой мысли. Отбой! Отбой!.. Бомбардирский капитан сгибается под сковавшей все тело судорогой. Лицо с торчащими усами страшно. Голос неузнаваемо сиплый: — Леонтьич! Бухвостов становится рядом. Петр не может оторвать взгляда от крепости, над которой застыло облако дыма и измельченного камня. Сержант слышит слова Петра: — Спеши на остров. Передай мой указ — отступать. Помедлив долгую минуту, повторяет: — Да, отступать! Потрясенный Бухвостов пятится. Потом поворачивается и бежит к Неве. Он садится в первую попавшуюся лодку. Должно быть, на ней только что привезли раненых. Кровь пятнами запеклась на досках. Без гребца, один, Сергей Леонтьевич выплывает в протоку. Течение быстрое. Одолеть его нелегко. Ветер с озера холодит кожу. За веслами, в пути к крепости, Бухвостов неотвязно думает о тяжкой, не укладывающейся в сознании сути приказа, который он должен сейчас передать. Отступить от Нотебурга! Значит, оставить в руках врага древний Орешек? Значит, не плыть российским судам к морю? И девяностолетнему владычеству шведов над Невой конца не видать?.. Нет, с этим смириться невозможно. Понадобятся годы, чтобы снова собрать силы для удара по Нотебургу. Но нанести этот удар будет труднее. Шведам уже известен замысел Петра, они укрепятся, увеличат армию. Как тогда брать крепость?.. Невольно Бухвостов замедляет движение весел. Лодку сносит. Ее сильно всколыхнуло. Сбоку взлетел водяной смерч и упал, обдав сержанта с ног до головы. Он выравнивает лодку, гребет изо всех сил. Свистят ядра над головой. В воздухе носятся черные хлопья. Слышна частая стрельба. Крики. Звон и скрежет мечей. Лодку вынесло на остров. Бухвостов выскочил и прикрутил причальную веревку к стволу ивы, чуть не падающей в воду. Он силился разобраться в том, что происходит на острове. На узкой кромке берега осадные батальоны — без малейшего укрытия. Оно и невозможно здесь. Раненых


перетаскивают к длинному, полуразвалившемуся сараю. Но он уже горит, и к нему не подступиться. У солдат только один путь, чтобы избыть неминучую гибель — схватить врага за горло. Для этого они бросаются в огонь, в сечу. Не вперед, а вверх. На стены. Полки смешались. Не понять, где дерутся преображенцы, где семеновцы. Двое солдат ведут третьего, в окровавленной одежде. Он вырывается, кричит: — Куда вы меня ведете? Пустите! К башне! К башне! Но из рук его вываливается сабля. Подгибаются ноги. Бухвостов узнает тяжело раненного, обезумевшего командира преображенцев майора Карпова. Должно быть, старшим на острове остался Голицын. Ему сержант и передаст петровский указ. Но даже сейчас, в самом пекле битвы, в душе Сергея Леонтьевича все те же сомнения. Что ему велит солдатский долг: именем государя отдать команду к отходу, который сделает напрасной всю пролитую до этой минуты кровь? Или… команды не отдавать? Суд не страшен. И казнь не страшна. Сержант останется на острове и погибнет со всеми в последнем бою… Голицына Сергей Леонтьевич узнал по черному летящему плащу. Плащ обгорел. В нескольких местах пробит пулями. Князь бежал к берегу, где в эту минуту с лодок высаживались солдаты. Опущенная к ноге шпага блестела. Голицын нетерпеливо бил ею по высокому ботфорту. Сейчас полуполковник с новым отрядом вернется в бой. Бухвостов подошел и, как положено перед старшим, держа треуголку на отлете в левой руке, старательно чеканя слова, передал государев указ отступать. Наверно, Голицыну показалось, что он ослышался. — Повтори! Сергей Леонтьевич молчал. Сейчас он больше всего боялся, что князь обрадуется его словам. По-человечески — кто не порадуется возможности сохранить жизнь и что аду этому конец?.. Голицын кинул шпагу в ножны и схватил сержанта за отвороты мундира. С трудом переводя дыхание, спросил: — После всего этого — отступать? Командир семеновцев коротко кивнул в сторону горящей крепости. В его черных, навыкате, глазах сверкало бешенство. — Передай там, — выкрикнул он, — что я уже не петров, а богов. Прощай, сержант! Голицын ногой столкнул в воду пустые лодки. На берегу оставалась только одна, та, на которой приплыл Сергей Леонтьевич. — Прощай! — снова сказал Голицын. Бухвостов нагнулся, шпагой перерубил веревку. Лодка качнулась, закружилась, поплыла по течению. Бухвостов догнал Голицына, который, на ходу проверяя курки пистоли, шел впереди солдат. Те, кто был на острове, выбирали меж победой и смертью.
13. „ШАМАД“

Среди штурмующих лишь немногие оставались не израненными. Кого задел осколок лопающихся с диким шумом шведских гранат, у кого сабля оставила на теле кровавую мету, у кого ожог алым пятном расплылся по лицу. Только счастливчик Михайла Щепотев был неуязвим. Дрался он весело, приговаривая к каждому удару: «Держи, не просыпь!». Лез в самую горячую потасовку. Но пули, похоже, облетали его. А занесенную над ним саблю он перерубал своею — старинной, булатной ковки. Отец и сын Окуловы по-прежнему держались вместе, оберегая друг друга. Старик потерял священническую камилавку. Его седые волосы намокли кровью. Трофим Ширяй лежал рядом с поваленным деревом и причитал. Мало того что он обгорел, так его еще придавил подрубленный ядром клен. Трофим хныкал от жалости к себе и оттого, что никто не хочет ему помочь, все спешат к стенам, в бой. Насилу упросил старшего Окулова: — Батя, приходит мой последний час. Отпусти грехи. По пастырскому долгу, утирая кровь с рассеченного лба, отец Иван наклонился над сиповщиком, но увидел злые, колючие глаза. — Рано тебе помирать, сыне, — промолвил священник и, подозвав Тимофея, вместе с ним приподнял дерево. Ширяй встрепенулся, вскочил и сразу упал, взвыв пуще прежнего. Ноги не держали его. — Эх, батя, помирать неохота. Неужто и то будет, что меня не будет? У Окуловых нет времени слушать его причитания. Они собрались уходить. Но Ширяй, вдруг перестав хныкать, попросил: — Хоть мушкет подвиньте. Заряды были у Трофима на поясе. Он перевалился на брюхо и стал стрелять по шведам, высовывавшимся из-за зубцов. Вот в это время, среди оглушительного железного стука и скрежета, прозвучал громкий голос Голицына, зовущего на последний штурм: — За мной, братья! Вперед, орлы! Битва, неотвратимо жестокая и кровавая, развертывалась на высоте у края стен. Под ногами штурмующих — горящие шаткие ступени. Родион и Ждан упали с лестницы. Ругаясь от обиды и ненависти, снова упрямо полезли вверх. Чернов — первым, Родя — за ним. Немой солдат не понял, что случилось. Ждан вдруг выпустил лестницу и начал валиться назад, на его руки. Родион успел только увидеть тускнеющие глаза друга. И в то же мгновение, закрыв полнеба, блеснул широкий меч. Немой отшатнулся, тело Чернова соскользнуло и с раскинутыми руками рухнуло вниз. Родя ужаснулся. Он завыл жалобно и тоскливо. Неотрывно, снизу вверх, смотрел он на стену, на латника, нагнувшегося вперед. Латник обеими руками медленно поднимал тяжелый меч. Но не успел поднять, Немой метнулся к вершине лестницы, схватил шведа за ноги. Тот, громыхая доспехами, полетел на землю. Родя был уже на стене. Он бессвязно кричал, кому-то жаловался, что земляка и друга нет рядом. Подступили двое шведов, без панцирей, без шлемов. Один сразу упал, разрубленный до пояса тесаком. Другой, закрыв лицо руками, бежал. Мундир на плечах Родиона треснул по швам. Немой сбросил его, остался в рубахе. Эту стычку на крепостной стене видели сотни солдат и на лестницах, и на каменистом берегу острова. Из края в край прокатился торжествующий клич. Немой отбивался от наседавших шведов. Его теснили к кромке стены. Следующий шаг — над пропастью. Но на стене уже Щепотев. А вот — и Голицын с Бухвостовым. Шведы бросаются к ним.
__________
Что же происходило в пылающем Нотебурге? Полковник Густав Вильгельм Шлиппенбах был опытным военным, поседевшим во многих битвах. Гарнизон крепости он расставил так, чтобы каждый вершок стены держать под защитным огнем. Основные отряды, которыми командовали майоры Леон и Шарпантье, оборонялись в башнях, каждая из которых сильно выдвинута вперед. Эти же отряды обстреливали подступы к куртинам. Все остальные дрались на стенах. Латники были использованы только в первые часы штурма. Сталью своих панцирей они как бы наращивали боевые зубцы. Три пролома, сделанные в стене петровскими пушками, были невелики и никак не могли стать открытыми воротами в крепость. Шлиппенбах надеялся вполне подтвердить неприступность Нотебурга. Но то, что произошло, оказалось несравнимым ни с одной из осад, известных полковнику. В развернувшемся приступе было мало от военного искусства. Полковника поразили непрерывность и упорство, а больше всего — «чисто варварское», как он считал, презрение русских к смерти. В Нотебурге, в общем, все шло отлично. Шведские солдаты были храбры и исполнительны. Офицеры аккуратно присылали рапорты в кабинет коменданта — огромное помещение с узкими стрельчатыми окнами, прорубленными в толстых стенах. Но вдруг все изменилось. Полковник не мог определить, когда наступил перелом. С тех ли минут, как русские пробились на верхушку стен? Или после того, как в крепости взорвался «огненный шар»? Это было не ядро и не обычный каркас, к которым шведы привыкли. Пламя мгновенно охватило деревянные постройки. Оно неудержимо приближалось к пороховым погребам. Пожар, не сравнимый с тем, что уже пришлось пережить шведскому гарнизону, разрастался. В эти часы у Нотебурга оказалось два врага. Один по штурмовым лестницам лез на стены. Другой бушевал внутри крепости. Полковнику Шлиппенбаху пришлось часть своих солдат, находившихся в башнях, занять тушением пожара. Русские же шли на приступ волнами, непрестанно чередуясь и отступая, чтобы нахлынуть вновь. Всё новые солдаты бросались на крепость. Их не счесть. И они неустрашимы. Только отбит один приступ, как уже доносится нарастающий топот следующей атаки. Самый тяжелый штурм начался после того, как шведам показалось, что противник отброшен и силы его истощены. Шведы удерживали бреши. Но это уже не имело значения, коль скоро русские хозяйничают на стенах. У Шлиппенбаха остались в резерве всего четыре человека — его ординарцы. Он послал их в бой. Наконец, наступило время, когда на требование помощи ему нечем было ответить. С непокрытой головою, седоволосый, с лицом в морщинах и шрамах, он сам поднялся в башню. Его рыцарские понятия о воинском долге делали несовместимой жизнь с поражением. Но даже в этом, в честной солдатской смерти отказала ему судьба. Решимость и силы защитников Нотебурга иссякали. Майор Леон оставил свой отряд, чтобы разыскать коменданта. Леон доказывал ему, что исход боя уже решен. Он настаивал, чтобы бесполезное сопротивление было прекращено и крепость сдана. К этому требованию присоединились все офицеры. Шлиппенбаху ничего не оставалось, как вызвать горнистов и барабанщиков. Над все еще не затихавшим сражением, над почерневшими от крови и дыма стенами, прозвучали протяжные звуки «шамада» — сигнала сдачи. Нотебург молил о пощаде.__________
Скупы строки воинской реляции: «Неприятель от множества нашей мушкетной, так же и пушечной стрельбы в те 13 часов толь утомлен, и видя последнюю отвагу, тот час ударил шамад и принужден был к договору склониться». Нотебург сдался русским войскам 11 октября. Договор был заключен на следующий день. Уважая храбрость противника, победители не захотели его унижения. Пока армия приводила себя в порядок, опоминалась после нечеловеческого напряжения битвы и помогала раненым, два хитрющих старика, Борис Петрович Шереметев и Густав Вильгельм Шлиппенбах, обменялись отменно учтивыми посланиями. Фельдмаршал впервые появился на позициях в высоком парике, от чего его длинное лицо обрело скорбную величавость. Он степенно запускал в волосатую ноздрю внушительные понюшки табаку. Борис Петрович собирал складки кожи то над одной бровью, то над другой. Он не мог отказать себе в удовольствии изощренно тонкой иронии и в том, чтобы дать почувствовать этому потеющему шведскому полковнику свое превосходство. Пусть уж он хорошенько подумает над оказанной ему милостью. Главный пункт капитуляции гласил: «Позволено г. коменданту нотебургскому с его офицерами и их солдатами, и распущенными знаменами, с его гарнизонною и гремящею игрой, с четырьмя пушками железными, с верхним и нижним ружьем, с приналежащим порохом и с пульками во рту, из учиненных трех проломов свободно и безопасно в Нарву выттить». Шлиппенбах осторожно поинтересовался, сколь точно будет исполнен договор и не случится ли, что победители просто-напросто перебьют шведов. Шереметев ответил, что обещание дано именем русского государя и под «паролем, который так непорочен, что не токмо христианам, но и туркам всегда сохранен». В заключение шведский полковник спросил, не могут ли его осведомить о будущих намерениях предводителей русского войска. Ответил сам Петр: «Впредь будущие дела он полагает на волю вышнему, о чем человекам есть безвестно».14. РОДОСЛОВНАЯ ПУШКАРЯ

Остатки шведского гарнизона покидали крепость без «гремящей игры». Ковыляли на самодельных костылях раненые. Офицеры шли с женами, опасливо посматривая на победителей. Петровские солдаты провожали уходящих добродушными шутками. Разбитый враг не возбуждал злобы. Шлиппенбах постарался соблюсти до конца весь печальный для него ритуал сдачи крепости. Михайле Михайловичу Голицыну, как знатнейшему среди тех, кто штурмовал Нотебург, он вручил ключ от ворот. Ключ был крупный, тяжелый, кованный из железа, со многими бородками. Но действительного значения он не имел никакого. Крепостные ворота оказались забитыми столь прочно, что предстояло снести их с петель вместе с замком. Голицын отдал ключ Петру. Тот подкинул его на широкой ладони и сунул в карман камзола, сказав: — Ужо пригодится… В крепость входили через проломы в стене. Солдаты деловито осматривали Нотебург, как будто по-хозяйски хотели счесть, не напрасно ли выпущено по нему в «мимошедшую осаду» десять тысяч ядер и сожжено без малого пять тысяч пудов пороха. Весь остров дымился. Со стен осыпалась щебенка. Деревянные строения еще тлели нежарким огнем. Вид у Нотебурга, как у всякого взятого с боя города, был тревожно притихший. Посреди незамощенной площади лежало брошенное в грязь зеркало веницейского стекла в парадной дубовой раме. В зеркале отражались медлительные серые облака. Крепость пересекал неглубокий канал. Он начинался в Ладожском озере и выходил в Неву. Вода в нем была мутная. Плавало какое-то тряпье. Больше всего дивились солдаты устройству цитадели, о которой перед началом осады рассказывал Тимофей Окулов. Это и в самом деле была крепость в крепости. Цитадель занимала угол острова, омываемый озером. У нее свои башни и стены. От всей крепости ее отделял ров с подъемным мостом. Цитадель могла бы защищаться даже после падения Нотебурга. Солдаты оглядывали стены, сложенные из валунов, щупали покрытые слоем сажи камни, говорили разноголосо: — Да, здесь пришлось бы помаяться. — Этакую толщу никаким железом не прошибешь. — Врагу за тем каменьем, поди, неприютно было, под чужим небом. — А нам на родной-то землице в самый раз. — Наше все тут, русское. Деды сдали, а мы назад взяли! Повсюду в Нотебурге, у проломов и на башнях, были расставлены караульные. Остальным солдатам в первый день освобождения крепости, после ратных трудов, дан был роздых. Кто спал, приткнувшись в укромном углу, а то и раскинувшись прямо на земле, посреди дороги, кинув ранец под голову, кто ходил, нянча подвешенную на перевязи раненую руку, кто чистил амуницию либо тут же приколачивал отставшие подметки к сапогам. Между Ширяем и Жихаревым разгорелся извечный солдатский спор. Оба сидели на орудийном лафете. Трофим старательно дул в сипку. Самочувствие у него было отличное. Ушибы и ожоги, полученные во время штурма, вовсе не болели. Все же он на всякий случай перевязал голову тряпицей. Поднесенная к губам сипка звучала негромко. Но мелодия была такая простая, знакомая, что многие подошли послушать. Ну, будто не в крепости, посреди камней и боевой меди, пела немудрая берестяночка, а в раздольных полях, у синих лесов. Только Логин не хотел слушать. Не мог он простить сиповщику слова, сказанные о пушкарях. — Довольно дудеть, — мрачно кинул Жихарев, — давай договорим. — Чего говорить? — откликнулся Ширяй. — Про то все знают. Крепости берут пешие солдаты. И Нотебург мы взяли. Вот этими руками, — Троха потряс растопыренной, заскорузлой пятерней, — а пушкари на бережку сидели, пока мы тут страдали. Он поправил перевязь и снова принялся за сипку. Логин не мог стерпеть такой обиды. Глаза под упавшими на лоб кудрями сверкнули. — Да ведь это наши ядра вам дорогу пробили, — сказал он, — без наших мортиров вы бы на острову до сих пор куковали. Ширяй сыпал скороговорочкой: — Не спорь, не спорь. Из нета не выкроишь естя. И опять дул в берестяночку. Ему только и надо было взбесить пушкаря. В спор ввязались еще несколько человек, и, наверно, не миновать бы драки. Но в это время из круглого окошка воротной башни высунулась голова пушкарского урядника. Он глазами разыскал Жихарева и крикнул ему: — Логашка, подь сюда! Глянь, что открылось. Сатанинское наваждение, право слово. Крепость по всем углам и каморам обшаривали полковые писари. У них на поясах — железные чернильницы. За оттопыренными ушами — перья. Глаза быстрые, придиристые. Толпой вслед за писарями шагали солдаты, доброхотные помощники. Они выволакивали из башенных казематов и подземных погребов всякую кладь. Вели счет взятым трофеям. Пороху насчитали 270 непочатых бочек. Свинца оказалось 135 пудов в слитках да 4 пуда дощатого. Повсюду валялись ядра, гранаты, картечь. Взглянуть на трофеи пришел Шереметев. Увидел горы воинского добра, закашлялся, сотрясаясь тучным телом. Даже парик съехал на сторону, и фельдмаршальского величия как не бывало. — Ну и лиса же этот Шлиппенбах, — отирая старчески увлажнившиеся глаза, проговорил Борис Петрович, — я уж знаю, приедет полковник в Стекольну и начнет плакаться своему королю, как мне плакался: дескать, дрались до последней пули, мушкеты заряжали мелким камнем, и вместо гранат камни кидали… А тут сколько боевого припасу. С ним не один месяц продержаться бы можно… Нет, не скажет Шлиппенбах своему королю правду, что у русских кулак крепкий… Писари со своими помощниками продолжали путь по завоеванному Нотебургу. Сколько неожиданного открывалось перед ними! Множество казематов до самого потолка были набиты исправными мушкетами. Тысяча штук, не меньше. Узкий двор между полусгоревшим деревянным зданием и крепостной стеной оказался забросанным латами, кольчугами, шишаками. Кто-то из гвардейцев потехи ради напялил на себя пудовые доспехи. Шага не мог сделать. Упал — не подняться. Солдаты выволокли его из лат, как из капкана, чуть кожу не содрали. С особенным вниманием писарская команда вела роспись захваченным пушкам. Было их 129 штук — железных, медных, дробовых. Самые тяжелые орудия для навесного огня покоились на широких плитах во дворе. Орудия для огня прямого прицела в три яруса заполняли собою башни. Сейчас пушки молчали, почернелые, остро пахнущие пороховым нагаром. Среди них одна выделялась хитрой вязью узора, вычеканенного на тонком, длинном стволе. В башне было темновато. Зажгли смоляной факел и при свете его прочли русскую надпись, вырезанную на меди. Вот тогда-то урядник и кликнул Жихарева. Пушкарь склонился над стволом, прочел и ахнул. Схватил факел, приблизил его вплотную к орудию. Громко, по складам перечел надпись: «Отлита при великом государе Иване Васильевиче. Делал литец Логин Жихарев». Это казалось чудом. Полуторавековая пушка хранила имя нынешнего мастера. Вот ведь как бывает. В нотебургской башне пушкарь повстречал родича. Значит, в дальние времена у петровского пушкаря имелся знатный предок, и звали его так же — Логин Жихарев. Какой он был, тот Логин? Такой же лохматый и цыганистый, как наш?.. Важно другое: мастер — из тех, кого зовут «золотые руки». Стоило прикоснуться к старинной пушке, чтобы понять это. Согнутым пальцем Логин постучал по меди; припав к ней ухом, слушал звон. Литец и пушкарь был счастлив и горд. Он слушал голос своего далекого предка. Он нашел свою вековую родословную. Для стороннего человека это был самый обыкновенный звон меди. Чуткому уху Жихарева он говорил многое: и сколько свинца в примеси, и как сушилась форма, и в каком огне калилась, и даже много ли ядер выбросило жерло. Пушкарь не отходил от старого ствола, оглядывал и ощупывал его. Орудие хоть сейчас ставь на боевую линию. В крепости уже все знали о находке. Солдаты судили-рядили, как русская пушка попала в Нотебург. Наверно — при давнишней осаде. И вот, наконец-то, ее вызволили из плена. Теперь у Логина Жихарева были две свои пушки.
15. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОТЕБУРГА

В покоях бывшего коменданта крепости сумрачно и тихо. Узкие окна пропускали мало света. Под потолком двигались тени. На стенах косо висели писанные маслом портреты рыцарей. Такие же рыцари, без лиц, с плотными железными масками, стояли у порога. Бомбардирский капитан Петр Михайлов ходил по каменным плитам и прислушивался к отзвукам своих шагов. Вид у него недовольный. Он не терпел больших комнат и, в особенности, высоких потолков. Петру было не по себе. Он сердито повел бровями. — Леонтьич, бери чернильницу. Пойдем отсюда. Бомбардирский капитан вышел на крепостной двор, посмотрел на солдатскую толчею и зашагал к маленькой тесной каморе с сорванными дверями. Вкатил туда пустую пороховую бочку и поставил ее вверх дном. Придвинул к бочке ящик из-под картечи. Сел на него, вытянув огромные ноги в стоптанных башмаках. Бухвостову велел: — Скажи там, чтоб не орали. Я писать буду. Писать Петр не любил. Он по-мальчишески кусал ногти, долго примеривался остро заточенным гусиным пером к листу. На бумагу летели чернильные брызги. Лист был толстый, синеватый. Бомбардирский капитан писал письма. Очень короткие, без особой заботы о связи слов. Он спешил отделаться от малоприятного занятия. Польскому королю Августу:
«Любезный государь, брат, друг и сосед… Самая знатная крепость Нотебург, по жестоком приступе, от нас овладена есть со множественною артиллериею и воинскими припасы… П е т р Из завоеванной нашей наследной крепости Орешка».
Главному «надзирателю артиллерии» Виниусу:
«Правда, что зело жесток сей орех был, однакож, слава богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила».
Петр вытер перо о волосы. Солдаты, перекликаясь и горланя песни, бродили по крепости. Бомбардирский капитан не усидел и в каморе, сгреб на край бочки чернильницу, перья, бумагу и вышел на площадь. Разминаясь, вытягивая затекшие ноги, он смотрел на пеструю толпу. Увидел статного, чернобрового Голицына, поманил его пальцем: — Князь! Поди сюда. Михайла Михайлович раскраснелся, был весел. Петр глянул подозрительно: — Неужто с Ивашкой Хмельницким переведался? Но Голицын не терпел хмельного. Его одного бомбардирский капитан не заставлял пить на пирушках. Петр обнял командира семеновцев, прижал к груди, крепко облобызал. — Истинно витязь! Поздравляю тебя полковником. Михайла Михайлович, кроме производства в следующий чин, был награжден также деньгами и деревнями. Среди тех деревень значилось и село Оглоблино, ранее отписанное в государеву казну. Наград в этот день было много. Даже солдаты, или, как их еще называли, «рядовые племянники»[2], получили по нескольку медяков. А Сергею Леонтьевичу Бухвостову бомбардирский капитан сказал: — Для тебя есть награда особая. Погоди малость! Внезапно загрохотали пушки. Все находившиеся на острове умолкли. Мортирный выстрел в крепости звучит совсем не так, как в поле. Каменные стены множат гул до нестерпимости. Все поснимали шапки. От цитадели к середине площади медленно шли сотни солдат. Они, потупив головы, несли тела своих погибших товарищей. Бережно опустили их на землю. Отец Иван в своей обыденной черной рясе прошел меж рядами лежащих воинов, таких юных и так рано простившихся с жизнью. Повязка на лбу священника алела кровью. Он тихо шептал молитвы, устало махал кадилом. Вился сладковатый ладанный дымок. Ничего торжественного, святительского не было в облике отца Ивана. Старый человек грустил по отлетевшим жизням. Живые солдаты отдавали честь мертвым. Одни, склонясь, целовали их в жесткие губы. Другие сострадательно закрывали глаза, не увидевшие победы. Васена шла рядом с братом. Родя плакал, размазывая слезы по лицу. Васена знала, что он винит себя в гибели Ждана, — почему на лестнице не был первым, почему не уберег друга? Поравнявшись с Жданом, маленький барабанщик опустился на колени. Он положил на бездыханную грудь веточку брусники, осенние травы, которые лишь накануне они собирали вместе. Травы еще не успели завянуть. Бухвостов стоял на коленях рядом с Васеной. Он смотрел на ее строгое лицо, повзрослевшее как-то сразу, в один день. Васена старалась не видеть, как опускали убитых в братскую могилу. Провела рукой по лицу. Оно было мокрым. Крупными хлопьями падал первый снег. Солдаты в молчании проходили у края могилы, и каждый бросал горсть земли. Высокий курган поднялся вровень с крепостной стеной. Мерзлые комья осыпались со скатов. Снова выстрелили пушки. В крепости не нашлось колоколов. Петр ударил в железный лист, подвешенный на веревке. Был полдень. Солдаты вслед за бомбардирским капитаном вышли за стены, на берег острова. Ладожский ветер крутил и рвал снежную завесу. Темная озерная вода медленно, мерно поднималась и опадала. Петр на ходу подхватил обгоревшую штурмовую лестницу. Приставил ее к воротной башне. Не торопясь полез с перекладины на перекладину. Лестница гнулась. В правой руке у бомбардирского капитана был молоток, гвозди он держал в зубах. На последней перекладине он выпрямился и достал из камзола ключ от крепости. Коротко, но сильно взмахивая молотком, прибил ключ над воротами. Не оборачиваясь и не повышая голоса, хорошо зная, что люди внизу услышат, бомбардирский капитан сказал очень обиходно и просто: — Крепость сию будем звать «Шлиссельбург», сиречь по-российскому — «Ключ-город». То и в самом деле ключ к Неве и к морю. Мокрый снег все падал и падал. Он выбелил волосы Петра, залепил глаза, таял, растекался струйками. Петр слизнул снежинки с губ… В этот день Шлиссельбург получил городской герб: ключ над боевым щитом. Такой же герб — с ключом и щитом — был дан сержанту Сергею Леонтьевичу Бухвостову. Кончились девять десятилетий Нотебурга. Орешек начинал свой новый век.
III. КЛЮЧ-ГОРОД

1. СТРОЯТСЯ БАСТИОНЫ
В Шлиссельбург понаехала родовитая знать. Показаться государю, в добрый час испросить милости. Повозки и лошадей оставляли в береговом лагере, сами переправлялись в крепость. Страшась и кланяясь до земли, говорили Петру славословные речи. Бомбардирский капитан не слушал, сосредоточенный в своих мыслях. Он ждал из-за шведского рубежа ответного удара. Если придут с отмщением, только сейчас. Потом, когда проломы в стенах будут заложены, а войска отдохнут, уже нечего опасаться. Шведы могут появиться от Нарвы или Выборга, наконец от Ниеншанца. Надо было спешно возводить укрепления. Петр заставлял работать всех, без разбора. Он только что отменил старинный обычай, по которому подданные становились перед царем на колени. Отменил потому, что тут, на Неве, в осеннюю непогодь земля плывет грязью. Сейчас, в дни тревоги и ожиданья, не мог он видеть людей, не занятых делом; холеные, чистые руки, унизанные перстнями, вызывали гнев. Он совал лопату разодетым в шелк придворным, гнал их на бастионы. Рыть землю. Таскать камни. Петровская армия поснимала мундиры. Не солдаты — работные люди вгрызаются в землю, кидают ее полными лопатами, рвут порохом, мельчат огромные валуны. Стучат топоры, остря бревна. В двух местах, со стороны Ладоги и со стороны Невы, поднялись непомерно большие махины, на манер стенобитных. Но в них дубовая, подвешенная к вервяной снасти баба бьет не в бок, а вниз, с треском и громом вгоняет бревна в землю. «У-ух! У-ух!» — гремит баба. Возводятся бастионы перед башнями. На воротной работает Петр, руки в ссадинах, штаны подвернуты на тощих ногах. На угловой башне — канцлер российского государства Федор Алексеевич Головин. На соседней — только что прибывший из Москвы, не успевший даже переодеться, постельничий Гаврила Иванович Головкин. Под началом у них — сотни людей. Работают по колена в ледяной, быстрой воде. Капитан бомбардирский от воротной башни бегает по острову, орет, ругается. Мнится ему — всё делают не так, не сноровисто, без разума. Около Головкина задержался, посмотрел, как он белыми пальцами тычет, показывает солдатам, куда ряжи опускать. Головкин увидел царя, побледнел, засуетился. Петр ногой пнул бревно, туповато затесанное, сунул топор постельничему: — Руби! Гаврила Иванович неловко ударил, лезвие скользнуло по мокрому дереву. Петр зло округлил глаза: — Крепче руби! У Головкина разъехались по шву лазоревые, дорогого бархата штаны. Видна белая рубаха. Зазорно. Петр ухмыльнулся. Размахивая волосатыми ручищами, побежал к Флажной башне. Два дня назад над нею развевался шведский флаг. Теперь полоскался по ветру петровский зеленый штандарт. Строившийся здесь бастион вдавался в озеро. Работали семеновцы вместе со своим полковником. Спутались в махине веревки. Баба застряла в выси. Бомбардирский капитан с разбега ухватился за пеньковый конец, кричит Голицыну: — Чего смотрел? Заводи снасть!.. Сергей Леонтьевич Бухвостов долго стоял на мысу у Флажной башни. Ладога дышала холодом. Но сержанту не хотелось уходить. Жадно смотрит-не-насмотрится на озерное раздолье. Запоздалая чайка с криком пролетела к синему дальнему берегу. — Вольно тут, хорошо, — говорит Бухвостов Голицыну. Петр, накричав, убежал на другой конец острова, и князь успел позабыть его гневные слова. Скроил рожу, показал, как бомбардирский капитан шагает, по-журавлиному вытягивая ноги… С того часа, когда Сергей Леонтьевич повидал Голицына на штурме, проникся к нему уважением. Так солдат уважает солдата, с которым рядом в битву идет, пополам делит и хлеб, и судьбу. Узнав, что Михайла Михайлович стал владельцем села Оглоблино, сержант порадовался. Тогда же решил — надо с полковником поговорить начистоту. Он все поймет, уразумеет, поможет. Но не было случая для такого разговора. Сейчас время подходящее. Голицын положил руку на плечо Бухвостова. — На холодке дышится легко, — сказал Михайла Михайлович, — а гляди-ка, скоро морозы пожалуют. Сергею Леонтьевичу вдруг с удивительным ощущением яви припомнились бойкие, с золотинкой глаза Ждана Чернова. Ему уж не полюбоваться этим простором, не наполнить грудь осенней, бодрящей стужей. — В семеновском полку, — повернулся Бухвостов к Голицыну, — воевал солдат из твоего теперешнего села, Жданом звали. — Рыжий-то? — откликнулся Михайла Михайлович. — Отвоевал он, а жаль. Сметливого холопа я потерял. — Ты потерял холопа? — внезапно холодея недобрым чувством, переспросил Сергей Леонтьевич. — Солдат погиб, как настоящий герой. А ты говоришь — холоп! — Так кто же он? — Голицын взметнул свои соболиные брови. — После войны вернулся бы Ждан в деревню, может, я его старостой бы поставил… Я князь, он холоп. Это уж от бога… Ты что, Леонтьич?.. Бухвостов вывернул плечо из-под руки Голицына. Конечно же, он прав. Ничто не изменилось. На приступе, под огнем, командир семеновцев крикнул солдатам: «Братья!». Так что же, он и сейчас будет называть их братьями? И опять, опять припомнились смелые глаза с золотинкой… Сержант подумал о себе — он природный конюх, и мыслит, как конюх. Не понять ему князя, гедиминовича, владеющего неисчислимыми богатствами и людьми, смердами, рабами. Сергей Леонтьевич угрюмо зашагал прочь. Летят дни. Солнце, встав над Ладогой, застает русских воинов в трудах. Уходит солнце на покой, а они все копают, рубят, отлогие берега острова выкладывают булыгой. Работают от света до света. Строят в крепости бастионы. Начинался ледостав. Из озера выносило в Неву серые льдины. В протоках они кружились, сталкивались, ломались с гулким треском. Теперь уже ясно, что шведы не скоро соберут силы, и вряд ли вернутся к Орешку. Не опомнились еще от поражения. На всякий случай в Шлиссельбурге был размещен гарнизон — три полка с достаточным запасом ядер, пороха, продовольствия. Остальные пехотные полки ушли в Псков и Новгород на зимовые квартиры[3]. Распрощались отец и сын Окуловы. На островном бережку обнялись. Отец водой отправлялся к себе, в Олонец. Спешил, опасаясь, не затерло бы лодку льдом. Гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, чинили амуницию. Одевали чехлами знамена. Кормили лошадей перед дальней дорогой. Гвардия во главе с Петром шла к Москве.2. „ДОМНИЦА“

За сотни верст от Москвы, занесенный снегами, нес свою солдатскую службу Шлиссельбург. Скованная льдом, стала Нева. Конные дозоры уходили в сторону Корелы и в сторону Ниеншанца. В башнях и бастионах менялись караулы. Жизнь в крепости и ее окрестностях прочно налаживалась. На левом берегу выросла деревенька — землянки, шалаши, хаты, — всего дымов[4] двадцать. Вернулись из лесов ушедшие на время осады приневские жители. Это были коренные русские, но многие из них говорили по-шведски. У подножия Преображенской горы появилась длинная, низкая изба. Здесь с утра до вечера стучали станы. Ткали парусное полотно. Работа считалась наказанием. Ткачих присылали с обозом из Подмосковья, Твери, Рязани, — отбывать разные свои вины. На острове, в самой крепости, отстроили сгоревшее жилье. Здесь же появилась небольшая верфь. Солдаты набирали из гнутой сосны бока и днища ладей. На мысу, вдавшемся в озеро, дымила заправская литейная изба. Дым валил не только из черной, закоптелой трубы, но и сквозь неплотно пригнанные бревна стен. Просыпались в крепости рано. В утренней полутьме солдаты уходили на посты. В полдень, в час шлиссельбургской виктории, в морозном воздухе разносился долгий звон: били в железный лист. Ночью Шлиссельбург затихал; лишь изредка неярко мелькнет светец то в одном, то в другом оконце. Жизнь устоявшаяся, мерная. Но в любой час готовая обернуться боем. И тогда засверкают тесаки, взревут мортиры. Пока же все тихо. Внезапно неведомо откуда появились слухи, один страшнее другого. Будто по ночам над крепостью летает трехглавый змей, брюхом задевает о верхушки башен. Иные говорили, что это вовсе не змей, а нетопырь, человеческой крови ищет. Молодые солдаты-подчаски обмирали от страха, чудились им дикие голоса. Бывалые вояки крутили усы, хитро щурились. Рассказчику, клявшемуся «лопни мои зенки», не только видевшему летучего змея, но даже ощутившему вонючее дыхание горячей пасти, они говорили: — Знаем, знаем. Заливаешь. Поди, Логашка опять над медью мудрит. Логин Жихарев действительно мудрил над медью. Он создавал колокол, первый шлиссельбургский колокол. По стародавнему обычаю в таком случае полагалось врать. Чем страшней и хлеще вранье, тем звончей получится металл. Обычай этот нерушимо исполнялся и в Орешке… Пушкарь и литец построил в мастерской избе малую домницу. В ней плавил медь. Рядом с домницей в землю врыты формы. В одной из них — колокол, в другой — пушка. Тяжело кипит медь. Только один Жихарев знает, когда и сколько присадить к ней олова. Заслонив глаза ладонью, следит за цветом огня, за цветом металла. Лохматая голова повязана мокрым платком, и все же пахнет паленым, от жары волосы кукожатся, тлеют. Мастер крикнул подручным: — К печи! Слова прозвучали властно, как команда к бою. Не прошло и часа — искры столбом вырвались из трубы литейной избы, озарили небо и снега. Логин утаптывал землю и копал канавку от домницы к формам. В последний раз посмотрел, как кипит металл, помешал в печи длинной деревянной палкой, сразу занявшейся синеватым пламенем. Это называлось — «дразнить медь». Она на-кипу́ грозно ворочались, урчала, выбрасывала тяжелые всплески. Оглядев мастерскую — все ли на местах, литец пробил замазанную глиной летку. Сразу стало светло, будто солнце краешком заглянуло в избу. Медь двумя искристыми ручьями потекла в формы… Отливки остывали несколько дней. В эти дни Жихарев не пускал в мастерскую даже подручных. Позвал их, только когда пришла пора поднимать формы из земляных ям. К литейной избе сбежались солдаты из всей крепости. Толстые веревки туго натянулись на подъемных блоках — «векшах». Над ямами показалось нечто громоздкое, грузное, бесформенное. Под ломиком посыпались глина, угли, кирпичи. Жарко глянула медь. Новая мортира Логина Жихарева была поставлена на верхний настил в ворóтную башню, которую теперь называли Государевой. А колокол, отлитый в одно время с пушкой, повесили на столбчатые подпоры взамен железного листа. Солнце стояло над головой. Литец со всего размаха ударил в новехонький колокол. Над островом, над льдистой Невой поплыл густой, далеко слышный звон. Голос у шлиссельбургского колокола совсем не церковный: глуховатый, но зычный. Поспешания ради он был отлит из пушечной меди.
3. „МОСКОВСКИЙ ТОТЧАС“

Петр вернулся в Шлиссельбург ранней весной. И сразу все вокруг завертелось, закрутилось. На острове солдаты не ходили, а бегали. Офицеры громче покрикивали, не скупились на зуботычины. В стенах парусной избы челноки летали быстрее. Топоры на верфи стучали крепче и чаще. Гвардия находилась уже в походе из Москвы на Ладогу. Шли к Шлиссельбургу полки от Новгорода и Пскова. Навстречу к ним из Орешка мчались петровские денщики с коротким приказом: «Спешить наскоро». Всего больше тревожился бомбардирский капитан за пушки и боевой запас к ним. Там, где не действовало слово, Петр по привычке прибегал к кнуту и застенку. Не пощадил он даже ближнего к себе человека, главного управителя «большого огневого наряда» Андрея Виниуса. О нем Петр гневно писал из Шлиссельбургской крепости в Преображенское князю-кесарю Ромодановскому: «Извествую, что здесь великая недовозка алтиллерии есть… отчего нам здесь великая остановка делу нашему будет, без чего и починать нельзя; о чем я сам многажды говорил Виниусу, который отпотчивал меня московским тотчасом. О чем изволь его допросить: для чего так делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его головы дороже? Изволь, как мочно, исправлять». Ох, уж этот «московский тотчас». К кому бы Петр ни обращался, он всегда слышал покорное: «Тотчас будет исполнено». «Тотчас», «тотчас»… Но на поверку оказывалось, что дело не только не сделано, но и не начато. Дорогое время уходило. В таком разе бомбардирский капитан свирепел, яростно искал свою суковатую дубину, невзирая на чин и возраст, хватал провинившихся за шиворот… У старых стен крепости солдаты вглядываются в своенравную красавицу Ладогу. Вспоминают свои деревеньки на Костромщине, Тверщине, Рязанщине. Находят похожее и несхожее. А ведь та же родимая земля. Этот-то островок на Неве, с которого недавно спихнули врага, еще и подороже будет, омытый кровью. Думают солдаты: что там за серыми, зыбкими далями? Какие походы? Какие баталии?.. Самое большое событие произошло на острове перед началом ледохода. Тяжелые сани с драгунским конвоем пробирались к Шлиссельбургу по льду; над ним местами уже плескалась вода. Возле острова быстрое течение размыло лед. Он держался только в правой протоке. Сани заносило на широких полозьях. Кони прядали ушами. Копыта звенели, как по стеклу. Драгуны спешились и шли с жердями в руках. Поблизости от крепости лед начал прогибаться и расходиться длинной трещиной. Возница дико гикнул, взмахнул вожжами — и сани на плаву вынесло на твердую землю. В ту же минуту остров вместе с башнями и стенами вздрогнул. Лед пошел в Неву. В только что прибывших санях находился железный сундук с казной. Из Москвы прислали гарнизону Орешка государево жалованье. Платили его раз в год. За прошлое. Солдатская жизнь вперед незнаема. Росписная ведомость походила на кладбище: сплошь кресты. Грамотных было немного. Солдатыразглядывали неровно вырубленные медяки. На одной стороне — архангел, вонзивший копье в змея. На другой — под государевым сплетенным вензелем обозначено: «Денга». Иные, подкинув монету в воздух, ловили ее на лету, совали в карман поближе, до первого кружала. Многие зашивали медяки в полу, сохранности ради. Деньги в мужицком обиходе вещь редкая. Получил свое жалованье по капитанскому чину и Петр Михайлов — «триста шездесят шесть рублев». Холстяной мешочек с деньгами капитан перебросил Бухвостову: — Сбереги. Любопытствующим солдатам Сергей Леонтьевич за верное рассказывал, что Петр на жалованье живет, «а народные деньги оставляются для государства пользы». Так оно и было. Капитан ел из солдатского котла и носил казенную мундирную одежду… Начиналось водополье. С края острова на бревенчатых клетях стояли десять недостроенных паузков. Днища были настланы, кривули поставлены. Только бока не всюду обогнуты. Паузки всплыли, закачались на волне. Чтобы не раздавило их льдинами, солдаты кинулись в воду, кто по грудь, кто вплавь. Хватали суда, гнали к острову. С неделю Шлиссельбургская крепость была отрезана от матерой земли. Но едва очистилась Нева, петровские денщики, нахлестывая коней, умчались по новгородской дороге торопить идущие полки. Фельдъегерь увез в Москву письмо к Тихону Стрешневу, который ведал набором солдат по всей России.
«Min Herz, — так начиналось письмо, — как ваша милость сие получишь, изволь не медля еще солдат, сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает; того для не добро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня. P i t e r, из Шлютельбурга».
Первый конный едва отъехал — за ним скачет другой; туда же в Москву, к тому же Стрешневу, мчит письмо вовсе краткое. «Присылай, что больше лутче». Петр бесконечно зол. Волком глядит на сотоварищей. Вплотную надвинулась весна, а к кампании ничего не готово. Половина назначенных к бою пушек — в крепости, а другая половина застряла в грязи где-то на Волхове. Порох потопили, переправляясь через разлитые реки. Хлеба нехватка, того и гляди голодать начнут. Некормленный солдат в баталию не гож. Лекаря еще из Москвы не выехали, а тут от болотной гнили и стужи мрет народ. Донская низовая конница не пришла, и где она — неизвестно… Разленились за зиму. Не выбраться из берлог. Увальни. Лежебоки. Офицеры стараются не попадаться на глаза бомбардирскому капитану. Он вышагивает по острову из конца в конец мрачный, неразговорчивый. С кем начинать кампанию? Кому поведать о великих надеждах этой весны? Ведь до моря-то осталось верст шестьдесят, вниз по Неве, к устью. Всего-навсего — шестьдесят! Легкими эти версты не будут. В низовье высятся стены шведской крепости Ниеншанц. Какие там у врага войска? Велика ли артиллерия? Готовы ли к осадному бою? После падения Нотебурга за зиму шведы могли сделать многое — войска ввести и валы нарастить. Десятки вопросов. Ни одного ответа. Слишком мало известно о Ниеншанце. В потайных тетрадях записана толща стен крепости и примерное начертание бастионного рубежа. Записана глубина у корабельной пристани на речке Охте, там, где она впадает в Неву. Добрая глубина. Корабли могут без опасения бросить якоря у самого берега. В тетрадях высчитаны водные и пешие пути к Ниеншанцу от Нарвы, от Выборга[5]. Но все эти записи прошлогодние и позапрошлогодние. Надо же знать, что изменилось в Ниеншанце, что там сейчас! Крепость сия на самом пороге моря. Шведы будут драться за нее всеми силами. Бомбардирский капитан, и закрыв глаза, видел необозримое взморье, волны, набегающие на берег. Шестьдесят верст. Только шестьдесят верст до взморья. Поперек пути — Ниеншанц.
4. ХОЗЯИН МАТИС

Получилось так, что первым одолел эти шестьдесят верст маленький сероглазый барабанщик Семеновского полка. Нужно было разведать Ниеншанц, или, как его называли по-русски, Канцы. В Шлиссельбурге решалось — кого послать? Вызвался Тимофей Окулов. Край ему хорошо знаком, он сразу найдет и пристанище, и помощников в отважном деле. Но в том-то и загвоздка, что бывал он там много раз. «Русского Тима» могут скоро узнать и раскрыть. В Канцах и в окрестностях жило много русских. Все же опасность слишком велика. Шведы сейчас, конечно, особенно внимательно следят за молодыми россиянами солдатского возраста. Нет, Окулова посылать нельзя. Вот если бы нашлась девчонка, смелая, сообразительная. Уж она-то прошла бы через рубеж и через шведские селения легко и неприметно, как нитка сквозь игольное ушко. Но откуда взяться девчонке в Шлиссельбургской крепости? Переодеть в женское платье кого-либо из безусых солдат! Эта мысль пришла в голову Голицыну. Так как безусыми в армии были только барабанщики, а среди них больше всех на девчонку походил Васек Крутов, то на нем сразу же и остановили выбор. Сначала барабанщику ничего не говорили о том, что ему придется делать. Просто велели в селе на левом берегу найти бабью одежку и переодеться. Сердце у бедняги упало. Что это означает? Когда перед полковником Голицыным появилась не девчонка — девушка, сероглазая красавица, он отступил на шаг, как бы отгоняя наваждение: — Чур, чур меня… Ну, барабанщик. Юбку ловко носит, будто всю жизнь носил… Михаила Михайлович шутя спросил: — Как тебя звать, душа-девица? — Зовите… Васеной, — ответил преобразившийся барабанщик. Кофта и юбка стесняли Васену. Она уже привыкла одеваться по-солдатски. Но всего труднее было сладить с волосами. Отросшие и все-таки слишком короткие, они лохматились, никак не ложились под ленту. Пришлось повязаться старушечьим теплым платком. Девушка тревожно ждала. Что будет дальше? Тимофей Окулов осторожно объяснил, какое трудное дело ей предстоит. Васена обрадовалась: все страхи были напрасными, Голицыну неизвестна ее тайна. А то, что придется одной-одинешенькой пробираться в неизвестный край, девушку не испугало. Леса она боялась меньше, чем людей. Всегда сумеет найти нужную тропу. Дорогу подскажут солнце и звезды. Не напрасно односельчане прозвали Васенку «лешачьей дочкой». Только одно вызывало у нее сомнение: все ли уразумеет, что увидит, сможет ли обо всем рассказать?.. Так из Шлиссельбурга исчез маленький барабанщик. А в канецких лесах появилась девушка с лукошком, наполненным разным кореньем. До последнего нашего дозора Васену провожал Окулов. Он прошел с нею лесом еще с версту. И здесь, хотя кругом не было ни души, шепотом передал ей последние наставления. Держаться надо канецкой дороги, заброшенной и заросшей с начала войны. Но на дорогу не выходить, а пробираться стороной. На второй день впереди покажется крепость Ниеншанц. Ее лучше обойти ночью, чтобы не попасть к шведам. Миновав речку Охту, забирать все левей, левей, пока не появятся склоны Дудеровой горы. Затем — спуститься вниз к невскому устью. Там разыскать дом хозяина Матиса. Дом этот на острове, и есть у него отличие: на вереях[6] — деревянная резьба и пестрая роспись. Матису передать вот этот кусок березовой коры. Тимофей неприметно сунул в руку Васене свернувшуюся темным колечком бересту. Заботливо наказывал он быть осторожной в пути. Если спросят откуда, сказать: «Из Сябрина, — это самая большая русская деревня на Неве, — дескать, в лесу была, коренье собирала…». Ладожанин помолчал, подумал, все ли сказано. Кажется, все. Прощаясь, он низко поклонился девушке. А когда выпрямился, она уже шла между елями, отягощенными талым снегом. Пора весенняя приходит в лес позже, чем на поля и речные долины. Тут еще белым-бело, и это хорошо-преотлично. Валежник не так хрустит под ногами, и лесные ручьи еще скованы. Но Васенка уже слышит их. Остановится, чу: под снежной толщей еле внятно журчит первая вода — весенница. Девушке радостно на лесном приволье. И хотя она здесь впервые, кажется, тут все знакомое, как близ родного села. И березки такие же белые, и елки такие же мохнатые, только прикидываются сердитыми, а на самом деле они добрые, всегда готовы дать приют от снегопада или от дождя. Да и весна показывает себя приметами, знакомыми девчонке-лесовичке. Безлистые ветви деревьев все еще кажутся черными, ломкими. Ан не все. Вот одно — как будто высветлилось, и почки принабухли. Это молодой кленок, в нем уже двинулись соки, он пробуждается первым. Вот в ямке-вороночке, под защитой векового ствола, показалась уже прошлогодняя брусничка. Листки упругие, темно-зеленые, а ягода алая и сладкая-пресладкая. Вот в вышине — не под самым ли небом? — осыпая снег, перемахнула с ветки на ветку белочка. Шубка у нее клочковатая, с рыжинкой. Переливисто запел зяблик. Быстро, как камень из пращи, пролетел чибис. Значит, появились и перелетные. Это еще не стаи, только передовые… Лес говорит с Васеной понятным ей одной языком. Хорошо в лесу. Тревоги начались на другой день. Девушка набрела на охотничий шалаш. Люди здесь были недавно. Земля под отгоревшим костром еще теплая. Распластав крылья, прижалась к нагретым камушкам белая трясогузочка; и так она закоченела, услышала шаги, не шевельнулась… Васена ушла глубже в лес. Но даже туда донеслись перекличка голосов, собачий лай, стук топоров, звуки большого города. Это Канцы. Первого человека Васена увидела на берегу речки, небольшой, быстрой. Она уже вскрылась, но припай крепко держался у берегов. Седой лодочник только отчалил, когда подошла Васенка и попросила: — Дедушка, дедушка, перевези меня. Он подвел челнок к берегу. Казалось, старик вовсе не удивился маленькой страннице. Поплыли, расталкивая льдины багром. На другом берегу лодочник по-русски спросил: — Ты отколь, шустрая? Васенка махнула рукой в сторону леса и показала на лукошко. Старик не расспрашивал. Кивнул на прощанье. Девушка поняла, что в этом крае даже несколько слов, сказанных по-русски, сами по себе звучат приветом… Встреча эта ободрила Васенку. Она свернула влево. Шла всю ночь. Никакой горы не видать. От усталости, оттого что почудилось — заблудилась, горько расплакалась. Забралась на нижние ветви ели, прижалась к шершавому стволу. Так в слезах и заснула. Проснулась от холода. Было уже светло. Внизу, в тумане расстилались леса и мокрые желтоватые поля. В глубоких логах еще держался снег. Через все огромное пространство текла необыкновенно широкая река, это могла быть только Нева. По воде плыл лед. Извилистые тропы прорезали густые, еще не начавшие зеленеть рощи, огибали болота. Редкие деревеньки в три-четыре хаты, словно кучки рассыпанного гороха, виднелись по берегам Невы и на лесных опушках. Серые дымки над крышами будто приклеены к трубам. День ненастный, безветренный. Васенка сообразила, что она на Дудеровой горе и что там, внизу, надо искать хозяина Матиса. Девушка вышла на глинистый проселок. Чутье подсказывало ей: не прятаться, не озираться, не оглядываться. В первом же хуторе она спросила Матиса. Ей посоветовали: — Ищи на острову. В деревне на самом берегу Невы, прежде чем ответить на вопрос, поинтересовались: — Зачем тебе мельник Матис? Время уже за полдень, а Васена все не может найти человека с этим странным именем. Всматривается подряд в каждые ворота, но повсюду вереи столбчатые, серые, в трещинках, не расписные, не узорчатые. Не спутал ли Тимофей? Или ворота новые поставлены? Васена поняла — много расспрашивать опасно. Очень уж заметно, что она тут чужая. Но если до вечера не найдет мельника, куда деваться? Едва подумала об этом, крепкая рука больно сжала ей плечо. Девушку нагнал шведский стражник, высокий, сизолицый, с алебардой на плече. Он заговорил на непонятном Васене языке. Она улыбалась, силясь скрыть испуг. Покачала головой — не понимаю. Стражник спросил ломано по-русски: — Что — корзина? Показывай. Девушка быстрыми пальцами перебрала корешки в лукошке и словоохотливо принялась объяснять: — Корешки тут не простые. Снадобье. Эти вот — кожу дубить, эти — вино настаивать. В лесу была, набрала, видишь сколько… Сизолицему надоела болтовня. Он перебил: — Ты чья? Васенка, не раздумывая, бойко ответила совсем не то, чему учил ее Тимофей. — Я у мельника в услужении. Знаешь мельника Матиса?.. Стражник толкнул девушку древком алебарды. — Иди! Васенка с места не двинулась, онемели ноги. Сизолицый схватил ее за руку, потащил. Обидно было: ничего не успела сделать. С первого шага выдала себя. Обидно и страшно. Под ногами застучали кладочки. Какие-то тени замелькали над головой. Не сразу сообразила, что это крылья мельницы. Да вот же они, расписные вереи! В самом деле, красиво. По дереву жар-птица вырезана, и хвост у нее тронут яркой киноварью вперемежку с серебряными крапинами. На пороге мельницы стоял пожилой, грузный мужчина с трубкой в зубах. — Эй, Матис, — крикнул ему стражник, — смотри, твоя девчонка привел! У мельника брови поползли под шапку. Васена споткнулась, упала и рассыпала коренья. Среди них безобидно белело берестовое колечко. Матис пыхнул трубкой, окутался дымом. Стражник говорил с ним не по-шведски, — значит, он не швед. Кто же он? — Заблудилась! — сердито рявкнул мельник, и отвесил Васене такую затрещину, что она мигом оказалась под навесом, где грудой лежали мучные мешки. Хозяин даже не взглянул в ее сторону. Он повел стражника в дом угощать пенником.
5. КАНЦЫ

Шведы с первых лет старались обжить завоеванную провинцию по берегам Невы, Ижорскую землю, или, как они ее называли, Ингерманландию. Поместья раздавались не только коронным дворянам, но и финнам, голландцам, датчанам. Мельник Матис был одним из таких пришлых хозяев. Владел он немалым куском земли. Его мельница стояла на островке, омываемом Невой и речкой, впадающей в нее. Мост через речку, самый остров и даже болото на нем назывались Матисовыми[7]. Толстый мельник слыл человеком состоятельным, прижимистым и только на вид добродушным. Дымя трубкой, он полными днями возился у жерновов. О его дружбе с «русским Тимом», конечно, никто не знал. Поздно вечером, проводив шведского стражника, Матис переговорил с Васеной. Он долго рассматривал бересту, сличал ее с другим белым колечком, хранившимся у него. Попыхтел трубкой. Сказал на правильном русском языке: — Ладно. Раз уж ты назвалась моей прислугой, работай, — и подвинул к ней груду дырявых мешков, — чини! Позже Васене часто приходилось бывать с поручениями Матиса в окрестных мызах. Если близко — ходила пешком, если далеко — ездила на хозяйской одноколке. Она уже знала, что Нева в устье течет не одной, а пятью реками. Потому здесь много больших и малых островов. На некоторых из них видны рыбачьи шалаши, другие — безлюдны. На огромном Лосином острове (финны называли его Хирвисаари) жили суровые, молчаливые люди, корабельные знатцы. Васена отвозила им муку. На Березовом острове, в старинной роще, алела черепицей шведская мыза Бьеркенгольм. Там, где из Невы вытекает Безымянный ерик[8], на обширном мысу раскинулись поместье и сад майора Канау. К майору Васена ездила за зерном. Но хозяина не застала. Сердитый приказчик взвалил на одноколку мешки и умудрился одним ловким ударом хлестнуть разом и лошадь и девушку-возницу. Неподалеку от владений Канау виднелась русская деревенька Сябрино. Серенькая и тихая, она приникла к речному берегу. Ее соломенные крыши и покосившиеся темные стены с крохотными волоковыми оконцами, заткнутыми тряпьем, казались приниженно убогими рядом с высоким и горделивым майорским домом. Дорога на все правобережье была одна, старая нотебургская. В низовье Невы она расходилась тремя тропинками… Хозяин Матис со своей работницей почти не разговаривал. Дела на мельнице много. Васена, не разгибая спины, чинила мешки. Ей казалось — Матис действительно считает, что она с такой опасностью пришла сюда, чтобы работать на его мельнице. А ведь ей надо непременно побывать в Ниеншанце. Но Матис все понимал. Только он не любил лишних слов. Васена убедилась в этом после одного примечательного случая. На мельницу приехал почтенный гость, седой полковник, опиравшийся на палку с золотыми вензелями. Девушка даже не предполагала, что толстый мельник может быть таким проворным. Он учтиво кланялся, забегал вперед, открывал перед полковником двери. Гость сел на стул и сразу же расплылся своим рыхлым, дряблым телом. Позже Матис проводил его до коляски. Держа за локоть, помог подняться на откидную ступеньку. Сам застегнул кожаную полость, чтобы дорожной грязью не забрызгало господина полковника. Мельник долго ходил по своей каморке, примостившейся рядом с каменными поставами. Он позвал Васену. В этот день он сказал ей самую длинную речь: — У нас был господин Яган Аполов, комендант крепости Ниеншанц… Только он никакой не Яган. Он Иван, русский родом… Мы с ним давнишние знакомцы. Полковник приезжал меня навестить… Так вот — в семье коменданта заболела швейная мастерица. Господин Аполов спрашивает, не найдется ли ей на время замена… Значит, собирайся. Пойдешь в Ниен… И трубкой — пых, пых, пых. Ниен — торговый посад крепости Ниеншанц. Это был богатый город. Таким он выглядел даже сейчас, когда война приблизилась к нему. Сотнями деревянных и каменных домов раскинулся он на берегу Охты, у самого впадения ее в Неву. Здесь было все, как положено в чистеньком иноземном городе. Перекресток двух главных улиц отмечен ратушей с башенкой. На площади — торговые ряды. На окраине — бойня, смоловарня, канатный двор, хмельники. Рядом с верфью — пристань. На воде, еще не вполне очистившейся от льда, покачивались корабли. Матросы лазали по вантам, подтягивали паруса. Тяжело нагруженные корабли готовились к отплытию. Дом коменданта Аполова, обширный и поместительный, огородами спускался к реке. Выше и больше его был только стоявший рядом с ратушей дом купца Фризиуса, знаменитого тем, что его должником считался сам шведский король. Ниенский купец ссудил Карлу XII крупную сумму для войны с Россией. У Аполовых Васенка меньше всего шила. Она и с детьми нянчилась, и бегала за водой с ведрами, бренчавшими на коромысле, и прислуживала за столом. Русская прислуга ценилась в Ниене именно тем, что умела делать все. Семья у полковника была большая, с невестками и внучатами. Говорили по-шведски, изредка по-русски, но коверкали слова на чужеземный лад. От другой, старшей прислуги Васена доподлинно узнала историю Аполовых. Они принадлежали к древнему русскому боярскому роду. Когда шведы захватили край, Аполовы перешли на службу сначала к Густаву-Адольфу, потом — к Карлу XII. Служили верно. Король причислил их к шведскому «рыцарскому дому», что равносильно потомственному дворянству. Яган родился в неволе и состарился в неволе. Хотя был полковником и шведы считали его своим. Полковник Яган редко появлялся дома. Большую часть времени проводил в крепости. Если бы кто-нибудь знал, что маленькая, ловкая прислуга Аполовых прошла десятки верст через леса, поминутно рискуя жизнью, чтобы взглянуть на Ниеншанц! Девушка вечером и каждую свободную минуту любила сидеть на бережку и смотреть на воду. Это не привлекало ничьего внимания. Шведы знали, что русские, даже те, кто никогда не бывал в России, тоскуют по родине и тогда ищут одиночества. А Васена чутко присматривалась и прислушивалась. Все, все могло пригодится. Как выглядит шведская крепость? Сколько в ней солдат? Много ли пушек? Крепость Ниеншанц возвышалась напротив Ниена на другом берегу Охты, возле устья, и главным своим фронтом выходила на Неву. Здесь Нева делала последнюю излучину; пушки держали под прицелом оба речных плеча на большом расстоянии. Крепость была о пяти углах. Без башен. Земляные стены мощным поясом охватывали Ниеншанц. Высота — сажен девять, возможно, и все десять. На стенах — деревянный палисад, а внизу — рогатки. В крепости непрестанно велись работы. Шведские солдаты выходили из ворот с лопатами в руках. Копали ров и насыпали вал на стороне, обращенной к Орешку. Значит, ждут удара и готовятся к нему… Ниен на глазах Васенки пустел, затихал. Отплыли из гавани корабли, увозящие семьи самых богатых купцов. Говорили, что залив, «большая вода», еще подо льдом. Но корабли будут ждать у кромки, чтобы, не теряя времени, уйти в Стокгольм. Домочадцы Аполова и некоторые знатные жители посада укрылись под защиту крепостных стен. На два дня был опущен подъемный мост через Охту. Все, кому это было разрешено, перебрались в Ниеншанц. Русскую прислугу Яган Аполов в крепость не пустил. Васенка поселилась в сарае поблизости от ворот. Сарай чуть не до верха был набит сеном. По ночам слышались невнятные шорохи, пахло родной деревней, голова кружилась от этого запаха. Необыкновенной была эта весна в жизни девушки. Может быть, во всем настороженном городе она одна радовалась солнцу, теплу. Она знала, почему молчалив полковник, почему злы шведские солдаты, зачем их даже по ночам заставляют работать на валу. Это не их весна, а Васенкина… Однажды ночью девушка проснулась от того, что стены сарая тряслись, точно кто-то встряхивал их сильной рукой. Сквозь щели между бревнами светило зарево. Слышались стук копыт, человеческие крики. Васена откинула дверь, выбежала и попятилась, сжимая руки. Черные всадники, пригибаясь к гривам коней, мчались, размахивали саблями. Кони показались девушке огромными, а сабли — красными. Со стен Ниеншанца ударил пушечный выстрел. Медленно раскрылись ворота, пропуская шведских драгунов. Пожар разгорался все жарче. Пламя тянулось к багровому небу.
6. НАБЕГ

О том, где в действительности находился маленький барабанщик, в Орешке знали двое-трое. Остальным было ведомо, что он до начала кампании по приказанию Голицына — в Ладоге. Так думали и сержант Бухвостов и Родион Крутов. Васена — за много верст от войны, и можно за нее не тревожиться. В Шлиссельбурге же той порой назревали большие дела. Солдаты за эти месяцы отдохнули. Пора начинать «воинский промысел». Все знали: весной идти под Ниеншанц. Что за крепость? Во всей армии, кроме Тимофея Окулова, никто никогда ее не видел. Хорошо бы «спробовать» шведов в этом самом Ниеншанце. Михайла Иванович Щепотев, который совсем было затосковал вдали от стрельбы и перестука мечей, так и говорил — «спробовать». Михайла Михайлович Голицын порасспросил своего тезку, что он имеет в виду под этим словом. Дело было заманчивое, но слишком смелое; даже не верилось в удачу. Щепотев предлагал ни много ни мало, как с сотнею всадников подлететь к самым воротам Ниеншанца и посмотреть, на что способен враг. — Стукнемся в ворота! — говорил сержант, покручивая усы. Князь хитрил. Велел Щепотеву набирать охотников. Последнее же слово оставил за собой. Петр был в отлучке, на Олонецкой верфи. За потерю сотни людей не помилует, как раз вздует. Но и время терять нельзя. Каждый весенний день дорог. Зато если все удастся, как задумал сержант, да все образуется в добрый час, можно ждать большой милости. Щепотев не раздумывал, не рассчитывал. Ему бы только поскорее схватиться с шведами: клинок из ножен — пошла молодецкая потеха. Он обрадовался, когда Голицын сказал ему: — Горяч, горяч ты… Одного не пущу, разве что с Бухвостовым. Это было уже наполовину разрешением. Щепотеву, конечно, знакомы спокойствие и расчетливая медлительность Сергея Леонтьевича. «Но пусть, пусть… — говорил себе Михайла Иванович, — двинемся лавой, тогда уж не остановят». Охотников объявилось немало. Петровские солдаты тем и славились, что умели одинаково воевать хоть в пешем строю, хоть в конном. Только, по правде сказать, научила и обломала их с малолетства не армия, а крестьянская трудная жизнь. Каждый на своем веку не одну сотню верст за сохой вышагал. Для каждого конь — первый кормилец. Из охотников пришлось выбирать самых надежных. Первым пошел Родион Крутов. Немой солдат за эти месяцы стал очень заметным человеком в Орешке. Напросился в набег и Тимофей Окулов. Сержант предупредил его: — Однако смотри, Тимоша. Это тебе не сойма. Тут уж слушать меня… Еще не начало вечереть, когда сотня всадников выехала из Шлиссельбурга. Втянулись в леса канецкой стороны. Ехали гуськом, с двумя дозорными далеко впереди. Лес шумел, обступив отряд, Щепотев велел лошадей не гнать, беречь силы для дела. Под утро увидели башню канецкой ратуши. Вот он и Ниеншанц. Отряд остановился, развернулся в линию на опушке. — Теперь, хлопцы, приказ обратный, — скомандовал Щепотев своим молодцам, — грому побольше! С этими словами рванул саблю и плашмя хлестнул ею коня. С воплем и ревом отряд ринулся прямиком на вражью крепость. Ее громада нарастала с каждой минутой. Уже видны ворота, утяжеленные расплющенным железом. Тимофей метнулся в сторону, к стогам сена, запалил их. Всадники мчались в движущихся отсветах пламени. В Ниеншанце захлебывался, звенел тревожный колокол. С валов прозвучали выстрелы. Громыхнула пушка. — Тимоша, глянь! — закричал Щепотев. Окулов увидел то, что видел уже весь отряд. Словно отвечая огням на этом берегу Охты, на противоположном, за задранным к небу мостом, вспыхнуло пламя сразу в нескольких местах. — Шведы жгут город! — изумился Тимофей. — Эка страх-то что делает. Но Михайла Иванович уже не слушал. Он отчаянно крутил саблей над головой, сзывал товарищей. Ворота крепости, скрипя пудовыми петлями, разошлись. Шведские драгуны на разгоряченных конях вымчались в поле. Началась рубка. Щепотев поспевал всюду. Его громкий голос слышался за стуком сабель. Родион Крутов дрался шестопером на длинной рукояти. Этот шестопер он раздобыл в Орешке среди старого оружия и с тех пор не расставался со своей находкой. Бухвостов, пролетая мимо на своем гнедом, успел спросить: — Ополоумел, что ли? Где сабля? Но Родион только досадливо махнул рукой с зажатыми в кулак поводьями, дескать — не мешай, так ловчее. И погнался за шведом. В то же мгновение Бухвостов услышал голос, который узнал бы среди тысячи голосов: — Дядь Сергей! Это было так неожиданно, что Сергей Леонтьевич пошатнулся в седле. Может, он уже убит, и то — последнее его видение, самое дорогое на грешной земле. Но под копытами метнулась крохотная девическая фигурка с протянутыми руками. И снова: — Дядь Сергей! Прямо на Бухвостова мчались драгуны. Наперерез им, разрывая уздечкой вспененный рот коня, несся Окулов. Бухвостов видел, как ладожанин грудью своей лошади вышиб из седла передового драгуна. Сергей Леонтьевич, еще не веря, что перед ним Васенка, бережно подхватил ее… Все это с ниеншанцского вала видел полковник Яган Аполов — и конную схватку, и горящие стога, и русскую девчонку, его прислугу, которая вдруг оказалась на вскинувшемся на дыбы коне. Совсем рассвело. Аполов смотрел, как русские гоняют по полю драгунов. Полковник задохнулся от гнева. Неслыханная дерзость! Всего несколько десятков человек напали на крепость. Да они о двух головах, что ли? Яган Аполов что-то сердито прокричал трубачу и поспешно спустился внутрь крепости. Далеко слышный трубный сигнал всколыхнул воздух. Полковник сам вывел из Ниеншанца войско, чтобы наказать горсточку этих зазнавшихся петровских выкормышей. Но перед валом уже никого не было. Лишь на земле стонали раненые драгуны. За рекой горел Ниен. Отряд Щепотева торопливо пробирался сквозь лес. Впереди гнали захваченных шведских лошадей. Михайла Иванович велел набавить ходу. Опасался погони. На берег Невы выехали уже вблизи Орешка. Родион от радости приплясывал в седле и неотрывно смотрел на сестру. Сергей Леонтьевич не отпускал Васенку со своего коня, словно боялся, что она исчезнет так же внезапно, как и появилась. Девушку закутали в баранью шубу, взятую на разоренной заставе; из ворота виднелись только серые глаза и короткий красный носишка. Всю дорогу она рассказывала Бухвостову о том, что пережила за эти недели. Издали Сергей Леонтьевич кулаком погрозил Окулову. Он подъехал. — Хотел сам идти в Канцы, — сказал, оправдываясь, — меня не пустили. — Спросились бы хоть у меня, — посетовал Бухвостов. — Ты отпустил бы ее? — Никогда! — Потому и не спрашивали… Об этом набеге было отписано из Шлиссельбурга в Москву: «Михайла Щепотев ехал к Канцам, да побили шведов, лошадей взяли до шестидесяти… И были у Канец, и выехав из города шведские драгуны за ними погнались… и город заперли и тревогу били…а наши, слава богу, все в целости». Все так и было. Только ничего не говорилось о том, что в набег ушли сто солдат, а вернулся — сто один.
7. „ВРЕМЯ, ВРЕМЯ!“

Войскам на острове в Шлиссельбурге не уместиться. Стали лагерем на обоих берегах Невы. Здесь были и гвардия, пришедшая из Москвы, и шереметевские полки из Новгорода и Пскова. В лагере шумно. Капралы учат солдат ружейным приемам — как фитилем, зажатым в зубах, запаливать гранату, как взбираться на вал и колоть багинетом. Проходят дни в воинской экзерциции. Вечерами горят костры. На них варят кашу, возле балагурят, ссорятся и смеются. Поздно ночью затихает лагерь. Некоторые укладываются спать в палатках. Но большинство — у костра, под безлунным, в серых тучах, небом. Ворочаются во сне солдаты. Один бок мерзнет, другой на огне подпаливается. Назавтра с зоревым горном — подъем, и снова экзерциции с гранатами, саблями, мушкетами. Не простое дело воинское. Начало кампании близко. Только успели встретить Щепотева, вернувшегося со своими парнями из набега, — стало известно, что ходили наши на озерный рубеж и привели оттуда шведских полоненников. Потом появился перебежчик с вражьей стороны, говорит — шведы большой ратью готовятся к бою. В лагере обо всех вестях толкуют так и этак. Скоро, скоро — в поход. Боевой, недальний. Среди тех дел случилось событие, которое для многих осталось вовсе неприметным. В полку стали уж забывать, что есть такой солдат, разжалованный из боярского звания — Иван Меньшой Оглоблин. Перестали говорить о его судьбе. Солдат как солдат. Но Иван Оглоблин о себе сам напомнил. Послан он был вместе с другими в вылазку к мызе Рултула. И там случилось постыдное. То ли по природе был он боязлив, то ли, пока терся в обозе, около кашеваров, совсем отвык от ружейного грома: в бою близ Рултулы он струсил. Наши солдаты с шведами грудь к груди схватились, а Оглоблин попятился, сбежал в лесок. В обратном походе товарищи посмеивались над ним, он и сам пошучивал над собой. Только дело был нешуточное. В армии трусость не прощали. Наказывали жестоко. Случалось — и вешали перед строем. Насчет Оглоблина вышел приказ: «Бить батогами с отнятием чести, снем рубаху». Приговоренный ревел в голос бабьими слезами. Солдаты стояли под ружьем, угрюмо отводя глаза. Ударили барабаны. Размахнулся палач. Вдруг Оглоблин вскочил, смешно поддерживая штаны, завопил, залопотал. Лишь несколько слов можно было разобрать: — Государево слово и дело! Слово и дело! Офицер кивнул палачу. Тот отошел, с сожалением раскатал засученный рукав. Кажется, на этот раз кара миновала труса. Вместе с пленными шведами, отсылаемыми в Москву, отправили и Оглоблина — к Ромодановскому, в Преображенский приказ. Через несколько дней об этом происшествии никто уже не говорил и не думал. Не до того было. Петр примчался с Олонецкой верфи. Он успел загореть на вешнем солнце. Был тревожен. В Шлиссельбурге разругал всех подряд: и кашевара, подсунувшего ему прогорклую гречневую размазню; и фельдмаршала — за то, что не усмотрел — в полках нехватка пуль. Бориса Петровича нещадно корил еще за то, что не все суда, строившиеся на острове, поспели в срок: — Малые паузки столь долго делают, знать, не радеют. Время, время! Не дать неприятелю опередить нас. Не пришлось бы нам тужить после. Время, время! Все надо самому проверить. Не прикрикнешь, не возьмешь за глотку, не поторопятся. Торопиться же надо, не упуская часа. От хлопот и забот сон пропал. В мыслях то одно, то другое вразброс. Хватит ли свинца? Не подмочили ль в обозе порох? Где застряли лекари? По сей день не прибыли к армии. Привезены ли из Ладоги мешки с шерстью? А суда, суда! Успели ли законопатить прошлогодние? Надежны ли новые? Не сели бы на мель барки, идущие от Олонца… Двадцать третьего апреля переливчатые горны подняли войско. Шереметев в последний раз устроил смотр полкам. Первой отправилась по берегу конница. За нею — пешие ратники. Увязали в грязи. Ругались и пели. Проклинали свою солдатскую долю. Дивились белым подснежникам, проглянувшим на лесных прогалинах. Двадцатитысячная армия шла к Ниеншанцу. Бомбардирский капитан на день задержался в Шлиссельбургской крепости. Не мог никому доверить любимое свое детище — артиллерию. Он должен своими глазами видеть, как ставят на палубы пушки, как крепят их, как укладывают в трюмах ядра и коробы с порохом. Иногда Петр сам хватается за снасть, которой тянут пушки. Взваливает кули на спину, кряхтит. Доски под ним гнутся. Солдаты давно уже содрали кожу с ладоней. Иные надорвались, сплевывают кровью. Лица потные. Ну чего тут крутится на сходнях этот горластый, долговязый? Только мешает. Не толкнуть бы его ненароком, греха не оберешься. Петр и сам видит: без него обойдутся. Садится на берегу на валун. Раскуривает трубку. Разглаживает на остром колене бумагу с замусоленными краями. Водя по строкам дымящимся чубуком, читает «сказку ладожан»: «От Орешка до Невского порогу 20 верст: путь удобный с знатцами… От порогу до городу Канец 25 верст: путь свободный с знатцами ж, а без них невозможен, потому что в редких местах есть камень под водою. От Канец до Невского нижнего устья, до моря 7 верст: ход судам свободный с признаками, потому что есть мели… По невским берегам от Орешка до Канец леса большие и малые…» В низовье Невы барки с артиллерией пойдут плавным путем. Головную поведет Тимофей Окулов.
8. СТРАДА

Ниеншанц был плотно обложен со всех сторон. Опустевший Ниен все еще горел. Дымом затянуло полнеба. Барки вошли в гавань, прикрытую от врага высоким берегом. Сразу же начали выгружать мортиры и ядра. Петр прошагал в фельдмаршальский шатер. Шатер был разбит на берегу Охты. Рядом громоздились развалины старой, сложенной из тяжелых валунов, стены. Ее покрывал серый, ползучий мох. Немногие знали, что это руины древней Ландскроны. День был сумеречный. В воздухе носились черные хлопья. Пахло гарью. Ниеншанц землистой грудой, оплывая под дождем, виднелся на мысу. Изредка то здесь, то там сверкнет выстрел. Настоящий бой еще не начался. Противники только присматривались. Наша позиция была отменно хороша. Всего саженях в двадцати от крепости. Широкий вал — отличное прикрытие. Он надежно гасил вражеские пули. Выходит, шведы для нас насыпали этот вал… Осада Ниеншанца складывалась совсем по-другому, непохоже на штурм Нотебурга. Здесь не было водной преграды со всех сторон. Два войска с самого начала стояли нос к носу. И воевать приходилось с иной сноровкой. Резервные полки, укрытые в лесу, занимались важным делом: рубили лес для фашинных связок. Из ветвей плели длинные корзины, насыпали их землей. Получались туры — как-никак защита от пуль в этом полукрепостном, полуполевом сражении… Ночь напролет, стараясь не шуметь, умеряя дыхание, бомбардиры рыли апроши, ставили на место пушки. Несли их на руках, оступались в грязь, в рытвины. Случалось, железная тяжесть придавит солдата — он не застонет, не охнет, только глаза нальются кровью. Ждет, когда подоспеют на помощь товарищи… К рассвету девятнадцать пушек да тринадцать мортир, разинув черные жерла, глядели на Ниеншанц. Можно бы и начинать дело. Но, как уж повелось в российской армии, противнику была предложена сдача, чтобы не лить понапрасну кровь. Легко, словно играючи, на вал взбежал барабанщик с белой перевязью через плечо. Вскинул палочки, ударил в звучную, туго натянутую кожу. Белобрысенький барабанщик старался шагать уверенно, твердо. Он направлялся прямо к крепости. За обшлагом его мундира белел бумажный пакет. На земляной стене крепости появились шведы. Барабанщик, задрав голову вверх, стоял уже у ворот. К нему вышел офицер, высокий, плечистый, с огромным, волочащимся палашом. Рядом с офицером барабанщик казался беззащитным малышом. Эта беззащитность была такой явной, что солдаты наши без команды, без уговора поднялись и тесным рядом подвинулись вперед. Двое у крепостных ворот на виду у двух армий о чем-то говорили. Потом все увидели, как барабанщику завязали глаза. В воротах, в глубину, отворилась маленькая калитка. Уже в самом Ниеншанце барабанщика куда-то долго вели. Он поднимался и спускался по ступеням. Наконец с глаз сняли платок. Лицом к лицу стояли Яган Аполов и Васена Крутова. Васена сама напросилась в парламентеры из желания первой побывать в крепости, к стенам которой ока пришла первой же, задолго до того, как ее осадила армия. Страха не было. По нерушимому закону посланный с миром от войска почитался неприкосновенным. Пытливо оглядывала Васена помещение, где находилась. Оно без окон. Стены расперты бревнами, сквозь пазы сыпалась земля. Это был каземат, вырытый в толще крепостной стены. Щеки Аполова красны, как сырое мясо. Желтые белки глаз в тонких прожилках… Узнал ли комендант Ниеншанца в барабанщике свою прислугу? Если и узнал, ничем не выдал себя. Не признавать же, что его, седого полковника, одурачила девчонка (или мальчишка?), почти ребенок. Аполов взял письмо. С осторожностью развернул. Прочел и покраснел еще больше. Задыхаясь, с трудом проговорил по-русски: — Нет, мы будем драться. — И, отвернувшись от барабанщика, по-шведски, тихо, но так, что его слышал офицер, приведший Васену: — Король никогда не простит мне сдачу Ниеншанца… Сразу после того как барабанщик вернулся из крепости и стал известен ответ Аполова, началась по обыкновению трудная воинская страда. Полетели пули с обеих сторон. Ядра долбили и рвали землю. Логин Жихарев с бомбардирской командой управлялся со своими тремя пушками. Они стояли в ряд — та, что перед началом кампании была сделана на Литейном дворе, старинная, прадедовская, найденная в Нотебурге, и та, что недавно отлита в Орешке. У каждой свой норов. Старинная стреляла исправно, только ядра приходилось подбирать мельче. Новая била


с небольшим недолетом, а первая действовала, как бывалый, обкуренный порохом солдат, характера своего не показывала. Логин с горящим фитилем, зажатым в зубах, бегал от пушки к пушке. Одна стреляет, в другие заряд кладут. Жихарев потерял где-то шапку, волосы разлохматились, падают на глаза. В спешке повязал кудри веревкой, оторванной от порохового мешка. Пушкарь, обычно неуклюжий, по-медвежьи медлительный, совсем другим становился только у домницы и в сражении. Ловкий. Быстрый. Жихаревские пушки знает вся армия. Подручные Логина стараются — не было б охулки. Ядра летят с посвистом. В стороне от батареи солдаты забрасывают фашинником ров. Двое, Родион Крутов и Трофим Ширяй, волокут к крепостной стене саженный мешок, набитый шерстью. Мешок тяжелый, оттягивает руки. Родион тащит изо всех сил, а вокруг земля — шмяк, шмяк под вражьим свинцом. Трофим кричит Крутову громко, в апрошах слышно: — Куда прешь дуром? Прячься! Немой либо не слышит, либо не хочет слышать. Ширяй дергает его к себе. Оба оказываются за мешком. Можно отдохнуть. Плотно сбитая шерсть — верная защита от пули. Солдаты из окопа все видят, громко подают советы. Трофим отмахивается. Оставаясь за мешком, он вместе с Крутовым постепенно подталкивает его вперед, все ближе к стене. Опять отдыхают за мешком, соображают, откуда дует ветер. Наконец слышно, как сиповщик кричит Родиону: — Бей огниво! Немой долго возится, прикрывая ладонями затлевший огонек, шумно раздувает его. — Ого-го! — ревут в окопе. Шерсть задымилась. Черные, смрадные облака поднялись к небу, окутали стену. Солдаты сразу же побежали вперед, полезли на вал. Шведы задыхались, но дрались упорно. Нападение отбили. Сиповщик и немой вместе со всеми отошли, отстреливаясь. Молоденький солдат ныл, зализывая рассеченную ладонь. Седой капрал поглядывал на дымящуюся выстрелами крепость, говорил спокойно: — Ладно. Сейчас не вышло — в другой раз выйдет.
9. НАЧАЛЬНАЯ ВЕШКА

Это произошло на другой день осады Ниеншанца, 28 апреля, в сумерки. Шведы стойко обороняли крепость с материка. Тут у них главные силы, людские и огневые. Фас, выходивший на Неву, они считали наиболее безопасным. Но именно там и случилось неожиданное. Флотилия русских лодок — не менее шестидесяти — вдруг показалась из-за мыса, где она скрытно накапливалась. На полных взмахах весел, пеня воду, лодки ринулись, казалось, прямиком к крепости. Но они не атаковали ее. Пока в Ниеншанце улегся переполох, пока наводили пушки, флотилия пронеслась мимо. Ядра, посланные вслед, никакого вреда ей не причинили. На передовой лодке, вместе с Петром, были Окулов, Бухвостов и Щепотев. Сергей Леонтьевич посмотрел на взлетавшие и медленно падающие водяные столбы и сказал: — Славно прорвались! — Повернувшись в сторону крепости, добавил — Прозевали! В другой раз поглядывайте! На Неве чем ближе к взморью, тем круче волны. Колья рыболовецких тоней на отмелях то накроет водой, то обнажит. Наступившая ночь была по-северному короткой. Решили переждать ее в тростниковых плавнях. Утром высадились наберег. Из маленькой деревеньки за песчаными холмами бежали навстречу мальчишки. Взрослые с порогов своих изб смотрели недоверчиво. Несколько женщин, размахивая хворостинами, угоняли в лес тощих коров, коз. Бухвостов встал поперек дороги, крикнул: — Куда? Не опасайтесь, мы свои! Женщины, услышав русскую речь, побросали хворостины, стремглав кинулись обратно в деревню. Вскоре сбежалось все ее население. — Русские! Наши пришли! Конец шведам! — слышалось со всех сторон. Петровских солдат поили молоком. Кто тащил краюху ржаного хлеба, кто сотину, прозрачную от меда. Говорили наперебой. Приметно было — отрадно людям произносить русские слова. Поразительно, как приневские жители в почти вековой неволе сохранили родной язык. Сберегли его вместе с надеждой. В толкотне, среди шума и говора, бомбардирский капитан на клочках серой толстой бумаги писал охранные грамоты. Кто-то из солдат подставил спину. Петр писал размашисто, дырявя бумагу грифелем: поселянам, всякому в своем доме жить безопасно — и русским, и иноземцам. Не хватило бумаги. Писал на коре, на щепках. Одну такую грамоту Тимофей взял для Матиса. Ладожанин бежал на мельницу, прыгая через плетни и вскопанные гряды. Простучал коваными сапожищами по мостику. Хозяин Матис при виде «русского Тима» поперхнулся дымом, выронил трубку. Окулов тискал мельника в объятиях. — Постой, постой, — проговорил тот, — русские уже здесь? — Со вчерашнего дня, — радостно подтвердил ладожанин. — А Ниеншанц? — спросил мельник. — За Ниеншанц бьемся, — ответил Тимофей. Матис сказал смущенно: — Великая у меня перед тобой вина. Девчонку, что ты прислал, не уберег. Пропала безвестно. — Не тревожься, она жива и к тебе в гости собирается. Ладожанин передал Матису грамоту. Отныне он становился владельцем острова и ближней к нему земли. Тимофей еще раз обнял мельника и заторопился к своим. Солдаты уже садились в лодки. Флотилия обшарила залив и все протоки. Никаких шведских судов не нашли. Чист был и горизонт. Открывшаяся глазам даль пьянила людей. Носились на веслах вперегонки. Паруса с пушечным гулом хлопали при перемене галса, лодки на крутых поворотах черпали воду. Чайки летали, почти не двигая крыльями. Кричали пронзительно. Волны подкатывали к небу. Воздух над большой водой совсем не такой, как над озерной. Он свежий, летучий. Море давало о себе знать. Иное над ним небо. Иной голос у пенных валов, протяжный и долгий. Окулов сел на весла. Петр кидал за борт узлистую веревку с камнем на конце; искал, где проходит фарватер, и не мог найти. Сбивался, по нескольку раз промерял одно и то же место. Веревка показывала небольшие глубины. Только поближе к берегу неожиданно дно скатывалось обрывом. Пожалуй, именно тут проходила корабельная дорога. Рядом с лодкой плыл подмытый течением где-то на окраине куст голубики. Выворотило его с корнями и немалым куском земли. Петр потянулся над водой длиннопалыми руками, схватил куст. Накрепко привязал к нему веревку и кинул камень. Брызги плеснули в лицо. Они были холодные и горьковатые на вкус. Куст с ссохшимися прошлогодними сизыми ягодами закачался на месте. Тимофей, не оставляя весел, сказал, щурясь от проглянувшего уже на закате солнышка: — С начальной вешкой тебя, господин капитан бомбардирский. Петр еще раз напоследок оглянул серую водную даль и произнес раздумчиво: — Пора к дому. Окулов усмехнулся неожиданному слову. «Где он, родимый дом? Далековато увела нас солдатская судьба». Лодки неторопливо стягивались вокруг только что поставленной вехи. Подгребли и Щепотев с Бухвостовым. Они на крутобокой верейке ходили осматривать дальнюю бухту. Тут же, у вехи, флотилия разделилась. Половина людей с сержантами Щепотевым и Бухвостовым оставалась на взморье. Они должны были неотрывно следить за устьем Невы, за морской дорогой. Другая половина с Петром и ладожанином возвращалась к Канцам. Выгребать против течения было трудно. Солдаты менялись на веслах через каждые полчаса. Упряма Нева, противится людям. Теперь проскользнуть мимо крепости было труднее. Шведы ждали. Да и ход у лодок маловат для маневра. Только ночная темь смельчакам в подспорье. Заухали пушки. Ядро угодило в одну лодку, другую тоже разбило, но она удержалась на плаву. Суда вошли в охтинскую гавань. Темная вода отражала вспышки выстрелов. Над пушечными батареями взлетали и гасли зарницы. — Вот мы и дома, — повторил Окулов слово, услышанное на взморье, — дома!
10. В ЖЕЛЕЗА́Х

«С наших батарей из мортир и пушек учинена по городу стрельба… Из мортиров действовано во всю ночь, даже до утра». Так в поденных записях говорится о решающих часах осады Ниеншанца. Голицын со своими семеновцами многократно ходил в атаку на большой вал. Наступали через ров с разноголосым, угрожающим ревом. С колена стреляли. В дымную мглу швыряли гранаты. Шведы крепко вкопались в землю. Не оторвать, не столкнуть. Каждый раз они отбрасывали семеновцев сильным мушкетным огнем. К крепостному валу солдаты шли во весь рост, обратно ползли, тащили раненых. Проклятия заглушали стоны. Солдаты просили пушкарей: — Выкурите шведов из их земляной норы. Только выкурите, а там уж мы их на пики примем! Десятки пушек горячими жерлами взяли крепость в полукольцо. Вал не пробить. Стреляют «с навесом», чтобы все живое, все постройки внутри Ниеншанца сжечь, вбить в землю. Стрельба беспрерывная. На жихаревской батарее — ад кромешный. Пушкари оглохли. Логин, сверкая белками глаз, размахивает банником. Мортиры так горячи, что класть в них заряд страшно: не загорелся бы до времени. Жихарев обдает медь водой из ушата. Вода закипает, испаряется легким дымком. Если бой продлится еще пару часов, пойдут пушки в переплав. Огонь уже начал мягчить металл. Ничего больше не остается пушкарям: надо дать передышку орудиям. Два стреляют, третье молчит, остывает. Полковник Голицын сразу заметил, что поутихла жихаревская батарея. Наскочил на Логина с сабелькой: — Не стреляешь, такой-сякой? Давай, давай огонь! Пушкарю нет времени объяснять, просит: — Не мешай, князь. Отойди. Голицын — сабельку в ножны. Грозит кулаками, Жихарев освирепело бежит с банником наотмашь. Князь отпрянул: — Черт, настоящий черт… А Логин даже не заметил на своем пути Голицына. Подручные замешкались, не могли пыж вбить — бежал помочь. Ну что объяснишь князю? Ведь для Жихарева медное тело мортиры — все равно, как собственное живое тело. Пушке трудно — и ему трудно. Картечью мортиру ударит — в нем болью отзовется. Не князю учить потомственного литца… Логин не расстается с банником. Теперь он ему и вместо костыля. Онемела нога. Сапог полон крови. Не осколком ли резануло? Надо бы до лекаря добежать, да батарея в жарком бою. От пушек не оторвешься. Васек-барабанщик, надсаживаясь, кричит — до чего писклявый голосок! — кричит на ухо пушкарю: — Кровью изойдешь, давай ногу перевяжу! Но Логину недосуг. Скачет на одной ноге. Жмуря черный, разбойничий глаз, меняет прицел у пушки. Надо прощупать шведов на дальней линии. Чего-то очень уж они суетятся там. Васек Крутов давно на жихаревской батарее — с той минуты, как внезапно замолчал барабан. Ни картечи, ни гранаты не видел Васек, а барабан в его руках разлетелся, кожа — в клочья. На батарее Васек подкатывал ядра к пушкам. Поднять ядро не хватало силенок; пригибаясь к земле, катил его. Пушкари, споткнувшись, чертыхались: кто тут под ногами путается? Барабанщик не обижался, терпеливо делал свою доброхотную работу. Дважды приходили с обоза за Васьком Крутовым — велено без промедления явиться по самоважному делу. Васек не спешит на зов. Это уже не впервые: как начнется бой, непременно оказывается, что маленького барабанщика ищут по неотложному делу и непременно отсылают в обоз. Обидно. Логин Жихарев незаметно для себя стонал от боли. Но пушек не покидал. На одной ноге, вприскочку метался то к одной, то к другой. Из обоза снова пришел вестовой солдат за барабанщиком: — Велено доставить под караулом! Васек усмехнулся. Знает он, знает, чего ради указано ему уходить с жихаревской батареи. — Дядька Логин, — крикнул барабанщик пушкарю, — айда к лекарям! Жихарев махнул рукой: — Не приставай, видишь, некогда. Но барабанщик подошел к нему и, сделав «страшные» глаза, спросил: — Без ноги хочешь остаться? Логин колебался. Васек сказал: — За тобой караульного прислали! Нога у пушкаря и в самом деле болела нестерпимо. Пришлось оставить вместо себя на батарее бомбардирского урядника. Медленно заковыляли к обозу. Жихарев обхватил рукой плечо своего маленького товарища. Васек сбивался с шага, но вида не показывал, что ему тяжело. Сзади плелся вестовой. Обоз находился в овраге. Пули и здесь посвистывали. Грохот битвы слышался изрядно. На телегах и на земле лежали раненые. Некоторые молчали, закатив глаза. Некоторые кричали, когда лекарь орудовал над ними острым ножом. Васек только успел подойти с Жихаревым к повозке и постелить солому, как кто-то незнакомый схватил его за ворот мундира. Барабанщик повернулся. Рядом стоял дьяк с злыми глазами. Он был в синей поддевке с накладными суконными застежками, какие носили служилые Преображенского приказа. Дьяк кривил тонкие губы. Васек попробовал вывернуться. Но рука держала крепко. В полку не было человека, кто мог бы так обойтись с маленьким барабанщиком. Его любили, даже баловали немножко. Сейчас с ним разговаривал сурово и зло чужой, приезжий, и это в особенности пугало. — Тебя как зовут? — спросил дьяк. — Крутов Василь, — дрогнувшим голосом ответил барабанщик. — А не Крутова Васена? — прозвучал зловещий вопрос. В жилистых костлявых руках барабанщик шатался, вот-вот упадет. Дьяк со всей силы рванул его мундир. Отлетели пуговицы. — Девка в войске! — грозно рявкнул застеночный дьяк; теперь уж все поняли, кто он и откуда. Он захохотал. На шее двигался волосатый кадык. Приезжий умолк, потому что никто вокруг не смеялся. Васена стояла, выпрямясь, тоненькая, с горячо блестевшими глазами. Бывает, что унижение не ломает человека, но рождает в нем смелую гордость. Жихарев смотрел помутневшим от муки взглядом. Стараясь полегче ступать на раненую ногу, он подошел к девушке, снял с себя прожженный в бою мундир и накинул ей на плечи. Приезжий шагнул к Логину. Тот глянул исподлобья, проговорил клекочущим голосом: — Остерегись, дьяче. Здесь постреливают. — Эй, — крикнул приезжий, — в железá беглую холопку! Двое, в одинаковых синих поддевках, выступили вперед и надели на Васену кандалы. Один заставил ее подойти к валуну, другой неловко, до крови срывая кожу на руках девушки, камнем расплющил заклепку. Дьяк видел вокруг безмолвно враждебные лица. — Быстрей! — торопил он своих помощников. — Быстрей! Васену бросили в телегу. Загремели цепи. У девушки не было сил поправить отяжелевшие руки. Ее накрыли рогожей. За телегою толпой двинулись солдаты. Всё так же молча. — Гони! — заорал дьяк. Засвистел кнут. Лошади понеслись вскачь. Васену увезли в Шлиссельбург. Под Ниеншанцем, не переставая, гремели пушки.
11. „ДОБРЫЙ АККОРД“

Не выдержали шведы огня. Ранним утром на городовой вал выбежал мальчишка-горнист и, размазывая кулаком слезы по лицу, протрубил сигнал. Над валом плыли бурыми тучами пыль и дым. Горн звучал резко и печально. Перестрелка затихла. Из ворот крепости вышел офицер и прокричал, что господин комендант Ниеншанца просит к сдаче аманатами обменяться. Голицын, ближе других командиров полков стоявший у ворот, своею властью не мог ответить шведам. Побежали разыскивать фельдмаршала. По осадной армии от фланга к флангу словно ветер пролетел. Шведы сдают крепость! Канцы наши! Просьба об аманатах, заложниках на время составления договора, была законной. Шереметев послал в крепость капитана и сержанта. В русский лагерь пришли королевские капитан и поручик. Очень непривычной была тишина. Прислушивались к ней недоверчиво. Вот-вот снова железным голосом затарахтит, взвоет битва. За тем и за другим валом насторожились солдаты. Несколько человек с обеих сторон осмелели и спустились вниз, к подошве крепости. Точно сговорились, оружие оставили в окопах. Солдаты ползали по разворошенной земле, искали товарищей. Мертвых не трогали, раненых уносили. Если случалось, что русским попадался еще дышавший шведский солдат, подзывали к нему кого-нибудь из Ниеншанца. Трудное дело закончено. И опять тишина над лесами и долами, над покореженными пушечными лафетами, над повозками, опрокинутыми вверх колесами… И снова то здесь, то там над насыпью высунется шапка — блин или меховой треух. С любопытством поглядывают шведские солдаты на русских. На нашей стороне встал во весь свой небольшой росточек верткий Трофим Ширяй. Он делает несколько шагов и садится на бугор неподалеку от вала. Не спеша достает из заплечного мешка краюху хлеба, разламывает ее, бережно подбирает крошки. Сотни глаз внимательно следят, что будет дальше. Трофим посыпает хлеб солью и принимается за еду. К Ширяю подходят несколько человек наших. На той стороне солдаты тоже столпились кучкой. — Эгей, мужики! — крикнул Ширяй шведам. — Кто по-русски разумеет? На ниеншанцском валу выпрямился долговязый детина, в короткой шинеленке, закивал головою: — Я понимай, я понимай. — Хлебушка хошь? — спросил Трофим. Швед осклабился: — Давай! — Погодь, — остановил его сиповщик, — сначала отгадай загадку. — Какой загадка? — разочарованно протянул швед. — А вот слушай. Наши обступили Трофима. Королевский солдат подвинулся вперед, чтобы не пропустить ни слова. — Что такое, — раздельно и громко спросил Ширяй, — комовато, ноздревато, и губато, и горбато, и кисло, и пресно, и вкусно, и кругло, и легко, и мягко, и твердо, и черно, и бело, и всем людям мило? Швед озадаченно мотал головой. — Горбато? Не понимай. Всем мило? Не понимай. — Экий косноязыкий, — с сожалением сказал Трофим, — что с тебя возьмешь? Вот разгадка! — и, размахнувшись, забросил на крепостной вал полкраюхи, — хлеб всем людям мил! Оттуда тотчас полетел вниз большой ломоть шведского хлеба. На том и на другом валу долго жевали, толковали, спорили. Наконец Ширяй объявил шведам: — Ваш хлебушек побелей, а наш повкусней. Обиды в этом не было. С обеих сторон беззлобно засмеялись. Но швед, который утверждал, что он русский язык «понимай», стал требовать, чтобы ему загадали новую загадку. Сиповщик не заставил себя просить. Хитро глянул и молвил: — Маленький мужичок, костяная шубка. Что такое? От удивления шведский солдат задохнулся, покраснел. Издали он смотрел на низенького, такого немудрого на вид, русского, видно было, как двигаются вниз-вверх белесые ресницы. — Опять не понимаешь? — спросил Трофим. — Так это же орех! Слово было незнакомо шведу, он повторил его, разводя руками. Ширяй подмигнул товарищам, будто предупреждая — сейчас начнется потеха. — Орех — не знаешь? — прокричал он на ту сторону. — Орешек! Нотебург! Королевский солдат насупился и вдруг показал кулак. — Нотебург наш! — завопил он. — Ага, понял, — обрадованно произнес Трофим, и лицо его разъехалось в лукавой улыбке, — как не понять, если тебе там по морде дали! — Нотебург наш! — орал швед. — Нотебург будет наш! Неудачливый отгадчик порывался вперед, рассчитаться за насмешку. По всей линии русских войск прокатился хохот. Тем, кто не расслышал разговора сиповщика с королевским солдатом, товарищи повторили его слово в слово. Полковник Голицын на черном жеребце проскакал от фельдмаршальского шатра, бросил поводья. — Чего зубы скалите? — спросил гневливо и, не дожидаясь ответа, приказал: — В окопы, к оружию! Снова грозная тишина нависла над перекопанной землей. Высунулись черные стволы. Пушкари подкатили ядра к жерлам. С недоумением переглядывались солдаты. Значит, опять воевать? Канцы будем штурмом брать, что ли? Всезнающий Троха сказал уверенно: — Начальство меж собой не поладило. Ширяй был прав. Комендант Ниеншанца решил сдать крепость русским на «добрый акорд»[9]. Аполов просил время, чтобы написать договорное письмо. Прошло более часа. Вдобавок к двум аманатам, разменялись третьими — майорами с той и другой стороны. Шведскому майору было «сказано круто, чтоб тотчас учинена была отповедь, не отлагая вдаль времени». Он вернулся к крепостным воротам и сообщил столпившимся на валу офицерам требование русских. Аполов тянул время, просил еще несколько часов: договорное письмо не успели переписать набело. Тогда шведам предложили сдать крепость без промедления. Иначе петровское войско сейчас же «учнет чинить над нею промысл». Пусть все решится боем. Перепуганный Аполов прислал черновик договорного письма. «И по совершении того акорда, — сказано в реляции, — Преображенский полк введен в город, а Семеновский в палисады; а при том введении болверки, пушки, воинские припасы и пороховая казна по договору приняты, и караул по городу везде наш был разставлен». Это произошло в первый день мая, за два часа до полуночи.
12. ЗАМО́К

Шведскому гарнизону Ниеншанца дозволено было на другой день отправиться в Нарву. Но тут одно за другим случились два неожиданных события. Яган Аполов был так жалок, что никто не попрекнул его русским родом и шведской службой. Старик, с опущенной головой, шел, придерживаясь за грядку телеги. Когда Канцы уже скрылись из виду, Аполов внезапно выхватил сохраненную ему саблю, переломил ее о колено и закричал: — Куда идти мне с этой земли? Не могу… Не могу… Он упал и долго бился в судороге, хватая скрюченными пальцами молодые зеленые травинки…[10] Замешкавшихся в пути шведов уже вечером нагнал конный отряд, посланный Шереметевым. Велено было всех возвратить в Канцы. Аполов, так же как и его офицеры, не мог знать, что в сданный ими Ниеншанц примчался гонец от Щепотева с очень важным сообщением… Гонца увидели на противоположном берегу реки. Он, привстав на стременах, зычно требовал: — Лодку-у-у! Солдаты быстро столкнули в воду челн и, переправясь, узнали в гонце Сергея Леонтьевича Бухвостова. Он был закидан грязью. Загнанный конь раздувал бока. Сержант кинулся к челну, велел грести изо всех сил. Весть, привезенная Бухвостовым, взбудоражила весь лагерь.
__________
Застава Щепотева неотрывно следила за взморьем. Но очень скоро солдатам прискучили берега в чахлом кустарнике, однообразная даль. Особенно горевал из-за невольного безделья Михаила Иванович. В нескольких верстах отсюда идет последнее сражение за Ниеншанц. А он должен здесь смотреть на тихие воды, скучать. Ну прямо впору забросить саблю в кусты, сделать из штанов бредень и заняться рыбачьим делом. По весне в невском устье, говорят, водится мелкая, но очень вкусная рыбешка… Щепотев со злобой смотрел на быстрые серебристые стайки, роившиеся на прозрачном, прогретом мелководье. Нестерпимо! Хоть бы узнать — наши в Канцах или нет еще? К концу третьего дня на выпуклом раскачиваемом волной горизонте показались паруса кораблей. Они шли уступом, один за другим. Михайла Иванович насчитал девять вымпелов. Дело нешуточное. Надо думать, шведская эскадра идет на выручку Ниеншанцу. Щепотев укрыл заставу в плавнях, чтобы ни единая лодка не сунулась в открытую воду. Следить за действиями эскадры! Следить, не подал бы кто-нибудь из береговых шведов сигнал на корабли. В сумерках эскадра, видимо, не решалась войти в устье. На мачтах головного корвета показался командный флаг. Эскадра убирала паруса. Долетел грохот якорных цепей. Кое-где в круглых бортовых окошках показался свет свечей. Вскоре и он погас. Ни Михайла Иванович, никто из его солдат во всю ночь не сомкнул глаз. Щепотев советовался с Бухвостовым: сейчас послать вестового к армии или дождаться утра? Не завязать ли перестрелку с эскадрой? Хорошо бы взять «языка». «Языка» брать не понадобилось. Он сам пришел, вернее сказать, приплыл. Бухвостов первый заметил шлюпку, отвалившую от корвета. Шлюпка плыла медленно. Вот она уже отчетливо видна — на носу белой краской нарисован зверь, ощеривший пасть. Различимы даже струи воды, стекающей на взмахе с двух пар весел. Шлюпка шла к заставе. Шведы причалили к берегу и вытащили свое суденышко из воды. Двое гребцов, разминаясь и горласто переговариваясь, пошли к деревне. Им дали подняться на песчаный увал и спуститься вниз. Здесь их сбили с ног. Быстро заткнули глотки, связали руки. Матросы не успели крикнуть. Щепотев послал за шведом, жившим в деревне у околицы. С его помощью тут же допросил пленных. Отвечал только один. Другой молчал; он кусался, когда ему забивали кляпом рот, солдаты помяли моряка, совершенно очумевшего от неожиданной встречи. Командовал эскадрой адмирал Нумерс. Корабли спешили, действительно, в Ниеншанц. Но противный ветер задержал их у входа в Неву. Адмирал послал матросов, чтобы они взяли лошадей в селении, более коротким и безопасным сухим путем добрались до крепости и дали знать о приходе эскадры. Щепотев оставил пленных под караулом; шведа-переводчика попросил неотлучно находиться при них, чтобы соотечественники не соскучились. Михайла Иванович отвел в сторону Бухвостова и сказал ему коротко: — К армии ехать тебе, Леонтьич. Знаю, любую опасность сумеешь обойти… Спеши к мельнику Матису, возьми у него коня, лети к нашим. Скажи — шведская эскадра на море! Бухвостов не стал отказываться. Он спросил: — Что будешь делать, если ветер переменится и корабли войдут в Неву? Михайла Иванович ответил, не скрывая обиды: — Зачем спрашиваешь о том, что знаешь? Будем драться, пока живы. Оба сержанта молча обнялись.__________
Празднества по случаю взятия Ниеншанца были прерваны. Крепость спешно готовилась к бою с эскадрой. Пушки на валу переставили. В болверки, обращенные к Неве и к дороге, ведущей от взморья, поместили солдат. Вперед послали сторожевые отряды: на воде — в лодках, на суше — конных. Возвращенных с дороги Аполова и его офицеров в Ниеншанц не пустили. Велели ждать у палисада. Им объяснили, чтоб не тревожились: аккордные пункты будут исполнены, однако, по важным причинам, с некоторой задержкой. Со стороны моря один за другим прогрохотали два орудийных выстрела. Они звучали внушительно в полной тишине. Жавшиеся у палисада шведы сначала оживились, потом приуныли. Значение этих выстрелов было им ясно… Если бы удалось продержаться в крепости подольше. Если бы эскадра пришла чуть раньше… Спустя немного времени смятение среди шведов усилилось. Караул у палисада стал многочисленней, плотней. Нечего было и думать о том, чтобы выскользнуть из этого кольца… Еще через несколько минут двум пленным пушкарям велено было побыстрей идти в крепость. За полчаса перед тем на большом валу разгорелся спор. Пушечными выстрелами Нумерс, несомненно, возглашает лозунг[11], дает знать Ниеншанцу о своем приходе. Как должно ответить на этот лозунг? И надо ли отвечать? Шереметев, поразмыслив, решил: — Ответить! Судя по всему, Нумерс не знает, что крепость пала. Просто грешно этим не воспользоваться. Ниеншанц ответил эскадре также двумя выстрелами. Но к этому времени Ниеншанц уже не был Ниеншанцем. У него появилось новое имя — Шлотбург. Солдаты не понимали смысла иноземного слова. Толковали его вкривь и вкось. Трофим Ширяй разыскал Бухвостова, чтобы спросить, чего ради этак окрестили крепость: все едино не по-русски. Сергей Леонтьевич объяснил: — Шлотбург по-нашему значит — Замóк-город. Егозливый Ширяй подпрыгнул, шлепнув себя ладонью по пятке. — Леонтьич, — проговорил он, — Шлиссельбург — Ключ-город, дело понятное. А я все думаю: ключ есть, а замок где?.. Так вот он, замок-то! Да, так оно и было. В верховье минувшей осенью русское войско добыло ключ к Неве и к морю. Нынешней же весной в низовье появился и замóк, которым для врага накрепко закрывалась дорога в Неву и в Ладожское озеро. Шлотбург. Город-замок. Но миновало несколько дней, и стало ясно, что замок должен быть совсем не тут, а в другом месте, еще ближе к морю.IV. НА ВЗМОРЬЕ

1. „АСТРЕЛЬ“ И „ГЕДАН“
Каждое утро и каждый вечер эскадра Нумерса давала пушечный лозунг. Крепость неизменно отвечала. Шведский адмирал, обманутый ответом и спокойствием на взморье, послал два судна в устье Невы. Они с осторожностью проходили трудный фарватер. В устье их застала ночь. Убрав паруса, корабли дожидались утра. Но в русском лагере утра не ждали. Вестовые с щепотевской заставы сообщили о маневре шведов. Тридцать лодок под командой бомбардирского капитана спустились вниз по течению. Несколько отплыв, отряд разделился. Часть лодок продолжала путь по Неве. Другие направились по Безымянному ерику. Лодки двигались неслышно, «тихой греблей». Бухвостов и Окулов первыми достигли взморья и в плавнях разыскали Щепотева. Весь день шел дождь. Только сейчас немного прояснило. Солдаты вымокли и ворчали, что нельзя даже костер разжечь, обсушиться. Лодки едва слышно скрипели, касаясь бортами. — Канцы четвертый день наши, — сказал Бухвостов Щепотеву. — Знаю, — отозвался Михайла Иванович. — Ты знаешь, а Нумерс нет, — вмешался в разговор Тимофей Окулов. — Никак в толк не возьму, — проговорил Щепотев, — почему эскадра приросла к месту. Будто не воевать пришла. И ветер-то подходящий… — Понять немудрено, — всерьез объяснил ладожанин. — Нумерс — презнаменитый адмирал. А у нас старший по званию — всего-навсего капитан. Не может адмирал скрестить с ним шпагу. Чин не подходит. Михайла Иванович потянулся из своей лодки, положил руку на плечо Окулова, сказал с нежностью: — Теплая у тебя душа, Тимоша. Хорошо пошутить в такой час… Не отстраняясь от руки друга, Окулов промолвил: — Перед боем всегда про жизнь думаю. Какая ни есть, и трудная она, вперемежку добрая и злая, а мила. Волнуясь, Тимофей заговорил о родной Ладоге, о корабельщиках и рыбаках, что плавают на озерном просторе. Крепкий, надежный народ. — Леонтьич, — Окулов повернулся к сидящему в лодке рядышком Бухвостову, — ты как про жизнь и людей думаешь? Сергей Леонтьевич не ответил. Щепотев пристально посмотрел на него. Что с ним? Всего несколько дней не виделись, а как переменился. Седины на висках прибавилось. Морщины у рта легли резче. И в глазах темнеет неизбывная угрюмина. А может быть, то в лунном свете показалось. — Чего кручинишься? — толкнул его локтем Михайла Иванович. — В такую минуту не задумывайся — дурной знак. У самого входа в Неву чуть покачиваются голыми мачтами два корабля. Ни звука не долетает с кораблей, не блеснут огоньки. Там все спокойно, дремотно, тихо. Береговые леса отбрасывают на воду густую черную полосу. В той полосе притаились лодки. Гребцы готовы рвануть весла. Ждут команды. Солдаты перешептываются. Слышны приглушенные слова. С соседней лодки доносятся два голоса. Один — молодой, почти мальчишеский, ломкий от волнения или от робости. Другой — хрипловатый, уверенный, немного насмешливый. — Неужто пойдем на лодках, — спрашивает молодой, — супротив кораблей? — Нечего страшиться, — рассуждает хриплый, — что крепость, что корабль брать — все едино. Только корабль качается. Вот и вся разница. — Так у них жа пушки. — Привык за пушку-то хорониться, — язвит хриплый. — Так с пушками жа способней. Молчание. Потом — опять юношеский голос: — Они вон какие большущие, корабли-то. А мы махонькие. — Махонький ты, — издевается собеседник, — сажень в плечах… Окулов прислушивается. Но на лодках примолкли. Волны за бортом, похоже, застыли, один скат черный, другой лунный. — Ну и ночь, — шепчет Тимофей, — до зорьки далеко. Где-то поблизости стукнул пистольный выстрел. Звук, дробясь эхом, прокатился по воде. С двух сторон от берегов пошли лодки. Теперь уж хорониться нечего. Только бы побыстрее добраться до шведов. Бухвостову кажется, что его лодка едва ползет. Он помогает гребцам кормовым правилом. Весла отбрасывают воду. Одно сломалось с коротким гулким треском. На кораблях заметили опасность. Ставят паруса, хотят уйти. Никуда им не деться на такой узости фарватера. Вдали, мористее, маячит мачтами эскадра. Там какое-то движение. Успеют ли открыть огонь? Через несколько минут будет поздно. Лодки вплотную подойдут к двум кораблям. Тогда эскадра будет вынуждена к молчанию, чтобы не расстрелять своих. Скорей, скорей! Мелькают весла. Трудно и шумно дышат люди. Крутой, высокий всплеск. Вот еще и еще. Стреляют корабли, застрявшие в устье, как в медвежьем капкане. Развернулись бортами. Белые дымки вспыхивают и долго держатся, не тронутые ветром. Лодка Бухвостова въехала на водяную гору, вскинутую ядром. Сильно крутануло в широкой воронке. Сергей Леонтьевич с трудом выровнял лодку и снова повернул к гремящим кораблям. Скорей, скорей! Вот уж они совсем близко. Видны выгнутые, как лебединые шеи, ростры, видны даже огромные расплющенные шляпки гвоздей на обшивке. С ходу лодки стукаются о высокие борта. Треск, гул рвущихся гранат. Наши баграми вцепились. Берут шведов на абордаж. Теперь уж пушки и мушкеты ни к чему. Люди схлестнулись вплотную. Дерутся на палубах ножами, кулаками, зубами. На корме, перед дверьми шкиперской каюты, бьются с шведскими моряками Щепотев и Окулов. Их оттеснили одного от другого. Бухвостов кричит Тимофею, чтобы следил за каютой. Но тот в горячке боя ничего не слышит. Из распахнутой двери выбегают трое шведов. Они сбивают Окулова с ног. В воздухе замелькали острые, тонкие, как жало, кортики. Гибель друга видит и Щепотев. От ужаса, от боли закрывает лицо ладонями. И сразу же отдергивает их. Лицо его становится страшным. Перекошенный рот в пене… Сергей Леонтьевич не отклоняется от сабельных ударов. Ему кажется, что они минуют его, а клинки звенят и сверкают где-то в стороне. Странно, что напряжение битвы не туманит голову, как обычно. С поразительной ясностью примечает он все вокруг. И то, как Щепотев схватил шведа и, разрывая на нем одежду, перевалил за борт, в воду. И то, как бородатый матрос тоненько по-заячьему завопил, поднимая руки. И то, как на него наскочил рослый парнище с криком: — Поздно, поздно пардону просишь! Через борта все лезли и лезли солдаты. Лодки кишели вокруг кораблей. Загорелись мачты. На них плескали воду из ведер. С соседнего корабля, сквозь дым и гарь, прокричали: — Как там у вас? Мы отвоевались! Бухвостов узнал голос Петра. …На виду у шведской эскадры два плененных корабля, под обгоревшими парусами, вошли в Неву. В сопровождении эскорта лодок их повели к вчерашнему Ниеншанцу, сегодняшнему Шлотбургу.

Теперь нашлось время прочесть имена, выведенные золоченой латынью на бортах: «Астрель» и «Гедан». Нашлось время и для того, чтобы подсчитать отстрелявшиеся, еще горячие и остро пахнущие порохом пушки. Крепкими причальными канатами «Астрель» и «Гедан» закрепили у шлотбургских бастионов. Смертельно израненного Тимофея Окулова вынесли на берег, положили под сосну. Он доживал свой последний час. Бухвостов и Щепотев стояли рядом. Михаила Иванович не отводил глаз от угасавшего лица ладожанина и говорил мучительным шепотом: — Не защитил я тебя, Тимоша. Окулов ничего не слышал. Он в беспамятстве звал: — Батя… батя…
__________
На памяти человеческой не случалось, чтобы лодками брали корабли. В честь сей «никогда прежде не бывшей морской победы» велено отчеканить бронзовую медаль с надписью: «Небываемое бывает».2. ШЕСТНАДЦАТОЕ МАЯ

В походном журнале значится: «По взятии Канец отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить или иное место удобное искать (понеже оный мал, далеко от моря и место не гораздо крепко от натуры), в котором положено искать нового места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место, остров, который назывался Люст-Елант (т. е. Веселый остров), где в 16-й день мая (в неделю пятидесятницы) крепость заложена». Остров был присмотрен еще при первом походе на взморье. Очень уж в удобном месте он находился, как раз на разветвлении Невы. Мимо него ни один корабль не пройдет. И отсюда до моря рукой подать. Назывался остров Енисаари, по-русски — Заячий. Но было у него еще имя Люст-Елант, или Веселый. Местные жители рассказывали, что это название за островом закрепилось с тех пор, как шведский король подарил его знатному вельможе и тот выстроил здесь мызу. Недолго просуществовала мыза. Очень скоро ее до основания разрушили половодье и морской ветер. Никаких следов строения на острове не осталось. В березовом леске виднелся шалаш, да поблизости — рыболовецкая тоня… Солдатским штыком-багинетом здесь был взрезан жесткий прошлогодний дерн. Две гибкие березки связали вершинами, как ворота в еще не существующий город. И начали строить. Судьбу Ниеншанца-Шлотбурга решили тогда же. Первое время в нем еще находились войска. Но как только на Заячьем острове появились крыши над головами и надежные укрепления, войска покинули крепость в устье Охты. Однажды в черных пыльных вихрях, сотрясая землю, Ниеншанц взлетел в воздух. Взорваны были и крепостные валы и все постройки. Воинское счастье переменчиво. Нельзя оставлять старую, опустевшую крепость в тылу, в такой близости от новой. Только четыре огромных мачтовых дерева, растущих среди развалин, шумя густыми кронами, хранили память об отживших бастионах[12]. Новой фортеции дали имя «Санкт-Петербург». В народе же ее называли просто «Питер», как Ниеншанц — Канцами, а Шлиссельбург — Шлюшином, или Орешком. Крепость на взморье строили солдаты и работные. Сгоняли сюда крепостных умелых мастеров. Край был разорен войною. Беспутье и бескормица, сырые болотные туманы уносили жизни без счета. В армии не хватало лопат и тачек. Землю копали штыками или просто руками. Носили ее в рогожах, а то и в подолах рубах. Работали «от темна до темна». На ладонях набухали кровавые мозоли. О камень срывали ногти. Нельзя было остановиться на час, отдохнуть, перевести дыхание. Засыпали на короткое время, в светлую ночь, тут же на взрытой земле. От гнилой воды пухли животы, выпадали зубы. Земля над Невой вся перевернута, желтеет прослойками песка и глины. Пока еще тут не разберешь что к чему. Еще только угадывается, где будут болверки, где казармы, где раскаты. Но уже сейчас ясно: новая крепость строится во многом на шлиссельбургский манер. Она, как и Орешек, — на острове. Как и там — стены подходят к самой реке, чтобы врагу негде было ступить. Даже канал роют из края в край, от Невы к Неве, как в Шлиссельбурге, — при осаде гарнизон не останется без воды. Малый островок, словно дитя к матери, прильнул к другому острову, огромному; надо полдня, чтобы обойти его. Зовется Койвусаари, по-русски — Березовый. Наверно, когда-то составляли они одно целое. Но веками пробилась протока, отделила малый остров от большого. А за Березовым простираются другие, есть такие же огромные, есть и поменьше: Корписаари, или Остров Пустынного Леса; Кивисаари, или Каменный; Ристисаари, или Крестовский. Прямо же напротив Заячьего начинается острым мысом — стрелкой и уходит к самому взморью Хирвисаари — Лосиный остров, или Васильевский. Когда-то жил здесь новгородский посадник Василий, он и дал имя этой земле. Шумят лесами острова. Дороги нехоженые, зверь непуганый. Рыбаки, землепашцы, смоловары, знатцы речных дорог живут по берегам. Избы курные. Венцы сложены из вековых деревьев. Холодными утрами весь край тонет в клочковатых туманах. На болотах кугукают, засыпая, совы, кричат перепелки. Сохатый выбежит из перелеска, уставится на людей большущими глазами, задерет морду, протрубит угрожающе… Жихаревская батарея поставлена на оконечности Заячьего островка, обращенной к морю. Здесь всегда дует ветер, то штормовой, порывистый, то упругий, ровный, но такой сильный, что, идя против него, чуть не падаешь, наклонясь вперед. Он приносит странные запахи, душные, неведомые. Это ветер моря, незнакомый жителям материковых равнин. На мысу растут искривленные ивы. Они бедны листвой, как-то скрючены, сбиты в клубок. Корни местами вырвались наружу и дают зеленые побеги, а иные ветви ушли в землю, цепко ухватились за нее. Дереву, как и человеку, нелегко держаться под напором бурь. Старожилы приневских островов рассказывают, что эти ивы на мысу помнят и отцы и деды. Одно дерево упадет, а другое вырастет, такое же причудливое… Под ивами стоят три жихаревские пушки. Они повернуты к морю. В жерлах воет ветер. Логин ковыляет на костыле. Нога еще не зажила. Зябко пушкарю. Кровь не греет. Многовато потерял ее в последней баталии. Жихарев покрикивает на своих помощников. Ворочает белками, двигает лохматыми бровями. Но это никого не пугает. Пушкари за глаза всё чаще зовут его Железным носом. Копоти на батарее вдоволь, и не один Логин — все ходят перемазанные, как черти. Приказы Жихарева молодцы выполняют с великим рвением, не за страх — за совесть. А приказ у него, собственно, только один и есть: — Будь настороже! Вблизи от устья все еще ходит эскадра Нумерса. Русские пушкари подшучивают над шведскими моряками: — Задумал адмирал Неву закупорить. Да силенок-то не хватает. Отощал! Днем Логин мотается на батарее. Ему и ночью не спится. Сомкнет веки — и вздрогнет. Точно некая сила его на ноги поставит. Бежит к батарее. Чудится: шведские корабли к острову подплывают… Строится крепость на Заячьем без передышки, без останова. Спешат солдаты. Спешат землерои и плотники. Как не понять — бой не кончен. Может, заутра, может, через час снова заговорят пушки. Мало того, что на взморье курсирует шведская эскадра. Пришла весть: от Выборга надвигается многотысячная армия генерала Кронгиорта. У генерала приказ — вернуть Неву королю. Бомбардирскому капитану Петру Михайлову каждый день среди лесов и болот на краю неоглядного, манящего простора прибавляет забот. Среди тех забот — главнейшая: пришли к морю, а настоящего флота нету. Речные суда, ладьи, верейки не в счет. Мыслимое ли дело — удержаться на большой воде без могуче вооруженных кораблей? Без сильного отечественного флота — не жить! Шестнадцатое мая — начало крепости и города на взморье. Санкт-Петербург закладывался без Петра. Он был на Ладожском озере.
3. СУРОВАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Похожая на белую птицу легкая шнява, отсалютовав флагом Орешку, под всеми парусами спешила к восточному побережью Ладоги. Здесь в устьях рек Паша, Свирь, Сясь денно и нощно работали верфи. В селах, окруженных корабельными лесами, жили мастера. Они умели строить неизносимо крепкие еловые суда, которым не страшны ни озерные бури, ни речные пороги. Еще позапрошлой зимой, когда лишь задуман был штурм Нотебурга, приезжали сюда посланные из Москвы «мелкие места смотреть и в аршины измерять, и где кораблей делать к спуску на воду ближе…» На этих верфях выстроены были суда, помогавшие освобождать Орешек, брать Ниеншанц, вырваться к морю. Теперь шла речь об иных кораблях: не речных — морских. Для дальнего плавания. Для орудийного боя. Невдалеке от этих мест, в Прионежье, в Петровской слободе разгораться огням в печах железоделательного завода. Работать заводу на болотных рудах, при вододействующих станах. Там — лить пушки, ковать якоря и всю железную корабельную оснастку. Озером и лесными дорогами всему этому добру идти на Свирь, на Сясь, на Пашу. Самой крупной была верфь на Свири. Называлась она Олонецкой, по ближнему городу. Олонецкое адмиралтейство давало о себе знать издалека — огнями над горновыми трубами, частым стуком топоров, заливистым звоном пил. Бухвостов, стоя у борта шнявы, вглядывался в наплывающий лесистый берег. Судовая команда топала босыми ногами по нагретой солнцем палубе, тянула снасти, убирала паруса. Многим петровским солдатам эти края были хорошо знакомы. Где-то здесь останавливались в последний раз перед выходом в озеро фрегаты, протащенные посуху по «Государевой дороге». Перед глазами сержанта проходили родные места Окулова, судового знатца, беззаветного воина. Тяжело было думать, что ему не порадоваться родным ладожским далям, не вслушаться в лесной гул, не дышать озерным ветром. Взгрустнулось… Но уже чалки летят на берег. Их наматывают на приземистые, глубоко вбитые столбы. Не дожидаясь, когда перекинут траповую доску, Петр Михайлов спрыгнул на пристань, в толпу встречавших. Наклонив голову, на ходу слушает рапорт коменданта верфи. Петр спешит к стапелям. Он идет своим обычным шагом. Комендант едва поспевает вприпрыжку. На верфи работы в разгаре. Из черных, закопченных кузниц валом валит чад. Над смольней разогретый воздух дрожит прозрачным маревом. На канатопрядильном дворе от вóрота к вóроту тянутся пеньковые дорожки, без конца сматываются и разматываются. Из мастерских, из провиантских амбаров и чертежных изб все торопятся к берегу, к стапелям. Стапели похожи на орлиные гнезда. Только сложены они не из веток, а из бревен. Переплет этот густой, не сразу различишь людей, снующих на ярусах, и то огромное, крутобокое, чторастет, вызревает в том гнезде. Петр Михайлов пробует деревянные ребра будущих кораблей. Крепки, добротны. Осматривает мачты, не суковаты ли, достаточно ли упруги. Вымеряет пушечные настилы, просторны ли. Лазает в трюмы, возвращается оттуда, измазанный в смоле, бесконечно довольный. Всего дольше пробыл капитан бомбардирский на самом большом стапеле. Здесь строится 28-пушечный корабль, настоящая плавучая крепость. — Перед такой махиной первейший адмирал шляпу снимет, — говорит Петр своим спутникам. Отсюда ему не уйти. Прикидывает, как батареи ставить. Обо всем на свете позабыл. Комендант, приподнимаясь на носки, давно уже о чем-то докладывает. Ничего не поделаешь. Надо прощаться с будущим кораблем. Петр шагает прочь, и все на фрегат оглядывается. С высоты своего огромного роста капитан бомбардирский, наверно, видит то, что другим не разглядеть. Но вот над шумом и сутолокой, перекрывая все голоса, звучит остерегающее: — У стапеля — бо-ойся! Сергей Леонтьевич увидел плотников с топорами в руках, бегущих к крайнему гнезду, нависшему над рекой. Переданная от человека к человеку, многоголосо повторенная команда означает, что сейчас начнется трудное и очень важное. Плотники застыли, занеся топоры над бревнами. Старшóй — он только по званию своему старшóй, годами молод, и голос у него ликующий, звонкий: — Упоры, нáпрочь! На стапеле ничего не происходит. Только слышно, как стучат топоры. Бухвостов ждет. Но все остается так, как было. Неподвижно орлиное гнездо над водой. Вдруг в толпе подкинули шапки вверх, закричали: — Пошел! Пошел! Хруст, треск размочаленных бревен. Из гнезда медленно, а через минуту все быстрей, быстрей скользила громада. С полозьев, по которым она двигалась, полыхнуло пламенем. Всех обдало едким дымом. Взметнув высокую стену воды, сразу рассыпавшуюся брызгами, на реке покачивается корпус корабля. Сергей Леонтьевич видит, как бомбардирский капитан хватает старшóго, прижимает его к груди и крепко целует. — Спасибо, Федос, — говорит Петр. Так вот он какой, ладожский корабельщик… К только что спущенному фрегату спешат лодки. Закидывают канаты, как оброть на неезженного коня. Корабль по узкому каналу отводят в «ковш» — пруд с тихой водой. Сотни рук тотчас принимаются доделывать, оснащать новорожденного богатыря. То, что в этот день увидел Сергей Леонтьевич, было не просто рождением корабля. Рождался морской Балтийский[13] флот. Суровая Ладога становилась его колыбелью. В Свирском устье развело высокую волну. Белые барашки бежали в гору, к серому небу. Петровская шнява готовилась к отплытию. Бухвостов собирался взойти на борт, когда услышал, что его кто-то зовет. На пристани стоял олонецкий батюшка Иван Окулов. Приметно было, что он спешил, опасаясь не застать шняву. Прерывисто дышал. Только крест на затрапезной поддевке выдавал его сан. Сержант положил руки на плечи старика и почувствовал, что плечи дрогнули. — Будь добр, скажи, — попросил отец Иван, — видел ты Тимошу в последнем бою? — Видел. — Как умирал мой сын? Сергей Леонтьевич молчал, не в силах одолеть волнение. — Отвечай, — потребовал старик. — Поверь, отец, — проговорил сержант, — если и меня ждет погибель на ратном поле, ничего другого не хочу — умереть, как Тимофей… На шняву подняли сходни. Долго еще Бухвостов видел удаляющуюся согнутую фигуру старика на пристани. Ветер разносил его седые волосы. И долго еще слышался стук плотницких топоров со стапелей.
4. СВЕТЛИЧНАЯ БАШНЯ

На дневку шнява, возвращавшаяся с Олонецкой верфи, бросила якорь у Шлиссельбургской крепости. На острове почти не осталось следов недавней тяжкой осады. Бреши, пробитые в стенах, заделаны известняковой плитой, валунами. Новая кладка отличалась от старой только тем, что выглядела посветлее. Единственное уцелевшее от огня деревянное здание было разобрано по бревнышку, переправлено вниз по Неве и заново поставлено на берегу в устье Ижоры, как попутный дом для едущих в Шлиссельбург. Посреди острова начали сооружать высоченную вышку, чтобы врага можно было разглядеть за десятки верст, задолго до того, как он подойдет к крепости. Все в Орешке шло по заведенному порядку. Подъем с рассветом. Отбой с закатом. Гулкий шаг караулов. На стенах постовые ходили с мушкетами, вскинутыми на плечо. С башен поглядывали в сторону Корелы. Там еще держались шведы. Но уже чувствовалось, что крепость числится на второй линии. Падение Ниеншанца, и в особенности создание новой твердыни на взморье, отодвигало противника на почтительное расстояние от невского истока. Пушек в Шлиссельбурге насчитывалось немало. Но почти все отстрелянные, побывавшие в огне. А гарнизон, хотя и многочисленный, состоял из послуживших солдат. Среди них встречались и инвалиды, покалеченные при нотебургском штурме. Самыми молодыми и озорными жителями крепости стали подростки из школы «барабанной науки». Школа эта только что начиналась, и учеников для нее набирали из бездомных ребятишек-сирот. Временами они устраивали меж собой такие баталии, что инвалидам с трудом удавалось разнять их. Надавав тумаков, обещали: — Ужо в полку навоюетесь… Сергей Леонтьевич обошел всю крепость. Он искал Васену и не находил ее. Расспрашивать о взятых по навету не годилось. Бухвостов бродил по каким-то темным переходам в толще стен. Разрывая паутину, на ощупь пробирался по шатким лестницам на верхушки башен. Спускался в подземелья, настоящие каменные мешки. Но нигде не было и помина о несчастной девушке. Порой он негромко звал: — Васенушка! Эхо ударялось о камень и возвращало ему имя, ставшее сейчас, в беде, таким дорогим. Сергей Леонтьевич знал, что Васену должны были отправить в Преображенское. Но обоз к Москве еще только собирался. Налаживались телеги. Подкармливали коней. Посылали подставы на каждую сотню верст дороги. Солдаты спорили, кому ехать конвоем, — удачливому при такой поездке можно завернуть в родную деревню на побывку. Неужели девушку поспешили увезти с нарочным? Страшно было подумать об этом. Какая судьба! Вся семья погублена в застенке, и Васену не миновала злая участь… Бухвостов стоял на краю острова. Ветер рябил озерную воду. Сержант смотрел прямо перед собой. Ворот мундира, как удавка, сжимал шею. Бухвостов рванул крючки. Но удушье не проходило. Ладонями растер лоб, щеки… Услышал голос, несмело звавший его: — Господин сержант! Оглянулся и заметил пожилого солдата с обмотанною тряпьем рукой. Был он очень веснушчатый, только глаза оставались без отметинок. — Чего тебе? — спросил Сергей Леонтьевич. — Ты не признал меня, господин сержант, — сказал солдат, — оглоблинский я. С тобой от Вышнего Волочка о прошлый год в походе был. — Не помню. Что надо? — снова спросил Бухвостов. Солдат посмотрел, нет ли кого поблизости, и шепнул: — Ищи Васенку в Светличной башне. Бухвостов принялся расспрашивать. Но Васенин земляк ничего толком не мог ответить. — Мне тут быть не с руки, — опасливо промолвил он и ушел. Светличная отличалась от других башен. Находилась она между Королевской и Государевой, ближе к первой. Но снаружи ее не разглядеть. Она не возвышалась над стеной, а неразличимо сливалась с нею. И только изнутри крепости был заметен полукруглый каменный обвод. Даже видом своим башня пугала. Сложенная из тяжелых плит, глухая, с единственным небольшим оконцем, она казалась давяще мрачной. В нее вела каменная же, в несколько ступеней, полувинтовая лестница. Бухвостов толкнул дверь, она тяжело отошла. В светелке — по ней и башня называлась Светличной — под низким сводчатым потолком храпели солдаты. Наверно, из ночного дозора вернулись. Спали на полу, раскинув руки. Сержант, шагая через лежащих, обошел помещение. Вторых дверей здесь не было. Рядом со светелкой — ход на стену. Сергей Леонтьевич возвратился во двор. Что же могли значить слова веснушчатого о Васене? Почему-то сержант боялся отойти от башни хоть на шаг. Он ощупывал ладонями холодные плиты. Никаких надежд не оставляла эта безмолвная каменная громада. Между стен, как в ущелье, сильно потянуло ветром. С головы Бухвостова смахнуло треуголку. Он нагнулся за нею и тут увидел, что в башне есть еще проем — настоящая крысиная нора, заплывшая грязью. Пошарил руками, наткнулся на железные прутья. Сергей Леонтьевич лег на землю, чтобы заглянуть в забранную решеткой дыру. Сердце билось так, будто кто-то держал его в злых лапах, — то сожмет, то отпустит. За решеткой, в сумраке, ничего не разглядеть. Прошло время, прежде чем сержант освоился с темнотой. И тогда он увидел глаза, в упор смотревшие на него оттуда, из подземелья. Бухвостов отшатнулся. — Ты кто? — спросил шепотом. Слова, прозвучавшие в ответ, перевернули душу: — Дядь Сергей, я знала, что ты придешь. К пальцам, сжимавшим решетку, приникла теплая щека. Сержант охнул, словно ударили его. По железу, по пальцам текли Васенкины слезы. Узнать ее было нельзя. Исхудалое, в ссадинах лицо, тонкие руки, закованные в цепь. При каждом движении цепь скрежетала. На шею девушки набита деревянная колодка. Когда Васена прижалась к железным прутьям, колодка краем поднялась, сдавила горло до удушья. Но Васена не отходила, все шептала, шептала: — Помру я скоро… Спрашивают, пошто я из деревни ушла? Зачем в войске? Да знаю ли ведовство? Да нет ли умысла на государево здоровье?.. Помру я… В том, как сказала Васена эти два последних слова, не было ни отчаяния, ни горя. Просто она говорила о том, что скоро все кончится — и жизнь, и мучения. Сержант гнул, ломал железные прутья. Освободить Васену. Бежать! Бежать! Опомнился. Подумал — как нелепа эта первая, захватившая его мысль. Бегством только вконец погубишь девушку. Да и куда денешься с острова? У подземелья даже стражи нет, потому что отсюда все равно не убежишь. Что делать? Васену со дня на день увезут в Преображенское, и тогда она канет, словно камень в омут, безвестно пропадет, как тысячи других в безысходном застенке. Надо спешить. Но если бы знать, что делать? Такая беда. Такая беспомощность. «Первый российский солдат» знал, что он переживает самый страшный день в своей жизни. — Мы тебя вызволим, Васенушка, вызволим, — бормотал Бухвостов, сам не веря своим словам… От Государевой башни, от причала донесся звон судовой рынды. Шнява уходила в низовье. Удаляясь от Светличной, сержант все видел перед собой большие, в слезах, глаза Васены. Думалось — простился с нею навсегда… Через невские пороги негруженная шнява перемахнула, как на крыльях. Плыла быстро, подгоняемая течением и ветром. Впереди — разбитый Шлотбург. А там рукой подать до острова Заячьего, до юного города Санкт-Петербурга. Из непреодолимой ненависти ко всему торжественному, парадному, показному, бомбардирский капитан Петр Михайлов не торопился на закладку новой крепости. Он не сомневался, что двор и духовенство все сделают без него: и серебряную доску вроют в основание, и молебен отслужат, и святой водой окропят разворошенную землю, и отсалютуют из пушек. Пожалуй, даже придумают орла, который обязательно будет парить над островом и непременно сядет на плечо самого знатного вельможи. Хотя орлы тут, кажется, вовсе не водятся. — Леонтьич, — окликнул Петр сержанта, — видал ты орлов на Неве? Бухвостов не ответил. Не поднимая головы, смотрел он на струи за кормой, словно искал в них очень важное для себя решение. Что творится с Леонтьичем? Но Петр уже не помнил, о чем спрашивал. Всеми мыслями он был на острове Заячьем. Сейчас там работа на большом размахе. Добротно ли возводят верки? Не размоет ли водой дамбу? Хватает ли людей? Не атакует ли Нумерс? Где сейчас армия Кронгиорта?.. Здесь, на краю отвоеванной русской земли, кажется, Петр не замечал болот и чахлых перелесков, не замечал гнилых туманов, ползущих над мелководьем, взмученных бурых ручьев в пустынных лугах, черных оводов, заедающих лошадей насмерть. Видел он перед собой только взморье, только даль до самого неба и зыбкие на волнах дороги, дороги. — Рай земной. Парадиз, — проговорил он вслух, — истинно, парадиз.
5. „ЦАРЕВА ХАТА“

На краю обширного Березового острова, в полуверсте от новостроящейся крепости солдаты в два дня срубили дом для бомбардирского капитана. Вокруг, откуда ни посмотришь — палатки, веточные шалаши, неглубокие вырытые землянки. А посреди шумного, неказистого, раскинутого как попало воинского лагеря — дом. Одно это уже говорило: пришли сюда прочно, навсегда, вот строиться начали. Дом поставили не на самой кромке берега, но несколько поодаль. Нева своенравна, с ней ухо востро держи. Венцы складывали из гладко тесанного сосняка. Стены выкрасили в яркий охряной цвет и навели поперек черные полоски, издалека взглянешь — кирпичные стены. Но то лишь одно мечтание, заглядка в будущее. Хоть глины кругом много, настоящего кирпича за сотню верст окрест не сыщешь. Строили дом по стародавнему обычаю, лапа в лапу, кондово. Строили первое жилье из дерева. А в дальнейшем городу быть каменну. В знак того, что хозяин дома по званию своему — капитан бомбардирский, на гонтовую крышу, сложенную из узких досочек внахлест, по углам поставлены пестро раскрашенные, пылающие бомбы. На конек взгромождена якобы изготовленная к бою мортира. Неслыханная красота дома — окна. Широченные, с раскинутыми в стороны ставнями. Расстекловка мелкая, в свинцовых переплетах. В те окна смотрятся быстрая Нева, и лес, и поднявшийся над вершинами дощатый шпиль церкви, только что поставленной во имя святителей Петра и Павла. В остальном же это была самая обыкновенная зажиточная крестьянская изба. Приземистая, с двускатной крышей и с такой низкой дверью, что войти в нее можно, только пригнувшись. Она ничем не напоминала собою дворец. Солдаты, так же как и местные жители, называли ее запросто — «царева хата». Тревог и забот у обитателей «царевой хаты» много. Могучий рывок России к морю по-разному принят европейскими дворами. Первое сообщение о городе Санкт-Петербурге было весьма кратко и заурядным шрифтом напечатано в «Ведомостях». В заметке, состоявшей всего из нескольких строк, говорилось о государевом указе: «…ближе к восточному морю на острове новую и зело угодную крепость построить велел, в ней же есть шесть бастионов, где работали двадцать тысяч человек подкопщиков». Иноземные газеты перепечатали это сообщение, иные же и вовсе не приметили его, полагая незначительным. Мало ли крепостей возникало и исчезало на Неве? Некий немецкий барон, позже побывавший в невском поморье, в кратком описании своего путешествия предварял: «Чтобы знать, в какой именно стороне лежит новый город, почтенный читатель должен обратиться к наилучшим из числа самых новейших карт, потому что на старых он не отыщет Петербурга». И в строках заключительных — о намерении Петра «проложить через пустыни, горы, леса, болота и реки новую широкую и, по возможности, прямую и ровную дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга». Как видно, в Стокгольме все еще не могут прийти в себя от виктории русских войск под Нотебургом-Орешком. Эта виктория определила успех совсем уж невероятного похода в Ингерманландию. Кампания длилась самое короткое время. И вот — новый город на море. Санкт-Петербург. Его еще нет в корабельных лоциях. Но он существует. Сумеют ли шведы сбить русских с острова, который носит такое странное имя — Заячий?.. В «царевой хате» на берегу Невы капитан бомбардирский без конца задавал себе этот вопрос. В новом доме сосновый дух кружит голову. Под низким потолком свиваются струи синего дыма. Петр желтым ногтем приминает огонь в трубке. Петру неловко за столом, все стукается коленями. На столе насыпан табак. Здесь же — краюха хлеба и жбан с молоком. Скрипит стул. Скрипит гусиное перо. Петр скусывает макушку, хватает другое. Не перечесть дел и забот. Скорей, скорей надо прикрыть Петербург с запада. Шереметев со своими полками уже воюет порубежные крепости Ям и Копорье. Удар нанес ловко, с ходу. Крепостям не устоять. Великий хитрец и воинской фортуны галантнейший кавалер этот старый хрыч Борис Петрович… Ждут ответа послы княжества Литовского. Приехали просить помощи в борьбе с шведами. Нельзя не помочь. Указ в Москву: отпустить к Литве войско. Да не пожалеть казны; тридцати тысяч рублей хватит… Жизнерадостный весельчак король польский, забияка в пиру, скромник на поле боя, прислал письмо. Умиленно просит конницы, дабы одолеть шведский гарнизон в Быхове… Конницу послать марш-маршем. Где ни побьем ретивого Карла — нам польза. Союзники. Хороши друзья. В злой час отвернутся, в добрый — мастера клянчить… А это что за весть, чуднáя и горькая? До чего доводит алчность человеческая! Из всех армий пишут: пуль нехватка, шлите свинец. В Пскове же митрополит, забыв сан и святость, припас в амбарах сотни пудов свинца. Из-под полы посылает помалу в Москву для продажи. Гнус! Нечестивец! Перо разбрасывает чернильные брызги. В каракулях, в кляксах — повеление о свинце: «Взять сильно, а деньги после заплатить»… Дверь приоткрылась. Сквозняком шевельнуло бумаги на столе. Петр сердито — в мыслях застрял псковский митрополит — рявкнул не поднимая головы: — Кто там? Краем глаза приметил Бухвостова. Отходя от гнева, мягко спросил: — Чего тебе, Леонтьич? У Бухвостова есть редкое, очень ценимое Петром, свойство становиться незаметным. Он тут же, в комнате, а как будто его и нет. При нем можно и мысли высказывать вслух. Ничем не обнаружит, что слышит. Какие же мысли у него самого? Того не скажет. Бомбардирский капитан знал, что у немногословного сержанта нет раздумий отдельных от его, петровских, раздумий… Сергей Леонтьевич стоял, прислонясь плечом к косяку, расписанному пестрыми букетами. Он смотрел на стены, обтянутые серым парусным полотном. Была открыта дверь в спальную комнату, крохотную и полутемную, наподобие сундука. Поразительно, что Петр, так любивший простор, мог заснуть только в этакой душной тесноте. Наверно, то было воспоминание детства, память о кремлевских теремах… Охваченный горем, сержант взглянул на сидящего за столом человека. Из кованой железной укладки, раскрытой на полу, вывалился ворох бумаг. Шандал со свечами тоже стоял на полу. Петру за столом тесно. Сержант смотрел на человека, вольного в жизни и смерти неисчислимого множества людей. Но что он без этих горемык лапотных, без народа, гнущего спину на пашнях, льющего свою кровь в сражениях, битого батожьем, изломанного на дыбе?.. Освободил бы он Орешек, если бы полтысячи отборных молодцов не полегли на той островной земле?.. Ныне насыпает бастионы и стены Петербурга. Строят безвестные, у кого и имен настоящих нет. Мрут на болотах. Нева унесет память о них, как весенние льдинки в море… Кровь, пот, слезы — вот на чем круто замешана Русь. Петр вскочил из-за стола. Бухвостов стоял на коленях. — Встань! — загремел Петр. — Не годится солдату стукать лбом о землю. Встань! Сергей Леонтьевич не поднимался. Бомбардирский капитан видел седину, густо пробившуюся сквозь смоляную чернь волос. На затылке белел плохо зарубцованный шрам. Петр помнил — это Нарва. На щеке, под ухом, как заплата — красный лоскут кожи. Это — Нотебург. — Государь, смилуйся! — проговорил Бухвостов. Когда-то мальчишкой-конюшонком такими же униженными словами начинал он челобитную: просил кафтанишко взамен прохудившегося, сапожонки на смену истоптанным. Сейчас «первый российский солдат» молил о крохе счастья, не своего — чужого. Не жить ему без этой крохи. — Ведомо тебе о беглой девке Васене, — сказал Сергей Леонтьевич, — в Преображенское шлют ее. Перехватило дыхание. Сержант обождал минуту. — Знай, — продолжал он, — тут моя вина. Я привез ее из деревни, над сиротством сжалился… Меня казни. Пощади ее, ни в чем перед тобой не виноватую. Петр поднял Бухвостова. Приткнул его к стене, там стояла широкая лавка. Заходил по горнице. Бросал отрывистые слова в угол, где уже плотнела предвечерняя сутемь: — Подумай, Леонтьич, о статочном ли говоришь? Что будет с государством, ежели холопы, смерды начнут от господ бегать?.. Сие без наказания оставить не можно. Сам знаешь — закон сильнее меня. Над законом я не властен! Бухвостов пошел из горницы. Он шел с протянутыми руками, нащупывая дверь, как слепой… Петр нагнулся в притолоке, чтобы не стукнуться головою. Выбежал из дома. Ну, денек нынче выдался: то псковский митрополит-пройдоха, то беглая девка. С разбегу перескочил в верейку, сильно качнувшуюся на волне. Рванул привязь. Загребал одним веслом, стоя. Узкую, остроносую верейку подхватило течение. Оглянуться не успел — ее уже вынесло на песчаный бережок Заячьего. Там земля вздрагивала от ударов многопудовой бабы. Тесаные сваи уходили в речное дно. В людском разноголосье, в стуке топоров и скрипе вóротов, под протяжные выкрики — запевы артельных старшин — строился город.
6. РАБОТНАЯ КАТОРГА

На исходе второго месяца бесчеловечно тяжелых работ Санкт-Петербургская крепость была готова принять бой. Над Невою поднялись земляные валы-стены с шестью бастионами на углах. Валы местами обшиты досками, и в них на корабельный манер проделаны откидные люки. Из каждого такого люка глядит черный ствол. Множество пушек поставлено на стены. Есть чем встретить врага. Но все, что сделано, годится лишь на первый случай. Под прикрытием пушек работы в крепости разрастаются с каждым днем. За валами, вдоль прорытого канала, как воробьи на жерди, появились первые мазанковые домишки. Они крыты дерном и берестой. Подле валов вытянулись поместительные казармы, цейхгауз, провиантские магазины. На особицу, чуть в стороне — гарнизонная гауптвахта. Она с краю площади, которую солдаты прозвали Плясовой. Почему такое название, Трофим Ширяй понял, когда сам попал сюда. Подвела его обычная болтливость. Сказал обидное слово о заезжем майоре. Тот услыхал и велел кнутом обучить солдата, как почитать старших. Ширяй, худой да жилистый, в работе спорый, как всегда, успевал и над соседями позубоскалить. Без этого он часа не проживет. Троха искал земляков, расспрашивал, кто откуда, и каждого насмешливым словом вроде крюком подденет. Боровичане у него были «водохлебы», псковичи — «ершееды», арзамасцы — «малеваны», среди них встречались иконописцы, что божий лик малюют. — Отколь, робятки? — выкрикивал он певуче. — Галичане? Это вы толокно в реке веслом месили?.. А, чухломцы-рукосуи: рукавицы за пазухой, а другие ищет… Здорово, вятчки — парни хватчки: всемером одного не боимси… Кто смеялся вместе с солдатом, а кто и серчал. — Черт чернозубый, — говорили работные, — тут горе взахлеб, а он шуткует. — Погоди, — огрызался Трофим, — побываешь на гауптвахте, сообразишь, какое оно, горе, бывает. Хошь плачь, хошь шути. Видели — трудится солдат вместе со всеми до тяжкой свинцовой устали, прощали насмешку… На петербургских бастионах вся Россия работала. Восемьдесят пять губерний и городов присылали землекопов, плотников, пильщиков. В иные дни до сорока тысяч человек тянули лямку на Заячьем. Топор за поясом. В руках лопата. Порты засучены по колено — то и дело приходится в воду ступать. Немытый, желтый от привязчивой лихорадки, всегда голодный — питерского издалека узнаешь. Потому мужики и шли к Неве с великой «тугой», провожаемые всеми родными плачем, как на погибель. Страшно работному человеку в граде Санкт-Петербурге. Но была доля и пострашней. То доля приговоренных. Разбойный и воровской люд присылали сюда грести на галерах-каторгах. На таких судах, огромных и неповоротливых, четырехсаженные весла вытесаны из цельного дерева. К каждому веслу, по шести гребцов прикованы. Галеры несли службу боевую и ластовую[14]. Для галерной работы человека хватало на месяц, не больше. Жили каторжные отдельно, за протокой, на кронверке, где насыпан второй вал для обороны. Солдаты и работные охали, глядя на них. Мужик у каторжной судьбы по краешку ходит. Дивились: — Есть же такие, которым живется хуже нашего. Трофим повадился по вечерам, как стемнеет, переплывать протоку на бревенчатом плоту. Делал он это из любопытства к людям и еще из жалости. На кронверке — смрад, ругань, звон цепей. Каторжные гнездились под навесом на трухлявой соломе. Кто спит, кто клянет все на свете, кто, подобрав кандалы, пляшет, позабыв про беды. Тут же дерутся. Тут же слезливо вспоминают дом, семью. Среди каторжан все до единого безымянные. С именем стараются утаить прошлое. Зовут друг друга прозвищами, благо каждого жизнь наградила отметинами: Клейменый, Кривой, Рваная Ноздря… Кого только не было здесь: и молодец с большой дороги, погубивший не одну душу, и мужичонка, унесший из барской клети полмешка жита, чтобы накормить голодных ребятишек. Трофима привлекали к себе не разбойники, не воры. Тянуло его к людям смелым и непонятным, к тем, кто волю добывал. В их числе больше всего низовых казаков с Дона, с Волги. Совсем особой стати люди. Сильны, ловки. Кандалы носят легко, не сгибаясь. Особенно один пришелся по душе Трофиму. В порванной до пупа рубахе, никогда не унывающий, веселый, кудрявый, громкоголосый. Ширяй привозил каторжным собранные солдатами хлеб и табак. До ночи сиживал он с новыми товарищами на соломе, слушал их рассказы про лесную волю, удалую жизнь. Верилось и не верилось тем рассказам. — Думаешь, мы тут засидимся? — тесно придвинувшись и обдавая горячим дыханием, говорил кудрявый. — Как же, прикуешь нас к этим дьявольским галерам. Погоди, мы свое возьмем… Обещание это было не пустое. Как-то в ночной час со стороны кронверка послышались вопли, удары, выстрелы. Шум не стихал, становился все громче, грознее. Ширяй побежал к протоке, скользнул на плот, уперся шестом. Прячась за кустами, выбрался на противоположный берег. Сразу наскочил на кудрявого. Был он бледен, челюсти сжаты, глаза недобро светятся. Грозно крикнул Трофиму: — Уходи отсюда. Уходи от беды! И сам оттолкнул плот. Так сиповщик и не узнал, что случилось на кронверке. Крепость облетел слух, что каторжные бежали в леса. Многих поймали. Но нескольким посчастливилось скрыться от погони. — Эка, ушли ведь, — завистливо говорил Ширяй, — вольны, как птаха в небе. По тому же слуху выходило, что на кронверке идет розыск, кто всему делу голова, кто подбил галерных на буйство и побег… Однажды вечером Трофим ездил на Березовый остров за бревнами; с Заячьего был уже налажен неширокий подъемный мост. Возвращался поздно, впотьмах. У самых ворот крепости чем-то ударило его по лицу. Схватил. Что за черт? Босая пятка, нога человечья! Отступил и увидел у съезда с моста виселицу. Рядом — вторая, третья. Закрестился мелко: — Свят, свят… Понял: пойманных галерных повесили. Чтобы другие не приохотились к побегу. А тот, кудрявый, неужто и он на перекладине? В темноте не разглядеть… Трофим вздохнул, закручинился. Снял шапку, вытер ею сразу вспотевшее лицо. Взял под уздцы лошадь, она храпела, роняла пену с губ. Осторожно повел ее под раскачивающимися на ветру. Виселицы с неделю стояли у ворот крепости.
Строился Санкт-Петербург днем и ночью. Строился, набирал боевую силу. Насыпанной землей поднимали берега. Клали ряжи, сооружали волноломы, чтобы в половодье либо в ледоход не потревожило остров. Неподалеку от крепости выросла булыжная гора. Каждая повозка, приехавшая из глубины России, — хоть почтовая, хоть фельдъегерская, хоть с кладью — здесь останавливалась и сбрасывала взятые по пути камни. Без этих «непременных полевых камней» в город не пускали. Камнями мостили дороги. Клали их и в основание домов. Над государевым раскатом на высоком шесте зажгли маячный фонарь. Он светил вопреки вражеской эскадре, курсировавшей на взморье, вопреки шведской армии, надвигавшейся на молодой город. Санкт-Петербург ждал корабли со всего света.
7. СЕСТРА-РЕКА

Утром на Заячьем ударили в набат. Неистово-тревожный звон летел над Невой. Нигде не было видно пламени. Солдаты бежали в казармы, хватали мушкеты, надевали подсумки с пулями. Пешие полки еще только строились. Драгуны на крупных диковатых лошадях уже мчались — без дорог, через поля, через лес. Стало в точности известно: армия генерала Кронгиорта идет на Петербург. В Лахте, в десяти верстах от города, вырезали нашу заставу. Главная позиция Кронгиорта находилась на Сестре-реке. Мелкая извилистая речка петляла среди песчаных холмов. Тихая речка. Бой на ней разгорелся жестокий. Конница появилась стремительно. Удар ее был силен. Шведы не успели уничтожить единственную переправу через Сестру-реку. Вслед за драгунами на другой берег перешел голицынский полк. Но вот тут-то началось горячее до одури. Вдоль реки тянулась узкая дорога. Одним краем она обрывалась в мутную, медленно текущую воду. С противоположной стороны к ней подступала непроходимая топь. То, что топь непроходима, поняли сразу. Свернувшие повозки так и пришлось там оставить. Шведы же заняли высотку в конце дороги. Они подтащили пушки и стреляли по войску, сжатому на узком пространстве. Перекрыта дорога огнем. Вперед не пройти. Да и назад податься некуда. Уйдешь отсюда — придется драться с шведами у петербургской крепости; в осаде еще тяжелей. Никак нельзя уходить с Сестры-реки. Полковник Голицын, как всегда безудержно смелый, не глядя на падающие рядом ядра, не слезая с седла, кричал солдатам: — Не отступать, не отступать! Держись. Выручайте, братцы! Когда он говорил это слово — «выручайте», — наверно, и сам толком не знал, как и чем можно в сей трудный час выручить полк. Солдату, природному крестьянину, несметливым быть нельзя. У глупого на пашне хлеб не уродится. В баталии дурак головы не снесет. Сначала неприметно, а потом все явственнее полк стал растекаться в сторону от дороги, в топь. Каждый шаг проверяли, пробовали; нащупывали кочкарник потверже. Потом пошли смелей, опрокидывая болотный лесок под ноги. Многие еще в Петербурге, став в строй, по привычке оставили топоры за поясами. Остальные отомкнули от ружей багинеты. Рубили ветки, валили деревья. Шли по ним, где можно, в рост, где нельзя — ползком. Высокий, неутомимый Родион Крутов помогал Голицыну перебираться с жерди на жердь. У полковника путалась в ногах шпага. Лошадь он оставил на дороге. Плащ потерял в самом начале этого трудного пути. — Молодец, Родионушка! — задыхаясь от жары, от болотной вони, говорил ему Голицын. — Я тебя не забуду. Крутов не слушал, отмахивался от слепней. Поджарый, ловкий Трофим шепнул на ухо немому: — Как же, он тебя не забудет… Эх, милый, тут на болоте и мы князья. Не зря говорится: в лесу медведь — архимандрит. Оглянулся на Голицына: — Прыгай сюда, господин полковник. Здесь вроде землица поядреней. Михайла Михайлович из сил выбился. Бредет по колено в грязи. Один сапог потерял. Трофим не то издевается, не то угодничает… Полк пробрался через топь. Вышли к высотке, шведам в затылок. Пришлось ждать, когда подтянутся отсталые. Скрытно развернулись в боевой линейный порядок. Полковник проверил, не потеряны ли мушкеты, не замочены ли заряды. Велел готовиться. Не таясь, выскочил вперед — смел князюшка, этого от него не отнимешь, — выдернул шпагу: — Братцы! На шведов! За мно-ой! Да куда там — «за мной»! Прыгает в одном сапоге, другая нога босая. Солдаты обогнали полковника. Багинеты вперед. Пошли дружно. Шведы всполошились, перекинулись на атакованный скат. На дороге-западне наше войско вздохнуло полегче. Драгуны — снова на коней. Рванули рысью. Столкнулись с противником «фрунт на фрунт». Бились шведы зло. Распроклятый тот холм на Сестре-реке переходил из рук в руки. Случилось так, что Родиона Крутова окружили шведы. Трофим видел, как он дерется один с многими. Лицо у него перекошено. Из открытого рта вырывался крик. Шведы отошли было от солдата нечеловеческой силы и неустрашимости. Он наотмашь колотил своим старым, привычным шестопером. Но Родиона уж обступили со всех сторон. Ширяй пробивался к немому. Внезапно перед глазами сверкнул широкий палаш, и левая рука Трофима сразу потеряла силу. Ему казалось, что все кончено. Он сидел на земле и трогал раненую руку. Странно, боли не было, но ни одним пальцем не мог пошевелить. Послышался топот. Лавина рыжих коней налетела, промчалась, и вот она уже на верхушке холма. Потом драгуны рассказывали, как они наскочили на шведов, как те стреляли плутонгами — первый ряд с колена, второй — стоя, и как вдруг среди них появился русский солдат с обрывком веревки на шее. Молотя шведов кулаками, похожими на пудовые гири, он ринулся к своим. Схватка тотчас закипела вокруг смельчака. Драгуны вовремя поспели на помощь. Родя — это был он — не слушал, о чем спрашивают, и жалобно стонал. На мундире на груди расплывалось кровавое пятно. Однако Крутов не давал себя перевязать. Все тянул одну тоскливую ноту и порывался вперед. Драгуны не могли знать, что этот солдат немой. Шведы беспорядочно скатывались в низину. Уходили от преследования. Позиция повсеместно была за русским войском. Ширяя и Крутова везли обратно в одной телеге. Немой очень тосковал и жаловался. Трофим с трудом разобрался — Родя горюет потому, что шведы отняли у него шестопер. Сиповщик посмотрел на залитую кровью грудь товарища и спросил: — Не болит? Немой мотнул головою. — Эх, милый, — Трофим с непроходящим испугом держал здоровой рукой неподвижную раненую, — запомним же мы с тобой тихую речку, что зовется Сестрой… Пешие и конные полки возвращались к Неве. Это был первый бой за город и крепость Санкт-Петербург. Все уже знали, что Кронгиорт с остатками своей армии ушел в Выборг. На следующий день с восходом солнца солдаты снова работали на бастионах крепости. В почерневших, задымленных порохом руках — топоры, лопаты, пилы. В крепости долго еще вспоминали, как одолевали топь, как заставили бежать шведов. Больше всего говорили о герое той баталии — немом солдате. Родиона Крутова не было ни на болверках, ни на валах. Вместе с Трофимом Ширяем его отослали для выздоровления после ран в Шлиссельбургский гарнизон.
8. „ШТАНДАРТ“
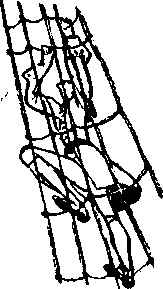
Поражение Кронгиорта означало вместе с тем и поражение адмирала Нумерса, хотя шведская эскадра все еще утюжила залив в виду Санкт-Петербурга. На хорошо вооруженную и с каждым днем усиливающуюся крепость эскадра теперь напасть не могла. Но она закрывала морские дороги к новому городу. С шведскими кораблями надо было бороться кораблями же. В это время на Ладожском озере делалось великое дело. От причалов Олонецкой верфи ушла в плавание первая, построенная здесь эскадра Балтийского моря. Распустив паруса, плыли фрегаты, шнявы, гальоты. Первым под вымпелом капитана Петра Михайлова шел 28-пушечный корабль. Флаг, или иначе — штандарт, поднят на самой высокой мачте. Порывистый ладожский ветер развертывал яркий камчатый шелк, и тогда можно было рассмотреть вытканного на нем русского орла. Орел держал в когтистых лапах моря, подвластные России. Раньше, до этого плавания, на штандарте обычно рисовались три моря: Белое, Каспийское, Азовское. Сейчас впервые на нем было изображено четвертое — Балтийское. В честь сего многозначащего флага головной фрегат эскадры назывался «Штандарт». На озерной глади еще держался туман. Казалось, крылатые корабли плывут в воздухе. На палубе «Штандарта» за грубо сколоченным, ничем не накрытым столом сидели бомбардирский капитан, он же капитан фрегата, Петр Михайлов, рядом с ним — Бухвостов, мастер Федос и другие корабельщики Олонецкой верфи. Петр, как всегда при удаче, в радости был говорлив. Он хвастался своей эскадрой. И в самом деле, ею можно было залюбоваться — быстрой, сильной, с пушками, внушительно чернеющими на борту. Хоть сейчас в бой! — Олонецкая верфь началу служит, — сказал седой ладожанин в смазанных дегтем сапогах, — только началу. Федос подтвердил: — От Свири на Неву — путь немалый, через озеро. Да надо еще пороги пройти. А как быть осенью в мелководье? Как посылать в Петербург суда зимой? На санях?.. Приглядывай, господин капитан, место для верфи в невском устье. Мы все пойдем туда работать… — Давай-ка неси бумаги! — крикнул Петр Бухвостову. В походе бумаги хранились у Сергея Леонтьевича, в медной укладке. Он спустился в каюту. Возвратясь, положил на стол всю кипу. Федос и все мастера склонились над крупным чертежом. Этот чертеж Петр разостлал на столе и, чтобы не сдуло ветром, прижал с краю ладонью. Корабельщики слушали, стараясь не пропустить ни слова. То их родное, кровное дело. Скоро на Неве появится верфь не в пример больше Олонецкой. Капитан для убедительности водил пальцем по карандашным линиям. Посматривал на мастеров: — Вот как будет! Первая Балтийская эскадра построена на Ладоге. Второй и следующим рождаться на Неве. — Царь-государь! Вот где поработать бы! — От волнения Федос вцепился в столешницу, побелели суставы пальцев. — Дай мне построить корабль на новой верфи! — Построишь, — ответил Петр, — построишь… А скажи, как ты меня назвал сейчас?.. Всем был известен строгий указ Петра именовать его «без величества». Для сотоварищей по ратному делу был он Петром Михайловым, бомбардирским капитаном. Нарушение указа считалось большой провинностью. На этот раз, наверно, все обошлось бы, — уж очень увлекся мастер. Но он испугался искаженного судорогой лица Петра. Испугался и побежал. Петр — за ним. Федос, не оглядываясь, добежал до носовой части фрегата. Петр настигал. Мастер сбросил кафтан, поплевал на ладони и полез на мачту. — Стой, стой! — кричал ему Петр. Но Федос перекинулся на фок-ванты и забрался еще выше. Бомбардирский капитан, разъяренный, тоже поплевал на ладони, ухватился за снасти и полез наверх. Корабельщики и все, кто были на палубе, столпились на носу фрегата. Пересмеивались, подзадоривали. Капитан и мастер в эту озорную минуту казались очень молодыми, лишь недавно вышедшими из мальчишества. Не было им дела до работ, замыслов, баталий. Только бы подняться повыше! Перепачканные в смоле, которой пропитаны канаты, они кричали что-то, неслышное за гулом ветра. Но когда преследуемый и преследователь добрались до последней реи, смех и шутки оборвались. Судно сильно кренилось на посвежевшей волне. Высокая мачта острой верхушкой чертила в небе крутые дуги. Рея казалась слишком тонкой, чтобы выдержать двоих. Вот-вот они оборвутся, разобьются о палубу или о воду. Бухвостов, задрав голову, кричал: — Петр Алексеич, слазь! Старик ладожанин, тот, который говорил про Олонецкую верфь, что она началу служит, срывая тоненький сердитый голос, увещевал Федоса: — Не бойся, держись! Выдерут тебя за уши, только и делов! Петр, дрыгая ногами, перехватил снасть и облапил Федоса. Но не похоже, чтобы они дрались. Просто поддерживали друг друга, чтобы не сорваться с реи. Нащупывая ускользающие ванты, оба полезли вниз. Ветер забивал дыхание. Глаза слезились. Руки коченели на холоду. На половине пути Федос остановился отдышаться. Огляделся из-под ладони. На горизонте заметил маленькую черточку — едва различимый островок. — Орешек вижу! — крикнул он…
Никогда еще Сергей Леонтьевич Бухвостов не ждал так нетерпеливо встречи с Шлиссельбургом, как в этот раз. Город у истока Невы стал родным для «первого российского солдата». Тут сплелось многое… Ему не приходилось особенно раздумывать над тем, что у Шлиссельбурга и у него одинаковый герб — ключ над голубым щитом. Важно, что Бухвостов был среди тех, кто штурмовал Орешек, и породнился с ним кровью. А всего важней — что здесь, на краю озера, под быстро бегущими тучами жило, теплилось, как огонек на ветру, его бедное счастье. Эскадра, лавируя, обступила Шлиссельбургскую крепость. Корабли закрыли островок своими парусами.
9. ДОЧЕНЬКА

На левом берегу Невы, против островка, разросся большой посад. Назывался он, как и крепость, Шлиссельбургом. Посад был многолюдный, шумный. Тут слышалась растянутая речь москвичей, «оканье» волгарей, медлительно неторопливые рассуждения архангелогородцев, бойкая скороговорка рязанцев, певучая «мова» донских казаков и гортанная калмыцкая перекличка. В Шлиссельбурге сходились все пешие и водные дороги, ведущие в город на взморье. Каждый едущий в Санкт-Петербург не миновал Орешка. Здесь, на последней ямской станции, перепрягались лошади почтовых возков. Останавливались пышные боярские конные поезда с набором колокольцев под дугами; впереди скакали форейторы и разгоняли встречных-поперечных оголтелым криком: «Сторонись!». Пестрым табором заполняли берег плотничьи, землекопные, кузнечные артели. Многие мастеровые шли с семьями. Женщины голосили, ребятишки поднимали плач: один заревет — десяток в разных концах подхватят. Мужики гадали, что ждет их в неведомом, теперь уж близком, крае. От Урала присылали обозы с железом, от Каспия — с солью, от Поволжья — с хлебом, от Новгорода — барки с льном и кожами. Сплавленные водой грузы здесь переваливались либо на колеса, на сухой путь, либо в плоскодонные паузки, чтобы легче проскочить пороги. Длинные плоты с ладожским сосняком и елью, обогнув остров, втягивались в протоки. Лихие плотогоны оглашали берега перебранкой и песнями. Шлиссельбург был бессонным городом. Обозы, путники приходили и ночью. Искали ночлега. Жгли костры. Понукали лошадей. Из Санкт-Петербургато и дело наезжало сюда чиновное начальство. Ругалось, требовало, грозило. Сворачивало скулы. Плетями полосовало спины. Если в Шлиссельбурге задерживалось привозное зерно, в Питере начинался голод, бескормица. Недолгая тишина наступала лишь в те минуты, когда вершники привозили весть о караванах, разбившихся на ладожских камнях — лудах. Тогда снимали шапки в помин души потонувших озеропроходцев. Но тотчас же забывали о них в деловой суете. Близилась осень, и Ладожское озеро все чаще штормило, выбрасывало на берег, ломало на отмелях по краешек бóрта груженные барки. А Петербург ненасытно и жадно ждал хлеба, железа, пороха. Но всего больше нужны были ему корабли. Для морских баталий. Для морской торговли. Суда с Олонецкой верфи причаливали к пристани Орешка. Здесь чинились после первого плавания озером и добавляли парусную оснастку… Едва закрепили на острове швартовые канаты «Штандарта», Бухвостов увидел бегущего, запыхавшегося Ширяя. За ним вприскочку, галдя, как сорочата на припеке, мчались ребятишки из крепостной школы «барабанной науки». Трофим крепко обнял сержанта одной рукой, другая все еще висела на перевязи. Рад был он видеть Сергея Леонтьевича, в первую минуту слов не находил. У солдат и разлуки и встречи всегда нечаянны. Будущие барабанщики окружили сержанта. Осмелев, завистливо трогали кожаную портупею, ботфорты. Просили, чтоб дал подержать треуголку. Треуголка сразу пошла гулять по русым, чернявым, рыжим головенкам. Никому она не была впору, съезжала то на глаза, то на затылок. — Когда же нас в полк возьмут? — расспрашивали пареньки. — Мы уж и сигналы, и дробь бьем. Война, поди, скоро кончится, а нас на острову держат. — Вот научитесь букли да треуголки носить, тогда и станете солдатами, — пообещал Бухвостов, — а войны на всех хватит, не тревожьтесь. Степенно подошел Родион Крутов. Озарил Сергея Леонтьевича белозубой Васенкиной улыбкой, но по-мужски короткой, сдержанной. Родион еще рос. Он за эти боевые месяцы стал приметно выше, крепче, шире в плечах. Барабанщики потихоньку подталкивали Ширяя. Бухвостов догадался: уж наверно, он что-нибудь приврал ребятишкам, и дело сейчас дойдет до поверки. Так оно и было. Трофим бойко, но несколько смущенно сказал Сергею Леонтьевичу: — Надоедные бесенята… Ну, говорил я им, что имеется у нас в войске «первый российский солдат» и что по этому своему званию он важней самого важного генерала… Сделай милость, скажи им, Леонтьич, что ты и есть «первый российский солдат». Не отстанут ведь… Бухвостову хотелось ругнуть Троху за его длинный язык. Но ребятишки смотрели такими ждущими глазами, что жалко было их разочаровать. — Все мы в бою первые, — ответил Сергей Леонтьевич, — но есть тут на острове доподлинный герой, про кого хоть былину складывай. Вот он! Сержант положил руку на плечо немого солдата. Родион слушал серьезно и строго, будто речь шла не о нем. Появился школьный дядька, надавал подзатыльников своим питомцам и увел их. Бухвостов, затая волнение, предложил: — Пойдемте на парусную. — Так ведь туда не пустят, — с сомнением заметил Ширяй. — Хоть в окошко глянем, — сказал сержант. Васену Крутову в Преображенский приказ не послали. Оставили в Шлиссельбурге. Но в наказание за побег и обман назначили работать на парусной мануфактуре. Мастерская, где ткали паруса, находилась в большой избе с нескладными пристройками. Парусная слышна была издалека стуком, грохотом. Из незастекленных окошек летела льняная пыль, словно кто-то пригоршнями кидал ее оттуда. Около окон постоянно болтались солдаты, они переговаривались с ткачихами. Поэтому никто не обратил особого внимания на Бухвостова, Ширяя и Родю, заглянувших вовнутрь избы. Там было жарко, а шума и стука — побольше, чем в ином сражении. Сергей Леонтьевич сразу оглох. В душной полутьме возле грохочущих станов работали женщины. У некоторых лица от подбородка до глаз обвязаны тряпьем, чтобы не дышать колючими очесами. Бухвостов искал и не мог найти Васену. Только когда Родя толкнул его локтем и показал в угол мастерской, Сергей Леонтьевич разглядел девушку. Тоненькая Васена в легком холщовом платье хлопотала над станом. Как видно, она еще не очень хорошо знала работу, вся ушла в нее и ничего не замечала вокруг. В воздухе струились, бежали, сплетались нити. Ох, как трудно было ей уследить за всем сразу! Пряжа сматывалась с тяжелого круглого навоя. Нити основы плыли перед глазами, они уходили в мелькающие ремизки. И здесь чаще всего рвались нити. Надо было схватить не успевшие разлететься концы, быстрехонько ссучить их. Сплетения пряжи походили на паутину, а челнок бегал посреди нее, как большущий паук. Вправо-влево. Вправо-влево. Он выбрасывал уток, и огромное бердо мгновенно прибивало нить к нити. Успевай смотреть за ходом пряжи, да еще изо всех сил то одной ногой, то другой нажимай на доску, приводящую в движение стан. Сергей Леонтьевич не мог разобраться в тонкостях ткацкой работы. Стан показался ему грозно рявкающим чудищем, а девушка — у него в плену. — Васена! — окликнул Бухвостов. Ткачиха вздрогнула, повернулась. На стане началась кутерьма. Нити перепутались, челнок, как живой, подскочил и упал на пол. Через всю избу с криком и поднятыми кулаками спешила надсмотрщица. Васена закрыла лицо ладонями. Сергей Леонтьевич вбежал в сени, в мастерскую. Успел заслонить виноватую. Разъяренная женщина смотрела на сержанта, не смея при нем наказывать. Бухвостов обшарил свои карманы. Все нашедшиеся монеты он тут же отдал надсмотрщице. Она сразу успокоилась. Солдаты часто подкупали ее, чтобы перемолвиться словом с ткачихами. Мастерица больно ущипнула девушку и вытолкнула ее в сени. Теперь Сергей Леонтьевич мог хорошенько рассмотреть Васену. Она стояла с опущенными руками, бледная, испуганная. На ее лице не было темных теней, как тогда, в подземелье. Но к ней уже не вернулись улыбка и доверчивый блеск серых глаз. Они потускнели; как говорят в деревнях — «выплакались». Разглядел Бухвостов и синеватые полосы на запястьях, след кандалов. Он взял в руки ее пальцы, они были изрезаны грубым льняным суровьем и чуть вздрагивали в ладонях сержанта. — Доченька! — едва слышно сказал Сергей Леонтьевич такое неведомое ему и такое дорогое слово. Васена прислушалась. — Доченька! — повторил он. Девушка, точно подтолкнули ее, шагнула вперед, прижалась щекой к плечу Бухвостова. Он молчал. В нем все кричало: за какие грехи судьба жестоко обидела этого ребенка? За что? За что? И сколько же горя может снести человек?.. Васена была теперь не голицынской крепостной, а казенной, государевой. Она осталась холопкой.[15]
10. „АРШИННАЯ КОМАНДА“

С борта фрегата открывалось зрелище неслыханно страшное. Люди не верили своим глазам. Бушующее море придвинулось к Петербургу, оно кидалось на материк, рвало его, подминало под себя. Берега виднелись островками, макушками холмов. Кругом бесновалась вода. Нева текла вспять. Суда, прибывшие с верховья, плыли не по течению, как всегда, но преодолевая его. Супротивный ветер с треском рвал паруса, валил корабли на бок. Лодки плавали там, где еще вчера была суша. Солдаты снимали с крыш попавших в беду обитателей. Кое-где покачивались на волнах привязанные к деревьям плоты. Коренные жители края, узнав по верным приметам близость осеннего потопа, успели вовремя разобрать и сплотить свои хатенки. Сами же бежали на Дудерову гору, единственное место, куда никогда не доходит вода. На Дудерову гору гнали мычащие стада. Нахлестанные лошади мчали телеги с наскоро собранным скарбом. Люди торопились уйти от беспощадного моря. У многих, видевших это бедствие, против воли вкрадывалась мысль, не правы ли чернорясные двоедушные пророки с крепостной площади: они кричали в неистовстве, будто месту сему «быть пусту», и навеки проклято оно, и остров у разветвления реки зовется не Веселым, а Чертовым. Как же тут жить, в такой страсти? Как строить город, когда море грозит все разбить, смыть? — Переждем, осмотримся, — говорил бомбардирский капитан, стоя растопыренными ногами на пляшущей палубе, — а что касаемо чертовщины… в точности знаю, что у кнута хвост длинней, чем у черта! Петр уже не мог расстаться с мыслью о своем парадизе… Оглядясь, первые поселенцы Петербурга сообразили, что дело тут, может быть, и не обошлось без гнева божьего. Но, наверняка, помог ему крепкий юго-западный ветер. Он погнал воду в Неву. Ее устье, со всеми протоками, раз в семь больше русла. Устье — как воронка. И закипели, взъярились в нем волны. Два дня свирепствовало наводнение, на третий пошло на убыль. Оказалось, что новостроенная крепость, сверх всякого чаяния штурмованная морем, коварный натиск стихии выдержала. Стены отнюдь не размыло. Шалаши все поснесло, а настоящие постройки с места не стронуло. Все было сделано добротно, накрепко. Остров Заячий не напрасно поднимали земляной насыпью. Прибывшую с Ладоги эскадру в Петербурге ждала добрая весть. Нумерс со всеми своими кораблями наконец убрался со взморья, отплыл в Выборг. Бомбардирский капитан хохотнул в усы, представив, как встретятся там битый адмирал с битым генералом… Но — время, время, время! Нельзя было терять ни дня, ни часа. Впервые Россия так отважно строилась не на тверди — на воде. Надо же свести покороче знакомство с этой самой водой. Вот тогда сержант Щепотев и получил в свои ручищи обыкновенный аршин и самую обыкновенную веревку, только навязанную узлами. Приказ ему был дан довольно странный: — Меряй! По Неве и по взморью ходила ладейная флотилия. С теми же аршинами и веревками. Мусоля грифелек, от злости кроша его и ломая, сержант записывал: «Ширина реки убывших Канцев — 400 сажен, у крепости — 300 сажен. Глубь — у Охты — 7 сажен, против капитанова дома — 6, ближе к устью — 5. На быстрине — глубь». Цифирь, цифирь. Зачем она? Но когда «аршинная команда» вышла из Невы на взморье, за нумерсову стоянку, и дальше — на большую воду, Михаила Иванович позабыл о своих сетованиях. Впереди синел густолесистый берег острова Котлин. Подплыли. Прошли его из края в край. Кроме леса без троп, ничего не нашли. Но тут, с моря, — самая верная защита Петербурга. «Аршинная команда» обосновалась на Котлине Прощупывали дно вокруг. Вскоре открылось такое, чему без конца дивились. Снова меряли, подсчитывали. Да, так оно и есть. Припомнилось Михаиле Ивановичу, как при первом походе на устье ставили вешку на фарватере, что капризно отклонялся от серединных отмелей к берегу. И тут, близ Котлина, фарватер шел причудливым, неожиданным изгибом. К северу от Котлина — сплошь мелководье. Морским судам не пройти. К югу — до самого побережья частые отмели. Но в полуверсте от острова лежал глубокий фарватер, корабельная дорога. Надо думать, прадеды, ходившие на своих ладьях в заморские страны, могли и не знать о ней, потому что суда были осадкой мельче нынешних. Но возможно, и знали, да с поколениями позабылось. Выходило так: поставить при той водной дороге крепостцу — форт с пушками в три яруса. И форт станет владыкой всего залива. Находка стоила многого. Большая победа, добытая не шпагой, а мерой и счетом. Бомбардирский капитан принялся вытесывать из дерева малый образец форта, придумал, как под основание его спускать на дно залива камни в деревянных коробах. Придумал и название ему — Кроншлот. Не медля начали насыпать форт при корабельной дороге. Работы было на много месяцев… Котлин же нельзя оставлять без зоркого глаза. Дозорная линия протянулась от самого Петербурга далеко в море. Посты стояли на безлюдном берегу, на островках. Головная застава находилась на оконечности Котлина. Сюда со своими пушкарями переведен был Логин Жихарев. Такая жизнь Железному носу по нраву. От начальства не близко. Сам себе хозяин. Впереди — вода, позади — лес, и на много верст — ни души. Служба не трудная. Знай посматривай на море, не появятся ли шведы. Но море было пустынное, будто никто никогда по нему не плавал. Жихарев и тут наладил небольшой горн с кремневым камнем вместо наковальни, а набор молотов он всегда при батарее возил. Утренний свет лишь забрезжит, а литец и пушкарь, прихрамывая, — это у него уж на всю жизнь осталось — хлопочет в своей мастерской под чистым небом. Чадят сырые угли. Вперебой стучат молотки. Логин то лафеты чинит, то новые железные полосы на колеса натягивает. — Недолго тут покормимся, — предсказывал Жихарев пушкарям, — дороженька солдатская далекая. Команда на Котлине порядком поодичала. Хлеб сами пекли, муку привозили из крепости. А мясо рядом ходило, рычало на все лады. Логин отковал рогатину и взял ею медведицу в ста саженях от заставы. Двоих медвежат поклал в мешок. Они прогрызли ряднину, убежали. Но к вечеру вернулись мать искать. Молодых пушкарей Железный нос, по обыкновению, ругал постоянно. Иногда — за дело, а иногда просто так, чтобы помнили «субординацию». — Уйду я от вас, — говорил он, — вот отвоюем, и уйду. В Питере Литейный двор наладят, я там работать стану… Стрелять из пушки — штука нехитрая. Научи — дурень выстрелит. А ты смастери-ка ее, родимую, медную да громовую, чтобы она и дедам и внукам служила… Ведь мы, Жихаревы, кто? Литцы первой руки… На заставе Логин никому не давал покоя. Гонял пушкарей: дров нарубить, угольев нажечь. Еще задумал он батарею тыном обнести. Потом начал избу строить; осень с ненастьем близка. Потом вышку соорудили, чтобы на деревья понапрасну не лазать. — Отдохнуть дал бы, — жаловался иной молодец. — Эва, — неодобрительно отзывался Логин, — какой же ты солдат, если отдыха просишь?.. Прошло немного времени, и покоя на заставе как не бывало. Море ожило. Началось это так. Солдат на вышке истошным голосом заорал: — Парус! Жихарев с трудом залез на вышку. На море вдалеке ясно виднелся плывущий корабль. Не теряя времени, Логин скомандовал вниз, чтобы становились по местам и заряжали. Спустился на землю. Споро, быстро проверил ядра, запалил фитиль, поднес его к затравке первой пушки, той, которую отливал в Шлиссельбурге. Сигнальный выстрел всколыхнул тишину. Его повторили береговые дозоры. Не много понадобилось времени, чтобы в Санкт-Петербургской крепости узнали: на море тревога! Эскадра снялась с якорей. Шнявы понеслись вперед. Неизвестный парусник плыл спокойно, медленно, то и дело промеряя глубину под килем. Бомбардирский капитан со своей шнявы перескочил на веревочный трап, поднялся на борт парусника. Снизу, с воды, все видели, как Петр с первых же слов обнял коренастого, длинноволосого шкипера, поцеловал его и сам за лоцмана стал к штурвалу. Парусник был голландский. Он двинулся по фарватеру, обнесенному вешками. Санкт-Петербург встречал первый корабль, пришедший из-за моря не с войной, а с миром — торговать, дружить. На радостях из государевой казны шкиперу отвалили пятьсот червонцев, матросам — по триста ефимков. Среди голландцев многие и раньше бывали в России, хаживали Белым морем в Архангельск. Сержант Щепотев и шкипер сразу узнали друг друга по встречам на Северной Двине. — Нравится ли тебе Петербург? — спросил голландца Михайла Иванович. — Нет, не нравится. — Шкипер растянул рот до ушей. — Архангельск лучше. — Почему? — спросил сержант. — В Архангельске нас блинами угощали. Этаких нигде больше нет. — Врешь, брат! — Михаила Иванович схватил шкипера за плечи, тряхнул. — Здешние блины вкусней — с пылу, с жару! Петербург закармливал гостей блинами и в «царевой хате», и в только что построенной «австерии». — Здравствуй, Голландия! — дружелюбно кричали питерцы морякам при встрече. За первым парусником пришел второй. К городу и порту на Неве на маячный фонарь, поднятый над крепостными стенами, плыли корабли. Незнакомые флаги. Незнакомая речь. Плыли корабли, обновляя путь.
11. „ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ДЕНЬ“

Одиннадцатого октября праздновался «Шлиссельбургский день», годовщина освобождения Орешка. С утра грозилась северная непогода. Небо низкое, в облаках, Нева серо-голубая, как откованная из булатной стали. В Санкт-Петербургской крепости повстречались давние знакомцы. Логин Жихарев приплыл с Котлина за порохом. Васена Крутова приехала из Шлиссельбурга с обозом, груженным парусным полотном. На лесных дорогах было неспокойно, объявилась разбойная ватага. Поэтому с обозом шел конвойный отряд. В том отряде были Родион и Трофим. Хотя пушкарь и сиповщик постоянно между собой ругались, при этой встрече оба с удивлением заметили, что соскучились друг без друга. Но и вида не подали. Жихарев покосился на Ширяеву перевязанную руку: — Экие мы с тобой красивые! Я хромой, ты однолапый… Васену пушкарь впервые видел с косою и в девическом платье. Ничего не сказал. Грубой задубелой ладонью погладил ее по щеке, шумно вздохнул. Пошли на бережок. Сели на перевернутую вверх днищем лодку. Новостей у каждого — короб. Всего сразу не перескажешь. Река веяла холодом. Возле пристани струи отливали радугой. Разгружалась барка с товарами. Волны хлестали о водомерный столб. Город строился и на левом берегу. Закладывалась верфь. Виднелись бревенчатые дома, дворы, огороды. Через Неву сновали шлюпки. Нигде нет мостов, кроме крепостного, подъемного. Их и не собираются наводить. Жители приморского города должны волей-неволей привыкать к веслу и парусу… Бухвостов разыскал друзей, как раз когда, скинув мешок с плеча, Логин вытряхнул медвежат. Они сердито урчали, жались к нему. Потом осмелели; стоя на задних лапах, сцепились, мохнатым клубком покатились к воде. Испуганно зафыркали. Кинулись к Логину. Заскулили по-щенячьи. Васена смеялась, гладила их, с ладони кормила хлебом. Сергей Леонтьевич смотрел то на девушку, то на медвежат. Со времени битвы за Ниеншанц он не слышал ее смеха. В эту минуту Васена показалась ему похожей на светлый весенний росток. Ничего нет слабее его. И ничего нет сильнее. Кажется, прикоснись — надломится. Но как могуче, как непреодолимо пробивает он толщу земли. Проклюнет ее и тянется к солнцу, к свету. Бухвостов не поверил бы, что Васена может так звонко смеяться. Он неприметно для других сжал руку Жихарева. Тот шевельнул лохматой бровью. Он знал, за что его благодарит сержант… Шел обыкновенный солдатский разговор: скоро ли конец войне? Ширяй с непривычной серьезностью и как бы совестясь этой серьезности, сказал, что стосковался по вспаханному полю, по черным пахучим пластам, перевернутым сохой. Родя посмотрел на свои руки — большие, умелые во всякой работе. Бухвостов раздумчиво покачал головою: — Покуда шведов вконец не разобьем, другого и в мыслях держать не годится. Впереди — Корела, Выборг; придется еще и под Нарвой посчитаться… Война, по совести сказать, в самом начале, и кто знает, как она повернет нашу судьбу…[16] Внезапно все замолчали. При таком молчании кто-нибудь непременно скажет, что где-то звезда упала. Но сейчас не вспомнили шутливую поговорку. Молчали с затуманенными глазами. Каждый понимал, о чем думает товарищ. Тишина. Слышно, как на реке волна о волну бьется. Солдаты молча помянули тех, кто безмолвно лежит под курганом в Шлиссельбургской крепости, тех, чьи могилы одинокими безвестными холмиками виднеются на всем невском прибрежье, от истока до устья. Думалось о Ждане Чернове, который шел к морю, да так и не увидел, какое оно. Думалось о Тимофее Окулове, смелом ладожанине, — на волне родился, на волне погиб. Ничего он не любил так, как простор перед глазами… Все посмотрели на пригорюнившегося Ширяя. Он почувствовал этот взгляд, выпрямился и полез за пазуху, доставать свою неразлучную сипку-берестяночку. И снова, как это всегда бывало, когда Трофим запоет, слушатели не узнали маленького солдата-замухрышку. Песня ли красила его? Светилась ли в те минуты добрая его душа? Трофим перебирал лады здоровой рукой. Берестяночка начала грустно-грустно. Умолкла, оторванная от губ. Высоким чистым голосом Ширяй запел солдатскую шлиссельбургскую:
ОРЕШЕК


Г Л А В А I БОЙ НА НЕВЕ
Осенью 1941 года, на третий месяц войны, гитлеровские войска подошли вплотную к Ленинграду. 26 августа пала Любань. Через день — Тосно. 29 августа вражеские мотоциклисты вырвались к предместьям Колпина. Группа немецких армий «Север» двигалась к Неве. На штабных картах стрелы устремлялись от Мги к Шлиссельбургу. Стратегический план Гитлера был очевиден: ударом на Шлиссельбург окончательно перерезать дороги к Москве и Вологде, полностью окружить Ленинград и взять его, если не штурмом, то измором. Близилось мглистое сентябрьское утро. Молодой боец, почти мальчишка, пробирался к Шереметевке. Подпоясанная шинель коробилась на нем: не прилежалась еще к плечам. Скатавшиеся жгутом лямки мешка резали грудь, винтовочный ремень неловко сползал к локтю. Лицо бойца было мокро, к коленям пристали комки грязи. Видно, не раз припадал он к земле под злым посвистом осколков. Остановился боец, смахнул рукавом пот со лба, вскинул голову. Он услышал песню. Лицо растер ладонями — нехорошо чудится. Откуда быть песне в этом аду? Но вот и шаги послышались, ладные, дружные. Из-за поворота дороги показался взвод. Шли плечо в плечо, мерно взмахивая руками. Командир впереди. Он не высок, но, что называется, плотно сбит. Пилотка сдвинута на черных волосах. Черты лица крупные. Карие глаза пристально смотрят на вздыбленное поле, на лес, откуда тянет пороховым дымом. Его глухой бас приметен среди звенящих молодых голосов. А песня знакомая, строевая. Боец проводил глазами взвод, подумал о командире: «Должно быть, умный, добрый человек». И, наверное, все, кто сейчас видел шагающих и поющих, думал о них с благодарностью. В эти грозные минуты любой приказ мог быть не понят, окрик только усилил бы смятение. Песня возвращала людям спокойствие. Боец посмотрел на свои сбившиеся обмотки, виновато поправил их. В первый раз за эти месяцы пришла мысль о себе: «Хорошо, Володька, что на твоих плечах шинель, и в руках — ружье». Он огляделся. Красноармейцы занимали оборону у берега. Они деловито ставили ручные пулеметы на треноги. Лопатами-коротышками углубляли боевые ячейки, рыли ниши для боезапаса. Земля была глинистая, мокрая и падала со звучным шлепком. Бойцы ругались, с усилием вытаскивали ноги из болотистой, потревоженной земли. Но работу свою делали упрямо, без передышки. Оно было простое и мудрое, спокойствие людей, идущих в бой… В верховьях Невы левый берег окутало дымом. Душная гряда наваливалась на стынущую реку, затягивала просторы Ладоги. Пароходы уходили с воющими гудками. Темные облака пронизывало огнем. В разрывах виднелись белый собор с разбитой кровлей и горящие дома Шлиссельбурга. Чадные хлопья заносило на другой берег, в притихшую с края бухты маленькую Шереметевку и поодаль, в Морозовку. Весь день через Неву переправлялись беженцы из Шлиссельбурга на катерах, на лодках. Кое-кто вплавь. Течение здесь, в истоках, яростное. А вода люто холодная. Не многим пловцам удавалось достигнуть правого берега. В домиках на мысу, где жили ладожские лоцманы, беженцы обогревались, сушили одежду. Скоро в домиках не стало хватать места. Разожгли костры вокруг. Люди, сломленные усталостью, волнением, засыпали у огня. Сон был похож на беспамятство. Девочка лет восьми, в сбитом платочке над испуганными глазами, переползала через спящих, заглядывала в лица, спрашивала: — Где мама? Не видели мою маму? Старик с коричневым лицом, без шапки, в брезентовом плаще взял девочку за руку. — Придет мама. Пойдем-ка вместе поищем ее. И они ушли к берегу. Статная полная женщина расчесывала мокрые волосы. Носком ботинка она отодвинула от костра завязанный в холщовую скатерку небольшой и тоже мокрый узел. — От всего нашего обихода, что шестнадцать лет наживали с мужем, только и осталось, — говорила она соседкам, — да и к чему это теперь. Не знаем, завтра живы ли будем… Те, кому удалось уйти из Шлиссельбурга, рассказывали, что еще в темноте со стороны Синявина появились неуклюжие вездеходы с солдатами. Сначала их приняли за своих, русских. Но гортанная чужеземная речь утверждала казавшееся невероятным: город в руках врагов. Теперь они здесь хозяйничали, размахивали автоматами, орали: «Verboten!», «Zurück!», «Erschießen!». Жители Шлиссельбурга, как и все ладожане, — по малости рыбаки. Почти у каждого есть лодчонка на привязи у невской набережной либо у гранитных стенок старых каналов, что прорезают город. Люди кинулись к лодкам. Завязалась борьба на причалах. Да где же безоружным одолеть гитлеровцев? Не всем, далеко не всем посчастливилось уйти из захваченного Шлиссельбурга. Горькое это слово — «беженцы»! Горькое и тяжелое. Чугуном оно давит сердце. На правом берегу Невы встретились два потока беженцев: из Шлиссельбурга и из Ленинграда. Ленинградцы покинули вагоны, укрылись в лесу. Вещи побросали — кто думает о них? Поездам нет пути дальше. Враг продвинулся за Мгу. Московская дорога, тонкая стальная нитка, ведущая в глубину страны, оборвана. Куда же теперь? Что теперь? В Морозовке скопилось слишком много народа. Воздушные разведчики врага давно высмотрели, что через поселок идет эвакуация из Ленинграда. Морозовку бомбят уже вторую неделю. Здесь разбиты и сожжены целые кварталы. На улицах держится тошнотный запах гари. Даже никогда не стихающий ветер с озера не может разнести этот запах. С утра 8 сентября немецкие батареи начали жестокий обстрел правого берега Невы. К разрывам снарядов примешался еще не знакомый морозовцам мычащий вой мин. Надломленные сосны падали, шумя ветвями, как будто хватались за еще стоявшие на корню деревья, не хотели падать. На шоссейной дороге загорелся асфальт. Земляная пыль пропитала воздух, ложилась на лица людей, на жухлую траву, на маслянисто-желтые окоренные бревна, приготовленные для домов, которые теперь уже не будут построены. Выстрелы пушек сливались в несмолкаемый гул, будто невдалеке передвигали что-то очень тяжелое… Володя вдруг ощутил усталость и голод. Он скинул мешок, достал банку с консервами. Красными от холода руками сгреб сухие ветки, траву, чиркнул спичкой. Кто-то толкнул его. Володя поднял голову и увидел невысокого старшину с худым смуглым лицом. — Нельзя костер жечь. Марш отсюда! — послышался раздраженный голос. Боец вскочил, взял мешок, пошел прочь. Но старшина остановил его: — Э, да что там, поесть никогда не мешает, особенно в таком переплете. А ну, ходи сюда! Он подвел бойца к развалинам дома. Видимо, в дом угодила фугаска. Обугленные бревна еще тлели. Все вокруг было сметено, разбито, разбросано. Только печь, заботливо выбеленная, широкая, с высоким прокаленным подом, высилась среди обломков. — Что у тебя в мешке? — спросил старшина, поворошил банки, паек хлеба, галеты в жесткой бумажной обертке и вздохнул: — Ладно, сойдет. Мой-то ранец на дне речном бултыхает. Потерял, браток, все потерял. Боец удивленно подумал: «Отчего это, слова ведь совсем не злые, а голос сердитый». Казалось, до смерти надоели человеку и отступление, и это небо, с которого начинал сыпать дождик, и эта грязь, чавкающая под ногами, и река, серой тяжелой тушей наползающая на берег. Старшина быстро набросал в печку головешек, раздул огонь. Кивнул бойцу: — Ставь консервы. Погоди! — Снял с пояса штык и проткнул крышку. Печь была повернута тылом к Неве. Головешки потрескивали в ней, кидались искрами. Огонь был жаркий, домашний. А отсветы падали на расщепленное дерево и раздробленный кирпич, на железную кровать, смятую в ком, на ведерко с выбитым донцем. Володя поежился, спрятал руки глубже в рукава. Подумал о матери, что, пожалуй, напрасно не разрешил ей проводить себя, побоялся слез, жалких слов, да хоть подольше подержал бы в своих руках ее теплые, сухонькие пальцы. А теперь когда удастся свидеться? Потом отчего-то вспомнился командир запасного батальона, строгий человек, затянутый в ремни. Он заставлял красноармейцев печатать строевой шаг, отдавать честь, парадно вскидывая руку. «Ну, зачем, зачем это, — думалось Володе, — когда, может быть, сейчас, вот сию минуту ударит снаряд — и меня не станет?» Боец вздрогнул и приподнялся. Дым над Невою рассеялся. Посредине реки, как раз там, где она выходит из озера, высился островок. Чуть ли не от самой воды вздымались каменные стены, поросшие кустарником. На углах и выступах — башни с бойницами. За стенами, сложенными из тяжелых валунов, — мрачные кирпичные корпуса. Выше их белела стройная колокольня. «Шлиссельбургская крепость! — узнал Володя. — Как же, я читал о ней, только не помню название книги». Он еще раз равнодушным взглядом окинул остров и запахнул плотнее шинель. Старшина не собирался отдыхать. Он снял пилотку — боец удивился его полуседым волосам — в пилотке оказалась книжечка папиросной бумаги. Старшина насыпал махорку на листик, со вкусом помусолил край, постучал по цигарке желтым ногтем и спросил: — Стрелок? — Пулеметчик. — Фамилия твоя? — Иринушкин. — А я — Воробьев Иван Иванович… Куда же ты путь держишь? Из запасного, что ли? Боец пощупал в кармане жесткие углы пакета. — Мне надо в первую стрелковую дивизию. — Ну, считай, ты на месте, — сказал старшина. — Видишь, вон проводок через рытвину тянется. По проводу иди, как раз на КП угодишь. Бывай здоров!Г Л А В А II НОЧНОЙ СИГНАЛ

Штаб дивизии, оборонявшей правый берег Невы, располагался в подвале школьного здания[17]. Был глубокий ночной час. Горели аккумуляторные лампочки. Но они не рассеивали полумрак в подвале. В штабе командиры с воспаленными от бессонницы глазами надрывались у телефонов. Связные, завернувшись в плащ-палатки, дремали на полу. За сквозной дощатой перегородкой, в разведотделе, допрашивали пленного немца, из тех, которые попытались с ходу сунуться через Неву. Девушка с двумя кубиками техника-интенданта на петлицах шинели задавала вопросы. Немец смотрел в угол, где таились темные тени, и отрицательно качал головой. Нет, ему не известно, далеко ли продвинулась армия. И о танках он тоже ничего не знает. Столы оперативного отдела занимали место в простенке между двумя кирпичными столбами. На картах, приколотых к столам, сплетались и расходились цветные карандашные линии. Прямоугольнички, круги, овалы теснились вокруг извилистой голубой полосы. Линия фронта после многократных стремительных изменений прочно вытянулась вдоль этой полосы. Только один район оставался на карте белым пятном — район Шлиссельбургской крепости. Начальник оперативного отдела, майор в синем стеганом ватнике, мрачнел при одном взгляде на обозначение островка у истоков реки. Комдив, коренастый полковник, то и дело подходил к карте, долго смотрел на нее, молча вздыхал. Квадратная, обшитая жестью, дверь подвала скрипела, беспрестанно открываясь и закрываясь. Входили забрызганные грязью командиры, иные в кровавых бинтах. Сапоги у порога не вытирали, сбрасывали плащи и спешили к комдиву. Пожалуй, в эти минуты в штабе никого так не ждали, как связного, давно ушедшего в Шереметевку. По всем расчетам он должен был возвратиться часа два назад. Но связной исчез в громыхающей ночи, будто растворился в ней. Майор из оперативного курил и глядел на дверь. Он собирался послать второго связного, когда заскрипели петли и показался тот, кого ждали. С лихой старательностью печатая шаг, подошел он к начальнику и передал донесение. — Крепость наша! — взволнованно сказал майор и направился к командиру дивизии, в угол, обнесенный двумя брезентовыми стенками. Через несколько минут из-за полотнища появился адъютант. — Марулина из сто пятьдесят второго полка — в политотдел! — крикнул он телефонисту.
__________


На протяжении почти двух с половиной веков, с той поры, когда гвардейцы Петра I отбили Шлиссельбургскую крепость у шведов, она не имела ни малейшего военного значения. Ныне же, в сентябрьский день, полузабытым бастионам на острове суждено было снова сыграть свою роль в истории отечества. И какую роль! Крепость нужно было удержать любой ценой, любыми силами. С ее стен виден весь Шлиссельбург, видны подходы к Ладожскому озеру. А то, что открыто взгляду, открыто и огню. Накануне штаб дивизии направил на остров небольшой отряд разведчиков. Они были предупреждены о возможном соприкосновении с противником. В этом случае отряд должен был вступить в бой вне зависимости от численности противостоящего врага и держаться до подхода резервов. С вечера уже десятки глаз следили за островком, пытаясь разгадать, что происходит за крепостными стенами. Едва стемнело, лодки беззвучно заскользили через протоку, отделявшую крепость от правого берега. Гребцы тихо опускали весла в воду, изо всех сил делали рывок и так же тихо заносили их вновь. Лодки ткнулись в отмель, зашуршали днищами о гальку. Отряд залег в цепь на краю острова. Небо безлунное. Берега переговаривались пулеметными очередями, орудиями малых калибров. Над рекой взлетали и падали водяные столбы, вскинутые снарядами, сработавшими на дне. В цепи прислушались. Из крепости — ни звука. Командир отряда взмахнул пистолетом. Бойцы поползли к воротам. Не отрываясь от земли, перевалились через насыпь узкоколейки с неподвижно застывшими на рельсах вагонетками. Вдруг раздался топот. Все ближе, ближе. Десятки винтовочных стволов приподнялись, шевельнулись в направлении топота. В арке ворот показалась неоседланная белая лошадь. Она шумно подышала и доверчиво пошла к людям. Эта лошадь таскала вагонетки, когда в крепости еще находились склады озерной флотилии. Придерживая подсумки, чтобы ничто не звякнуло, бойцы вбежали на крепостной двор, по лестнице с выбитыми ступенями поднялись на стену. Понадобилось не больше десяти минут, чтобы развернуть пулеметы, подтащить патронные ящики, приготовить гранаты, наладить все как полагается на переднем крае. Не сомневаясь можно сказать, что даже самым бывалым солдатам, много повоевавшим на своем веку, не доводилось занимать такой позиции. Она была на камнях, среди известняковых глыб, высоко поднята над рекой. Отсюда слышно, как ворочается вода у стен. За водою, совсем близко, в ста восьмидесяти метрах — командир точно знал эту цифру по карте, спешно засунутой в планшет, — находится враг. А до своих, через протоку, расстояние вдвое большее. Голоса, оклики, пьяная песня отчетливо доносились со всеми интонациями. Видно было, как временами вспышки от зажженных спичек озаряют лица под суконными, не нашего покроя шапками. Враг праздновал победу. Где-то горланили, беззаботно смеялись. Над рекой плыли звуки губной гармоники. Мелодия была чужой, незнакомой. Ползком командир разведчиков двинулся по стене. Он всматривался в лица бойцов, сумрачные, измученные, со злыми глазами, затаившими горе. Кто мог подумать, кто поверил бы, что так скоро, чуть не в начале войны, придется услышать голоса чужеземцев на Неве?.. По цепи, от одного к другому, передавалось приказание: не стрелять. Не курить и не разговаривать. Наблюдать и молчать. Молчать. Командир передал ординарцу карманный фонарь и велел спешить на причал. В густой темноте на острове мелькнул едва различимый огонек, еще раз мигнул. И угас. Сигнал этот означал: Шлиссельбургская крепость в наших руках!
__________
В ту же ночь в землянке политотдела дивизии Валентин Алексеевич Марулин получил новое назначение и боевой приказ. Приказ был отпечатан на толстой серой бумаге тусклым шрифтом. В трех строках говорилось, что комендантом гарнизона Шлиссельбургской крепости назначается капитан Чугунов, комиссаром — Марулин. Перед второй фамилией был оставлен небольшой пробел. — Правда, звание у вас маловато для комиссара крепости. — Начальник политотдела укоризненно посмотрел на Валентина Алексеевича, будто он был всецело виноват в этом. Начполит откачнулся на стуле. Это был пожилой батальонный комиссар. Он опять взглянул на четыре скромных треугольничка, прикрепленных к петлицам Марулина, и отложил карандаш. — Будете представлены к званию политрука. Пробел в приказе так и остался незаполненным. В землянке было тихо. Невдалеке ухнула мина. Сквозь накат посыпалась земля. Начполит молчал. Валентин Алексеевич считал себя не в праве первым продолжить разговор. Он стоял чуть сутулясь под низким потолком. Подняв голову, он увидел устремленные прямо на него глаза батальонного комиссара. — Задачу свою понимаете? — негромко прозвучал вопрос. — Так точно, понимаю. Еще тише: — Справитесь? — Должен справиться. Неуверенность ответа не понравилась начполиту. Задвигались брови, нагоняя морщины на лоб. Внезапно теплый свет в его глазах погас, проглянул холодок. Он уперся кулаками в шаткий стол, поднялся, посмотрел на часы, гулко тикавшие на стене землянки. — Чугунов уже в крепости. Через пятьдесят минут начнут переправлять пушки. Отправитесь с ними… Марулин распахнул дверь. Прошагал по трем ступеням вверх. Холодный береговой ветер ударил в грудь. Вскоре Валентин Алексеевич был уже в хатенке на краю Морозовки, где прожил последний месяц. Долго ли собираться человеку, привычному к походной жизни? Марулин сунул в полевую сумку несколько тетрадей, книжек, в заплечный мешок — бельишко, и вот он уже готов в новый и пока еще неизвестный путь. Поселок — без единого огонька, затаился в темноте, словно на дне океана. Разжиженная земля скрадывала шаги. Валентин Алексеевич двинулся по тихим улицам в сторону шоссе. Он твердо мерял шагами мягкую, разбитую недавно прошедшими танками дорогу. Впереди засветилась река. У поворота к бухте дорогу преградил боец с автоматом на ремне. — Кама! — шепнулМарулин пароль. — Алдан! — отозвался часовой и снова отступил в темноту. Лодка ждала вновь назначенного комиссара. Она качнулась на набежавшем валу и поплыла. Минуту спустя ее уже нельзя было разглядеть с берега,Г Л А В А III „В РУЖЬЕ!“

Первая встреча Чугунова и Марулина получилась не очень складная. Виной всему был неосторожный вопрос, заданный капитаном: — Ты откуда? Кадровый? — Из запаса. Короткая пауза. И второй вопрос хлеще первого: — Не сбежишь? Марулин кинул вещевой мешок в угол. Повесил полевую сумку на гвоздь, вбитый между кирпичами, поправил гимнастерку под ремнем. Холодно ответил: — Не для того я пришел сюда. Разговор происходил в первом этаже корпуса, примыкавшего к крепостной стене, обращенной в сторону Шлиссельбурга. Окна большой комнаты пропускали мало света, все же можно было разглядеть стены с отлетевшей штукатуркой, помятый металлический чайник на столе, винтовки, собранные в козлы. — Походи по крепости, осмотрись, — предложил Чугунов. Это «походи» еще больше не понравилось Марулину. Он пристально посмотрел на коменданта. В нем чувствовалась подтянутость профессионального военного, из тех, кого называют «зелеными фуражками». Видимо, закалку получил он, как и сам Марулин, на погранзаставе. Чугунов был худощав, но силен. На щеках — две глубокие складки, взгляд чуть насмешливый. «Поладим!» — мысленно решил Марулин и вышел на крепостной двор. Старые, в далеком прошлом тюремные здания носили следы пожара, который бушевал здесь еще в 1917 году. Кирпичи кое-где почернели. Середину двора занимала церковь с лепным зерцалом на фронтоне. Неподалеку от нее высилась серая железобетонная водонапорная башня. Все это круто замкнуто в приземистый шестиугольник массивных стен. Стены толщиной в пять — шесть метров. Построенные в четырнадцатом веке, они были неуязвимы и для снарядов двадцатого. С земли наверх вели каменные лестницы, края их ступеней стерлись и выветрились. Угловые круглые башни, казалось, созданы для наблюдательных пунктов, для огневых точек. На дворе работали красноармейцы. Канатами подтаскивали разобранные орудия. Носили бревна для пулеметных гнезд. Несколько человек долбили у основания кладку, чтобы выкатывать пушки на прямую наводку. Валентин Алексеевич отметил удачный выбор мест для огневых точек. Но решил, что коменданту о своем первом впечатлении ничего не скажет. Бойцы тащили через площадь кто солому, кто доски. Устраивались на жилье. Чубатый красноармеец натужился и взвалил на плечо пустую железную бочку. Проходя мимо Марулина, он оступился и уронил груз. Сгоряча боец ругнул стоявшего на его дороге, хотя тот был ни в чем не повинен: — Эх, чтоб тебя… Но вдруг заметил на шинели ремни крест-накрест, выпрямился, козырнул. — Виноват. Так как незнакомый командир не рассердился, а, напротив, дружелюбно улыбнулся, боец принялся словоохотливо объяснять: — Придумали мы из этой бочки печурку соорудить. Дыру пробьем, приладим трубу, пускай греет… А вы к нам, товарищ командир, на время, или как? — Я к вам комиссаром назначен. — Ну, на постоянно, — вздохнул чубатый, — хлебнете вы здесь лиха. — Вместе хлебать нам это лихо. — Что и говорить, вместе, — рассмеялся боец. Марулин помог ему плотнее пристроить бочку на плече. — Зовут-то как? — Левченко Степан, — ответил красноармеец и двинулся осторожными, цепкими шагами. Заботы сразу обступили комиссара. По ночам в крепость переправляли оружие и боеприпасы. Ими занимался комендант: распределял по взводам. Хлеба и продуктов прибывало маловато. Вопросы питания взял на себя Валентин Алексеевич. Он вместе с бойцами обшарил все складские помещения. Пожива оказалась не велика. Тогда внимание Марулина привлекли огороды. Посажены они были старой охраной складов. Грядки внутри крепости красноармейцы обобрали быстро. Зато с теми, которые находились на валу, за стенами, пришлось повозиться: огород на виду у врага. Ночью бойцы выползали на вал. Лопаты с собой не брали, чтобы стука не было. Руками снимали кочаны капусты, вырывали картошку. Рогожные мешки тащили в ворота волоком. Продовольственная каптерка понемногу заполнялась. Вообще капитан Чугунов охотно принял распорядок, предложенный комиссаром: — День твой, ночь моя. По ночам Марулин следил за переправой, проверял посты. В «нолевое время» (так в крепости называли время после двадцати четырех) комиссар поднимался на наблюдательный пункт в башню Головкина. Ему памятно было неожиданное чувство страха, которое он испытал, когда шел сюда впервые. И сейчас в полной темноте нащупывал ступени, хватался руками за холодные, замшелые стены. Что-то вдруг заметалось перед ним — зверек или птица, задело плечо, скользнуло по лицу. Воздух был затхлый, душный. Подъем казался непомерно долгим. Вдруг посвежело, в обрушенных проемах проглянули звезды. Наконец-то вершина башни. Дежурный, уступая комиссару место у амбразуры, спросил: — Не напугали вас летучие мыши? Живут, никак не выкурить… На наблюдательном дежурил Андрей Зеленов, неизменно спокойный, широкоплечий артиллерист. Он говорил тихо и двигался тихо. На высоте погуливал ветер. Марулин прислушался к то нарастающему, то стихающему гулу. Шлиссельбург вначале показался ему сплошной темной массой, чуть виднелись очертания крыш. Пришлось подождать, когда глаза освоятся с темнотой. Зеленов передал бинокль и сказал: — Не пойму, что там такое, товарищ комиссар. В большом доме на улице, которая выходила к набережной, часто открывалась дверь. Светились неплотно занавешенные окна. — Вероятно, офицерский клуб, — определил Марулин. Зеленов потоптался на месте от холода. Повернулся к комиссару, сказал, растягивая слова: — Вольно живут, сволочи, не хоронятся. А мы на своей земле на цыпочках ходим. Внимание Марулина было сосредоточено не на городе. Он смотрел прямо перед собой, вниз. Там, на узкой и длинной земляной косе, которая отделяла Новоладожский канал от Невы, происходила скрытная, но усиленная работа. Видимо, строились укрепления, траншеи, блиндажи. Фигуры в шинелях двигались на фоне более светлой воды. На войне ночь — горячее время. Перед рассветом комиссар зашел еще к пулеметчикам, поставившим свой станковый пулемет, или, как они говорили, «станок», в воротах Государевой башни. Побывал и у связистов, которые налаживали через протоку подводный кабель на правый берег. Возвращаясь к себе, комиссар думал о словах, сказанных артиллеристом. Не только у Зеленова — у многих такие мысли. Видеть врага и бездействовать — обидно. Нет, нельзя оставить слова артиллериста без ответа. Если не сегодня, то завтра надо напрямик поговорить обо всем с людьми… Чугунов спал одетый, в сапогах, на досках, брошенных на ржавую сетку кровати. Марулин растолкал его и сам улегся на пригретое место. Ему казалось, что только он успел сомкнуть веки, как услышал, что его зовут. Вскочил, схватил автомат, висевший у изголовья. Около кровати стоял Левченко. — Ну и здоровы вы спать, товарищ комиссар. Уж я вам в самое ухо докладывал. Капитан Чугунов наверх просит. Выйдя из комнаты, Валентин Алексеевич зажмурился. Ломило глаза. День был яркий. Осеннее солнце светило щедро. На стене у прикрытия сгрудились красноармейцы. Комендант стоял, сведя руки за спину. Валентин Алексеевич подумал: «Отчего у него пальцы так быстро движутся?» И вдруг заметил, что все держат шапки в руках и смотрят на Шлиссельбург. Марулин встал рядом с капитаном и услышал его слова, процеженные сквозь крепко стиснутые зубы: — Взгляни, что делается! Наискосок, за рекой, у белых стен собора были врыты в землю четыре виселицы. На тугих веревках раскачивались четыре трупа. Руки у них связаны, вытянутые ноги казались неестественно длинными. Среди казненных — женщина, ее распущенные волосы прикрывали плечи. По соборной площади расхаживали часовые в зеленых шинелях. Марулин на своем солдатском веку видел немало убитых и к смерти относился просто, она каждого подстерегает. Но повешенных видел впервые. Все плыло у него перед глазами. Кто вы, простившиеся с жизнью в глухой час на соборной площади? Коммунисты или комсомольцы? Рабочие с Судоремонтного? Или матросы-речники? Шлиссельбургские жители, которые не могли смириться с неволей? Прощайте, родные, безвестные! Тишина вокруг. Из толпы бойцов кто-то выбежал, кинулся к пулемету. Но не успел схватиться за рукоятки. Товарищи оттащили его прочь. Валентин Алексеевич не разглядел лица красноармейца. Тот уткнулся лбом в камни. Спина его горбилась, плечи тряслись. И такое комиссар видел на войне впервые… Он думал: разговор с бойцами откладывать дольше нельзя. Разговор должен состояться сейчас, немедля. Собрания в крепости, как и повсюду на передовой, были не в обычае. Комиссар обошел всех красноармейцев, и отдыхавших, и стоявших на посту. О чем говорил он? О том, что впереди тяжелые сражения и надо хорошо подготовиться к ним. Пусть никто не упрекает себя в бездействии. Надо крепко вцепиться в этот островок, вцепиться так, чтобы никаким снарядом, никакой бомбой нас не выбили отсюда. Перед нами, лицом к лицу — враг. Нужно выяснить, где у него пушки, где пулеметы, где штабы. Стрелять по цели наверняка. Комиссар говорил о том, что война требует не просто удара, но умного удара. Нужно сковать перед крепостью возможно большие силы противника. И снова, снова о том же: готовиться, наблюдать, ждать приказа. Бойцы слушали, но старались не смотреть в глаза комиссару. Степан Левченко заметил сочувственно: — Разве ж мы не понимаем? Комендант велел радисту вызвать штаб дивизии. Оттуда ответили, наверно, в десятый раз: — Проверьте расчеты. Ждите приказаний…
__________
Утром семнадцатого сентября гарнизон крепости был поднят «в ружье». Пулеметчики неторопливо заправили патронные ленты. Командиры расчетов покрикивали на номерных. Стрелки́ на стене, артиллеристы у пушек говорили: — Опять тревога для примера. Известно, наведем пушки, возьмем прицел, а тут и отбой поспеет. По телефону с башни Головкина назвали цель и координаты пристрелки. В стволы плотно легли стальные туши осколочных снарядов. Заработали маховички наводки. Все ждали привычную команду: «Отставить!». Но она не последовала. На огневых точках, сначала у артиллеристов, потом у стрелков и пулеметчиков, появился комиссар. Сосредоточенно серьезный, он немногословно поздравил бойцов с получением боевого приказа. Телефонисты прижали трубки к ушам. Все слушали командный пункт, слушали башню Головкина. — Огонь! — Негромкое, короткое, на выдохе произнесенное слово. Его приняли на стенах, на валу, у ворот. Дружно заухали орудия. Словно горох на железном листе, зачастили пулеметы. — Огонь! Огонь! Огонь! — срывая голос, командовали сержанты у своих пушек. Валентин Алексеевич заметил потное счастливое лицо Андрея Зеленова. От его обычной неуклюжести и следа не осталось. Он кричал наводчику поправку и взмахивал рукой. При каждом взмахе пушка выбрасывала пламя и ствол, дрогнув, откатывался. Пулеметчики стреляли с последнего этажа главного корпуса. Здесь Валентин Алексеевич задержался. Из окна виднелась бровка Новоладожского канала. Вся она была окутана дымом и пылью. На краешке пулеметных дул не угасал яркий огонек. На разогревшихся кожухах чадила краска. Марулин вглядывался в крайние улицы города. Они как будто вымерли. Внезапно он ощутил, что в громовой музыке боя не хватает чего-то, снизилась она на полтона. Оглянулся и приметил, что крайний пулемет беззвучен. Кинулся туда. Молоденький первономерной хватался то за ленты, то за гашетку. Неловко и медленно, страшно медленно осматривал замок. Валентин Алексеевич скинул шинель и, обжигая руки о горячий металл, начал разбирать пулемет. Вдруг послышался разъяренный голос прибежавшего Чугунова: — Какого черта молчит пулемет? Марулин не ответил. Он был углублен в работу. Только когда «станок» снова зарокотал и первономерной словно припаял ладони к рукояткам, комиссар спросил коменданта: — Чего кричишь? Но Чугунов уже не кричал. Он удивленно смотрел на Марулина. — Ловко с пулеметом управляешься. Комиссар усмехнулся: — С этой штуковиной я всю финскую протопал. Чугунов облапил его за плечи, тряхнул. — Здóрово, комиссар. Ох, здóрово! Они оба, теснясь плечами, высунулись из окна. За Невой проблеснуло, сникло и снова разлетелось пламя. Противник молчал. Вихрь снарядов и пуль, неожиданно в упор брошенный в лицо, ошеломил его. В крепости знали, что это молчание ненадолго. Скоро, может быть, через час или раньше, придет ответ с того берега. Но все были возбуждены, веселы. Валентин Алексеевич прислушался к разговору у ближнего пулемета. — Ну, теперь держись, осерчают фашисты! — кричал первый номер второму. — Хрен с ними! — равнодушно откликнулся тот. — Ответим. За нами не пропадет. Шлиссельбургская крепость вступила в бой.Г Л А В А IV ПОД ОГНЕМ

Со всей дивизии в гарнизон крепости набирали добровольцев. Сборным пунктом для них был назначен лоцманский домик в Шереметевке. Здесь Володя Иринушкин снова встретил старшину Воробьева и очень обрадовался знакомому человеку. Но Иван Иванович в первую минуту его не заметил. Он отчитывал сутуловатого бойца в длинной не по росту шинели. Губы кривились на сером лице стрелка, глаза бегали быстрыми горошинами. — Ну нет никакой возможности, — жаловался он, — животом мучаюсь. Мне бы от медицины какое пособие. — Значит, в санбат желаешь? — уточнил старшина просьбу и вдруг потребовал прямо и жестко: — Не юли, отвечай, струсил? — Что вы, денек подлечусь, и завтра я тут, как штык. — Знаешь ведь, что сегодня переправляемся на остров. — Воробьев грустно покачал головой и сказал отворачиваясь: — Иди! С таким в настоящем деле пропадешь… О, и ты здесь! — вскрикнул старшина, увидев Володю. — Фамилию, прости, запамятовал. — Иринушкин, — напомнил тот. — Что, Иринушкин, — спросил Иван Иванович, — и у тебя, поди, трясутся поджилки? Страховидно? — Боязно, — признался Володя. — То-то, боязно. Да и как не страшиться? — вздохнул Воробьев и кивнул на оконце, в котором оставалось небольшое, в ладонь, стекло, вся остальная рама была забита фанерой. Над крепостью стояло красное облако, поднятое разрывом тяжелого снаряда. Вода близ острова местами вздымалась и пенилась. Вспышки выстрелов сверкали то у основания стен, то на вершине. Едва стемнело, пополнение на двух шлюпках отправилось через протоку на остров. В небе почти не угасали ракеты, одна за другой взлетали, чертя пологие дуги. Огненные нити трассирующих пуль тянулись от Шлиссельбурга к крепости. Похоже было, невидимый паук ткет свою пряжу. Сравнение понравилось Володе. Но только он подумал об этом, сильная рука Воробьева сбросила его со скамейки на дно лодки. — Пригнись, дурья башка, — услышал он сердитый оклик, — продырявят, не заткнешь. Заметили, сволочи. Пули выпевали тоненькую песенку и, хлюпнув, уходили в воду. — Быстрей гребите! — прошипел Иван Иванович сидящим на веслах. Володя плохо помнил, как подплыли к причалу, как вошли в крепость, не через ворота, а через лаз, пробитый в стене. — К землянке — бегом! — скомандовал сержант, встречавший пополнение, и, пригибаясь, побежал первым. Собственно, это была не землянка, а крепостное подземелье под одной из башен. Огонь, гудевший в объемистой железной бочке с трубой, выведенной наружу, освещал портянки, навешанные вокруг, деревянные нары и стол, сколоченный из двух ящиков. Сводчатые потолки были низкие, о них того и гляди затылком стукнешься. Дневальный перестал подбрасывать щепки в печь, посмотрел на ввалившихся в подземелье бойцов и весело крикнул: — Новенькие прибыли! На нарах зашевелились, послышался кашель. Стукнул чайник, поставленный на бочку. Расселись на полу, поближе к печи. — У кого махорка? Кисет пошел по рукам. Закуривали не все: табаку уже тогда не хватало. Один дымил, а другие терпеливо ждали своих «сорока» — так почему-то называлась очередь на курево. Сосед протянул Володе дымящуюся, обмусоленную цигарку. — Спасибо, я не курю, — отозвался Иринушкин так неожиданно «по-штатски», что в подземелье засмеялись. Дневальный — теперь Володя рассмотрел его лицо с падающим на лоб чубом и вздернутым носом — подвинулся ближе, улыбаясь, спросил: — Откуда тут мальчонка взялся? Воробьев неодобрительно покосился на чубатого. — Ну, ты, зубоскал! Это тебе не мальчонка, а первономерной пулеметчик. Иринушкин, лежа на полу, прислушивался, как где-то недалеко вздрагивает земля от взрывов. Потом стало тихо. Тогда чутким ухом уловил он всплески. Должно быть, волна поднялась на озере. Проснулся Володя от холода и еще оттого, что у него из-под головы выдергивали мягкое, нагретое. Он воспротивился и услышал: — Давай-ка, давай мою стеганку. Командир вызывает. Перебирайся на нары. Э-эх, несмышленыш… Иринушкин узнал голос чубатого и пошел по подземелью, наощупь разыскивая нары.
__________
Люди, с которыми рядом спишь и ешь из одного котелка, те, с кем делишь смертную опасность и солдатский труд, быстро становятся твоими друзьями, побратимами. Прошло несколько дней, и Володя уже знал, что чубатого зовут Степаном и что его насмешливость безобидна, он и над собой не прочь подтрунить в веселую минуту. По душе пулеметчику пришелся и Евгений Устиненков, гарнизонный почтарь, добродушный и необыкновенно сильный человек. Был он немногословен, говорил не красно, однако перечить ему избегали. Осердясь, он мог легонько толкнуть спорщика пальцами — и тот будто прилипал спиной к стене. Не понравился Иринушкину тихий, угрюмый артиллерист Зеленов: смотрит он тебе прямо в глаза, молчит, думает. О чем думает? Может, недоброе. Зато с Геннадием Рыжиковым, которого назначили на пулемет вторым номером, Володя поладил сразу. Низкорослый, скуластый, с лицом кирпичного цвета, этакий немудрящий человечек, Рыжиков был степенно рассудителен. К своему первономерному относился с уважением, разницы лет не подчеркивал. В первое же дежурство на огневой точке он рассказал Володе о своем горе. Семья у него, жена и дочка Феня, остались в Шлиссельбурге, где до войны Геннадий работал на фабрике. Шлиссельбург он называл по обычаю старожилов Шлюшином. Рыжиков очень интересно рассказывал про Фенюшку, какие у нее ямочки на локоточках, и зубешки щербатые, и что ходит она вперевалку, утеночком… Пулеметчик говорит, говорит, а на глаза вдруг слеза навернется. Володя как умел старался отвлечь его от тяжелых мыслей. — Чего это там на бровке зашевелились? — спрашивал он, хотя впереди виднелись только дымки. — Вот бы чесануть! Оба настораживались, с сожалением думая о том, что «чесануть» им никак невозможно. Они находились на «запасной точке». Через нее пропускали всех новых пулеметчиков, чтобы дать им присмотреться к врагу, уразуметь обстановку, закалить выдержку. Пулемет помещался под выступом восточной стены. Огонь из него можно было открывать только в самом крайнем случае. «Запасную точку» называли еще «скучной точкой». Володины дежурства выпадали большей частью на день. Но однажды пришлось ночь провести на «запасной». Утром пулеметчики совсем продрогли, думалось им о землянке, о тепле. Вдруг Рыжиков толкнул Иринушкина в бок и шепнул: «Комиссар». Тотчас же крепкая рука прижала Володино плечо, не допуская подняться. Комиссар улегся рядом на землю и сказал: — Проверим прицел. Он быстро и коротко поводил стволом и довольно отметил: — Приемлемо. Пулеметчик смотрел на Марулина, на его крупные, резкие черты лица, на его горячие глаза. — Товарищ комиссар, — проговорил он, — а ведь я вас знаю. — Не помню. Где встречались? — Да нет, вы и не можете меня знать, — взволнованно объяснил Володя. — Я вас видел в Морозовке восьмого сентября. Вы тогда со взводом шли. Кругом снаряды рвались, а взвод шел и пел… Комиссар улыбнулся волнению пулеметчика, его сбивчивой речи. — Не помню… А впрочем, возможно. — И совсем другим голосом, участливо: — Вы тут на ветру, наверно, замерзли, как цуцики? Потерпите. Скоро смена.__________
Жизнь в крепости налаживалась основательно, прочно. Определенный ритм ей давали, как это ни странно, батареи противника. Они вели обстрел трижды в день, минута в минуту, перед завтраком, после обеда и перед ужином. Все уже знали, когда фашисты начнут «долбить», и спешили закончить свои дела до этого времени. Обстрелы были очень интенсивны, снаряды ломали гранит, дробили кирпич. Но умело укрывшимся людям большого вреда не причиняли. Комендант велел прорыть через двор глубокие траншеи. Приказано было передвигаться только по ним. Каждый крупный артналет в крепости встречали боевой тревогой у пушек, у пулеметов, в стрелковых ячейках. Опасались нападения на остров. Но враг, видимо, сам боялся нападения. Бойцы постепенно привыкли к фронтовому обиходу, к свисту осколков, к первой крови. Привыкли, потому что без этого спасительного чувства, притупляющего остроту опасности, жить под огнем невозможно. В каземате Светличной башни оборудовали кухню. Здесь сытно пахло хлебом, варевом. В домике возле церкви устроили баню, с гладко выструганными полками, с горячей водой, шипящей на раскаленных камнях. Правда, после того, как однажды «он», то есть враг, кинул пару снарядов на дымок, стали растапливать баню осторожней. Очень гордились в гарнизоне своей «киношкой». Разумеется, это был не настоящий кинотеатр. Передвижка работала в обширном подвале главного корпуса, где в далекие времена находилась пекарня. Перед началом сеанса сжигали вязанку дров в большущей приземистой печи, для обогрева и вентиляции. Печь не топилась много лет и отчаянно дымила, но на это никто не обращал внимания. Киноленты доставлялись нерегулярно. Поэтому приходилось одну и ту же картину «прокручивать» по нескольку раз. Но зрители не обижались, лишь бы картина была интересной. Подвал заполняли битком, за недостатком скамеек рассаживались на полу. Кашляли, шаркали ногами, громко обменивались замечаниями. Иринушкин смотрел в «киношке» фильм «Сердца четырех» и вечер этот запомнил надолго. Картина радовала его не потому, что была уж так хороша. На восприятие действовала необычность окружающей обстановки. Вместе со всеми Володя хохотал, когда автомобиль незадачливых путешественников застревал в реке, и волновался, когда влюбленные ссорились, вместо того чтобы целоваться. «Ведь это все было, было, — думал Иринушкин, — и тихие лесные прогалины с желтыми солнечными пятнами на листве, и любимые книжки, и города, залитые светом. Как не умели мы тогда ценить все это… Было и когда-то еще будет?» Плохонькая передвижка тарахтела, замирала и вдруг совершенно умолкла. Зажгли коптилки и единственную, оплывшую свечу. — Поскорее бы, — торопили зрители механика, — на самом интересном месте оборвал. — Эх, неладно, — произнес досадливый голос, — теперь когда досмотришь. К бойцам, сгрудившимся вокруг растерянного механика, подошли Марулин и Чугунов. — Дай-ка взгляну, — сказал комиссар. Иринушкин с интересом наблюдал, как под пальцами Марулина аппаратура распадалась на части и снова эти части становились на винты и закрепы. Чугунов произнес вполголоса: — Вот мастак. Ну, давеча с пулеметом справился — понятно. А киношное устройство — оно куда хитрей. — Не знаешь разве, солдат на все руки мастер. — Нечего шутками-то отделываться, — насупился комендант. Бойцов облетел быстрый говор, почтительный и веселый. — Ну, киномеханик я, — спокойно отозвался Марулин и постучал кулаком по стальным зажимам. Озадаченное лицо Чугунова рассмешило его, и он сказал: — Кинотеатр «Великан» на Петроградской стороне знаешь? Мой театр… Передвижка опять затарахтела. Зрители расселись по местам. Музыка переливами ударила в стены подвала. Музыка из мира, который стал таким далеким. Время от времени открывалась дверь и громкий голос вызывал: — Сергеев, Гаврилюк — на выход! — Артмастер — на выход! Звучали поспешные шаги. И снова — тишина, напряженное внимание. Стены подвала порою тряслись от взрывов. Доносились долгие, захлебывающиеся пулеметные очереди. «Не наш снаряд, не наша пуля», — мысленно отмечали бойцы. Они не отводили глаз от простыни, заменявшей экран.Г Л А В А V „ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ПРОЛОМ“

Новую огневую точку Иринушкин и Рыжиков оборудовали в проломе, который назывался Шереметевским. Возможно, при Петре I именно где-то здесь была пробоина в стене, которую сделали бомбардиры фельдмаршала Шереметева. Вообще все наименования в крепости были приняты по довольно старой штабной карте, хранившейся у коменданта. Все знали, что квадратная башня на стороне, обращенной к Морозовке, зовется Государевой. В ней на разлапистых петлях покоились полосатые ворота. Такая же полосатая будка стояла чуть поодаль. Будка была разбита снарядом. Если хорошо присмотреться, можно разглядеть над воротами, в стене белые кирпичи, — они хранят силуэт орла и ключа. Этот выкованный из железа государственный знак крепости когда-то красовался здесь. Дорога к Государевой башне видна из Шлиссельбурга. Поэтому здесь не ходят. Вход в крепость левее, через лаз. Над этой едва приметной узкой щелью вздымается мрачная Светличная башня, а дальше, под обрушенной кровлей — Королевская. На стороне, обращенной к Шлиссельбургу, на мысу — Флажная башня; ее основание омывают волны озера. Здесь, на вершине, в старину вывешивался флаг, а ночью — фонарь, чтобы светить проходящим судам. Дальше, примерно в середине стены и на углу, как окаменелые сторожевые богатыри под шеломами, высятся башни-близнецы. Они носят имена петровских сподвижников Головина и Головкина. Так вот, новое гнездо для пулемета находилось в Шереметевском проломе, как раз между Флажной и Головкинской башнями. Пулеметчики устраивали гнездо сами. Для этого пришлось разбирать древнюю кладку. — Не чаяли прапрадеды, что нам доведется здесь поработать, — шутил Иринушкин. Валунные глыбы были связаны окаменелым составом. Конечно, ломом или зубилом не так уж трудно выворотить камни. Но пулеметчики опасались стуком привлечь внимание противника. Они разбирали стену руками, иную глыбу расшатывали полдня, прежде чем удавалось вывернуть ее. После этой работы у пулеметчиков долго кровоточили руки, не приживалась содранная кожа. Зато «точка» получилась на славу. Можно было стрелять из укрытия в глубине пролома. А в горячую минуту выдвинешься вперед, и тогда — размах во все плечо! Правда, тут уж ты на виду у врага… Ко времени, очень ко времени заговорил огневой «станок» в Шереметевском проломе. Гитлеровцы навели наплавные мостки через Новоладожский канал и начали бетонировать блиндажи, удлинять траншеи. Иринушкин и Рыжиков держали под прицелом эти мостки. Пулеметчики постарались сбить спесь с фашистов. Вскоре они уже не отваживались ходить по бровке. — Ползать, ползать учитесь, гады! — говорил Иринушкин, и дрожь пулемета передавалась его рукам. В первые дни Володя внутренне страшился этих минут, когда человеческие фигурки срывались с мостков в воду или падали на землю. После первого огня, после боевого крещения, возвратясь в землянку, он не мог донести кусок хлеба до рта. Так и улегся голодный на нары, закрылся с головой шинелью, повернулся к стене. Кажется, один Левченко понимал, что происходит с «мальчонкой». С удивительной братской нежностью тронул его за плечо и прошептал: — Тю, глупый. Не ты его, так он тебя. Не ответил Володя. По неписаному уговору среди бойцов не принято было делиться такими думами. Пожалуй, и в самом деле все обстояло так, как говорил чубатый. Перед глазами пулеметчика плыл обугленный Шлиссельбург. «Не мы звали вас на нашу землю, — мысленно обращался Иринушкин к фигуркам в зеленых шинелях, — вы пришли убивать, жечь. Мы не признаем вас людьми. Умрите». От этой мысли он становился злым. Злым и метким. На «огневой» пулеметчики обмениваются короткими, отрывистыми фразами. И если «станок» молчит, их произносят вполголоса. Только однажды Геннадий Рыжиков закричал во всю глотку: — Стой! Стой! Бледный, с перекошенным ртом бросился к Иринушкину, перехватил его руки. Теперь и Володя заметил, что на мостки поднимаются женщины. Они несли лопаты. Женщины жались друг к другу и смотрели на крепость. За ними шли солдаты с автоматами на ремнях. — Отойди от пулемета! — кричал Рыжиков. — Зови комиссара! — Не вопи, — остановил его первономерной, — а ну, слетай на КП. Марулин тотчас же пришел в Шереметевский пролом. Вместе с пулеметчиками молча наблюдал он за тем, что происходит на бровке. Женщины рыли траншею. Нетрудно было представить себе их лица, их горе. И пули-то они боялись, и совестно было, что на глазах у своих, русских, убежище для врага делают. Внезапно две молодые, в белых платках, вошли по колено в воду, раскинули руки, остановились лицом к крепости, закричали. Слов разобрать нельзя было. Чего просили они? Освобождения? Смерти? К ним кинулся солдат, замахал автоматом. Марулин потупился. Приказал: — Не стрелять! И ушел, пригибаясь под сводами пролома. Два дня пулемет бездействовал. Бойцы смотрели, как совсем близко строятся гитлеровские укрепления. Немцы вели работы спокойно. Они хорошо знали, что крепость огня не откроет. Бойцы вздыхали, охали и утешали себя тем, что потом «доберутся до гнуса» артиллерией. На третий день (дело было после полудня) Иринушкин толкнул в бок Геннадия. — Гляди на бровку. Не пойму, мерещится мне, что ли? — Ну, смотрю, — отозвался Рыжиков, — строятся, дьяволы. — Я не про то. Видишь, у блиндажа спиной к нам. стоит толстая баба? — Баба действительно здоровенная. — Вот ведь, — рассердился Иринушкин, — ты на одежку смотри. — Солдатские штаны! — вскрикнул в изумлении Геннадий. — Ей-богу, штаны! — Опять орешь, — укоризненно произнес Володя, — вот тебе еще штаны, и еще, а там вон — офицерские галифе под ситчиком. А ну, ленты подавай! Быстрей! С командного пункта прибежал вестовой. — Что за переполох? Было ясно, что обнаглевшие фашисты под конец устроили маскарад. А какой же маскарад без музыки? К пулемету Иринушкина присоединились другие огневые точки. Да еще недавно прибывшие на позиции 50-миллиметровые минометы, или, как их называли, «полтинники», подкинули жару. Врага вогнали в землю. Путь через мостки был снова плотно перекрыт. Скоро почувствовалось, что гитлеровцы охотятся за пулеметчиками из Шереметевского пролома. Их забрасывали минами. Иринушкин и Рыжиков пережидали налет и снова разворачивали «станок». Позже фашисты выдвинули против пулеметчиков, видимо, своих лучших стрелков. Поединок со снайперами едва не закончился бедой. То, что стреляет снайпер и стреляет бронебойными, первым заметил Рыжиков. Геннадий предупреждающе дернул Володю за полу шинели. — Обойдется, — стараясь сохранить спокойствие, ответил первономерной. Но в действительности ему было так не по себе, что хотелось поскорей укрыться за гранитной толщей. Пули нечастой капелью били о камень, подбираясь все ближе, ближе. Передвинулись к запасному щитку, прочесали бровку. Да ведь кто разберет, где он замаскировался, этот снайпер? Впереди песчаной косы торчит из воды остроугольный валун: лучшей позиции не придумаешь — близко и скрытно. «Погоди, голубчик. Не уйдешь!» С валуна посыпался щебень. Очередь задохнулась. Видно, разорвалась гильза. Иринушкин быстро начал разборку, теплое тело пулемета казалось живым. И это была последняя мысль Володи… Рыжиков заметил, как командир расчета приподнялся над щитком и сразу посунулся вперед, лег прямо под пули. Геннадий вцепился в него, потащил вниз. Только в проломе заметил: руки мокрые. Посмотрел — кровь! Еще не открыв глаза, Иринушкин услышал разговор. Узнал грубоватый голос Зеленова. Сержант по совместительству был санитаром. — Бинты в углу, в ящике. Тишина длилась долго. Потом другой голос, глубокий голос Марулина, спросил: — Ранение тяжелое? Ответа пулеметчик не расслышал. Он потерял слишком много крови. Мысль работала вяло, лениво. Совсем не страшной представлялась смерть. Хорошо бы маму повидать. Зачем, зачем он тогда не разрешил ей проводить себя? Даже не простились как следует… Володя открыл глаза. Он сразу узнал санчасть в Светличной башне, комнату с серыми стенами. Близко, через камеру, находилась гарнизонная кухня. Зеленов в белом халате, который топорщился на плечах, выглядел еще более неприветливым. Он больно поворачивал Володину руку, затягивая ее бинтом. — В мякоть угодило, пустое дело… через неделю опять пойдет в свой чертов пролом. — И вдруг прикрикнул на раненого: — Нечего киснуть! Только от дела отрываешь. — И начал сдирать с себя халат. Зеленов не шутил, он и в самом деле не терпел слабых, беспомощных людей. Он сердился, что пришлось на полчаса оставить орудийный расчет. Но от окрика пулеметчику стало веселей. На тех, кто собирается помирать, не кричат. Вот только бы встать на ноги, поскорей окрепнуть. Он придет в землянку к Андрею и задаст ему выволочку. Пусть знает, как надо разговаривать с тем, кто получил боевое ранение. Валентин Алексеевич нагнулся над пулеметчиком, лицо его показалось Иринушкину очень добрым. — Видишь, — сказал комиссар, — человек становится солдатом, только когда кровь свою на родимую землю прольет. Вот как оно бывает. И простился одними глазами.
Г Л А В А VI ПОИСК

Миновало несколько дней. Рана затянулась. Иринушкин чувствовал себя здоровым. Но Зеленов не разрешал ему выходить из Светличной. — Эк тебе не терпится под пули стать, — говорил Андрей, — лежи знай. Медицине про то лучше известно, хлюпик ты или справный боец. Пока получается, вы, товарищ Иринушкин, как есть хлюпик. Ну и лежать, и помалкивать. Когда Андрей сердился, он переходил на «вы» и официальное обращение. Артиллерист в белом халате требовал беспрекословного повиновения «медицине». За это время Володя отоспался хорошенько. Спал он, как сурок, днем и ночью. Однажды пулеметчик проснулся и в полумраке каземата увидел, что санитар стоит около стены спиной к нему и перебирает банки, встряхивает их, нюхает. Иринушкин решил: теперь самое время доказать, что он человек здоровый и нечего его держать в санчасти. Доказать это было нетрудно. Нужно тихонько подкрасться к Андрею и простреленной рукой отпустить ему такую затрещину, чтобы у санитара не оставалось сомнений: рука действует отлично. План был выполнен быстро и успешно. Но результат получился неожиданный. Фигура в белом пискнула, повернулась — и на Володю испуганно глянули большие девичьи глаза. Из-под красноармейской шапки, съехавшей от удара набок, выползла косица. Совершенно растерянный, подхватывая слишком широкие в поясе кальсоны, Иринушкин попятился и торопливо забрался под одеяло. — За что вы меня ударили-то? — гневно крикнула девушка. — Я сейчас же вызову сюда коменданта! Володя натянул одеяло до самых глаз. Прошло довольно много времени, прежде чем он решился спросить: — Кто вы? — Вот еще, — удивилась девушка вопросу, — я санитарка. — А на остров к нам как попали? — С батальоном. До этого утра Иринушкина навещал только Геннадий Рыжиков. Он приходил на несколько минут, спрашивал, как кормят, жаловался на то, что временный командир расчета «ничего не объясняет, а вовсю ругается», и торопил товарища: «Кончай болеть». Теперь же чуть ли не половине гарнизона понадобилось узнать о самочувствии пулеметчика. В комнату набивалось столько народа, что становилось нечем дышать. Володе скоро надоело это всеобщее беспокойство о его здоровье. Бойцы задавали ему вопросы, а сами смотрели на санитарку. У нее были аккуратные, как у школьницы, косы, короткий толстенький нос и на лбу неглубокие рябинки. Иногда она протестовала против такого оживления в санчасти: — Грязь только наносите. Бойцы, многих из которых Иринушкин видел впервые, отвечали ей: — Очень уж хороший парень этот пулеметчик, нельзя не проведать. Или: — Сами понимаете — фронтовая дружба. Это вранье так опротивело раненому, что хоть беги из Светличной. Однако все завершилось гораздо проще. Пришел Андрей Зеленов, прогнал лишних посетителей и сказал Володе: — Завтра — на позицию. Здоров. — Потный от волнения, он козырнул девушке: — Возражений не будет, товарищ военфельдшер? Тонкая лесть со стороны сурового и неизменно правдивого артиллериста изумила Иринушкина. Но он не раздумывал над этим. Мысли его были заняты совсем другим. От бойцов, побывавших в санчасти, он узнал, что накануне ночью на остров переправился стрелковый батальон. Что-то готовилось.
__________
Такого многолюдья в крепости не бывало. Прибывшие стрелки расположились в пустующих корпусах. Чистили оружие. Заряжали запасные диски. Проверяли гранаты и подгоняли их к поясам, под правую руку. Все свободное время спали. На полу, без подстилки, ранец в изголовье. Командир батальона, молодой капитан с узкими усиками, почти не уходил с наблюдательного пункта. Бинокль натер ему красные полукружия под глазами. Он смотрел то на Новоладожскую косу, то на карту, развернутую на кирпичах. Вполголоса разговаривал с комендантом крепости, стоявшим рядом. Комендант был очень серьезен, с готовностью отвечал на все вопросы. — Прошу вас послать разведку, — обратился к нему молодой комбат. Хотя они были в равном звании, Чугунов поднес пальцы к козырьку. — Есть! В подземелье, где жили бойцы, коменданта встретил старшина Воробьев: — Смирно! Чугунов не принял рапорта. — Вольно. Он сел на нары и велел сесть бойцам. Ясно, без лишних слов капитан рассказал о предстоящей операции. Ей должен предшествовать ночной поиск непосредственно на позициях врага, на бровке. В поиск отправятся на лодке всего два-три человека. Капитан не скрыл исключительную опасность дела. Затем спросил: — Кто пойдет? В подземелье стало очень тихо. Чугунов всматривался в лица бойцов. Одни отводили взгляд: явно боялись, не назвал бы комендант их фамилию, другие смотрели спокойно, будто говорили: «На рожон не попру, а пошлете, так тому и быть». Но у многих опасность раздула озорной, дерзкий огонь в глазах. Комендант знал своих красноармейцев не только поименно. Он грустно подумал: «Отчего это самые хорошие люди, самые умелые и добрые так щедры, отдавая жизнь?» Встал Степан Левченко, одернул гимнастерку и сказал: — Разрешите мне, товарищ капитан. Чугунов тихо ответил: — Подбери сам еще двоих. Готовьтесь. Степан был, как обычно, весел, говорлив. Только когда передавал коменданту свой комсомольский билет и маленький черный медальон, — красноармейцы видели: у Степана дрогнули губы. Левченко тяготился молчанием товарищей. Он заговорил о медальоне: — Штука эта счастливая. Главное — номер у нее подходящий. Тринадцатый. Никто в полку не хотел брать, мне досталась. В пластмассовой трубочке, под привинченной пробкой хранился свернутый лоскуток бумаги с адресом далекого села, где мать бессонными ночами ждала сына… — Готовьтесь, — повторил капитан и вышел из землянки. Двоих товарищей для поиска Степану было нетрудно подобрать. Идти с ним люди не страшились. До темноты оставалось немного времени. Левченко отправился на причал. Лодку он выбирал обстоятельно и неторопливо, словно для рыбалки. Смотрел, хорошо ли просмолена, легка ли на ходу? Уключины ему не понравились, он их вынул и тут же начал строгать деревянные колышки-кочетки. Они, конечно, не держали так прочно весла, зато при взмахе не было ни малейшего стука. Втроем пошли на гарнизонную кухню. Повар налил в котелки до краев щей с мясом. Таких порций в крепости давно уж не видывали. Степан удивился. — Больно добрый ты сегодня, — заметил он повару. — Да что уж, — вздохнул тот, — хотите, еще добавлю… С наступлением сумерек лодка ушла на озеро. Всю ночь на наблюдательном дежурили комендант и комиссар. Расчеты у орудий сменялись через два часа. Каждый метр на бровке внимательно просматривался. Бойцы тревожно следили, что там происходит. Вернулась лодка засветло. Разведчики тотчас поднялись на башню Головкина. Долго показывали они командирам, где у фашистов скрыты пулеметные гнезда, орудия, склады, где вторая линия окопов. В подземелье не спали. Бойцы ждали рассказа о поиске. Но Степан отвечал нехотя: — Погостевали у фрицев… Он клевал носом. Наконец взмолился: — Дайте выспаться. Глаза слипаются, сил нет. Но его товарищи долго еще рассказывали, как с озера повернули они к косе, как высадились на камни и замаскировали лодку гнилым, лежалым сеном. Потом поползли к блиндажам. Здесь притаились, услышав говор. Запиликала гармоника. Один из бойцов (он сам и рассказывал об этом) предложил: «Хорошо бы гранатой шарахнуть». Левченко ему ответил шепотом: «Стрелять я в тебя не стану, а задушу своими руками». Поползли дальше, припадая к земле, чуть дыша. Видели пушки, нацеленные на крепость. Стволы пулеметов чернели в амбразурах и тоже грозили Орешку. В эти минуты, когда казалось, что даже стуком сердца можно себя выдать, разведчикам всего больше нужны были глаза. Глаза, как у кошки. Чтобы видеть во тьме. Все высмотреть, разузнать. Едва лишь на Ладоге обозначилась розовая неширокая полоса, разведчики двинулись обратно…__________
Степан спал, раскинув руки. Волосы прилипли к потному лбу. Храп раздавался на все подземелье. Тем временем в крепости все готовилось к броску. У Государевой башни,вплотную к берегу, укрылась целая флотилия — свыше двадцати лодок. Их надо было перебросить на исходный рубеж, к Флажной башне. В сумерках из крепости вышли несколько человек. Они сгрудились у причала. Вполголоса спорили. Как передвинуть лодки? От одной башни до другой расстояние не велико. Да метры-то эти трудные. Водный путь от правого берега к крепости огражден защитными бонами — бревнами на цепях. Цепи поставлены намертво. Как перебросить лодки через боны? Только один путь и есть — перенести их на руках. По Неве плыло льдистое сало. Даже смотреть на реку было зябко. Никто не решался первым войти в воду. А время шло. Тогда Марулин приказал: — За мной! И шагнул в Неву. Вода обожгла ноги и сразу заплескалась у груди. Спасение заключалось в том, чтобы двигаться, напрягать мускулы, работать, холоду противостоять жаром разгоряченного тела. Все поняли это. Бойцы обогнали комиссара и вцепились в шлюпки. Их подводили к бонам, перетаскивали через затопленные цепи. В ледяной воде невозможно было выстоять больше пяти-шести минут. Бойцы сменяли друг друга. Флотилия сосредоточилась у Флажной. Ровно в час после полуночи началась погрузка — и десант двинулся к Шлиссельбургу. На первой лодке — Степан Левченко со своими разведчиками. В крепости все было, по выражению артиллеристов, «на-товсь». Командиры — на наблюдательном пункте. Артиллерийские расчеты — у пушек. Пулеметчики не отрывали глаз от прицелов. Весь гарнизон вышел на позиции. Противник вел себя беспокойно. Небо пестрело ракетами. На самом краю города, на набережной, загорелся дом. Этот факел, огромный и пламенеющий, осветил Неву. Сразу же яростно ударили пулеметы, орудия. Правый берег и Орешек поддержали десант огнем. Всю ночь над рекою мела железная метель. Перед утром, в тумане, лодки начали выходить из боя. Они подплывали к откосу Флажной башни. Лодок было мало и ни одной целой. Прошитые пулями борта. Пятна крови на досках. На днищах, в пробившейся воде, лежали убитые и раненые. С последней лодки на плащ-палатке вынесли капитана, командира десанта. Лицо его было закрыто стальным шлемом. Четверо бойцов держали плащ-палатку за углы. Они ступали медленно, казалось, каждый шаг стоил им усилия и несли они непомерной тяжести груз. В санчасти повсюду — на нарах и на полу — лежали раненые. Одни просили пить, другие бредили, кричали, метались. Но всего больнее было смотреть на тех, кто молчал. Сосредоточенные в себе, в своем страдании, они безмолвно шевелили пальцами, растирали себе грудь. Под полузакрытыми веками — мутные глаза. За таких раненых санитарка Шура опасалась больше всего. В смявшемся, окровавленном халате она склонялась над ними, говорила ласково: — Миленькие, родненькие. Бойцы, многие из которых сейчас прощались с жизнью, не приняли бы утешения. Но эти добрые девичьи слова облегчали муку. То один, то другой брал санитарку за руку, не отпускал ее. Но Шура спешила. Раненые все прибывали и прибывали. В санчасть пришел комендант, потом — Марулин, за ним — старшина. Они вглядывались в лица бойцов. Автоматчик с забинтованной головой спросил коменданта: — Кого ищете, товарищ капитан? — Солдата одного, по фамилии Левченко. — Из себя-то он какой? — Обыкновенный, с чубом, кареглазый. Такого автоматчик не встречал. Зато его товарищ, державший на весу раненую руку и морщившийся от боли, переспросил: — Разведчик, что ли? На первой шлюпке шел? — Он, он и есть! — обрадовался Чугунов. — Лихой парень, — подтвердил боец, — как же, видел его. Лодки наши борт к борту плыли. Понимаешь, как немцы начали по нам садить, Левченко этот спиной повернулся, говорит: «Ну их к чертям собачьим. Убьют — так хоть не увижу как». — Где он? — нетерпеливо спросил комендант. — А вот, понимаешь, как у него в шлюпке-то всех свалило, он сам на весла сел, левую руку прострелили, одной гребет, весло не выпускает. — Выгреб? — Где уж там. Видел я, закружило челнок… На острове весь день ждали возвращения Степана. В землянке на нарах одиноко лежала его сброшенная с плеч шинелька — Левченко ушел в десант в короткой стеганке. Воробьев бережно расправил шинель. — Пропал наш дружок, как есть пропал. С наступлением темноты всех раненых переправили на материк, в госпиталь. Ушли и оставшиеся в живых бойцы наступавшего батальона. Санитарка Шура попросила разрешения остаться в крепости. Неудача десанта, большие потери глубоко переживались всеми. Только очень немногие знали, что кровь пролита не напрасно. Из Шереметевского пролома Иринушкин разглядел на косе солдат в голубых пилотках необычного фасона. Они явно не представляли себе, как опасен переход через наплавной мостик, в траншеях бегали в полный рост и совались прямо под прицел. Пулеметчики тотчас приступили к их «воспитанию». На правом берегу, в разведотделе, в это же время отметили точно установленный факт: батальоны новой немецкой дивизии, известной под названием «Непобедимой», переброшены с другого участка в Шлиссельбург. Значит, на этом другом участке фронта советским частям воевать стало полегче.Г Л А В А VII СЕСТРЕНКА

Санчасть в крепости собирались укомплектовать давно. Поэтому желание Шуры остаться на острове пришлось кстати. Она быстро обжила невзрачный каземат в Светличной. Стены с почернелой штукатуркой завесила простынями. Раздобыла белый шкафчик для лекарств. Застелила койки чистым бельем. У дверей бросила коврик, аккуратно вырезанный из шинельного сукна. Такая уж, должно быть, сила у женских рук. К чему прикоснутся — засветится, камень под ними теплеет. Право, в каземате даже уютно стало. По своему белому царству Шура двигалась легкой походкой. Коренастенькая, с ловкими, быстрыми руками, она всегда находила для себя дело. Если нет раненых, что-нибудь штопает, шьет. А тут вдруг завела в крепости настоящую прачечную. Бойцы не любили стирать белье. Грязное выбрасывали. Это было возможно только потому, что в тех же обширных складах озерной флотилии нашлось несколько кип полотняного белья. Но со временем кипы эти заметно отощали. Волей-неволей следовало подумать о стирке. С берега на остров было доставлено «вооружение» необычного типа: два жестяных корыта. Шура стирала полными днями. Рукой в мыльных хлопьях отбросит косицы на спину и снова нагнется над корытом. Троих бойцов приспособила себе в помощники; они охотно выполняли непривычную работу. Белье для просушки вешали во дворе. Но после того как однажды несколько пар было продырявлено осколками, Шура велела натянуть веревки за менее обстреливаемой стеной. Прошло всего несколько дней, а Шуру уже считали необходимым человеком в крепости. Бойцы даже удивлялись, как это они до сих пор жили без своей славной санитарочки. На острове Шуру стали называть сестренкой. Это душевное имя словно ограждало ее от всего дурного. У санитарки работы было много. Чуть не каждый день — перевязки. Ранения почти все осколочные. Гитлеровцы никак не могли позабыть о дерзком десанте. Теперь они держали крепость под постоянным огнем, особенно — подходы к острову и переправу. К пулям, к осколкам в гарнизоне притерпелись. Но людей ждали испытания еще более тяжкие. В кухонных котлах все чаще варились «пустые» щи. Кашу можно было убрать одной хорошей ложкой. Хлеб нарезался скупыми порциями, с каждой неделей все меньше. На столах не оставалось крошек. Крепость делила с Ленинградом блокадную судьбу. В эти дни незаменимым человеком в гарнизоне стал седой старшина Иван Иванович Воробьев. По своей должности он ведал хозяйственным устройством, обеспечением тыла, то есть подвозкой продуктов, боеприпасов. Да дело-то в том, что крепость была боевой единицей, в которой тыла, в обычном понимании, не существовало. Сколько раз седой старшина под минами, под пулеметным обстрелом вел груженые лодки на остров. Опасность не страшила его. Страшно было оставить людей без хлеба, а пушки без снарядов. Для поездок на материк ему разрешалось выбирать солдат самых надежных, как для трудной боевой операции. В одну из таких поездок он взял с собой Иринушкина. В Морозовке, в полевой пекарне, нагрузили подводу хлебом, каждую буханку взвешивали, считая граммы. Хлеб укладывали в мешки. Лошаденка попалась ленивая, еле передвигала ноги. Воробьев и Володя шли за телегой. По озеру перекатывались валы последней осенней бури. Прибой вскидывал белую пену. Трудно и гулко дышала Ладога. Колеса телеги скрипели. Двое с автоматами шли, оступаясь в грязные, разбитые колеи. Володя смотрел на тугие мешки, которые вздрагивали и плыли у него перед глазами. От них исходил вкусный хлебный дух. Нестерпимо хотелось есть. Володя до тошноты наглотался слюны. Он поймал себя на том, что подошел вплотную к телеге, безотчетно протянул руку к мешку. Сразу же заметил взгляд Воробьева и принялся старательно поправлять мешок. Снова хлюпает грязь под ногами. Опять скрипят колеса. Нет, никогда в жизни Володя ничего не желал так сильно и неотвязно: схватить зубами пахучую мякоть, чтоб корочка хрустнула… Конечно, чужого он не взял бы. Но свой паек, то, что он все равно получит, отчего не взять сейчас? Ну, просто с ума сойдешь, как хочется есть… Иринушкин посмотрел на старшину. Он шел неспешными шагами, засунув руки в карманы ватника. Иринушкин задержал шаг, старшина поравнялся с ним. — Иван Иваныч, — начал пулеметчик и помедлил, — Иван Иваныч! — И, торопясь, сбиваясь, сказал ему о «своем пайке». Воробьев даже остановился от удивления. — Думать о том не смей. Какой еще «свой паек»… Володя догнал повозку. Стыдно было так, что есть расхотелось. Не слушать, не слушать, что еще может сказать старшина. Боец чувствовал: Иван Иванович шагает сзади и смотрит на него с укором. На плечо Иринушкина легла рука старшины. Пулеметчик неловко отвел плечо. Но тут же ощутил, как в пальцы ему сунули что-то жесткое. Посмотрел: кусок хлеба. Ноздристый, черствый, наверно, еще взятый с острова. Володя грыз его и сердился на себя, что не может отказаться от этого куска… Он обрадовался, увидев одинокие дома Шереметевки, маленькую бухту, песчаный берег. — С Орешка? — спросил часовой. Военный люд прочно усвоил укоренившийся в Приладожье обычай — называть крепость ее старинным именем. — Тут какой-то все спрашивал, когда лодки будут, — продолжал часовой, — вон дрыхнет. Старшина подошел к красноармейцу, приткнувшемуся к ящикам. Он лежал, втянув голову в расстегнутый ворот стеганки. Воробьев растолкал спящего, строго спросил: — Тебе зачем в крепость? Красноармеец встал. Иван Иванович попятился, крикнул: — Иринушкин, смотри! Это же наш Степан. — Ну, я, — преспокойно сказал Левченко, — чего ты всполошился?.. Махоркой не богат? — Да как ты сюда попал? — А где же мне быть, раз я из госпиталя иду. — Мы ведь похоронили тебя. — Тю! А я живучий. Ну, давай, давай махорку. До назначенного часа переправы оставалось еще много времени. Бойцы разговаривали у самой воды. Тлеющие самокрутки прятали в ладонь. Левченко рассказал, как он очнулся в разбитой лодке, как другая лодка, в которой на троих парней были две здоровых руки, доставила его на берег, как отвезли в госпиталь. — Гребцы же мои полегли все до единого. — Степан опустил голову и начал застегивать телогрейку. Крючки срывались с петель. Иринушкин и Воробьев без конца дивились удаче Степана: вынести голову из такой переделки! — Да я же вам говорю, хлопцы, — с лукавой серьезностью заметил Левченко, — все дело в моем медальоне. Тринадцатый номер, счастливое число!
Г Л А В А VIII ФЛАГ НАД КРЕПОСТЬЮ

Неву затягивало льдом. Его ломало волной и ветром. Белый припай держался прочно только у берегов. Близился Октябрьский праздник, первый праздник в дни войны. Утром шестого ноября из политотдела дивизии позвонили: — Встречайте гостей. В крепости недоумевали: какие гости? Поздно вечером на остров высадились несколько человек в гражданской одежде — рабочая делегация. В крепости тотчас стало известно, что гости привезли с собой какие-то мешки и ящики, что среди делегатов есть женщины и что пробудут они в крепости два дня. Все были взволнованы этим событием. «Значит, помнят о нас, — говорили бойцы, — ленинградцы привет нам шлют. Делегаты на фронт, на самую передовую приехали поклон передать». Бойцам не терпелось взглянуть на делегатов. Первое знакомство произошло на крепостном дворе. Комендант и комиссар поздоровались с гостями. Марулин сказал: — Дорогие товарищи, в эту радостную минуту встречи я хочу напомнить вам об одном факте из истории Великой Октябрьской революции. Двадцать четыре года назад над Шлиссельбургской крепостью впервые взвился красный флаг. Его подняли рабочие ближних заводов, пришедшие сюда, на этот остров, чтобы открыть ворота «Русской Бастилии». Они подняли стяг революции в честь победы правды над ложью, добра над злом, угнетенных над угнетателями… На нашем маленьком боевом острове сейчас нет места, да и времени нет для традиционной демонстрации. Но не годится советским людям встречать праздник без своего революционного, гордого флага. А потому, в соответствии с записью в журнале боевых действий, приказываю… — Комиссар повернулся к небольшой шеренге бойцов. — Поднять над крепостью Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик! Степан Левченко, страшно смущенный тем, что десятки людей взволнованным, ободряющим взглядом смотрят на него, развернул алое полотнище и направился к водонапорной башне. Эта железобетонная громада на широком, ребристом кубе возвышалась над стенами. Прошло немного времени — и на ее вершину взлетел флаг. На крепостном дворе запели гимн. Пели артиллеристы и пулеметчики, седоусый мастер, прокатчик с Кировского завода, старая прядильщица с тельмановского комбината. Над всеми голосами летел голос самой юной делегатки, тоненькой и стройной, как сосенка. Никто не осмелился сказать ей, что здесь, рядом с противником, не полагается петь громко. Снаряд ударил в стену, завизжали осколки. Делегаты не испугались, не пригнулись. И это ясней любых слов рассказало бойцам о том, что происходит в городе, в приленинградских селениях. Подумалось: «Стало быть, и вы успели привыкнуть к этой музыке». Никакого торжественного заседания в крепости не было. Просто гости ходили по землянкам и беседовали с защитниками Орешка. Беседы эти многим запали в душу. К стрелкам и пулеметчикам пришла текстильщица вместе с молодой товаркой. Сопровождал их комендант. В землянке дневалил Иринушкин. Он звенящим голосом подал команду и разлетелся с рапортом. Чугунову было приятно показать делегатам, какие у него молодцеватые красноармейцы. Старая женщина смутила дневального тем, что несильной, тонкой рукой вдруг погладила его по щеке. Потом огляделась и спросила: — Есть тут у вас метла? Иринушкин вытащил откуда-то из угла замызганный голик, текстильщица передала его девушке. — Подмети. Сама же принялась убирать на столе. Здесь валялись окурки, тряпки, пропитанные смазочным маслом, пустые гильзы. На лице коменданта появились пунцовые пятна. Бойцы переминались, не зная, что делать в присутствии такого удивительного «начальства». А «начальство» село за чистый стол, убрало под шерстяной платок белую прядку и спросило: — О чем станем говорить, дети? И то, что этих парней, порядком огрубевших на войне, женщина назвала детьми, было так необыкновенно, что иные вздохнули порывисто, иные глотнули застрявший в горле ком. Текстильщица говорила серьезно и строго о Ленинграде, о том, что в городе сокращен хлебный паек, погасло электричество, не ходят трамваи. Остался только один путь в страну, на Большую землю. Этот путь пролегает здесь, через Ладогу. И Шлиссельбургская крепость — бессменный часовой на этом пути. — Рабочие Ленинграда велели сказать вам, — продолжала делегатка, — что из крепости уходить нельзя. Вам будет трудно. А когда станет трудно невмоготу, скажите, и те, кто остались в городе — женщины, старики, подростки, — возьмут винтовки, придут помочь вам… Гости раздали бойцам подарки. Кому достались теплые варежки и шарфы, кому — кисеты с махоркой, открытки с видами Летнего сада, Зимнего дворца, Медного всадника. Всех оделили белыми хрустящими сухарями. Бойцы не хотели принимать бесценный дар голодающего города. Но и обидеть отказом нельзя было. Всем запомнился этот проникновенный, дружеский разговор. Володя взял у девушки метлу, которой она подметала каменный пол. Но девушка не сразу отдала метлу, и они потянули ее в разные стороны, за прутья и палку. Оба рассмеялись. Пулеметчик робел и в то же время старался показать себя бывалым солдатом. Но он заикался от смущения, когда обратился к молодой гостье: — Тебя как зовут? — Алла… Алла Ткаченко. Я работаю таксировщицей на Ледневской пристани. Так что я здешняя, ладожская. Она махнула рукой в сторону озера. Алла не была красива. Худенькая, глазастая, с расплывчатой линией губ, она хорошела, только когда смеялась. Ее глаза светились и легкие волосы разлетались над лбом и ушами. Иринушкин вдруг взял ее за руку и сказал: — Хочешь, пойдем посмотрим фашистов. И они выбежали из землянки. Володя знал такое место в крепости, откуда можно было, не выходя на стену, отлично разглядеть Шлиссельбург. Он привел Аллу в башню. Поднялись по винтовой лестнице к слуховым окнам. Но черные силуэты домов и бугры блиндажей не показались девушке интересными. Она залюбовалась звездами, лившими ровный свет на реку и остров… Ночь прошла спокойно. Делегатам отвели самое удобное и безопасное помещение — подвал, «киношку». Утро же началось сильным обстрелом. Гитлеровцы били в упор по флагу на башне. Весь гарнизон по тревоге вышел на боевые позиции. От водонапорной башни отлетали куски бетона, спаянного с железом. Снаряды рвались с визгом и лязгом. Похоже было, что над крепостью взад и вперед ездит немазаная телега. Осколком перебило древко. Флаг, прочертив воздух, упал на землю. Все, кто наблюдали этот удивительный бой, затаясь за стенами, невольно охнули. В ту же минуту крупными прыжками к флагу устремился Степан Левченко. Он сделал это, не ожидая команды. Просто не мог видеть сброшенным стяг, который перед тем сам водрузил. Размахивая над головой обломком древка с красным полотнищем, Левченко подбежал к водонапорной и исчез за ее квадратной дверью. Весь верх бетонной башни был разбит снарядами, крышу снесло. Торчали стропила и перекрытия. В верхнем окошке показалось добродушное лицо Степана. Он осмотрелся и, видимо, решил, что такая высота недостаточна для флага. Спустя несколько минут Левченко увидели на самой вершине башни. Флаг был засунут у него за пояс. Руками он держался за стропила, а ногами нащупывал, твердо ли держатся остатки бетона. Наконец он подтянулся и грудью лег на перекрытие. На землю падали щепки и куски камня, отбиваемые пулями. Степан действовал осмотрительно и спокойно, точно не было под ним высоты и вокруг не роился злой свинец. Левченко прикрепил древко. Полюбовался своей работой. И снова спустился в башню. Загремели немецкие батареи с Преображенской горы. Казалось, огневой налет длился бесконечно. Вдруг все звуки разгоревшегося боя перекрыл удар огромной силы. Он возник и тотчас угас. Но в следующее мгновение разрывы снарядов не казались уже такими оглушительными. Эхо долго еще отзывалось где-то на берегу. Люди смотрели на вышку и не узнавали ее. У подножия лежала бесформенная груда железа: это упал с высоты водяной резервуар. Верхушка башни сместилась и грозила вот-вот обрушиться. Оставлять ее в таком виде было нельзя. К башне поспешили подрывники. Они заложили тол. Вскоре на том месте, где стояла водонапорная башня, дымилась гора бетона… Так во второй раз упал флаг, но уже вместе с вышкой. Делегаты следили за ходом боя. Не прошло и получаса, как красный флаг появился в другом месте, посреди крепости, на колокольне. Его поднимал не Степан, а добрый десяток добровольцев. Они же следили и за тем, чтобы был порядок. Флаг, пробитый осколками, тотчас заменялся новым. Гитлеровцы поутихли. Нервы у них успокоились, а может быть, просто не хотелось делать напрасную работу. Красное полотнище развевалось над островом. У бойцов было светлое, хорошее чувство. Свой праздник они встречают как должно. Вечером в подвале прощались с делегатами. Настоящего концерта художественной самодеятельности не было. Алла Ткаченко пела свои любимые песни, про рябинушку, про стежки-дорожки. Девический голос переливался под мрачными сводами, наверно, впервые за всю их историю. Потом пели вместе «Варшавянку». Молодые бойцы не знали слов. Кировский прокатчик говорил слова каждого куплета, и десятки голосов подхватывали их:
Г Л А В А IX СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Как только прочный лед покрыл Неву, крепость окружили рогатками с колючей проволокой. Изнутри к стенам приставили деревянные лестницы, чтобы в случае штурма быстро занять верхние отметки. По ночам выдвигали вперед дозоры. Усилили дежурства на наблюдательном пункте. С башни Головкина в стереотрубу открывался широкий обзор. Белые пространства со всех сторон подступали к Орешку. Когда Иринушкину доводилось бывать на наблюдательном пункте, он надолго припадал к окулярам. Смотрел на озеро, в даль, затянутую дымкой. В сумеречные часы поблескивали огоньки, вероятно, фары, не пригашенные водителями, или костры на льду. По ладожской дороге шли машины в Ленинград и из Ленинграда. Где-то там, на озере, Алла Ткаченко. Что она делает сейчас? Переправляет раненых на Большую землю? Принимает грузы? А может быть, пишет письмо к нему, в Орешек? Ну, от Аллы Володя сегодня письма не получит. А от мамы — непременно. Он напишет в ответ целый лист. Пусть мама удивится большому письму. Нынче у пулеметчика очень важный день. Обязательно нужно кому-то рассказать об этом. По, траншеям, прорытым через двор, Володя направился в сторону цитадели. Глинистые стенки осыпались. Местами их прихватило ледком, а верх — на уровне глаз — запорошило снегом. И тут, между льдом и снегом, на узенькой черной землистой полоске проблеснула зеленая ниточка. Нет, не ниточка, стебелек. Травинка. Вот и другая, третья. С лета сохранили они зелень, только замерли на холоду. А если отогреть их в ладонях, совсем оживут… В траншее тесно. За поворотом Иринушкина нагнал Воробьев. Они пригнулись и побежали к Светличной башне. Перешагнули через ступеньки и открыли дверь в санчасть. Шуру они застали за необычным занятием. Она держала на коленях большую дымчатую кошку и зашивала ей щеку. Кошка вырывалась, фыркала. Шуре приходилось крепко прижимать ее локтем. — Что с Машуткой? — спросил старшина. — Осколком резануло, — ответила санитарка, работая иглой. — Давай помогу, — предложил Воробьев и взял кошку на руки. Она вся дрожала и смотрела на людей жалобными глазами, зрачки ее расширились от боли. Кошка Машутка была любимицей гарнизона. Назвали ее по имени другой Машки, лошади, которая в первые месяцы жила на острове, но не прижилась. За белой Машкой ухаживали как могли. С правого берега доставляли сено. Устроили ей стойло в бывшем пожарном депо. Но лошадь никак не могла привыкнуть к обстрелам. Как-то шрапнелью сорвало дверь с депо. Машку ранило в грудь и голову. Лошадь помчалась во двор, стала метаться, ничего не видя залитыми кровью глазами. С тех пор при каждом обстреле она выбегала из депо. Бойцам приходилось ловить ее, чтобы увести в конюшню. По первому льду неуживчивую Машку отвели на материк. Безраздельной любимицей островитян — так нередко называли себя защитники Орешка — стала кошка Машутка. Никто не знал, как она появилась в крепости, — то ли и раньше жила здесь, то ли принес ее кто-нибудь из Морозовки. Умная, ловкая кошка отлично освоилась с обстановкой. О ее похождениях бойцы передавали друг другу немало рассказов. Машутка умела «дразнить» гитлеровцев. Лениво, с полным безразличием крадется она по стене. Только застучала очередь автомата, кошка уже спрыгнула вниз. Очередь стихла, и она опять на стене до новой очереди. Особенно интересно было смотреть, как Машутка путешествует по крепости. В помещении бегает спокойно, лижет руки людям, хватает коготками за сапоги, а то с разбега прыгнет иному бойцу на спину, доберется до плеча, свернется теплым комочком, мурлычет. Но чуть только Машутка подошла к двери, беспечности словно не бывало. Вся напружинится, покрутит мохнатой головой и прыжком — в траншею. По щели движется неторопливо, хвост выгибает. Щель заканчивается в нескольких метрах от кухни, постоянного местожительства Машутки. Эти метры она пролетала стремглав. Вообще же Машутка старается при сильном шуме отсиживаться на кухне. Но если уж попадет под огонь, очень точно выберет необстреливаемую сторону. Несмотря на осторожность, дымчатый зверек дважды был ранен. Сейчас осколок мины в третий раз сильно поцарапал Машутку, перебил усы и повредил щеку. Санитарка зашила рану, наложила бинт и отпустила кошку. Она попробовала содрать повязку, замяукала и побежала на кухню. Шура, улыбаясь, посмотрела ей вслед. — Зачем пришли-то? — повернулась санитарка к пришедшим: — Здоровы? Не ранены? — Ничего нам не делается, — махнул рукой старшина, — а тебе помочь не надо ли? Вон — корзины с бельем. Сушить будешь? Могу на двор вытащить. — Успеется, — решила Шура, — отогрейтесь. На дворе-то, вроде, пургу разводит. Они сели за стол, накрытый залатанной простыней. В самодельное окошко с неоструганным переплетом был вставлен осколок стекла. На него были наклеены бумажные полоски. Сквозь этот осколок виделось, как с озера метет и охапками бросает снег. В развалинах выл злой-презлой зимний штормяга. — О чем будет разговор-то? — насмешливо спросила Шура. Оба промолчали. И потому заговорила она сама: о родной Вологодщине, о Кубенских озерах. А какие леса на Сухоне! Таких лесов, поди, нет нигде. Медведя или лося можно повстречать запросто. И реки там текут чудно: с середины в разные стороны. Два низовья у такой реки. Санитарке показалось, что слушатели не верят ей. Она принялась горячо уверять, что так бывает: значит, на водоразделе река. Кому же еще и знать вологодские чащобы, как не ей, леспромхозовской учетчице. Она по этим лесам с деревянным метром-складешком все тропы исходила. — После войны-то приезжайте, покажу я вам наши чудны́е реки. Санитарка сказала эти слова очень радушно. Она не сомневалась, что война скоро кончится и они останутся живы-здоровы, и такое свидание возможно. — Знаешь, Шура, — сказал пулеметчик, — у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось восемнадцать. — Милый ты мой, — санитарка растроганно чмокнула Иринушкина в щеку, — подумать только: восемнадцать! Володя вспомнил, как праздновал свое семнадцатилетие в прошлом году. Пришли школьные товарищи. Мать напекла вкусных пирогов. Было весело. Могло ли тогда прийти в голову, что следующий день рождения доведется встречать на войне? Вот так наступило совершеннолетие. Зима. Вьюга. Рвутся снаряды. Взахлеб стучат пулеметы. — Чьи поздравления-то хотел бы получить сегодня? — спросила Шура. — От матери. Она у меня хорошая старушка, — ответил Володя. И перед глазами его возникло милое лицо в морщинках, хлопотливые руки. Он помнил эти руки с тех пор, как начал помнить что бы то ни было. Он привык их видеть всегда в работе. А работать приходилось много, особенно после смерти отца. — Поздравление от мамы непременно будет, — продолжал Иринушкин. — Вот приду в землянку, а там меня ждет маленький белый конвертик. Устиненков с утра за почтой уехал…
Володя возвращался в свою землянку не траншеей, а для сокращения расстояния — прямиком через двор. Гарнизонный почтарь Устиненков давно уже приехал с правого берега. Раскрытая сумка лежала на столе. — Женька! — крикнул Иринушкин. — Давай мне письмо. — Письмо? — спросил Устиненков. — Никакого письма тебе нет. Володя задохнулся от неожиданности. Он притих, сел на нары. Впервые в жизни мать не поздравила его с днем рождения.
Г Л А В А X ПОСЛЕДНЯЯ ПОЧЕСТЬ

Часто в сторону ледовой дороги летали самолеты, наши, краснозвездные, и вражеские, со свастикой на крыльях. Они вступали в бой; подбитые, факелами освещали серое, нависшее небо. С башен крепости бойцы смотрели на воздушные сражения и, когда в озеро ввинчивался «мессершмитт» или «хейнкель», провожали его радостным воплем. Еще чаще разгорались артиллерийские сражения за единственную дорогу из осажденного Ленинграда. На острове научились считать секунды, отделявшие звук орудийного выстрела от разрыва снаряда; выстрел в Шлиссельбурге, разрыв в крепости. По этим секундам знали, откуда бьют батареи: из самого города, с Преображенского кладбища или с дальней высотки. Если же снаряды прессовали воздух над островом и взрыв не был слышен, это значило, что под огнем ладожская дорога. Тогда Орешек, не медля, всей своей артиллерией обрушивался на врага. В громыхающие, ревущие, жаркие минуты такого поединка солдаты островного гарнизона забывали о себе. Они как будто сливались со своими орудиями в одно целое. Из всех мыслей, из всех чувствований оставалось единственное, непреодолимое, страстное: остановить занесенную руку злодея. Грудью, пусть даже жизнью своею защитить детей и женщин, которые сейчас, наверное, гибнут на ладожском льду. Нет, нет, это не просто слова о единой, поглощающей человека мысли, о солдатском самоотвержении… Андрей Зеленов давно уже приметил немецкое дальнобойное орудие в роще, которая на карте значилась под именем Овальной. Это орудие стреляло редко. Артиллерист выслеживал его так же, как охотник идет по следу зверя. Чутко, настороженно, неотступно. Каждая вспышка, белый отблеск в дневную пору, алая зарница вечером, каждый выстрел, характер его звучания говорили о многом, отмечались цифрой, значком под слюдой планшета. Андрей без излишней поспешности, основательно (он все делал так) подбирал данные для пристрелки. Когда орудие из Овальной рощи заговорило в полную силу, Зеленов решил бить по нему с открытой позиции. Он велел выкатить пушку на мысок у подножия Флажной башни. Отсюда легче было достать фашистов. Андрей лежал на бугорке у лафетного колеса и следил в бинокль за тем, как ложились снаряды. Он дал наводчику две или три поправки. Зеленов был молодым командиром орудия, но понимал, что волноваться и раздумывать можно только до первой команды. Потом ты уже не просто человек, а сгусток нервов и воли. Обстановка меняется постоянно, и на то, чтобы принять решение, у тебя доли секунды. Когда пушка плотно стала на каменистую почву мыса, Андрей еще видел голубизну льда, и галку, которая бочком подскочила к промоине, и удивительной красоты иней на валунах башни. Иней походил на тонкую серебряную кольчугу, казалось, тронь пальцем — зазвенит. Но затем все исчезло. Мозг отключил то, что сейчас было не нужно и могло бы помешать видеть единственное и главное, укрытое за деревьями рощи. Там внезапно полыхнуло, облака над деревьями осветились. Андрей крикнул наводчику: — Ловко! Но бой только начинался. Весь берег, занятый врагом, зашевелился, запыхал дымками. На перекрестье прицелов многих орудий лег дерзкий островной мыс. В свой черед стволы правого берега поддержали Орешек. Лед у мыса был разбит. Полая вода бурлила. Земля вокруг пушки почернела, снег начисто исчез. Краска на стволе орудия заметно изменила цвет. Приведенный в движение, непрерывно сотрясаемый воздух прижимал веки к глазам. Зеленов командовал не голосом, а взмахом руки. Поднята рука — внимание! Опущена — выстрел! Ствол откатывается, а подносчики снова и снова тащат тусклую сталь. Командир расчета спешил. Он знал, что пушка разогрелась; еще минута, другая — и стрельбу придется прекратить. Взмах — выстрел! Взмах — выстрел! Андрей не понял, что произошло. Он не терял сознания, и вокруг, кажется, все было по-прежнему. Но сам он лежал не около пушки, а в стороне от нее и обеими руками упирался в землю. Он перевернулся, сел. Не было боли. Сунул руку под полушубок и вынул ее красную, намок даже отвернутый на рукаве мех. Тогда он рванул крючки полушубка. И сразу же запахнул его. Даже оглянулся: не видел ли кто-нибудь то, что увидел он. Андрей сразу сообразил, зачем здесь Шура со своей большой брезентовой сумкой и почему она теребит его плечо. Но тут же ярость со всею силой последнего чувства овладела им. Почему молчит орудие? Он хотел поднять руку, но не смог и закричал: — Огонь! Андрей услышал свой голос и поразился его невнятности, слабости. Шура, выбиваясь из сил, поднимала Андрея на носилки. — Помогите же мне, — просила она артиллеристов. Раненый отвел ее руки. — Отойди! Я все понимаю. Отойди! И снова закричал: — Огонь! Он шарил вокруг окровавленными руками, искал бинокль. — Огонь! В нем еще пламенело неутолимое, огромное, превыше жизни, стремление последним усилием настигнуть врага. Возможно, он отдавал себе отчет, что может прожить еще несколько минут, но только в напряжении боя, и дороги ему были эти минуты. Артиллеристы же говорили, что их командир хотел умереть с этим словом: — Огонь!
__________
Хоронили Андрея на дворе цитадели. Для гроба выломали доски из пола старой тюрьмы. Рыть яму было трудно. Земля не поддавалась лопатам: на большую глубину ее связывала окаменевшая известь. Вероятно, когда строили крепость, каменщики замешивали здесь свои составы. Комендант велел пробить в земле шпур и заложить динамитный патрон. Разворошенную землю разгребали лопатами, руками. Во множестве попадались белые, источенные временем кости. Сколько веков пролетело над ними? Кто сложил голову на этой земле? Работные люди, что возвели высокие стены? Солдаты, отбившие остров у шведов? Революционеры, узники государевой темницы? Отныне здесь будет лежать и друг наш, Андрей, солдат Великой Отечественной войны, угрюмый молчун с застенчивой улыбкой. Гроб на плечах несли артиллеристы. Они же опустили его в пропахшую порохом могилу. Долго с обнаженными головами стояли и смотрели, как поземка заметает низенький холмик и на нем — мятую шапку-ушанку с красноармейской звездочкой. Рядом, на крепостной стене, сложенной из грубо обтесанных глыб, на двух болтах еще держалась мраморная доска. Ее разломило пополам. Все же можно было прочесть, что именно здесь 8 мая 1887 года казнен революционер Александр Ильич Ульянов. Неподалеку из земли торчал спиленный столб, накрытый маленькой железной кровлицей, — следы виселицы. Возле могилы раскинула темные безлистые ветви небольшая яблоня. Бойцам известно было предание о том, что это дерево посадили в начале века заключенные в крепость народовольцы. В эту минуту прощанья на земле, казалось, осененной живым дыханием истории, все слова были лишними. Но то, что сказал комиссар, тронуло сердце каждого. Он положил руку на ветку дерева, посыпался снег. — Придет время, — сказал Марулин, — и мы с вами увидим, как зацветет эта старая яблоня. Иринушкин смотрел на холмик и думал об Андрее, которого не любил при жизни, думал о том, как кончается человек. Пулеметчик оглянулся. Бойцы стояли опустив головы. Ни у кого не было слез на глазах. К холмику подошла Шура. Она нагнулась, чтобы смахнуть снег с шапки, лежащей на мерзлых комьях земли. Но Володя видел, как она гладит шапку и не в силах отнять руку от мокрого меха — цигейки. Шура тоже не плакала. Позже все поднялись на стену и, стоя, не оберегаясь, трижды выстрелили по фашистским траншеям. Стреляли из винтовок, автоматов и пистолетов. Трижды распороло сухой холодный воздух. Раскаты ослабевали вдали. Прозвучал прощальный салют. Последняя тебе солдатская почесть, Андрей.Г Л А В А XI БОЕЦ СТЕПАН ЛЕВЧЕНКО

В морозный полдень над прибрежными лесами поднялась радуга. Многоцветным мостом висела она в воздухе. Неурочная гостья радовала глаз, но и прибавляла цепкости холоду. Морозом сплотило снег в цельное сверкающее полотно. Пулеметчикам случалось оставлять на стальном стволе кожу с ладоней. — Жутко! — пробормотал Геннадий Рыжиков, ежась в Шереметевском проломе. — Посматривай! — откликнулся Иринушкин и дал очередь, чтобы прогреть пулемет. На холоде каждый звук приобретал особенную отчетливость. Вдруг над белыми полями, над синей лесной кромкой прогремел сильный человеческий голос: «Внимание! Внимание! Жители города Шлиссельбурга. Товарищи! Передаем привет от ваших родных и знакомых из Морозовки, Шереметевки, Щеглова. Мужайтесь, товарищи! Не сгибайтесь под сапогом оккупантов. Не выполняйте их приказов. Час вашего освобождения близок!» Мгновение тишины. И снова: «Мужайтесь, товарищи!» Изумленное безмолвие длится минуту за минутой. Затем разражается такая стрельба, что сразу меркнут дневные краски. Противник осыпает крепость свинцом. Но над дикой свистопляской, заглушая ее, зовет и рокочет все тот же голос: «Мужайтесь, мужайтесь!» Радуга по-прежнему выгибает проложенную в высоте легкую дорогу. Крепости не страшна никакая свистопляска. Радиостанция укрыта в подземелье одной из башен. Репродукторы вынесены на стены. Один собьют, полдюжины других работают. Бойцы посмеиваются. — Вот это музыка, вот это громогласие! — одобряет Иван Иванович Воробьев. — Тю! У немцев не выдержали нервочки. Какую истерику закатили, — потешается Степан Левченко. — Так мы же устроим им тарарам! Что именно называл Степан словом «тарарам», сказать трудно. Только он и действительно задумал немаловажное дело. Впрочем, не он один задумал. Марулин долго совещался с Левченко. Все знали, что готовится сюрприз гитлеровцам. Но какой, не было известно никому. Наконец настал день, когда Степан потребовал у Ивана Ивановича бумагу, кисти, краски. Старшина, впервые за время войны получив такую «канцелярскую» заявку, не мог не выразить своего удивления. — Что ты, Степа, несообразное городишь. Ведь знаешь, что магазина школьных принадлежностей поблизости нет. Где я достану тебе всю эту справу? — Верно, — согласился Левченко, — придется обойтись своими средствами. И начал с помощью старшины «обходиться своими средствами». На старом складе — чего только там не было! — разыскали кипу картонных листов. Степан сказал, что это еще лучше, чем бумага, и «вполне соответствует». Краску заменили ведерком жирной сажи, которую наскребли на кухне. А вот с кистями дело обстояло совсем плохо. Левченко уже примерился было макать пальцы в сажу, но Воробьев спросил: — Конский волос годится? — Сойдет. — Тогда и искать нечего. Машка тебе в конюшне хвост оставила. Иван Иванович имел в виду пучки волос, валявшиеся повсюду в бывшем пожарном депо: у Машки, в самом деле, от страха сильно лез хвост. Комиссар долго хохотал, осматривая и краску, и в особенности — перетянутые бечевой кисти. Он сказал: — Действуй, Степан. И Степан без промедления начал действовать. О том, что у Левченко талант художника, в гарнизоне было известно. Он умел ловко разрисовывать листочки почтовой бумаги. Бойцы ему покоя не давали, упрашивая, чтобы он нарисовал на письме голубку, или звездочку, или хитро изогнутую ветку. Но в монументальном жанре Степан работал впервые. Впрочем, работал уверенно, не сомневаясь в успехе. — Не тревожьтесь, — успокаивал он Марулина, — я ихний вкус понимаю. Мастерскую Левченко оборудовал в крайней камере так называемого Народовольческого корпуса. Поставил там печку-«буржуйку». Картон расстелил на полу. До сумерек ползал по нему, как жук. В мастерскую никого не пускал. Любопытные могли только помешать ему. Произведение кисти Левченко выставили во дворе. На большущем листе была изображена могила с деревянным крестом. На крест косо надета каска с фашистской свастикой. Художник объяснил, что картина еще не закончена. Требуется надпись, обращенная к гитлеровским солдатам: дескать, вот что ждет вас в России. По гарнизону из землянки в землянку передавался запрос: — Кто маракует по-немецки? Иван Иванович кстати вспомнил, что Иринушкин как-то похвастался ему «пятерочным» аттестатом зрелости. Кругом — пятерки, значит, и по иностранномуязыку пятерка. А вдруг в школе проходили не немецкий язык? Старшина побежал в Шереметевский пролом и все растолковал Володе. Пулеметчик тут же на клочке бумаги, положенном на холодный валун, мусоля карандаш, вывел: «Deutscher Soldat. Das wart dich in Rußland!»[18] Левченко огромными буквами перенес эту фразу на картон и побежал искать Валентина Алексеевича. Марулин одобрил плакат, сказав художнику свое любимое словцо: — Действуй! Людям не терпелось испытать действие плаката. К картону, на котором еще не просохла сажа, приладили веревки. Прогибающийся плакат торжественно понесли к крепостной стене и перевалили его на ту сторону. Что началось! Пули посыпались горохом. Затявкали минометы. Над стеной всплыли облака каменной пыли. По команде Левченко натянули веревки и вытащили клочки картона. — Они же не понимают наших шуток, — обиженно заключил художник, разглядывая останки своего произведения. Валентин Алексеевич пятерней растрепал Степанов чуб. — Считай, что гитлеровцы выдали нам расписку в прочтении. Прочли — и не понравилось. А мы опыт повторим. Так, Степан? — Есть, повторить, товарищ комиссар! — откозырял ободрившийся Левченко. Опыт повторили, но совсем на особый манер. Художник сутки напролет проработал в камере-мастерской. Ночью сжег не одну коптилку. К утру на новом листе картона был изготовлен карикатурный портрет Гитлера. Под козырьком фуражки — клок волос, два черных клочка под носом. Как есть Гитлер. Но всмотришься — под фуражкой череп с пустыми глазницами. Карикатуру водворили на стене, на прежнем, обстрелянном месте. В крепости насторожились. Не раздалось ни единого выстрела. Степан, выждав время и убедившись, что стрельбы не будет, скромно сказал: — Господа фашисты оценили мой талант, — и весело шмыгнул носом, — но если бы они знали, что мы изобразили ихнего фюрера Машкиным хвостом!.. Целую неделю висел на стене Адольф Гитлер. И всю неделю бойцы потешались. По их требованию Левченко и Воробьев снова и снова показывали в лицах сценку, как озадаченный командир гитлеровского батальона прибежал к командиру полка в Шлиссельбурге. Степан с огромным успехом исполнял роль глуповатого и смертельно перепуганного младшего офицера, а Иван Иванович — роль важного животастого полковника. — Герр оберст, — докладывал командир батальона, — на стене крепости появился портрет фюрера. — Хайль! — орал полковник. — Эти варвары наконец одумались? — Не могу знать. Но это есть карикатура. — Стрелять! — В фюрера?! — спрашивал подчиненный, и рука его дрожала у козырька. — Не стрелять, болван! Это «герр оберст» и «стрелять — не стрелять» обошло весь островной гарнизон и постоянно сопровождалось всеобщим весельем. «Воспитание противника» продолжалось и впредь. Но занимались этим специалисты из политотдела дивизии. Что касается Степана, то он был занят другими делами. Его назначили хлеборезом. Пожалуй, это была самая трудная должность в крепости. Перед тем как решить вопрос о назначении, комиссар и старшина все обсудили. — Нужен человек, которому бы верили абсолютно, — пояснил Марулин. — Понимаете, Иван Иванович? Абсолютно! Чтобы и тени подозрения не могло быть. Ведь речь идет о хлебе. Когда старшина назвал Левченко, комиссар согласился: — Правильно, подойдет. Но Степан заупрямился. С Марулиным не поспоришь, а Ивану Ивановичу можно было выложить все напрямик: — Так я же боец. Я винтовку с оптикой осваиваю. А вы, товарищ старшина, мне в руки весы суете. Боец я или не боец? — Степа, — укоризненно пробасил Воробьев, — несообразное говоришь. Ведь — хлеб! Пришлось Левченко дважды в день отправляться в каптерку. С унылым видом надевал он белую тужурку, засучивал правый рукав и на чистой ровной доске разрезал буханки на маленькие аккуратные кусочки. Бойцы принимали от него эти куски. Никогда никаких споров не было. Все шло бы гладко. Но случилось, что телефонист принял из штаба дивизии приказ такого содержания: «Назначаются соревнования лыжников. К семнадцати ноль-ноль сообщить состав вашей команды. Обеспечить ежедневную явку для тренировок». Это был один из тех приказов, которые обсуждаются, и очень горячо. «Война войной, — решили бойцы, — а спорт делу не помеха». Команду, которой надлежало защищать честь крепости, комплектовали очень заботливо. Капитаном ее стал гарнизонный богатырь Евгений Устиненков. Он сам подбирал лыжников. Устиненков решительно заявил, что без Левченко в первой пятерке за результат не ручается. Степан обрадовался верной возможности сбыть с рук хлопотную обязанность хлебореза. Но у Валентина Алексеевича был совсем иной взгляд на это дело. Он Левченко в лыжники произвел, а из хлеборезов не разжаловал. — Тю! — удивился Степан. — Так я же тренироваться не смогу. — Какое уж тут соревнование без тренировки, — сказал комиссар. — Ты вот что сделай. Утром раздавай хлебные порции на весь день и валяй на правый берег, тренируйся себе на здоровье. — Товарищ комиссар! — начал было боец. — Лев-чен-ко! — предупреждающе отчеканил Валентин Алексеевич. Поворот налево кругом, и зашагал наш художник, он же хлеборез, он же лыжник. Команда ежедневно до рассвета уходила на правый берег для тренировки, а возвращалась вечером, тоже в темноте. Как-то несколько дней спустя Марулин зашел на кухню к завтраку. Он обратил внимание на то, что на столах лежат слишком маленькие куски хлеба, и спросил бойцов: — Левченко выдал вам порции на весь день? — Никак нет, только позавтракать. — А обедать с чем будете? — К обеду хлеборез придет. — Как придет? — Да так, как и всегда ходит. Марулин, рассерженный, покинул кухню. В двенадцать тридцать, незадолго до обеда, он отправился к воротам Государевой башни. Отсюда хорошо виден весь берег. Ждать пришлось недолго. Из-за крайнего дома в Шереметевке вышел человек в маскировочном халате и спустился на лед. В дневное время переход по льду, на глазах у противника, считался невозможным. Но человек продвигался уверенно и быстро. Он бежал пригнувшись, вдруг падал. И тогда Марулина пронизывало чувство страха. Ему казалось, что храбрец в маскхалате не поднимется. Но тот уже бежал к острову. А пули звонко царапали лед, сбивали голубые бугорки, впивались в снег. У входа на кухню Степан встретил комиссара. На лбу злополучного хлебореза выступил пот. — Лев-чен-ко, — почти шепотом произнес Валентин Алексеевич, — так-то выполняете мое приказание? Степан пыхтел, неповоротливый и толстый в халате поверх шинели. Полы были подоткнуты за ремень. — Виноват, товарищ комиссар. — Ну, признаете свою вину, а что толку? — Разрешите доложить… — Левченко принялся объяснять поспешно и сбивчиво: — Так что очень уж жалко ребят. Пробовал я им хлеб давать на день. Все сразу съедают. К обеду ничего не остается. Что уж тут… Никак невозможно, товарищ комиссар. Марулин смотрел на широкое лицо смельчака, на его взмокший от волнения чуб. Вот он, простой души солдат. Он жизнью, жизнью рискует, потому что ему «ребят жалко» и иначе «никак невозможно». Хитрый Левченко по выражению лица Марулина быстро смекнул, что ветер подул в его сторону, и зачастил скороговоркой: — Так я же, товарищ комиссар, враз. Хлеб раздам — и опять на материк. — Под пулями? — Это уж как придется. Валентин Алексеевич понимал, что по всем уставным правилам он должен сейчас же, не медля покарать ослушника, может быть, арестовать его на пару суток. Но не мог он этого сделать. Только сказал: — Ты на льду-то осматривайся…
__________
Прошла неделя. В Шереметевском проломе пулеметчики «караулили» фашистов. Но и на бровке, и рядом с нею было пусто. Видать, не находилось охотников на морозе вылезать из землянок. Рыжиков и Иринушкин, тесно прижавшись плечами, сидели за железным щитком и разговаривали о событиях этих дней. Старшина уехал в Морозовку на базовый склад. Чего-то привезет? У минометчиков двое парней заболели цингой. Болезнь паршивая, уберечься трудно. Посочувствовали поражению лыжников. Команда крепости заняла всего третье место. А Степан в личном забеге и на третье не вытянул. Жаль, конечно. Ну, наши лыжники еще себя покажут. — Гляди, гляди! — вдруг встрепенулся Рыжиной. — К мосткам ползет кто-то. Иринушкин присмотрелся. — Никто не ползет. Мерещится. Заснеженные холмы впереди были истыканы трубами. Дым из них поднимался прямо, быстро растворяясь в воздухе.Г Л А В А XII ГОРЕ ГОРЬКОЕ

Днем с наблюдательного пункта передали по всем телефонам: — Со стороны Синявина подходит бронепоезд. И тотчас — команда: — К бою! Бронепоезд приблизился, насколько позволяло полотно, выбросил для упора железные лапы и сразу открыл огонь по крепости. Он бил снарядами небывало крупного калибра. Силою взрывов камень превращался в песок. Островок сотрясался, как в лихорадке. Пыль густо клубилась, ползла над землей. Бойцы на постах надели противогазы, иначе дышать невозможно. Бронепоезд продолжал обстрел. В сгустившемся воздухе взрывные волны стали зримыми. Они походили на морские, но двигались отвесно, опрокидывая людей, разбрасывая патронные ящики. Загорелся склад мин. В первую минуту все, кто находились поблизости, кинулись прочь. Тлела рогожа. Огонь змеился по бревнам. — Да что вам, жизнь не дорога? — закричал старшина Воробьев и побежал к складу. Взрыв минного запаса уничтожил бы все живое на десятки метров вокруг. Иван Иванович затоптал рогожу, обжигая руки, разметал накат. Он выхватывал мины и передавал их подбежавшим бойцам. Другие гасили пламя снегом, землей. Огневой налет длился всего несколько минут. Но какие это были минуты! Люди перестали узнавать друг друга. Запорошенные землей, они ходили как в тумане. Иринушкин долго осматривался, прежде чем заметил Рыжикова. Он согнулся, обхватив голову руками. Володя растер ему лицо снегом. — Что ты, Генка, что ты? — Ох, горе горькое, горе горькое, — твердил Рыжиков одну эту фразу. К Королевской башне ковыляли раненые. Иных несли на шинелях. Недалеко от входа в санчасть на боку, с подогнутыми ногами лежал боец. Лицо закрыто шапкой. Казалось, отдыхает солдат. Те, у кого он был на пути, шагали через него… Ночью Шура вместе с двумя добровольцами-санитарами повезла раненых в госпиталь. Вернулись только через день. На плечах тащили мешки с хвоей и ветками голубики. Санитарка бережно несла маленькую фарфоровую банку. Бойцы, ездившие вместе с Шурой, рассказывали, как она заставила их бродить по лесу, набивать мешки зеленью. Сама же тем временем штурмовала начсандива. Правда, отвоевала она у него немного: четыреста граммов аскорбиновой кислоты и обещание при первой возможности прислать еще. На берегу бойцам порядочно досталось от Шуры. Она рассортировала собранное ими добро, нашла, что половина непригодна и заставила еще раз прогуляться в лес. Ни мороз, ни усталость не смягчили ее сердце. Тогда бойцы прямо сказали, что в лес больше не пойдут. Санитарка не стала спорить. Она затянула шинель поясом, перекинула пустой мешок через плечо и пошла сама. Конечно, солдаты догнали ее. Всю дорогу ворчали, ругались, но не отставали ни на шаг. «Это зверь, а не сестренка», — жаловались они. Но Шурино «зверство» этим не кончилось. Все было впереди. Из хвои, сдобренной сухой голубикой, она сварила какую-то бурду. Каждый день санитарка обходила всю крепость, посты и позиции. Простреливаемые места быстро перебегала, пригибаясь к земле. Даже при таких перебежках Шура умудрялась не расплескать темное варево в солдатском котелке. Достигнув позиции, она снимала крышечку с котелка, доставала из сумки алюминиевую ложку и приказывала каждому по очереди: — Принимай дозу-то. Варево было противное. Пили его неохотно, говорили санитарке: — И так солоно приходится, а тут еще ты пристаешь. — Принимай, — настаивала сестренка. Пили, морщились, плевались. Шура посмеивалась и шла на соседний пост. Мало того, она еще устроила поголовный медицинский осмотр всего гарнизона. Тем, у кого ноги оказывались опухшими, и в особенности если на опухоли проглядывали черные точечки, доза удваивалась. К ней добавлялся драгоценный витамин. Солдаты отнюдь не преувеличивали, когда говорили, что им солоно приходится. Действительно, было трудно. Тяготы боевой жизни в осаде переносились по-разному. Одни, как Степан Левченко, не переставали шутить. И правда, с бодрой шуткой и с песней жилось легче. Другие мрачнели, становились вялыми, ко всему безразличными, заметно уступали недугу. Хуже всех выглядел Геннадий Рыжиков. Он перестал бриться, волосы на его серых щеках свалялись в нечистый войлок. Случалось, он не умывался по утрам. На лице его полосами лежала копоть. Иринушкин не выносил такого вида. Он отсылал Геннадия из пролома умыться. Тот нехотя брал в пригоршню снег, растирал им копоть и становился еще грязней. — Не пущу к пулемету! — сердился первономерной. Рыжиков уходил. Возвращался красноносый, сумрачный, но вымытый. По ночам Геннадий бредил. Спал он на нарах рядом с Володей. Иногда Володя не выдерживал, будил его. Рыжиков в испуге вскакивал, спрашивал: — Тревога? Убедясь, что тревоги нет, засыпал, прежде чем голова прикасалась к соломе на нарах. И все начиналось снова. Геннадий всхрапывал, стонал. Он звал дочку Фенюшку. Кричал в голос. Иринушкин натягивал шинель до ушей, старался не слушать. Хуже было, когда Рыжиков не спал. Он лежал и смотрел в темный угол землянки. Помолчит и повернется к Володе. Иринушкин давал выговориться приятелю, знал: иначе не успокоится. Говорил он всегда об одном: о жене, о дочке, о том, что она, должно быть, подросла за это время, стала бóльшенькой. — Бывало, я уеду на шлюпке, — рассказывал Геннадий, — славная у меня шлюпчонка, «Касаткой» звать, уеду в Шереметевку. А Фенюшка соскучится — чего тятьки долго нет? Она меня все по-деревенски тятькой кликала. Ну, мать объяснит: скоро, мол, приедет… Я уж знаю — ждет Фенюшка. Весла во как забрасываю, водица поет за кормой. А в лодке у меня непременно что-нибудь для моей баловницы припасено: живой ежик или рыбешка в баночке… Подхожу к дому, с крыльца слышу Фенюшкин голосок. Дверью стукну, топочут маленькие ножки, дочка бежит ко мне… А сказывал я тебе, что у нее зубки маленькие-маленькие и со щербатинкой?.. — Рыжиков отворачивался от слушателя, разговаривал не с ним, сам с собою: — Как же я тогда спешил домой! В полчаса перемахну через Неву. Полчаса! Нынче от берега до берега разве река подо льдом течет? Пропасть. Как есть пропасть. Не перешагнешь через нее и на крыльях не перелетишь… Ох, уж эта война, беда неминучая. Случалось и так — Рыжиков внезапно слезет с нар, начнет что-то обирать вокруг, заспешит, засуетится, а потом махнет рукой, свернется клубком, накроется с головой, затихнет. Горе товарища трогало Иринушкина. Да разве одного Геннадия война обездолила? Чем тут поможешь? Что объяснишь? Далек нынче путь от одного берега реки к другому. Без конца далек. Только через победу и лежит этот путь. А победы пока не видать. От мысли о товарище Володя переходил к мысли о себе. Ему все-таки легче. Самый родной ему человек — мать — где-то здесь, рядом, близко, на нашей земле. Почему же нет писем из Ленинграда? Да ведь почта недаром зовется полевой. От бугорка к кочке пробирается. И опасности грозят теперь не только людям, но и письмам. Где-то оно идет к нему по заснеженным полям, письмо, написанное материнской рукой. Пулеметчик заснул беспокойным сном. Ощутив, как кто-то поправляет на нем шинель, Иринушкин открыл глаза. Он увидел Валентина Алексеевича, встал, затянул пояс. — Слушаю, товарищ комиссар. Пулеметчик приготовился получить особо важное задание, раз Марулин не вызвал его к себе, а сам пришел в землянку. Валентин Алексеевич негромко проговорил: — Отдыхай, отдыхай. Он сел на нары. Потом вдруг спросил: — Скажи, Иринушкин, ты давно не получал вестей от матери? Так неожиданно перекликнулся сон с явью. — Очень. Очень давно. Молчит комиссар. Внезапная тревога, вспыхнув, обожгла, разрастается, душит Володю. — Я получил письмо, — говорил Валентин Алексеевич. Почему он молчит? Почему смотрит с такой жалостью? — Я получил письмо на имя комиссара части, от твоих соседей по дому. — Мама, — тихо, совсем тихо говорит Иринушкин. — Крепись, Володя… — Голос Марулина вздрагивает, он продолжает с усилием: — Мы ведь с тобой военные люди, со смертью об руку ходим… Дорогой мой, у тебя больше нет матери. Иринушкин потянул воздух сквозь стиснутые зубы. Медленно натянул шинель. Он вышел из землянки. Безотчетно зашагал к лазу из крепости. Только одно в сознании: зачем, зачем он тогда не простился со своей родной? В лазе привычно нагнулся, схватись за железный брус. Закружилась голова. Володя прислонился к стене. Припал щекой к холодному, шероховатому камню.
Г Л А В А XIII ЧП

Поздно вечером пулеметчики собирались на пост. Рыжиков понуро копошился, он застегнул ватник, сунул в карман сухари. Свою порцию он всегда носил с собой, в землянке не оставлял. Иринушкин искал и не мог найти обмотку. — Какого черта коптилки не горят! Рук своих не вижу. Дневальный, давай коптилку! — Да вот она, — удивился Геннадий, — горит же, горит. Володя пошатнулся, схватил товарища за руку. — Ничего не вижу. Выведи меня на воздух. Шел, нащупывая стену, шаркая ногами о ступеньки. Почувствовал ночной холод, запрокинул голову. Увидел звезды. Но они сразу же стали тускнеть. Черное небо упало на плечи. Пулеметчик сжал веки и снова открыл глаза. Прямо перед собой разглядел башню. Но и она медленно окутывалась туманом, уходила в ночь. — Я слепну! — вскрикнул Володя. Геннадий ползал у его ног, нашел обмотку и дрожащими руками навертывал ее. Воробьев побежал в санчасть за Шурой. Санитарка только взглянула на пулеметчика, сказала: — Чего больно струсил-то? Куриная слепота у тебя. Это пройдет. Озабоченный старшина рассуждал вслух! — Вот какой несообразный оборот получается. Невозможно парня на пост посылать, а подменить некем. Ну, хоть бы один человечек в запасе, все расписаны. Тут оторвешь, там голо… Иринушкин остановил Воробьева: — Никого отрывать не надо. Сам пойду, я же здоровый, если б не глаза… Рыжиков за первого номера постоит, а я с лентами управлюсь на ощупь. Где ты, Генка, пошли… Володя пошел за Рыжиковым, придерживаясь за его плечо. Шагали медленно, оступались. Ночь выдалась студеная, тихая. Холод полз за воротник, в рукава. Падал снежок, значит, морозу недолго свирепствовать. Иринушкин вдыхал холодный ветер, и ему чудилось, это ветер весны. Даже у снега был иной, новый запах, чуть талая прель. Нет, словами этого не передать. На память пришли стихи. Певучие и монотонные. Юноша сидит на скамье под деревом. В воздухе кружатся снежинки. Или яблоневый цвет? Или снежинки?.. Чье это? Гейне. Немецкий поэт Генрих Гейне. Весна так много значила в Володиной жизни. Когда-то она приносила тревогу школьных экзаменов, хлопоты о летнем путешествии. Куда ехать? На озеро Селигер, по Волге до Астрахани, в Пушкинский заповедник, а может быть, пешочком, босиком — по тропам Карелии? И всегда — ожидание. Неясное, неотчетливое, но жадное ожидание нового. Война обрубила мирные дороги. Весна теперь другая, с другими заботами: куда отвести воду, чтобы не затопило позицию, как закрепить стенки траншеи — того и гляди земля оползет. И все время не спускай глаз с противника, не давай ему уйти из-под прицела. А все-таки — весна. Она над людьми, схватившими друг друга за глотку. Она придет с живым теплом и светом. Летят, летят снежинки. Или яблоневый цвет?.. Рыжиков толкнул Иринушкина плечом и сказал застуженным голосом: — В кожухе воды нет. Сходить, что ли? — Иди, только быстрей. Стукнул котелок. Заскрипел снег под ногами. Геннадий спустился на лед. Здесь, в десятке шагов, прикрытая береговым уступом полынья. Слышно, звякнул тонкий лед… Что же так долго нет Геннадия? Володя открыл глаза и тотчас вскочил на ноги. Да что он, ополоумел, этот Рыжиков? Он прошел полынью. Почему идет не к крепости, а к Шлиссельбургу? Заблудился? Не видит? — Генка! Стой! Стой! — кричал пулеметчик, сначала вполголоса, потом все громче. Рыжиков не остановился, побежал. Вот он упал, пополз под проволоку на рогатках. — Стой, сволочь! — Иринушкин кинулся к пулемету! — Гадина! Ах ты гадина! — кричал он и стрелял не переставая. Но Рыжиков был уже далеко. Свет в глазах пулеметчика начал меркнуть… Весь день Иринушкин просидел в землянке за столом, уронив голову на руки, в полудремоте. Поднял его резкий, удивительно чужой голос Ивана Ивановича: — Встань. Пистолет есть? Сдать. Пояс давай. Марш за мной! Володя пошел рядом с Воробьевым, в распущенной, неподпоясанной шинели. Встречались бойцы. Никто даже словечка не бросил ему. В главном корпусе, в подвале, заскрипела дверь. Иван Иванович все так же отчужденно сказал: — Арестован до окончания следствия. Хлопнула дверь. Стукнул засов. Сколько времени прошло с тех пор, Иринушкин не знал. Он не улавливал смены дня и ночи. Ему приносили есть. Он ел. Приехал подполковник из Особого отдела. Пулеметчик отвечал на вопросы. Приехал военврач из дивизии. Володя дал осмотреть себя. За всем этим он наблюдал со стороны, безучастно. О чем думал Иринушкин в эти томительные, долгие дни? О том, что стены в подвале промозгло холодные. Иногда стены вздрагивали, с них осыпалась штукатурка. Значит, там, наверху, стрельба. Еще он думал о Рыжикове, ненавидел его. Старался понять и не мог. Когда пришел старшина и вывел Иринушкина из подвала, он даже не обрадовался. В землянке товарищи пробовали растормошить его. Он поежился зябко, пошел и лег на свое место, с краю нар. Бойцы не обратили на это особого внимания. Хлопот и так хватало. С начала войны гарнизон крепости пережил многое. Люди видели кровь, смерть. Но тяжелей того, что случилось, не бывало. Предал боец, с кем жили и воевали плечом к плечу. Это чрезвычайное происшествие — ЧП — тяжело легло всем на душу. В глаза посмотреть друг другу совестились. Но предательство тем не кончилось. Как-то после обеда со стороны Шлиссельбурга, точнее — от собора с давно уже проломленным куполом, донеслись усиленные репродуктором слова: «Алло! Алло! Защитники Шлиссельбургской крепости, слушайте, слушайте!» На острове насторожились. «Сейчас к вам обратится ваш товарищ, Геннадий Рыжиков. Слушайте!» Тот же голос, говоривший до этой минуты по-русски, произнес по-немецки тихо, но отчетливо: «Schneller» — обращенное, видимо, к радиотехнику. И снова — русская речь. Кто говорит? Геннадий или нет? Голос как будто его. Но робкий, странно неуверенный. Ясно, что он читает не очень разборчивый текст, сбивается, путается: — Это я, Рыжиков Геннадий. Я сдался на милость… на милость вооруженных сил фюрера. Здесь меня встретили хорошо. Господа… господа офицеры накормили меня. Вообще мне тут нравится. Я не жалею, что перешел… Долгая пауза, и вдруг — короткий, оборвавшийся вскрик: — Товарищи, не ве… В репродукторе щелкнуло. Как будто упало что-то. Но сразу же заговорил опять тот, кто открывал передачу: — Защитники Шлиссельбургской крепости! Теперь вы знаете, что Рыжикову совсем хорошо. У нас много хлеба, мяса, сала. У нас много оружия. Наша победа неизбежна. Переходите к нам! Переходите к нам! С искаженным от ярости лицом Евгений Устиненков выскочил на стену, затряс кулаками. — А этого не хотите! — Он швырял на ту сторону гневные, грубые слова: — Мы к вам придем! Только не так, как вы думаете. И закуску принесем. Поперхнетесь! Орешек открыл огонь. Стреляли, подсчитывая каждый снаряд, каждую опустошенную обойму. Так прозвучал первый ответ на призыв противника. Гарнизон крепости долго еще жил молвой и раздумьем о случившемся ЧП. Спорили, гадали: что значит последнее, недосказанное слово Рыжикова? Были разные предположения, но ничего определенного. Так это и осталось тайной. Марулина вызвали в политотдел дивизии. Состоялся очень неприятный разговор с начальством. Но еще беспощадней — суд собственной совести. Валентин Алексеевич понимал, что первый отвечает за все происшедшее. Для того, кто учит, воспитывает, самое непростительное и страшное, когда люди в его глазах сливаются в безликую массу. Он видит людей, а не человека с его неповторимым характером, строем мыслей. Марулину боец Рыжиков был известен в лицо, по фамилии. Но не больше того. Он ничего не знал о его бессонных ночах, о тоске. Потому и предупредить события не смог. Валентин Алексеевич бесповоротно вынес себе обвинительный приговор. Что же теперь? Вместе с виной признать и бессилие? Попросить перевода в другую часть? Сразу вспомнился первый день в крепости и вопрос, грубовато, но честно заданный комендантом: «Не сбежишь?» Нет, он не сбежит. Сумеет и в поражении выстоять. Настоящий солдат в поражении видней, чем в победе. Возвратясь из политотдела, Марулин у входа на командный пункт встретил Евгения Устиненкова. Он добродушно откозырял и, как всегда, растягивая слова по слогам, произнес: — Ничего, товарищ комиссар, мы жилистые, сдюжим. Валентин Алексеевич заглянул в его маленькие, часто мигающие глаза и удивился, как он мог догадаться, что сейчас комиссару больше всего на свете нужны вот эти простые слова. В трудные для гарнизона дни Марулин более чем когда бы то ни было находился вместе с бойцами. Он не устраивал длительных собраний, это и по боевой обстановке не представлялось возможным. Не писал клеймящих резолюций, потому что, в сущности, не в них дело. Просто он жил вместе с солдатами. Его видели и в землянках, и на кухне, и на постах, всегда внимательного и ровно приветливого. Он пристально присматривался ко всему, что происходило сейчас в гарнизоне. Бойцы спрашивали его, что делать, как снять позорную тень, брошенную на всех преступлением одного? «Пусть люди сами найдут решение, — подумал Марулин. — Свое решение прочней подсказанного». Но одно то, что бойцы переживают, мучаются над этим нелегким вопросом, уже ободряло комиссара. Тогда-то и родилось облетевшее всю крепость слово. Клятва! Да, она нужна солдатам, чтобы вернуть веру в себя и товарищей. Она нужна, торжественная, немногословная, нерушимая. Навсегда осталось неизвестным, кто написал эти строки на линованном листке с неровными краями, вырванном из тетрадки. Слова были суровые, и каждый запомнил их, точно врубил в сердце: «Мы, бойцы крепости Орешек, клянемся защищать ее до последнего. Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет позиций. Увольняются с острова на время — больные и раненые, навсегда — убитые. Мы отказываемся от смены. Будем стоять здесь насмерть». Каждый, в полной мере отдавая себе отчет в глубоком значении этих строк, поставил свою фамилию под ними. «Клянусь. С. Левченко», «Клянусь. И. И. Воробьев», «Клянусь. Евгений Устиненков». И еще десятки подписей. Листок передавали из роты в роту, из отделения в отделение. Все имена не уместились на нем, подклеили второй. С трудом разогревали чернила, замерзшие в узкогорлой бутылке. От нажима ломались карандаши. Подписывали в землянках, при чадном огоньке коптилки и под открытым небом, при солнечном свете. Бумажный лоскут расстилали на досках стола, на планшете или просто на ладони. Последней в уголке, захватанном пальцами, виднелась подпись пулеметчика: «Клянусь. В. Иринушкин». Пережитое несчастье и эта клятва еще крепче сблизили людей.
__________
С каждым днем Иринушкину становилось хуже. Он почти совсем перестал видеть. Медсанбатовским врачам не удалось возвратить ему нормальное зрение. Поэтому Володя не удивился, когда Шура сказала ему: — Собирайся, повезу тебя в Ленинград, в госпиталь. Чинить-то тебя надо, воин. Едем. Марулин шел с Иринушкиным до причала и говорил, какие в городе замечательные врачи, уж они непременно вернут пулеметчику глаза. — Ты же строевик, ты нам вот как нужен, они поймут, — убежденно говорил Валентин Алексеевич, — а к тебе у меня серьезная просьба, раз уж ты снова ленинградский житель. Как только на ноги встанешь, окрепнешь, побывай в Публичной библиотеке, затребуй книги по этому примерному перечню. Я сказал — просьба? Считай это боевым заданием. А первое дело — выздоравливай. «Какое там задание, какие книги? — подумал Володя. — Я же инвалид в мои восемнадцать лет». Он сунул марулинский список в карман шинели.Г Л А В А XIV ПЕРВОЕ ПИСЬМО В. ИРИНУШКИНА

Добрый день, Алла. Я — вижу, вижу, вижу! Только об этом и могу сейчас говорить. Я был болен, слеп, а теперь снова прозрел. Понимаешь, если человеку тяжело, так что белый свет не мил, — хоть на день завяжи ему глаза, а потом снова развяжи. Сразу жизнь покажется очень дорогой… Этакий вот коленкор, как любит говорить один мой друг. Алла, жду не дождусь твоих писем. Я пишу третье, а от тебя получил одно, короткое, как хвост у зайчонка. Пиши, пожалуйста, пиши. Как ты живешь, много ли работы, и трудная ли она? Устаешь? Какие новости в твоей личной жизни? У нас же тут такие передряги, что описать их нет возможности. Встретимся — расскажу. Когда-то будет эта встреча? Как ты знаешь из первых строк, я только что разделался с болезнью. В канцелярии госпиталя сказали, что мне полагается пятидневный отпуск и что если я ленинградский, то могу эти дни пробыть дома. Я ответил, что хотя и ленинградец, но дома у меня нет. Медсестра в белой косынке посмотрела на меня, но не стала расспрашивать, а в карточке написала: «Отпуск при госпитале». Эти дни я много ходил по городу. Нарочно выбирал дороги подальше от Литейного проспекта, где жил, где учился. Страшно было увидеть разбитые, родные с детства стены. В то же время меня постоянно тянуло туда. Не удержался: все-таки отправился на Литейный. Издали ищу глазами дом номер одиннадцать и… нахожу его. Ты понимаешь? Нахожу! А незадолго до того в части было получено известие, что мой дом разбит бомбой и при бомбежке погибла моя мама. Я бегу изо всех сил. Понимаешь, если дом оказался целым, — значит, присланное известие ошибочно и мама жива! Сердце у меня колотилось. Подбегаю, и так мне вдруг стало больно. Ну, зачем это нужно, чтобы я во второй раз пережил такое горе?.. Только вблизи разглядел, что развалины прикрыты фанерными щитами, на которых нарисован фасад дома. Нарисован в точности, каким когда-то был: с колоннами, с лепкой, даже с облаками, отраженными в стеклах окон. Я стоял и старался угадать: для чего это сделано? Чтобы не портить вид проспекта? Или чтобы сберечь рисунок фасада для строителей, которым восстанавливать дом?.. В целости сохранились только боковые флигели. Я пошел туда. Наша дворничиха долго не могла узнать меня. Ушел-то я мальчишкой, а теперь солдат солдатом. Потом, конечно, она меня узнала и расплакалась. Она вытирала глаза и рассказывала, как все случилось. Дворничиха повела меня в угол двора, куда были заметены тряпки, бумага, битая посуда, — все, что осталось от домашнего уюта многих семей. Я надеялся хоть что-нибудь найти на память. Я нагнулся и поднял растрепанную книжку. Ох, как она была мне знакома! Маленькая, с оборванной обложкой, из школьной серии. На первом листе портрет поэта Гейне с длинными волосами и в старомодном сюртуке. Он смотрел на мир внимательно и насмешливо. Листы книжки были порваны, и вся она показалась мне очень тяжелой. Это потому, что ее пропитала каменная пыль. Я спрятал книжку в карман. Видишь ли, Алла, это все, что осталось мне от детства… Долго бродил я по улицам. Ноги скользили в снегу, подтаявшем на тротуаре. Громоздились стены, сквозь окна которых просвечивало небо. Один из домов горел. Люди проходили мимо спокойно, без любопытства. По рельсам со звоном промчался красный трамвай. Его провожали радостными улыбками, вожатому махали рукой. Еще бы — настоящий трамвай. Первый трамвай! По той стороне улицы, где трафаретная надпись, что это наименее обстреливаемая сторона, протопали ребятишки — очаговцы. Они были тепло укутаны и держались за руки. Откуда-то из раскрытой форточки неслась ухарская мелодия, играл патефон. Живут люди тяжко, а живут, врагу назло. Я стучал в квартиры к знакомым, никого не находил и отправлялся дальше. На нашем острове, ты знаешь, от воды до воды всего шагов двести. А тут можно было ходить, пока не устанут ноги. От путешествий-то они малость отвыкли. И еще мне нравилось подниматься по лестницам, все наверх, наверх. В нашей траншейной земляночной жизни мы ведь только и знаем: три ступеньки вниз. Так в первые дни своего «отпуска при госпитале» я заново знакомился с моим Питером. Я узнавал его и не узнавал. Видел я Летний сад без мраморных белых скульптур, Марсово поле, ископанное землянками зенитной батареи, Исаакиевский собор не с золотым, а черным куполом. Медный всадник был обложен мешками с песком и наглухо зашит досками. И вот что еще скажу тебе, Алла. Никогда я не думал о том, люблю ли свой город. Просто не думал, не приходилось. Сейчас знаю — дорог он мне, не высказать, как дорог. В эти дни сердцем прирос к нему, что ли… Под конец отпуска я вспомнил о «боевом задании комиссара». Есть у меня неотложное дело. Я отправился в Публичную библиотеку. Конечно, ты знаешь это большое, на целый квартал, здание, скульптуры в нишах, белую богиню на фронтоне. Помнишь тишину его читален? Теперь посох в руках богини разбит осколками. В залах темно и пусто. Но библиотека работает. Когда я шел сюда, то очень боялся, что увижу заколоченные двери. Трудно представить наш город без Публички. Я вошел в комнату, где за столом около теплой печки работали несколько человек. Представь, девушка в куртке и шерстяном платке совсем не удивилась, услышав, что мне нужны книги по истории Шлиссельбургской крепости. Она записала мою фамилию и спросила место работы. Я сказал: «Моя работа — на фронте. — И уточнил: — Я из этой самой крепости». Девушка сказала, что основные фонды сейчас закрыты, но она постарается найти в подручном. Она преспокойно зажгла керосиновый фонарь и позвала: «Тома, возьми заявку». С того дня я часто приходил в Публичку, читал, записывал самое интересное. Хорошо уже то, что за этим занятием, таким мирным, иногда казалось: войны вовсе нет; и кто придумал, будто город осажден? Но библиотекарши (почти все они в ватниках, иные в сапогах) сменялись у столов с книгами. Они надевали через плечо сумки противогазов, совсем как мы, в траншеях. Уходили куда-то на вышку дежурить. Девчонки оберегали нас, читающих книги… В комнате на стене висел черный круглый репродуктор. В нем поскрипывало и постукивало: «Так, так, так». Несколько раз в день репродуктор начинал противно выть. Тогда мы закрывали книги и вместе с библиотекаршами шли на посты. Если бомбили «наш район», с Невского приносили раненых. Их перевязывали, отводили в больницы. После бомбежек мы долго не могли вернуться к столу с книгами, громко разговаривали в читальне, хотя это и не положено. Девушки рассказывали нам, как спасали самые ценные книги и как во время налетов дежурили на крыше библиотеки. Они подняли на чердак и крышу сотни мешков песка (как у них только сил хватило!) — в песке они гасят «зажигалки». Мы расспрашивали девушек о редких книгах из знаменитой «комнаты Фауста», о собрании Вольтера. Они говорили: все цело, только в «комнате Фауста» стена дала трещину. Читателей, которые побывали в Публичке дважды, здесь считают «своими людьми». Как-то библиотекарши попросили меня помочь им наколоть дров. Я пошел и увидел то, что читатели обычно не видят, — двор библиотеки. Только тогда я понял, почему в читальне всегда тепло. За тепло здесь воюют, как за хлеб. Среди набросанных досок работали пожилые женщины и совсем молоденькие. Они пилили страшно медленно, часто отдыхали. Седоволосая женщина колола толстое полено. После каждого взмаха она долго-долго стояла с опущенным топором. Мне объяснили, что это ученый секретарь библиотеки и что «работа на дворе» обязательна для всех, от директора до расстановщицы книг. Я взял топор из рук ученого секретаря… Все книги о Шлиссельбурге, какие можно было достать, я прочел. И все-таки приходил в библиотеку. Приходил колоть дрова. Не улыбайся, Алла, когда прочтешь эти строки. Мне хотелось отблагодарить ленинградских женщин, седых, похожих на мою маму, и девчонок, ровесниц твоих. Спасибо, что вы живете, что учите воевать меня, солдата. Вот и ты, Алла, где-то на Ладоге. Работаешь, воюешь и не знаешь, что ты замечательная… В общем, должен сказать, как бы интересно ни было в городе, «отпуск при госпитале» мне порядком надоел. Скоро ли он кончится? Не слишком ли затянулся? Не могу передать тебе, как меня вдруг потянуло в Орешек, к ребятам. Как-то поживают в Орешке этот зубоскал Степа Левченко, увалень Женька Устиненков, седой старшина Иван Иванович, комиссар товарищ Марулин? Ты ведь знаешь их всех. Меня потянуло в крепость, как домой. Ни Женьке, ни Степану я этого не расскажу, только тебе: мне без них, косолапых, скучно жить на свете. Скорей, скорей на фронт, в Орешек! Все же и к тебе ближе. С тем и прощаюсь с тобой, Алла. Будь здорова. До встречи, до свидания.
Г Л А В А XV ЛЕДОХОД

В крепость Иринушкин добрался ночью. Утром пошел докладывать о прибытии. Он полагал, что товарищи встретят его шумно, радостно. Все произошло не так. Бойцы поинтересовались, основательно ли он подлечился, расспросили о Ленинграде, и тут же Иван Иванович назначил его к выходу на пост. Володя подумал: «Эх, знали бы вы, как я рвался к вам из госпиталя…» Только Левченко ткнулся губами и носом в Володину щеку, облапил его, попробовал пошатнуть. — Ух, какой! Прочно на земле стоишь. Они вместе отправились на вал за Королевской башней. На этот вал, менее обстреливаемый в крепости, бойцы частенько приходили покурить, посудачить, полюбоваться озером. Иринушкин дышал так, будто хотел вместе с холодным воздухом вобрать в себя и эту синеющую даль, и пологую береговую черту, и облака, разбежавшиеся в высоте. — Похоже, ты не из побывки, а на побывку приехал, — угадал его настроение Степан. — Поди, нравится тебе здесь, на Ладоге? А по мне климат так себе. Я после войны на Дону поселюсь. Ты знаешь, какие там, к примеру, кавуны? Он говорил об этом, точно врага уже прогнали и на Дону не гремели кровопролитные сражения. — А ты, когда война к концу придет, где осядешь? — Степан посмотрел на пулеметчика, ухмыльнулся и сам ответил на свой вопрос: — Тю! Я вас, ленинградцев, знаю. Вам свои болота да мхи во как красивы и дороги… Иринушкин прислушался. С озера доносился долгий гул. Он был не очень громкий, но раскатистый и плотно наполнял воздух. — Что там? — спросил пулеметчик. — Новую береговую батарею поставили? Сильна! Левченко рассмеялся. — Эту батарею знаешь как зовут? Весна! На Ладоге ломало лед. Белые поля потемнели, местами вздулись, трещины уходили далеко-далеко. Солнце уже заметно припекало. Нет, не напрасно Левченко заговорил о кавунах. Весна размахнула над миром свои крылья. В воздухе веяло новью. Всем сердцем чувствовали ее бойцы. Как и в самые первые месяцы войны, фронт от Балтики до Черноморья жил одним требованием: выстоять! Но теперь этого мало. После того как гитлеровская армада, скрежеща и захлебываясь в крови, откатилась от Москвы, — этого мало! То на юге, то на Центральном фронте наши части вбивали клинья в оборону фашистов. Перемалывали ее, крошили. Что несла с собой эта весна? Теплом, теплом повеяло над планетой. Пулеметчик, оторванный на время от своей боевой семьи и снова возвращенный в нее, сразу ощутил большие перемены. Повеселели люди. Очень еще трудно, осада крепка, голодновато, случается оружия нехватка, и понимают солдаты: многих еще унесет смерть. Но — весна на дворе! Видел Иринушкин заметные перемены и в жизни самой крепости. Не было уже в гарнизоне кое-кого из бойцов. Одни в госпиталях, другие в земле покоятся. В Шереметевском проломе работал новый пулемет. Тот, с которым Володя начал войну, разбило миной. Но всего печальней, что в гарнизоне не стало санитарки Шуры, дорогой сестренки. Вот что с нею случилось. Незадолго до возвращения Иринушкина наше охранение на льду столкнулось нос к носу с гитлеровцами. Завязался бой. Дозорные, отстреливаясь, отошли. Уже в виду крепостных ворот осмотрелись и обнаружили, что одного солдата нет. Никто не мог сказать определенно, убит он или ранен. Так и доложили коменданту. Дозорные просили разрешения снова выйти на лед. Но теперь им следовало придать группу поддержки. Уже светало. Большое число бойцов было бы сразу замечено. Тогда Шура сказала, что помочь раненому может только она. Это — дело санитарки. Никто не запретит ей выполнять свои обязанности. Она и пойдет. Сестренка говорила решительно, но глаза ее выражали просьбу. Времени нельзя было терять ни минуты. Шура облачилась в маскхалат, столкнула на лед белые низенькие сани, бросила в них сумку с бинтами и исчезла. Как в этот час все волновались за сестренку, говорить ни к чему. Предутренний туман облегчал ей путь. Успеет ли она найти раненого? В крепости были изготовлены к бою стрелки. Артиллеристы зарядили орудия. В случае надобности одни остановят противника огнем, другие поспешат на выручку. Но все обошлось, как и предвидела Шура. Вскоре она вернулась, притащила за собой санки, на которых лежал раненый. Обрадованные «островитяне» тихонько прокричали «ура». И в этот момент у самых стен, у поворота возле башни Шура вдруг упала. Ей пробило пулей плечо. В санбат сестренку отправляли вместе со спасенным бойцом. Каждый, кто мог, заходил в Светличную башню проститься с Шурой.Когда поднимали носилки, она прошептала, словно уговаривала себя: — Поправлюсь. Надо жить-то… Степан Левченко, рассказавший обо всем этом Иринушкину, грустно заключил: — Так вот мы и расстались с нашей сестренкой. В санчасти теперь хозяйничал военврач с черными вислыми усами. Вообще в гарнизоне прибавилось много новых людей. Среди них Володя сразу заметил двух артиллеристов. Один — пожилой, с крупным морщинистым лицом. Он носил суконную буденовку с высоким шишаком и разлетающимися у подбородка застежками. По поводу этой буденовки кто-то сказал, что она «не по форме», и предложил артиллеристу обычную ушанку. На это последовал вразумительный ответ: — Вишь, какое дело, сынок, мне в ней теплее. А что касается прочего, так буденовка бойцу Красной Армии всегда по форме. Звали его Калинин Константин Иванович. Другой артиллерист, Виталий Зосимов, высокий, тонкий, с быстрыми карими глазами, по возрасту — сверстник Иринушкину. Виталий тоже за несколько дней до начала войны закончил школу, но не в Ленинграде, а на Волховстрое. Несмотря на молодость, Зосимов был уже обстрелян. В крепость его прислали после ранения, полученного под Урицком. С ним Володя разговорился. Виталий охотно рассказывал о себе и тут же спрашивал: — А ты из какой школы? Где воевал? Имеешь ранения?.. В эти дни все в Орешке, и «старички», и вновь пришедшие, жили в больших хлопотах. Как к трудному боевому делу, готовились к весне. Ледоход не должен застать гарнизон врасплох. Остров на неделю, если не больше, будет отрезан от материка, подвоз припасов станет невозможным. Предстояло в готовности встретить это время, чреватое всякими неожиданностями. Разумеется, особенно много хлопот выпало на долю старшины. Воробьев с вечера уходил в Морозовку и возвращался засветло. Он облазал все склады боепитания, бесконечно надоел интендантскому начальству. Где в долг, где под расписку, иногда же, как он говорил, «под ей-богу» забирал консервы, муку, сухари. По ночам на остров переправляли мешки с «довольствием», металлические запаянные ящики с патронами. В последний раз Иван Иванович шел в крепость по движущемуся льду с шестом в руках. На берегу он вытряхнул из сапог воду, взглянул на только что пройденную протоку и невольно поежился. Там громоздились льдины. Местами кипела вода. Двое суток в Орешке не разговаривали, а кричали. Стреляли и не слышали выстрела. Только отдача, толчок в плечо свидетельствовали, что пуля пошла в цель. Мины взрывались беззвучно, осколки беззвучно ломали камень. Рев и грохот ледохода поглотили все звуки. Зеленая лавина ринулась на остров. Казалось, она размоет, раздавит этот клочок земли… Молоденький боец, данный Иринушкину во вторые номера, жестами объяснял пулеметчику, где у гитлеровцев блиндажи, окопы. Володя всматривался. Боец, наверно, находился в крепости несколько дней; ему нравилось, что он вот такой обстрелянный, бывалый. У Володи закружилась голова. Ему почудилось, что река остановилась, застыла на месте, с опрокидывающимися льдинами, с летящими в небо всплесками. Она не движется. А крепость, как корабль, сорванный с якорей, мчится, мчится без удержу. Иринушкин растер лоб, щеки и стал наблюдать за немецкими траншеями. Он нацелился совсем не в том направлении, куда показывал второй номер, а в покатый, малозаметный бугор. Там сразу же закопошились, блеснуло холодным стеклянным светом. — Ты здешний, что ли? — крикнул боец, придвигаясь ближе. — Все мы здешние! — ответил Иринушкин. Ленты таяли в пулемете. На дуле не угасал огонек. Но и он был беззвучен. Большую льдину повернуло ребром и выбросило к самому пролому. Она рассыпалась яркими, блестящими иглами.
Г Л А В А XVI НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ

В огромном и совершенно пустом корпусе, так называемом Четвертом тюремном, спешно оборудовали комнату, назначение которой пока оставалось неизвестным. Окна, выходящие во двор, забили картоном, оставив проемы для света. Со стен соскоблили многолетнюю копоть. Гвоздями прикрепили плакат: боец в пилотке устремлял указательный палец прямо на смотревшего и спрашивал: «Ты записался в народное ополчение?» По смыслу плакат не подходил ни ко времени, ни к месту, и кто завез его в крепость, определить невозможно, только другого не нашлось. Повесили этот. Посредине комнаты поставили стол, настоящий стол, но у него не хватало ножки. Ее заменили аккуратно подогнанной доской. На столе лежали газеты, домино, шахматная доска с расставленными фигурами. Притащили полдюжины железных кроватей. Таких кроватей в крепости — множество, в каждой камере по штуке. Но они были прикреплены ножками к бетонному полу, выворотить их оказалось не так-то легко. Ни тюфяков, ни простыней, конечно, не нашлось. Устройством комнаты ведал Иван Иванович. На вопросы любопытных он многозначительно хмыкал, воздерживаясь от всяких объяснений. Когда Воробьев на двери с маленьким круглым глазком написал мелом: «Комната отдыха», все стало окончательно непонятным. Очень не вязались эти представления: «война» и «отдых». Уж не собираются ли санаторий оборудовать под носом у противника? Правда, о санатории думать не приходилось. Но в этой комнатенке постарались создать все возможное для отдыха. Кто же осудит за то, что возможным оказалось немногое? В это время по всему Ленинградскому фронту, при госпиталях и при частях, устраивались дома, комнаты, палатки для посменного отдыха бойцов, безмерно измотанных фронтовым обиходом. Этому дивились и радовались. «Дают передых, стало быть, наши дела крепко на поправку повернули», — решили солдаты. Они терпеливо ждали своей очереди растянуться на кровати, отоспаться по крайней мере. В ряду подобных комнат отдыха комната в Орешке была самой скромной и не ахти какой приспособленной. Это объяснялось, прежде всего, тем, что она находилась действительно под носом у врага и лупили по ней из всех видов оружия так, что иногда стены ходуном ходили. Именно поэтому командование дивизии предложило посылать людей для отдыха на материк, в госпиталь. Но дело осложнялось переправой. «Пока доберешься, убьют, — говорили бойцы. — Да и какой отдых в госпитале?» Госпиталя боялись инстинктивно. Боялись еще и оттого, что имелись примеры, когда после пребывания в нем направляли не «в свою часть». Общее решение было такое: «Уж мы как-нибудь на нашем островке отдохнем». Первая шестерка, дорвавшаяся до коек, спала без просыпу сутки. Спали не раздеваясь, в обнимку с винтовками. В комнате слышался мощный храп. Шахматы и домино лежали нетронутыми. Старшина несколько раз заглядывал в комнату, наконец не удержался от укора: — Неблагообразно получается, даже вполне малокультурно. Лишь на вторые сутки отдыхающие проявили интерес к молчаливым сражениям на клетчатом поле и начали составлять компанию с целью «забить козла». Но главным образом отдыхали за разговорами. На пост спешить не надо, и дежурный не прикрикнет. Тут у самого несловоохотливого язык развяжется. О чем только не беседовали! О войне и о доме, о женах и невестах, рассказывали сказки и бывальщину. Приходил Марулин. Все усаживались на кроватях. Разговор затягивался надолго. Вот тогда-то и случилось происшествие, которое придало беседам определенное направление. В комнату вбежал старшина Воробьев и крикнул: — Ребята, хотите взглянуть на допотопное чудо? Пошли! Все побежали траншеями на двор цитадели. Здесь в толстой крепостной стене артиллеристы долбили ячейку, чтобы прятать снаряды. После многих дней работы артиллеристы натолкнулись на нишу, заложенную почерневшими кирпичами. На каждом — глубоко оттиснутая подкова. Знак добрый, на счастье, но у многих предчувствие сжало сердце. Быстро разобрали кирпичи. Увидели ступени, ведущие вниз, в подземелье, откуда пахнуло нежилым холодом. Зажгли парафиновую плошку. Отсветы зашарахались по стенам. Помещение было пусто. Лишь в одном углу что-то блеснуло, засветилось. Кинулись туда. На земляном полу лежали кости, и среди них — две женские сафьяновые туфли, и рядышком — еще две, крохотные, детские. Сафьян был расшит шелком и украшен бисером — он-то и блестел. Все молчали, пораженные зрелищем непонятной и далекой трагедии. Было так тихо, что треск фитилька, плававшего в парафине, казался неестественно громким. Кого же, когда и за что замуровали в этом подземелье? Ясно, что это были женщина и ребенок. Туфли, стоявшие рядом, свидетельствовали о том, что свои последние минуты мать и дитя встретили в объятиях друг друга… Старшина нагнулся поднять находку, но сафьян рассыпался у него в руках. Иван Иванович снял шапку и посторонился, чтобы не мешать артиллеристам. Лучшего склада для боеприпасов не сыскать. Артиллеристы уже тащили сюда ящики со снарядами… В комнате отдыха до поздней ночи шел разговор о странной находке. Тайну подземелья, конечно, никто раскрыть не мог. Но возник вполне понятный, острый интерес к истории Шлиссельбургской крепости. Прошлым Орешка защитники крепости интересовались давно. Многие еще со школьной скамьи знали, какую роль в жизни родины играл этот островок на Неве. В гарнизоне даже была книга о революционерах, узниках Шлиссельбурга. Эту книгу зачитали до того, что листы начали вываливаться из переплета. В самые первые недели обороны кто-то из морозовских старожилов поведал бойцам легенду, будто бы в старину существовал подземный ход из Орешка под Невой. Ход искали упорно и долго. Но не нашли. Сейчас же история глянула прямо в лицо бойцам. Они попросили Валентина Алексеевича рассказать им о прошлом крепости. Эти беседы в комнате отдыха заняли несколько вечеров. Закончились они экскурсией, о которой можно сказать, что наверняка подобных ей не было никогда, ни в одном из музеев мира. В Орешке бойцы знали каждый закоулок, каждый камень. Но теперь они видели все по-новому. Комиссар обошел со своими слушателями весь остров. Они шли траншеями, перебегали открытые места. Слова комиссара будили картины отжитого, далекого и удивительно близкого. Бойцы смотрели на массивные шестивековые стены и видели их созидателей, отважных новгородских ушкуйников. Казалось, бойцы слышали стук мечей в кровопролитных сражениях, которые столетиями шли за островную крепость, при великом пути «из варяг в греки». Видели молодого Петра I и его гвардию в битвах, выводивших Россию к Балтийскому морю. Победа эта была одержана осенью 1702 года. С тех пор по цареву указу, в память о виктории, каждодневно в полдень звонили колокола крепостной церкви. Солдаты в шинелях и шапках с красной звездой стояли у обширного холма, насыпанного неподалеку от церкви. Они стояли у старинной братской могилы семеновцев и преображенцев. И словно ветром подуло — бойцы, как один, сняли шапки, отдавая воинскую честь героям великой Северной войны… — В новом веке, — сказал Валентин Алексеевич после минуты тишины, — крепость обрела иную историю. Стала она «Государевой темницей». В стены, омываемые озером, в каменные мешки цари заточали тех, кто грозил их единовластию. Бежать из Шлиссельбургской крепости никому не удавалось. В народе жила ее мрачная слава. Люди, брошенные в камеры, переставали существовать для мира. Здесь многие сходили с ума, многие погибли на виселице. Почти в одно время в крепости были убиты вождь восставших башкир Батырша и свергнутый император Иоанн Антонович. Более трех десятилетий, не видя дневного света, просидел в каземате польский революционер Валериан Лукасиньский. Когда его, седого и согбенного, вывели впервые во двор Секретного замка, он спросил: «Который теперь год?» — Всмотритесь в эти камни, — говорил комиссар, — смотрите внимательно. По ним ступала история. Он показывал на длинное здание печально знаменитого «Зверинца», передняя стена которого была обрушена снарядом тяжелой осадной артиллерии. Виднелись камеры, снизу доверху забранные железными решетками. Сколько жизней изуродовано, растоптано здесь? Комиссар остановился у двухэтажной краснокирпичной постройки. Ее крышу снесло взрывом. Перекрытия упали. Это — известная в истории революции Новая тюрьма, или Народовольческий корпус. Здесь в одиночках долгие годы томились Вера Фигнер, Николай Морозов, Михаил Фроленко, Михаил Новорусский. Вот подвесной «мост вздохов», по нему на втором этаже переходили из одного ряда камер в противоположный. Вот окно, из которого Вера Фигнер видела, как ведут товарищей на казнь… Вот страшная цитадель, за́мок в за́мке, Секретная тюрьма. Двумя стенами она отделена от всей крепости. Одна стена пробита навылет пушками немецкого бронепоезда, в другой — сохранились ворота. Эти ворота нужно миновать одним прыжком, потому что здесь кончается траншея. Гитлеровцы видят ворота и бьют по ним. Цитадель — в северо-западном углу острова, более удаленном от вражеских позиций. Здесь находится как бы «второй эшелон» гарнизона: санчасть, кухня, продуктовые склады. Склады — в камерах Секретной тюрьмы, мрачного здания с оштукатуренными серыми стенами. Вот камера, где Софья Гинсбург перерезала себе горло. Может быть, на этой койке «заключенный № 20», Михаил Грачевский, сжег себя керосином, вылитым из лампы. Возможно, на этом железном столе, привинченном к стенке, Ипполит Мышкин нацарапал в предсмертные минуты: «26 января, я, Мышкин, казнен». Двор цитадели квадратный, в стенах — как в ущелье. Скрытое от людских взоров место казни, где Александр Ульянов и его товарищи в последний раз увидели небо над головой… На дворе цитадели все было так же, как и несколько месяцев назад, когда хоронили командира орудия, сержанта Зеленова. Только землю будто бы поглубже вскопало навесным огнем, да холмик над могилой ополз и ствол яблони расщепило осколком. Комиссар и бойцы сквозь узкий ход вышли на мыс у Королевской башни. Едва они сделали несколько шагов, зачавкали минометы. Били с косы. — Ложись! — успел крикнуть Марулин. Серые шинели приникли к влажной, согретой весенним солнцем земле. Отползли под укрытие стены. Здесь, вытащенная на берег, находилась вся крепостная «флотилия». Шлюпки лежали на деревянных подпорах. — Посмотрите на этот памятник, — продолжал объяснения Валентин Алексеевич, показывая на стрелку мыса. Обелиск темного гранита был опрокинут взрывной волной. Можно прочесть начало врубленной в камень надписи: «Героям-революционерам…» — На этом мысу по ночам тюремщики хоронили казненных, — сказал комиссар, — а памятник поставлен после Октябрьской революции Петросоветом… Придется заново поднимать обелиск. «Экскурсанты» возвратились во двор крепости. Здесь высились корпуса, построенные в прошлом веке и в начале нынешнего. Какие события пронеслись над приземистыми башнями? Чьи шаги прозвучали по сводчатым переходам? Великий свободолюбец Новиков и декабристы Кюхельбекер, братья Бестужевы. Народовольцы, мстители 1 марта, матросы мятежного крейсера «Память Азова» и большевик Серго Орджоникидзе. Поколения революционеров прошли через эти тяжелые корпуса, через этот двор. Комиссар показал на кирпичную стену, опаленную огнем. На ней как бы застыла тень давнишнего пожара. — Представьте себе, — говорил Валентин Алексеевич, — холодный снежный день. Семнадцатый год, весна нашей родины. Революция! И представьте себе два народных потока, хлынувших на скованную льдом Неву из Шлиссельбурга и Шереметевки, из заводских поселков. Рабочие заводов и фабрик несли красные флаги, пели песни. Народ шел освобождать узников. Когда же из ворот Государевой башни вышел последний заключенный, к стенам подкатили бочки с мазутом. Запылала крепость. Всему миру было видно это пламя нарождающейся свободы! Возвышенными, трогающими сердце словами комиссар закончил беседу. Позже, когда «экскурсанты» пришли в комнату отдыха и старшина доставил с кухни дымящиеся котелки с чаем, Марулин, как бы подводя итог, сказал: — Видите, что для нас с вами значит этот островок, эта пядь русской земли. Комиссар сидел за столом вместе с бойцами и, обжигая губы, тянул кипяток из алюминиевой кружки. Все молчали. И Валентин Алексеевич не нарушал тишины. Он знал, что иногда с наплывом мыслей бывает так же трудно справиться, как гребцу с волнами в половодье.
Г Л А В А XVII „ДУНЯ“

Ее звали «Дуней». Это была 76-миллиметровая пушка. Почему ее так назвали, сказать трудно. Возможно, у кого-нибудь из артиллеристов была жена или подруга Дуня, и в честь ее наименовали орудие. Вообще в крепости любили «крестить» пушки. В воротах стояла 45-миллиметровка «Буря», у подножия Головинской башни — «Шквал». Еще была «Чайка». А эта — «Дуня». Обычай укоренился так прочно, что и расчеты назывались по орудию. По телефонам передавали команду: «Буря» — к бою!» В приказах значилось: «Чайке» пополнить боезапас». «Дуню» доставил на остров ефрейтор Калинин. Он был при этом орудии наводчиком. Но окончательно расчет комплектовался в крепости. Командир артиллерийского взвода передал Константину Ивановичу бинокль и сказал: — Видите, на высотке сухое дерево? Дистанция? Ефрейтор посмотрел в бинокль, потом на глаз прикинул, снова — через стекла и ответил: — Больше трехсот метров не будет. А до этого злополучного дерева оказалось и все четыреста. Командир ничего не сказал Калинину. Но в списке расчета ефрейтор прочел свою фамилию на месте замкового, а на месте наводчика — фамилию Зосимов. Когда же собрались все вместе и он увидел этого Зосимова, обида подступила к сердцу. Свое орудие Калинин должен был передать мальчишке, которого, поди, от материнского подола недавно оторвали. — Как зовут? — спросил бывший наводчик теперешнего. — Виталий Зосимов. — Сколько же тебе лет? — Девятнадцатый. — Как стоишь перед ефрейтором? — вдруг закричал Константин Иванович. — Руки из карманов вынь! Калинин отвернулся и дрожащими пальцами начал распутывать кисет. Ворчал: — Сопляк! Девятнадцатый! Я с его батькой, может, в гражданскую где-нибудь под Ачинском корку хлеба надвое ломал… Молодые-то — они ученые, глазастые… Господи боже ты мой! Спички ломались о коробок. Война не принимает во внимание ни обиды, ни годы. Надо было искать подходящую позицию для «Дуни». Дело это хитрое, артиллеристы обдумывали его основательно. Нужно, чтобы враг тебя не видел, а сам перед твоими глазами — как на ладони. Надо, чтобы землянка была неподалеку и боезапас — рядом. В поисках выгодной позиции облазали весь остров и даже стены крепости. Вот тут-то, на стене, и нашли преотличное место. Лучше придумать нельзя. Весь Шлиссельбург виден насквозь. Кирпичный брандмауэр будет надежно скрадывать вспышки. Верно, пушку придется поднимать на большую высоту. Трудновато. Зато обзор хорош. Артиллеристы превратились в каменщиков. Чтобы не выдать себя противнику, работали по ночам. Ломами пробивали ступени, расчищали путь для «Дуни». Но тут возникло неожиданное препятствие: стрижиные гнезда. Птиц этих водилось в крепости множество. Гнезда они вили на высоте, в расселинах. Стрижи не замечали происходившего вокруг. Даже постоянно обстреливаемые стены, обращенные к врагу, стрижи не покидали. Воспринятый от поколений инстинкт оказался сильнее огня. В этих отвесных громадах птицы селились веками, и ничто не могло заставить их покинуть гнезда. Бойцы с любопытством следили, как темноперые, верткие птицы на длинных, заостренных крыльях носились за мошкарой. Все знали пору, когда самки садятся на яйца, когда птенцы начинают топорщить жадные клювы и когда они несмело подлетывают. Стрижей артиллеристы жалели. Константин Иванович — бойцы его называли дядей Костей — пробовал даже переносить гнезда. Он осторожно отдирал теплые, густо сплетенные в войлок перья, камышинки, в которых лежали белые крохотные яйца. В ладонях относил гнездо подальше, старался примостить в другой щели. Он сочувственно смотрел, как самка кружится над насиженным, разворошенным местом, кружится и кричит, не может найти гнезда. Говорил ей: — Не там ищешь, дурная, — и заключал с душевным сокрушением: — В войну и птаха малая бедует… Площадка для «Дуни» была готова и выровнена. Орудие разобрали на части. Ночью начали поднимать их на стену. Для этого наладили блоки с веревками, подготовили катки. Сначала втащили ствол, потом лафет. Из кирпича выложили стенки и стали сооружать накат. Бревен не хватало. Виталий Зосимов предложил пустить в ход железные двутавровые балки. Погнутые и ржавые, они торчали из развалин «Зверинца» наподобие игл у ежа. Извлечь эти балки и перетащить нетрудно. Как подогнать по мерке? Виталий сказал, что он все обдумал, тут ничего невозможного нет. На дворе он расставил балки, расчертил их мелком и зарядил винтовку бронебойными. С десяти метров Виталий стрелял по железу. И так наловчился, что пулю к пуле сажал. На пробоинах балка легко ломалась. Артиллеристы одобрили сообразительность своего молодого товарища. Так он раньше, чем «Дуня» открыла огонь, доказал, что у него сметка настоящего огневика. Укрытие готово. Теперь можно приступать к делу. «Дуне» приказано было, прежде всего, защищать переправу. Чуть передадут с наблюдательного, что «галоша вышла», — на острове, по возможности, все телефонные разговоры велись иносказательно; «галошей» именовалась шлюпка, — «Дуня» уже готова ударить по врагу. Лодочники скоро оценили «Дунин» огонек. — Нам, вроде, стало полегче дышать, — признавались они. Оценили меткость скрытой пушки и гитлеровские артиллеристы. Они не видели ее и явно нервничали. Смущала высота, с которой она бьет, а главное, отсутствие вспышек при выстреле. Надежда наших батарейцев оправдалась: кирпичный выступ служил неплохой маскировкой. В каком-то истерическом припадке фашисты осыпали крепость снарядами. Эти слова об истерике сказаны не напрасно. Немецкие артиллеристы вообще-то вели огонь очень размеренно и методически, в определенные часы и минуты, по определенной площади. Но стоило вывести их из равновесия, они начинали стрелять как попало, по чему попало, не сообразуясь с целью. Гарнизонные острословы говорили: — Не то нас пугают, не то сами пугаются. «Дуня» тем временем не торопясь, расчетливо подкидывала на тот берег снаряды. Длинные бараки вдоль канала мешали нашим артиллеристам, заслоняя дорогу. Бараки сожгли метким налетом. Дорогу, что называется, оседлали. По ней врагу не ходить. Можно сказать, что «Дуня» стала важной фигурой в гарнизоне. Ею гордились и даже не прочь были прихвастнуть. После одного случая слава «Дуни» возросла еще больше. Виталию запомнилось, что именно в этот день Константин Иванович спросил его, как он попал на фронт, по призыву или добровольно? Наводчик общительно ответил: — У нас, дядя Костя, на Волховстрое все комсомольцы до единого записались в ополчение. Он рассказал, сколько слез было пролито в семьях и как молодые бойцы грузились в эшелон. Пели песни. Хохотали по всякому поводу, шутили. У Виталия не было острого ощущения несчастья, войны. Все происходило как во сне. Куда-то ехали в теплушках с отодвинутыми дверями. На станции с проломленной платформой велели выгружаться. Сказали, что это фронт и враг близко. В окопах близ Колпина Виталий все еще не чувствовал опасности. Даже в голову не приходило, что его, полного жизни, любимого товарищами и девушками, могут убить. Сама мысль об этом представлялась нелепой. Со стороны взглянуть, как паренек спокойно ходит под воющими минами, подумаешь: бесстрашие! А он просто-напросто еще не знает опасности, не понимает ее. Лишь после того как увесистый кусок стали застрял в теле, после того как увидел кровь, которая просочилась сквозь пальцы, полежал в госпитале и услышал стоны гангренозных, поверил: жизнь может прерваться. Понял: надо оберегать жизнь, необходимо перехитрить пулю в полете, перехитрить врага. И опять-таки, посмотришь со стороны на паренька, вот шагает он по полю боя. Где пробежит, где упадет врастяжку, бугорком заслонится, веточкой прикроется, подумаешь: трус? Нет, у него солдатская сноровка. Он знает, что на войне человека убить очень легко и очень трудно. Обо всем этом Виталий говорил искренне и доверчиво. — Под Колпином из наших, волховстроевских, и половина не уцелела, — вздохнул Зосимов и спросил ефрейтора — А вы, дядя Костя, как с винтовкой подружились при вашем возрасте? — Это ты правильно, — отозвался Калинин, — годы мои не призывные. Так я, вишь, тоже из добровольцев… Штатские-то харчи в Ленинграде знаешь какие? Попросился я под серую шинельку. Ну, кто откажет старому солдату? Зачислили меня связным в команду пе-ве-о. Ковыляю на старых ногах по городу от батареи к батарее. А в животе бурчит. Норма довольствия вторая. Тогда я — опять в военкомат: «Хочу на передовую, к мяконькому хлебцу поближе…» Виталий слушал и не понимал, зачем этот старый человек хочет казаться хуже, чем он есть на самом деле. — Зубы не скаль, — вдруг посерьезнел ефрейтор, — не скалься, говорю. Я, может, на своем веку в добровольцах второй раз топаю. Константин Иванович собирался начать обстоятельный рассказ в пояснение своей последней фразы, но в это время зазуммерил телефон. Зосимов поднял трубку и тотчас скомандовал! — К бою! Пальцами он вцепился в маховичок наводки. Расчет стоял на местах в ожидании следующей команды. Эти мгновения перед открытием огня всегда волновали Виталия до глубины души. Какими-то другими, обновленными видел он своих товарищей. Забывалось, к примеру, что дядя Костя большой любитель поворчать. Он — у орудия, и от напряжения движутся вверх-вниз морщины на лбу. Не думалось, что заряжающий и подносчик, залихватские пареньки, не очень-то ладят между собой и постоянно готовы досадить друг другу. Сейчас оба застыли, подавшись вперед, обращенные в слух, внимание. Только бы не пропустить сигнал, вовремя сработать. Весь расчет, вместе с пушкой, одно целое. В механизме движущиеся колесики сцеплены зубцами, а люди соединены волей, мыслью. С башни Головкина назвали цель: в озеро выходит шлюпка с гитлеровцами на борту. Наблюдатели передали координаты, поправку на упреждение. Зосимов заглянул в панораму и сразу заметил расхождение данных с командой наблюдателей, расхождение ничтожное, в долях секунды. Но этого было достаточно, чтобы упустить цель. Если бы Виталий вздумал объяснить по телефону наблюдателям свои колебания, даже если бы его мысли заняли столько времени, сколько их описание на этой странице, открывать огонь уже ни к чему. Шлюпка скрылась бы за береговым уступом. Зосимов принял решение мгновенно. Он крикнул в трубку: — Вижу цель! И ломким, по-мальчишески звенящим голосом — на орудие: — Один снаряд! Высоко всплеснуло за кормой шлюпки. — Один снаряд! Снова всплеск. Рука наводчика плавно тронула маховичок. В мозгу — торжествующая, злая и просветленная мысль: «Теперь — вилка». Команда едва слышна в железном лязге: — Беглым — три снаряда! Шлюпка осела, накренилась и медленно ушла под воду. С башни Головкина передали: — Благодарим за отличную стрельбу! Артиллеристы обнялись над разогревшейся, пахнущей краской и порохом пушкой. Они мяли друг друга в объятиях. Пехотинцы по высоким ступеням взбирались на стену, чтобы только сказать товарищам, какие они славные ребята. По крепости неслось: — Знай нашу «Дуню»![19]
Г Л А В А XVIII БЕЛЫЕ НОЧИ

Наступили белые ночи, с зыбким светом, обнимающим воду и землю. От дня они отличались только тем, что густели тени за башнями и береговыми холмами. Даже у волн один скат был черным, другой — серебряным. Бойцы, которые попали в крепость из центральных и южных областей, где ночи всегда темны, вначале любовались светлым чудом. Ленинградцы же, наверно впервые в жизни, не были рады белым ночам. На тускло блестящей, как расплавленный металл, поверхности воды лодка становилась заметной до кончиков весел. Ее сразу оплетала горячая паутина трассирующих пуль. Фашисты удвоили число пулеметов и орудий на оконечности косы. Подавить их не удавалось. Остров терял связь с берегом. Лодки стояли у причала. На них дежурили гребцы, готовые выйти в протоку. Но оторваться от берега они не могли. Одна лодка была уже расстреляна минометами, не все гребцы спаслись. Каждый вечер старшина докладывал Марулину, сколько продуктов осталось в каптерке. «Островитяне» с надеждой смотрели ввысь, не занесет ли тучами луну, хотя бы тень упала на воду. Ночи оставались прекрасными. Они лучились опаловым светом. Ох, эти белые ночи! Люди возненавидели их красоту. Хлебную норму, и без того не слишком обильную, еще уменьшили. Наконец настал день, когда Иван Иванович пришел и сказал слова, которых Марулин боялся: — В каптерке ничего не остается. Доедаем последнее. Валентин Алексеевич озадаченно потер щеку. Старшина сказал: — Надо привезти продукты. — Надо, — подтвердил комиссар. — Хоть бы чуток захмарило. С этим пожеланием и расстались. Назавтра в ночь не «захмарило». Верно, на луну то и дело набегали облака. Но они просвечивали насквозь. По воде двигались темные полосы, как отражение крыльев огромной птицы. В берег шлепала волна. Пузырился воздух около камней. На другой стороне протоки можно было различить движущиеся силуэты. Где-то там, в укрытии, невидимом отсюда, лежат мешки с «довольствием». Давно приготовлены, ждут, когда за ними приедут. Расстояние через протоку не так уж велико. А попробуй перемахни! У причалов крепости, в тени, отбрасываемой Королевской башней, хлопочут над двумя шлюпками Воробьев, Левченко, Устиненков и с ними еще несколько человек. Вот они уже на веслах. Вода ударяет в борта. Песок скрипит под днищами. Тишина вокруг удивительная. Ни выстрела, ни стука. Дикие утки крякают в осоке. Можно бы позабыть о войне. Далеко ли собрались эти люди на лодках? Рыбачить? Или на утреннюю тягу? Ни пуха им ни пера! — Пошли! — громко шепчет старшина Воробьев. — Пошли! — повторяют бойцы и, раскидывая сапогами воду, отталкивают свои суденышки. В первой — старшина с гребцом, во второй — Степан Левченко и Евгений Устиненков. Весла с шумом поднимают брызги. Остерегаться нечего, все равно на виду. Тишина взорвалась воем, ревом, свистом. В первую минуту немцы ошеломлены отчаянной дерзостью двух скорлупок. И этой минуты достаточно, чтобы лодкам вырваться на середину протоки. Они плыли, держась подальше одна от другой. В укрытую бухту Шереметевки пришли с поломанными веслами, с пробоинами в бортах. Пока вычерпывали воду, грузили мешки с продуктами, конопатились, подбирали запасные весла, приблизился рассвет. Холодное небо тронули зори. Старшина торопил товарищей. Задержка могла обойтись дорого. Он торопил их еще и потому, что такую боевую работу надо делать горячо, с ходу, не давая одуматься врагу. Обратный путь был вдвойне опасен. Осевшие шлюпки плохо слушались весел. Крепость огрызалась всеми стволами, стремясь заслонить подходы к причалу. Гребцов обдавало водой, вскинутой взрывами. Иван Иванович налегал на весла и при каждом взмахе кричал от усилия. Он следил за второй шлюпкой. Ее вдруг повернуло по течению, закружило. Старшина с силой зажмурил веки, затряс головой. Но когда он открыл глаза, то увидел, что лодка выровнялась и медленно, упрямо продолжает свой путь. «Родные мои, — вслух произнес старшина, — справились-таки. Еще нажмите, теперь недалеко осталось». В ту же минуту старшина почувствовал, что скамья под ним раздается. С страшной силой его кинуло за борт. Он захлебнулся. Но под ногами неожиданно ощутил крепкое, каменистое дно. Бросился к разбитой лодке. Ее уже держали на плаву бойцы, подоспевшие с берега. На руках они вынесли шлюпку к причалу. Доктор бежал ко второй лодке. С нее, шатаясь, ступил в воду Евгений Устиненков. Правый рукав его гимнастерки намок кровью. На берегу санитар раздвигал носилки. Но Устиненков перешагнул через них. За ним поспевал Левченко. Он обжимал на себе мокрую гимнастерку и говорил товарищу: — Что хорошего в этих белых ночах? Не пойму. Старшина распоряжался выгрузкой продуктов. Ловкий и крепкий, он сам таскал мешки и говорил, словно успокаивал кого-то: — Прорвались-таки, чинно прорвались. По его седым волосам сбегали струйки воды.
Г Л А В А XIX ЗАТИШЬЕ

Странное затишье наступило на Неве. Противник держал под огнем переправу. В установленные часы стрелял по острову. Но это было уже не то, что минувшей осенью и зимой. Клубок войны откатился к югу страны, это понимали все. Там, в самом сердце России, на ее невспаханных черноземных полях, у донецких шахт, под высоким крымским небом разгорается решительная битва. Сводки Совинформбюро принимались в крепости стареньким батарейным приемником. Листок с четкими, ровными строками, в которых все узнавали почерк Марулина, в какой-нибудь час облетал весь гарнизон. Сводки приносили тревожные вести. Немцы снова захватили Керченский полуостров. После двухсот пятидесяти дней беспримерной обороны наши войска оставили Севастополь. Танки врага рвались к Дону, к Волге. Начиналось великое сражение за Сталинград. Нельзя было давать покоя врагу и на Неве. Надо накрепко сковать его здесь. В рукописном журнале «Орешек», который теперь выходил в крепости, первая страница открывалась призывом: «Каждая пуля, каждый снаряд — в цель! Бей фашиста на Неве, чтоб на Волге услышали!» Материалы для журнала подготавливал Валентин Алексеевич. Оформлял журнал, от начала до конца, Левченко. Он крупными печатными буквами писал весь текст, рисовал заголовки, заставки, карикатуры. Один из номеров журнала был посвящен большому событию в воинской жизни: солдаты и офицеры Советской Армии готовились надеть погоны. Нет, это были не просто матерчатые зеленые полоски на плечах. Они значили многое. Ими устанавливалась преемственность боевых традиций и славы. Погоны носили солдаты Кутузова, герои Отечественной войны восемьсот двенадцатого года. В крепость приехал командир дивизии. Он здоровался с солдатами. Они в вылинявших гимнастерках. Лишь на немногих блестели ордена и медали. Но почти на каждой виднелись нашивки за ранения, золотистые и красные. Весь гарнизон острова прошел у старинной братской могилы, где покоились герои, на пороге восемнадцатого века отвоевавшие Нотебург — Шлиссельбург у шведов. На землистый скат Марулин положил ветку бузины с кроваво-алыми ягодами — единственного кустарника, сохранившегося на острове. Цветов взять негде было. Журнал «Орешек» вышел с лозунгом на заглавной странице: «Воевать, как гвардейцы Петра, с отвагой и бесстрашием». День этот был отмечен отличным обедом, о котором, как это ни странно, позаботились немцы. Накануне ночью гитлеровцы с особенной свирепостью обстреляли крепость и подходы к ней. Как всегда немало снарядов взорвалось в озере, потревожив воду. К рассвету весь восточный берег острова оказался покрытым оглушенной рыбой. Ее подбирали прямо руками. Здесь были серебристые судачки, плотные сиги, пятнистые щуки. Нашелся даже один лосось, килограммов на десять. Всем этим добром загрузили кухонные котлы. В обед поспела такая густая и душистая уха, что от одного запаха ее шевелились ноздри. Первый котелок повар налил комдиву. Весь гарнизон ел ушицу и похваливал. Для Иринушкина этот день был редкостно счастливым. Он получил долгожданное письмо. Прежде чем попасть от почтальона к адресату, письмо прошло через полдюжины рук. Вручил его Володе Виталий Зосимов. Разумеется, он велел приятелю плясать, тот не хотел. Но уголком глаза приметив, что на конверте обозначен обратный адрес: «Поселок Леднево», отколол такую присядку, что Виталий ахнул. Письмо читали вместе, все, кто оказался в это время в землянке. Алла Ткаченко сообщала, что работает на перевалочной базе и скучать ей некогда. О тех днях, которые провела в Орешке, она будет всегда помнить. В Ледневе теперь хорошо знают защитников крепости. Писем из Орешка ждет не она одна, но и ее подруги. Коротенькое письмецо. Теплые слова. Виталий никогда не видел Аллу, но решительно определил: — Хорошая девушка! Иринушкин и Зосимов сидели за столом и, стуча ложками о края бачков, уплетали уху. Они говорили об Алле, потом вообще о девушках и, наконец, перешли на тему, излюбленную солдатами: что и как будет после войны. Для бойца самый приятный разговор о том, как вернется домой, где станет жить, где работать. Об этом беседовали часто и с удовольствием. У Виталия с детства сложилась тяга к паровозам, к гремящим на рельсах поездам. — У наших волховстроевских мальчишек, — рассказывал он, — всегдашняя мечта стать машинистом. Ты, Володька, по-настоящему понимать не можешь, что такое дорога… Тебе ведь приходилось ездить только пассажиром, в вагоне. А на паровозе не пробовал? В топке огонь ревет, ветер бьет в окна. Машина — «стук-стук». А рельсы так и летят под колеса. Эх, хорошо же… Зосимов даже глаза прикрыл, он с грустью подумал, что на острове успел совсем отвыкнуть от паровозных гудков, и когда-то доведется опять увидеть бесконечное, бегущее через поля и леса полотно. — А ты, Володька, — спросил Зосимов, — после войны какого дела держаться будешь? — Пойду учиться, — ответил Иринушкин. — Учиться многому можно. Ты — чему? — допытывался артиллерист. Володя колебался, говорить или нет. Решил сказать: — Два дела мне по душе — дома строить и стихи сочинять. — Толково, — почему-то с покровительственной ноткой в голосе протянул Виталий, — только одно с другим не вяжется… А в общем толково! Уважительное отношение Зосимова к будущим намерениям Володи подкупило его, толкнуло на откровенность. — Понимаешь, — сказал он, — я хотел бы научиться писать стихи. — Этому можно научиться? — простодушно спросил артиллерист. Пулеметчик задумался. — Можно, — уверенно подтвердил он. — Знаешь, я хотел бы написать поэму про нашего комиссара и Степу Левченко, про «Дуню» и про тебя, чумазый чертушка. — Ну, обо мне-то что писать? — удивился артиллерист. Подумав, он заметил серьезно и ободряюще: — Что ж, и те, кто пишут, — народ нужный. Конечно, это тебе не машинист. Но дело, не отрицаю, дело! Виталий осмотрелся в землянке и потянулся к полочке, прибитой над нарами: — То-то у тебя здесь книги понатыканы… Он потрогал растрепанные корешки, и на ладонь ему упала маленькая книжка с листами тяжелыми от пропитавшей их извести. — Смотри-ка, — изумился Зосимов, — поэт Генрих Гейне! Читаешь? Я в школе тоже немецкий проходил. Ну, признаюсь, в этой премудрости выше тройки не поднимался. Виталий отбросил книгу, она словно выдохнула белую пыльцу. — А на что тебе сейчас дался этот немец? Пулеметчик взял книгу, перелистал ее. — Ты знаешь, какой он поэт? — Немец! — Вот затвердил! — рассердился пулеметчик. — Да я тебе назову немца, перед которым мы с тобой шапки снимем. Маркс! Слышал? Карл Маркс! Иринушкин и Зосимов в эту минуту походили на молодых бычков, драчливо наклонивших головы. — Этот самый немецкий поэт Гейне, — продолжал Володя, — был другом Маркса. А через сто лет фашисты сожгли на кострах книги Маркса и книги Гейне. Так что сам понимаешь, немец немцу рознь. Прошло немало времени, прежде чем в землянке снова водворилось миролюбие. Виталий считал, что с другом Маркса еще можно поладить. Под низкими накатами землянки вдруг зазвучала немецкая речь. Иринушкин читал строфы из «Германии». Он тут же объяснил смысл прочтенных стихов: — При жизни счастье нам подавай! Небом пусть владеют ангелы да воробьи. Володя повернулся к товарищу, стоявшему у притолоки. — Сказать тебе, Виталька, кого всегда напоминает мне Гейне? Нашего Маяковского. Он такой же горластый, умный, злой. — Пусть хоть и Маяковского, — уже спокойно отозвался Зосимов, — только я не любитель стихов… Будешь писать Алле Ткаченко, от нашего расчета поклон! Ну, прощай! Володя вышел из землянки вместе с Виталием. Накрапывал дождь. На том берегу на соборе хрипло и прерывисто орал репродуктор. Иринушкин и Зосимов прислушались. — Защитники Шлиссельбургской крепости! — взывал голос. — Снова обращаемся к вам. Поражение Советов неизбежно. Сдавайтесь! Только так вы можете сохранить свою жизнь. Сдавайтесь! — Брехня, — презрительно махнул рукой артиллерист. В последнее время гитлеровцы часто повторяли предложение о сдаче крепости. В гарнизоне к этой болтовне привыкли и не придавали ей никакого значения. На дворе плюхнулась мина. В бойцов полетели комья земли. Зосимов усмехнулся. — Вот как она звучит, немецкая поэзия. И пошел к башне, высящейся за косой сеткой дождя. Долго еще стоял Иринушкин у входа в землянку. Тяжелые капли поднимали на лужах пузыри. Тучи шли так низко, что казалось, это дым.
Г Л А В А XX СО ДНА РЕЧНОГО

Едва ли не каждый день дивизионный «бог огня», как называли начальника артиллерии, звонил в крепость и требовал, чтобы берегли боекомплекты. Зимой была установлена жесткая суточная норма: три снаряда на ствол. Теперь норму увеличили. Однако не так, как надо бы, когда стоишь нос к носу с противником. Это очень портило настроение артиллеристам. И переживалось ими тяжелее, чем недостаток продуктов. Правда, с продуктами стало намного легче. До изобилия, конечно, далеко. Но все-таки томительное, унижающее чувство голода исчезло. Бойцы попривыкли, научились обходиться пайком. К тому же в отделениях и расчетах нередко устраивались своего рода складчины. На протяжении трех-четырех дней все отдавали часть своего хлеба и табака одному «счастливчику», чтобы он мог основательно «заправиться». Потом место«счастливчика» занимал другой, и так чередовалось все отделение. Полушутя ребята из «Дуниного» расчета уговаривали других артиллеристов устроить такую же складчину для их орудия. — Одолжили бы по снарядику, дали поработать на всю железку, — говорили они. Первым результатом строгой нормы было то, что артиллеристы научились беречь снаряды и стрелять без промаха. «Пустой» выстрел считался позором. Цель выбирали обстоятельно и поражали ее наверняка. Но у людей руки зудели — подкинуть на тот берег огоньку, да беглым, беглым. О чем бы ни разговаривали между собой артиллеристы, беседа их непременно сворачивала на «снарядную норму», и нельзя ли тут какое послабление сделать. Так уж им въелась в печенки эта норма. В «Дунином» орудийном гнезде постоянно дежурили по два человека. При надобности они вызывали к бою весь расчет. Дежурные пары складывались как-то сами собой, немалую роль здесь играла дружеская приязнь. Только Зосимов и Калинин попали на такое парное дежурство вопреки ей. Сначала они даже в разговор друг с другом не вступали. Каждый занимался своим делом: один наблюдал через амбразуру, второй работал у пушки. Затем менялись местами. Но «на точке» не разговаривать никак нельзя. Потому что, если молчать, неудержимо тянет ко сну. И в парах установился такой порядок: один говорит, а его сотоварищ подтверждает, что слушает. Виталию и Константину Ивановичу оставалось только следовать этому обычаю. Другого выхода не было. В первую пору не очень складные у них получались разговоры. Ну, о чем толковать человеку, родившемуся еще в прошлом веке, с мальчишкой, который лишь на днях в первый раз побрился? Константин Иванович, позевывая, а потом все более увлекаясь, заводит рассказ о восемнадцатом годе, о том, как отходили под натиском колчаковцев, а чуть позже погнали их через всю Сибирь. — Сообразить надо, — повествует ефрейтор Калинин, — тогда нашей республике шел всего-навсего первый годок. Кем мы были? Мужиками, только дюже сердитыми. А мужика рассердить, он с цепом пойдет колошматить хоть кого. Воевали за что? За землю. И еще — за волю. Чтобы соплякам вроде тебя не знать таких слов: «господин», «барин», «батоги». Это мы понимали. — Слышу, Константин Иванович, слышу, — говорит Виталий. — Была у меня о ту пору пушчонка, — продолжает ефрейтор, — трехдюймовка. Это теперь пошли семидесятишестимиллиметровки и сорокапятимиллиметровки, а тогда на дюймы меряли… И вот, под Ачинском это было, сильно нажали на нас беляки. Стояли мы, помнится, в ольховой рощице. Прискакал к нам на пегом жеребце комбриг Гришко, — была у него и фамилия, конечно, но мы его по-свойски звали. Соскочил Гришко наземь, папаху с кучерявой головы долой. «Братцы, бомбардиры, — кричит, — выручайте. Надо белякам во фланг стукнуть. Летите что есть духу на ту пожинку!» — И показывает, куда лететь, а там все дымом затянуло. — Слышу, слышу, — затаив дыхание, откликается Зосимов. — У меня же, вишь ты, на беду упряжной конь оступился да охромел, так Гришко кричит: «Бери моего жеребца. Только чтобы в момент!» Выскочили мы на ту пожинку, развернули пушки. А беляки, вот они, тут. А мы как вдарим. Да еще раз, и еще… — Слышу! — это опять Виталий. — Ладно, слышишь. Так что? — скептически замечает ефрейтор. — Ну, давай, твой черед рассказывать. Зосимов начинает говорить про школу, про экзамены, как кто-то там «плавал», а кто-то «срезался». Калинин слушает, отзывается, но все невнятней. Вдруг всхрапывает и сердито трет себе щеки. — Ты бы позанятней что придумал, — ворчит он, — а то городишь ерунду… Господи, тянет в сон, как в омут. Наводчик старается найти тему поинтереснее, но все неудачно. Константин Иванович, единственно чтобы не заснуть, начинает ругать своего напарника. Виталий терпеливо выжидает. Как только ефрейтор замолчит, он сразу ему какой-нибудь хитрый вопрос, думает отвести тем беспричинный гнев. — Скажите, Константин Иванович, — спрашивает Зосимов, — чего это вы старый буденовский шлем носите? Ефрейтор спотыкается, как конь на бегу. — Чего, чего, — передразнивает не без язвительности и показывает заштопанную дыру на самом шишаке, — видишь? Это в бою под Уфой в восемнадцатом прострелили. Ну, есть такая примета: пуля второй раз на старое место не идет. В приметы я верю… Без передышки дядя Костя сворачивает на привычную колею: — Вы, молодые, нынешние, чем берете? Глаз у вас вострый. А потом — наука. Теперь каждая пигалица в образованные выходит… Мне бы мои молодые годы, сел бы за книжки, тетрадки, увидели бы тогда, каков он, ефрейтор Калинин. Дядя Костя надсадно кашляет. Виталий тянет его к амбразуре. — Взгляните-ка — фашисты! Эх, жаль, снарядов мало. Калинин тоже смотрит на фашистов. Потом с сожалением отворачивается. Смотреть противно. Снарядная норма на сегодня полностью израсходована. Вопрос о норме волнует его до скрежета зубовного. Он прикидывается равнодушным, начинает говорить о том, что было бы при полном боекомплекте. Виталий слушает не очень внимательно. Сколько уж об этом говорено. Когда сменились и вышли из дота, Константин Иванович все еще ворчал по поводу снарядной нормы. Потом вдруг сказал, как о чем-то простом и ясном: — Придется поразведать баржу, что в Неве бултыхается. Должны там найтись каленые для нашей «Дуни». На реке, ближе к правому берегу, виднелась корма затонувшей баржи. О ней и говорил ефрейтор. Известно было, что она затонула в прошлом году, получив пробоину в днище. Знали также, что баржа везла снаряды. Подъем ее на виду у врага был невозможен. К тому же снаряды после многих месяцев пребывания в воде могли попортиться. Что же задумал дядя Костя?
__________
Артиллеристы, хорошо знавшие Константина Ивановича, решили, что он расхворался. Так необычно было его поведение в последующие дни. Он никого не «ершил» и не «взбадривал». Казался всецело поглощенным какой-то думой. Каждый свободный час он проводил у причала и неотрывно смотрел на затонувшую баржу. Те, кто видели, как ефрейтор шел на командный пункт, позже рассказывали, что он вслух рассуждал с собой и даже размахивал руками. Подробности его разговора с комендантом узнали немногие. А разговор был примечательный. Мысль, изложенная ефрейтором, поразила коменданта. Он объяснил Константину Ивановичу всю опасность его предложения, если принять его всерьез. — Помимо всего прочего, — сказал комендант, — нам не известны все обстоятельства затопления баржи. Наверное, не обошлось без сильного удара. Возможно, что в части снарядов взрыватели стали на боевой взвод… — Я же старый артиллерист. — Внутренне ефрейтор подосадовал, что ему объясняют такие простые вещи. — Риск велик. — Опять-таки на войне без риска нельзя. — А если для этого дела найти кого помоложе? Более тяжелой обиды дяде Косте нанести было невозможно. Снова молокососы становятся ему поперек дороги! Он гневно засопел. — Не знаю уж, кто из молодых нырнет дальше меня. Я Иртыш под водой проходил до половины. Пусть попробуют… Долго, в раздумье, молчал комендант. Наконец сказал: — Больше одного человека в помощь вам дать не могу. Слова эти означали не что иное, как разрешение. Артиллеристы по самой профессии своей народ смелый, узнав о задумке ефрейтора, удивились. Когда комендант спросил огневиков, кто пойдет с Константином Ивановичем, Зосимов решительно шагнул вперед и встал рядом с Калининым. В глазах Виталия светилась молодая, озороватая удаль. — Товарищ комендант, — сказал он весело, — я пойду. Только прикажите товарищу ефрейтору, чтобы он не ворчал, а то мне и на дежурстве во как надоело… Следующей ночью вдвоем они подвели шлюпку к затонувшей барже со стороны, скрытой от немцев. Шлюпка неразличимо слилась с обводами торчащей кормы. Ефрейтор потрогал воду и начал раздеваться. Он перебрался на корму баржи и велел Виталию отгрести как можно дальше, под береговую тень. — Дядя Костя, — начал было Зосимов. — Разговоры! — остановил его ефрейтор. Виталий видел, как Константин Иванович исчез под водой. В этом месте разошлись круги. Нырнувший не появлялся так долго, что Виталий начал тревожиться. Но вот показалась над поверхностью голова. Виталий хотел подплыть. Но ефрейтор махнул ему рукой — дескать, оставайся на месте. Не меньше восьми раз Калинин спускался под воду, и все без результата. Тускнела надежда на успех затеянного. Ефрейтор, тяжко дыша, вылез на корму. Он долго отдыхал, вздрагивал под ночным холодком. Видно, старое сердце давало себя знать. Когда он нырнул в девятый раз, Виталий не заметил. Посмотрел, а на корме никого нет. Ожидание показалось юноше страшным. Он не выдержал и двинулся к черной громаде, высящейся над водой. Внезапно под веслом забулькало, лодка накренилась. Константин Иванович схватился за борт и велел: — Помоги, быстрей! Общими усилиями они вытащили из воды снаряд. Ефрейтор растер свое смуглое тело и начал одеваться. — Больше не смогу, — сказал он, — ныряй ты. Да смотри не запутайся в веревках; ящики на палубе веревками перехвачены. Зосимов был хорошим пловцом. Он уверенно нырнул. Но даже близко не подобрался к снарядам. Еще нырнул — и успел только нащупать канаты. Ему было совестно. Думалось: «Вот уж дядя Костя поиздевается вволю». Но ефрейтор после очередного неудачного нырка примирительно сказал: — На сегодня хватит. Отдохнем. Они вернулись в крепость. Четыре ночи подряд артиллеристы выходили к барже. Теперь они работали более спокойно. Виталий спускался в воду с открытыми глазами. Он улавливал громоздкую, наплывающую на него тень корпуса. Ножами они перерезали канаты. Стало легче добывать снаряды. Ящик в воде казался податливым, легким. Но на поверхности сразу обретал свою тяжесть. На борт его втаскивали с трудом. Лодка возвращалась к причалу острова на рассвете. Она бывала так нагружена, что края едва виднелись над гладью реки. В крепости снаряды осматривали, протирали, смазывали, снова протирали. Примерно половина из них годилась в дело.__________
Честь первого выстрела досталась Константину Ивановичу. Это была не только честь. Первый выстрел не вполне известным снарядом всегда опасен. Ефрейтор сам настоял, чтобы проба была поручена ему. Весь расчет был удален из гнезда. Дядя Костя стрелял один. Снаряд исправно пошел на цель. И начала «Дуня» снова и снова кромсать вражеский рубеж. Орудие стреляло полными днями, глубоко вороша немецкие позиции. Артиллеристы повеселели, крепко пропахли порохом, почернели от дыма. Дивизионный «бог огня» кричал в телефонную трубку, грозил немедля призвать к ответу огневиков Орешка: — Почему такая стрельба? Вы расходуете неприкосновенный боезапас! Комендант крепости терпеливо объяснял, что он понимает смысл приказов и не собирается их нарушать. — Проверим! — пообещал начальник артиллерии. На остров прибыл офицер из штаба дивизии, специально чтобы пересчитать снаряды. Он поднялся прямиком в «Дунино гнездо» и здесь нашел все восемьдесят снарядов боекомплекта нетронутыми. Артиллеристы объяснили ему в чем дело. — Наша «Дуня» теперь самая богатая невеста на фронте, — говорили они, посмеиваясь.Г Л А В А XXI УЛЬТИМАТУМ

В вечереющем небе на большой высоте появился самолет. Он снижался над островом крутой спиралью. Небо запестрело темными облачками зенитных разрывов. Самолет на вираже сбросил груз и ушел. Груз падал прямо на крепость. Над башнями он вдруг рассыпался сотнями маленьких белых листовок. Немецкое командование «еще один и последний раз» обращалось к солдатам Орешка: «Героические защитники Шлиссельбургской крепости!» — так начинались листовки. Это обращение вызвало у бойцов смех и многочисленные остроты. — Вот до чего дошло, — говорили бойцы, — в герои нас произвели! — Лестью стараются подкупить! «Зачем напрасное кровопролитие? — спрашивалось в листовках, — Сталинград взят доблестными немецкими армиями. В Ленинграде нашими войсками занят Кировский завод. Город падет на колени в любой день, когда прикажет фюрер. Вот полюбуйтесь этой картой». Здесь же была напечатана карта Ленинграда. Черный круг обозначал гитлеровские войска, замкнувшие осаду. Линия фронта проходила через самый город, отхватив всю его южную часть. «Выхода нет, спасения нет, — подводился итог в листовках. — Пожалейте ваши жизни. Подумайте о судьбе родных. Еще один и последний раз обращаемся к вам. Из чувства человеколюбия предлагаем прекратить сопротивление. Крепость должна сдаться со всем оружием. Обещаем гарнизону сохранить жизнь. Для размышления вам дается ночь. Если до наступления рассвета не вывесите белый флаг, вы все погибнете. Шлиссельбургская крепость будет сровнена с водой!» — На испуг берут! — решили бойцы. — Насчет Сталинграда вранье. Сегодня сводку приняли. Врут фашисты. — А Кировский завод? Неужели? Нет, не может того быть!
__________
Ночью крепость готовилась к бою. Все были на ногах. Ровно в шесть утра наблюдательные посты передали предупреждение: — Воздух! Воздух! Из-за края тучи, посеребренной восходящим солнцем, выскользнули бомбардировщики. Они летели в небе, пегом от зенитных разрывов. До сих пор немцы избегали атаковать крепость с воздуха. Она находилась в такой непосредственной близости к позициям гитлеровцев, что при малейшем просчете летчики могли разбомбить свои войска. Но сейчас противник шел на крайние меры. Двенадцать «юнкерсов» сбрасывали бомбы на островок, который терялся под тенью их крыльев. В то время как шесть самолетов пикировали, шесть других разворачивались для боевого захода. Земля дрожала под непрерывными ударами, ее уводило из-под ног, смерчем поднимало ввысь. Рушились стены. Гарнизон укрылся в подземельях — под своим огнем немцы штурмовать крепость не станут. Бойцы были готовы по первому сигналу занять места на огневых точках. Все вокруг гремело, стонало, скрежетало. Казалось, сама земля кричит от боли и ярости. В этом пекле несли бессменную вахту наблюдатели. На Головкинской башне дежурил Евгений Устиненков. Башню шатало. Устиненков чувствовал, как ее клонит то в одну сторону, то в другую, — ее сотрясало от близких взрывов. Очертания крепости различить невозможно, вся она в черно-красных облаках. Воздух на большой высоте трепетал голубыми волнами. Устиненкова внезапно отбросило от амбразуры и с огромной силой прижало к стене. Он успел заметить только мелькнувшее крыло самолета. В следующее мгновение наблюдатель был снова у амбразуры. Багровые дымные валы с острова застилали озеро. В надвигающемся огромном облаке, уходя в него и снова выскальзывая, советские истребители вели бой с «мессершмиттами» прикрытия. Пулеметные трассы скрещивались в воздухе, как бичи. Наши ястребки, защищая хвост друг друга, образовали колоссальное крутящееся колесо. Два из них вырвались из стремительного вращения, но колесо не распалось, сомкнулось. Два ястребка ринулись вниз и смешали строй неповоротливых, тяжелых бомбардировщиков. Теперь их было десять. От последовательности атак и следа не осталось. Они бомбили вразброд. Им приходилось низко пикировать, чтобы не угодить в свою пехоту. Береговые зенитки стреляли по ним в упор. Вот еще один «юнкерс» задымился, потянул над озером в сторону. Он едва не задевал крылом воду. Евгений Устиненков сжимал в руках телефонную трубку, из которой доносились приглушенные выкрики: — Устиненков! Слышишь нас? Почему молчишь? Что с тобой? Что с тобой? Отвечай, Устиненков! Евгений прижимал трубку к уху, которое показалось ему страшно распухшим. Во всем теле он ощущал чугунную тяжесть. Руки и ноги стали непослушными. Он знал, что это такое. Его уже контузило однажды. Преодолевая туман, застилающий сознание, Устиненков ответил командному пункту: — Я живой! Малость оглушило меня. Держусь, все в порядке. Присылать никого не надо. Держусь, говорю! Наблюдатель старался установить, что произошло. Самолет обстрелял башню? Или снаряд попал? Кирпичный козырек над амбразурой снесло, как ножом срезало. Вражеская артиллерия давно уже вела огонь по крепости. Никто не мог сказать, когда начался обстрел. Вой бомб сливался с разрывами снарядов в такой грохот, что его слышали в окопах Назии, Дубровки, далеко по Неве. Немцы навели на крепость крупнейшие орудия, калибром свыше трехсот миллиметров — осадную артиллерию, переброшенную из Севастополя. Об этом узнали позже. А сейчас над островом гремела такая огненная крутоверть, какой, пожалуй, не бывало ни на одном участке фронта в верховье Невы. Дым, перемешанный с каменной пылью, поднялся до вершины башни. Устиненкову стало трудно дышать. Под веки набился песок, нестерпимо больно было глазам. Но он упорно смотрел перед собою. Он увидел, как черные клубы дыма раскололо молнией. Алая змейка выхлестнула на поверхность, сникла, снова поднялась, уже окрепшая, жаркая, злая. Пламя, словно полотнище, развернулось по ветру. Срывая голос, Евгений закричал в телефонную трубку: — Крепость горит!__________
Под сводами большого подземелья было темно и душно. Кое-кто из бойцов растянулся на полу, другие сидели, прислонясь к стенам. Вокруг и рядом — плотный, почерневший от времени камень. И камень лихорадочно трясся. Казалось, он издает низкий, гудящий звук. Остров и прежде подвергался очень сильным обстрелам, но такому — никогда. То был огонь с явным расчетом на уничтожение всего живого. Бойцы прислушивались. У каждого в руках винтовка или автомат. Степан Левченко захватил еще и баян. Товарищи раньше ни разу не слышали, чтобы он играл на сверкающем перламутром инструменте. А тут — пожалуйста: Степан с баяном. Инструмент этот имел свою особую историю. Левченко был неплохим гармонистом. В родном селе без его музыки не обходилось ни одно гуляние. Но здесь, в Морозовке, однажды довелось ему увидеть незабываемое. С перекрытия только что разрушенного бомбой дома свешивался совершенно разбитый баян. Мехи, изрешеченные осколками, будто замерли на тонком певучем звуке. Степан потянулся к инструменту и отпрянул. Среди развалин лежал ребенок с окровавленными белыми волосиками. Левченко несколько часов работал на разборке завала вместе с подоспевшими саперами. На прощание командир саперов протянул солдату перламутровый инструмент, — чтобы «все запомнил и воевал злей». Степан взял баян. Дома, в землянке, долго и упорно чинил его. Но решил: до конца войны играть на нем не будет. Такие «зароки» у бойцов встречались нередко, и даже самые зубастые ребята не осмеивали их. Баян не один месяц пылился под нарами, на которых спал Левченко. Бойцы, видевшие инструмент, конечно, просили Степана повеселить компанию. Но неизменно встречали отказ. Решили, что он играть не умеет. И упрашивать нечего… Сейчас, в грозные минуты, Левченко сам заиграл. Тронул басы, пробежал пальцами по дискантовым ладам. И полилась, поплыла по всему подземелью тихая, нежная, берущая за сердце музыка. В ней чудилось и раздолье полей, и лесной шум, и деревенское утро с глухими ударами колокольца, подвешенного к шее стригунка, и шорох сена в стогах. О несказанно родном, милом с детства говорил баян. Ах, и хорошо же играл Левченко! Никто не видел его лица. Он низко наклонился над поющим баяном, уронил чуб на мехи. Товарищи подвинулись ближе к нему. А Степан все играл, играл… То здесь, то там в подземелье загорится спичка, горит долго, ее перехватят, она дотлеет и до другого конца. Огрубевшие пальцы неловко сжимают карандашный огрызок, буквы глубоко вдавливаются в бумагу, положенную на ладонь. Солдаты, как обычно перед трудным боем, обмениваются своими домашними адресами, адресами родных. Тут — Ленинград и Киев, заводские уральские поселки и деревни на Псковщине… У всех уверенность, что после бомбежки и артобстрела гитлеровцы начнут штурм крепости. Каждый знает — отступать нельзя, некуда, и пока дышит солдат, со своего поста не уйдет. Говорить об этом ни к чему, все ясно и неизменно, как жизнь и смерть. Шумно раскрывается дверь. Вспыхивает лампочка батарейного фонарика. На пороге — Марулин. У него на лбу черное, размазанное пятно копоти. — Быстрей наверх! — взволнованно приказывает комиссар, — на острове пожар!__________
Казалось, чему гореть в крепости? Вся она — камень и железо. Но крепость горела. Полы и потолки в корпусах, накаты землянок, почва, пропитанная известью, исторгали пламя. Обстрел теперь явно шел на убыль. Это заставляло всех тревожно напрягать внимание. Пока комендант на командном пункте и наблюдатели на вышках следили за передним краем врага, комиссар и бойцы боролись с пожаром. Они сбивали пламя, гасили его брезентовыми полотнищами, песком. Люди окунались в плотный дым, как в воду, выбегали отдышаться и снова бросались обратно. Дым забивал легкие, перехватывал горло. Но он же и скрывал бойцов от противника, не давал ему вести обстрел прицельно. Выскочив из душного, ползущего вала, солдаты едва переводили дыхание. Лица почернели, глаза слезились. В такой обстановке командовать не легко. Валентин Алексеевич спешил туда, где огонь разгорался свирепей. И всякий раз он замечал рядом с собой Иринушкина. Пулеметчик умудрялся неотступно следовать за комиссаром. Возле пылающей часовни Володя вдруг толкнул Марулина с такой силой, что он не удержался на ногах. Валентин Алексеевич вскочил, оглянулся и мгновенно понял, что этот толчок спас ему жизнь. На том месте, где он только что стоял, вихрились искры. Упала крыша часовни вместе со стропилами. Комиссар хотел поблагодарить пулеметчика, но его поблизости не было. — Иринушкин! Где ты? — закричал Валентин Алексеевич. Ответа нет. Тогда Марулин прыгнул прямо в горячий чад и сразу же на ощупь нашел Володю. Его придавило балкой. Обжигая руки, комиссар оттащил балку. Вместе с пулеметчиком он отполз подальше. Оба долго не могли отдышаться, сплевывали черную слюну. На Марулине горели сапоги. Он снял их, прибил ладонями огонь и снова надел, несмотря на большую дыру в голенище. Иринушкин встал и пошел вслед за комиссаром. Теперь они держались еще теснен, часто оглядывались один на другого, словно хотели сказать: «Здесь ты? Не отставай». Наибольшую опасность пожар представлял для складов боезапаса. Возле них солдаты стояли плотной цепью. Для верности пространство перед складами окапывали широкими траншеями. Еще не вполне и не всюду удалось сбить пламя, еще не прекратился артналет, когда с командного пункта отдали приказ: — В ружье! В тлеющих гимнастерках, обожженными руками люди выкатывали из укрытий орудия, пулеметы, минометы. Иногда это не удавалось сделать сразу. Приходилось разбирать завалы. Случалось, под развалинами находили только сплющенный металл. Со всем уцелевшим оружием защитники крепости залегли на стенах, за валами, в боевых ячейках. Никто не мог бы сказать точно, сколько времени длился обстрел. Никто не мог определить: день сейчас или вечер? Наступили сумерки или воздух, пропитанный гарью, стал сумеречно серым? Кажется, металлом, который в этот день был сброшен на крепость, можно бы заковать весь крохотный невский островок, покрыть его толстым броневым слоем. То, что могло гореть, превратилось в пепел. Плавилась тавровая сталь, рассыпался гранит. Но люди дышали, жили, боролись. Они смотрели вперед. Они готовы были отстаивать этот клочок родной земли свинцом и кровью. Обстрел прекратился. В ушах все еще гудело, выло, гремело. Прошло немало времени, прежде чем слух уловил тишину. И тишина была почти чудом. Она казалась даже страшной, так как многим вдруг подумалось, что они оглохли. Но нет, не рвутся снаряды. Не падают стены. Волна набежала на берег и откатилась с внятным плеском. Начал рассеиваться дым. Не отрываясь, все смотрели на Неву: не покажутся ли на ней лодки? Пойдут немцы на штурм или нет?.. И гитлеровцы смотрели из Шлиссельбурга на остров, на развалины, из которых вырывалось пламя. Найдется ли там хоть один живой человек, чтобы выбросить белый флаг — сигнал сдачи? И они увидели. Над обугленной крепостной колокольней торчал наподобие мачты одинокий железный штырь. У подножия штыря появилось собранное в ком полотнище. Оно медленно поднималось вверх. Очень медленно, с остановками. На самой вершине ветер расхлестнул полотнище во всю ширь. Алое, пробитое осколками и обожженное, оно реяло над развалинами! Появление красного флага было настолько неожиданным, что гитлеровцы даже не обстреляли его. Они молчали, устрашенные мужеством защитников острова. Враг рассчитывал убить крепость, взять ее мертвой. Но она жила и сопротивлялась. Орешек открыл огонь по противнику из всех уцелевших стволов. Стрелял из автомата Степан Левченко. Он деловито выбирал цель. Фашисты, возбужденные боем, на некоторое время утратили осторожность. Степан воспользовался этим. Он сменил уже вторую обойму, и в каждой было по десятку смертей. Стрелял Иринушкин. У него ныла ушибленная нога. При каждом движении он стонал от боли. Но от пулемета не отходил. Разворачивал его от плеча к плечу. Замок уже обжигал руки, а он все бил, бил. Во всю силу гремела «Дуня». Накаты над дотом обрушились, но не повредили орудие. У ефрейтора Калинина намокла повязка на левой руке, он действовал одной правой. Зосимов, посмуглевший от гари, впился глазами в панораму. Распухшие, разбитые пальцы вцепились в маховичок. По вороненому железу стекала кровь, капля за каплей. Ствол, громыхнув, откатывался и снова становился на место. Весь край острова пышет бело-багровыми дымками. Солдаты Орешка ведут бой. Мы живы, живы! Суньтесь-ка!__________
Так как почти вся жизнь крепости давно уже ушла в подземелья, разрушение стен не имело решительного значения. Древний каменный шестиугольник от бомбежки особенно не пострадал. Кое-где тяжелые глыбы осели, местами раздались трещинами. Но в общем остались неуязвимыми. Зато внутренние постройки были разбиты почти полностью. В десятке зданий с трудом удалось найти три-четыре комнаты сравнительно целых. В них перевели командный пункт «первого эшелона», для которого необходимо было постоянное зрительное наблюдение за противником. Понадобилось около недели, чтобы снова построить накаты над землянками, отремонтировать поврежденные орудия, негодные заменить. Минувший бой был очень трудным. Но он многому и научил защитников острова. Правильнее сказать, в эти часы с предельной ясностью сказалось все, чему они научились за месяцы обороны. Если взглянуть с берега, крепость казалась разбитой. В сущности же противнику не удалось нанести существенного вреда ее силе. Угроза сровнять Орешек с водой никаким образом не осуществилась. Гарнизон был снова готов к любым испытаниям.Г Л А В А XXII ВТОРОЕ ПИСЬМО В. ИРИНУШКИНА

Добрый день, Алла, скоро год, как мы с тобой знакомы. А виделись всего два неполных дня. Думаю о тебе часто. Самое приятное для меня дело — писать тебе письма. Знаешь ли, у нас на острове, наверно, каждый молодой солдат переписывается с девушкой. Даже с незнакомой, и чаще всего — с незнакомой. Переписка начинается так. Приходит письмо, на конверте обозначено: «Бойцу Советской армии», иногда — «Лучшему бойцу». Девушка объясняет, что в газетах она много читала о защитниках Родины, и вот — хочет сказать им доброе слово. В письме сообщается обратный адрес, имя. По этому адресу приходит ответ. Завязывается переписка. Боец и девушка узнают друг у друга, откуда родом, сколько лет, даже какой цвет волос и глаз. Обмениваются фотографиями. Боец и девушка назначают свидание после войны. К заочной подружке солдат крепко привыкает. Если от нее долго нет вестей, тоскует. Послушай, ведь этого же никогда не бывало, чтобы дивчина первая написала парню письмо. А сейчас пишут. Потому что понимают, как нам дороги эти треугольнички с торопливыми строками, написанными пусть незнакомой, но милой рукой. Я по себе знаю: без твоих писем мне жилось бы труднее. Понятно? Ты удивишься, когда узнаешь, как я пишу тебе письмо. Я пишу его очень долго, недели две. Я работаю у своего «станка» и обдумываю слова, которые сегодня напишу. Поэтому я привык постоянно разговаривать с тобой. О чем? О том, что вижу и думаю, о людях, с которыми встречаюсь… Понимаешь, Алла, время летит, и снова наступает осень. А к осени и зиме мы как медведи тащим в свою берлогу всякую поживу. Все припасаем к трудным месяцам. По таким вот делам мне, в очередь с товарищами, часто приходится бывать на правом берегу. У меня появились там новые знакомые. Хочется рассказать тебе о них. Хоть об одном. Недавно вместе с дружком моим, Степой, переправился я в Шереметевку за воском. Это продукт очень нужный нам, мы его вскладчину даже на хлеб вымениваем. В землянках приходится для света провод жечь. От него — страшная копоть. Ну, так мы из растопленного воска и плавучего фитилька делаем отличные лампы, верней — лампадки. В Шереметевке нам показали дорогу на старый пчельник. Он на краю поселка. Колоды там тихие, без пчел. И хатка маленькая, в два окна. Вышел ко мне лысый старик. На лице у него — ни единой морщинки, глаза колючие, с красноватыми веками. Я объяснил, что мне требуется. Он пошел в сарай и принес почернелую сотину. Говорит: — Пчелы перемерли, подкармливать нечем. А это добро есть. Берите. От хлеба он отказался: — Мне, старому, много не надо. Обойдусь. Ешьте сами, вам для войны силенки нужны. Привезли мы сотину на остров и рассказали товарищам про чудного старика. Расплавили мы воск, разлили его по банкам. Затеплились фитильки. Запахло у нас в землянке медом, таким ласковым, забытым запахом, что от него даже сердце щемит. Ребята поругали нас со Степаном за то, что не сумели уговорить старика хлеб взять. Решили послать ему чаю — мы на два дня отказались от чайного довольствия. На кухне повар дал нам порядочный цибик, заклеенный, с этикеткой. В следующую поездку отнесли мы этот цибик пасечнику. Чаю он обрадовался. Сам заварил. Угостил нас. Пьет не спеша и спрашивает: — Как бойцы угадали, что я чаехлеб? Что верно, то верно. Любитель. Попили мы чаю, вышли на улицу, сели на скамейку, прибитую к стене хатенки. Воздух холодный, а старик не чувствует этого, холстяную рубаху расстегнул. Нам спешить некуда, все равно ночи дожидаться. Разговорились. Старик все косился на ульи; вздохнет, отвернется и опять туда же смотрит. — Э-эх, пролетели годы, как вешние воды, — бормочет пасечник и обращается к нам: — Ну, пожил я немалый кус, всего повидал: и голоду, и холоду. Поверите, за всю жизнь слезины не проронил. А ноне, как помирали рои, в голос ревел… Зимой-то я свой сахар отдавал пчелам. Куда там, не хватило. Те, что уцелели, к лету оправились. Ну, опять-таки, взя́ток мал. Слышу, затихают, затихают рои… Подумалось, как одиноко старику среди пустых ульев. Степан спросил: есть ли у него дети, почему не живет с ними? — Дочки у меня тут, в поселке, — ответил он, — да я с пчельника уйти не могу, боюсь, не растащили бы колоды на дрова… — И заговорил о другом: — Вы в наших краях бывали прежде? Хорошо у нас тут, на Ладоге. Он смотрел вокруг любовно и долго. Я понимал, что вот живет человек, среди этой красоты родился, вырос, состарился, все время видит ее, а привыкнуть к ней не может. Она все свежа и радует глаза и душу. Туманы легли на поля и лесок, потемнело озеро. Раскатисто громыхнул взрыв. Пасечник не обратил на него никакого внимания. Опять заговорил: — И старинный же это, скажу вам, край. Вот она, к примеру, Шереметевка. Думаете, почему так называется? Отсюда князь — фельдмаршал Шереметев — на шведов войной шел… Опять же неподалеку — другое село. Посечино. Как раз на этом месте в давние времена был великий бой, и русские шведов насмерть посекли. А вниз по Неве, видите, бугрится Преображенская гора. За нею — заповедное урочище, зовется «Красные сосны». Мне дед сказывал, а тот от своего деда слыхал, будто в бору после битвы прилег отдохнуть шведский воевода. А молодая сосенка в одночасье проросла сквозь него, пришила корнями к земле! Старик засмеялся беззубым ртом. — Видите, молодцы, не живется ворогу на нашей землице. Так уж оно повелось… А колоды мне еще вот как понадобятся, я богатющие рои разведу… Тем и закончился наш разговор. Вот какой он, шереметевский пасечник. Занятный старик. В этот раз мы привезли на остров много воску. Мы из него чудо-лампы понаделали… Алла, в письме посылаю тебе свою карточку. В Морозовке раздобыли мы фотоаппарат марки «кодак». Вот и снимаемся на память. Не удивляйся, что на голове у меня старая буденовка. Это — собственность ефрейтора Калинина. Мы выпросили у него буденовку, и почти каждый сфотографировался в ней. Пришли, пожалуйста, свою карточку, если можно. Будь счастлива.
Г Л А В А XXIII УВАРЫЧ

Осенние дожди и туманы для пехотинцев — распроклятая погода, а для разведчиков — лучше не надобно. Туман, как мать родная, укроет и скроет, и следы спрячет. В крепость все чаще стали наведываться ребята из дивизионного разведбатальона. Было там немало солдат, которые начинали службу в Орешке. Еще в прошлом году по приказу комдива на острове начали готовить отделение, двенадцать человек для поиска. Тренировались они на совесть, учились ползать по-змеиному, не отрываясь от земли, развивали умение видеть во тьме и нападать без единого выстрела. Следующим приказом все отделение передавалось в состав разведбатальона. Вообще, солдаты, прошедшие закалку в крепости, ценились на фронте. В дивизионной газете даже была напечатана статья, в которой Орешек называли «Школой мужества». В Шлиссельбургской крепости с разведчиками сдружились и потому, что среди них имелись свои, «островитяне», и потому, что сами по себе они были как на подбор — надежные, общительные и ладные люди. Особенно один из них полюбился всем. Маленький, быстрый, смешливый. Он казался сложенным из шаров разного размера. Плотный корпус с выпуклой грудью. Круглая, коротко остриженная голова. Маленькие, темные шарики глаз. И все это — в движении, пышет здоровьем, весельем, силой. И фамилия у разведчика круглая, звонкая. Куклин. Иван Уварович Куклин. Никто не умел плясать так, как этот ловкий и жизнерадостный человечек. При встрече солдаты упрашивали его: — Спляши, Уварыч, согрей душу! Он никогда не отказывался. С места бросался вприсядку. Солдаты хлопали в ладоши, все ускоряя такт. Куклин кружился, взвизгивал, присвистывал. Автомат мешал ему. Он снимал его с шеи, крутил в руках, над головою — сталь сливалась в сплошной круг. Нельзя сказать, что это был какой-то определенный танец. Верно, белорусы считали, что наслаждаются зрелищем «форменной бульбы», а украинцы дивились: «То ж наш гопак». Тут было всего понемножку. Танцор сам выдумывал фигуры и чередование ритмов. Это захватывало зрителей, вызывало шумное одобрение. В разгар танца Куклин вдруг останавливался. Потный, красный, он смущенно переступал на своих коротких, толстых ногах и отвешивал поклон публике. Его подхватывали на руки, качали. Если дело происходило в землянке, он вопил, не на шутку перепуганный: — Отстаньте, о потолок разобьете! Мне сегодня в дело идти! Мастер потанцевать, любитель побалагурить, Уварыч никогда не пускался в пространные рассуждения о «деле». В крепости он появлялся неожиданно. Целыми часами лежал где-нибудь на стене или в укрытии, у ее подножия. Чаще всего он забирался в «хитрый домик». Это было старое, низенькое, совершенно разбитое сооружение на Головинском бастионе. Бастион, узкий, длинный и плоский, как утиный нос, насыпан на острой оконечности острова. Отсюда хорошо просматривались набережная и улицы Шлиссельбурга. Куклин лежал среди нагромождений камня и наблюдал. Очень долго и пристально. «Дело» всегда начиналось тут, на острове, на стенах или в «хитром домике». Затем так же внезапно Уварыч и его товарищи-разведчики исчезали. Исчезали и их маленькие легкие лодки с островного причала. Разведчики появлялись снова обычно на рассвете. На многих из них были кровавые бинты. Куклин угощал приятелей немецкими сигаретами. Эти тоненькие, душистые сигареты никому не нравились. Брали их, чтобы не обидеть разведчиков отказом. Но те и сами говорили: — Наша махорка основательней. Их спрашивали: — Где были? Они отвечали неопределенно: — Там. У Ивана Куклина в крепости самыми задушевными друзьями — «корешами» — считались Степан Левченко и Володя Иринушкин. Перед уходом с острова домой, на правый берег, он обязательно разыщет их, чтобы попрощаться. Так было и в тот день, о котором идет речь. Уварыч разломил о колени пачку немецких галет. Он отдал пачку товарищам, себе оставил одну галетину. Грыз ее мелкими крепкими зубами и злословил. Такое случалось с ним редко, но если уж случалось, он не скупился на ядовитые сравнения. Галеты он обзывал «прессованной бумагой» и удивлялся, как это фашисты «жрут такую дрянь». Возмущался он очень искренне, словно немецкие хлебопеки непременно должны были учитывать вкус разведчика Куклина. Иринушкин в разговор не вмешивался, только смотрел на Уварыча и улыбался. Зато Левченко, как умел, урезонивал приятеля. Но в общем-то они понимали в чем дело. Поиск прошел неудачно. Куклин вернулся слегка раненый; он напоролся на мину, успел плюхнуться на землю, но волной сорвало ногти с пальцев на левой ноге. Теперь ему обеспечены по крайней мере две недели госпитального житья. Это и выводило разведчика из равновесия. В неудаче он винил комбата, который плохо рассчитал время, топографов, подсунувших неточную карту, начальника вещевого склада, выдавшего скрипучие сапоги, — кого угодно, только не себя самого. — Все известно, — печалился Уварыч, — сейчас мы заявимся домой, и сейчас комбат продерет нас с песочком. Ну, ясно, мы заработали разнос. А пусть комбат попробует сам толкнуться к фрицам! — Тю, ты же совсем сдурел, — удивлялся Левченко, — где же это видано, чтобы комбат сам в каждую разведку ходил?.. Тебя послушать, так и в атаку идти батальонному командиру или командиру полка, а на КП один связной будет глазами хлопать. А если, скажем, фашисты прорвутся в тыл, кто перестроит порядки? Кто потребует поддержки у артиллеристов, чтобы нам же легче вперед переть? А если тебя, дурня, фрицы огнем к земле прижмут, кто позовет на помощь летчиков? Нет, Иван, всыплет тебе сегодня комбат, и за дело всыплет. Куклин — ни слова в ответ, только вздыхал шумно и сокрушенно. Степан еще добавил: — Говорят, человеку своим умом надо жить. Так и совесть свою иметь надо. Володя поддержал Степана. — Я понимаю, что у солдата самое строгое начальство — его совесть. Так нам говорил комиссар Марулин. А это знаешь какой человек? Отец солдату. Такого натиска Уварыч не ожидал. — Что вы мне все про совесть гудите… Еще друзьями называетесь. На раненой ноге заковылял прочь, разобиженный,
Г Л А В А XXIV ПОЧТАРЬ

В начале осени неожиданно Валентин Алексеевич Марулин получил новое назначение — комиссаром отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Ему было немножко обидно, что его отрывают от людей, с которыми успел породниться. Но как и все военные в таких обстоятельствах, он утешал себя фразой: «Начальству виднее». Новая должность не означала повышения, но не была и понижением. В гарнизоне же солдаты говорили в один голос: «Наш комиссар на повышение пошел». Они очень хорошо разбирались в том, что такое ОПАБ. Это боевая единица, до предела насыщенная огневыми средствами. Формируются новые части, значит, — жди нового в боевой обстановке. «Без нашего комиссара, — утверждали солдаты, — фронту обойтись никак нельзя». Вечером, перед отъездом, Валентин Алексеевич прощался с островом. Он побывал на позициях и на наблюдательном пункте. Долго смотрел на груды измельченного камня, разворошенной земли, которые, казалось, впитали в себя столько огня и столько крови… Марулин побывал на кухне и по обычаю снял пробу ужина. Он сказал повару, что каша недосолена, и повар заспешил в поисках соли. Валентин Алексеевич зашел в землянку стрелков. Солдаты встали перед ним по команде «смирно». Он с каждым простился крепким рукопожатием. Вот Степан Левченко, бесстрашный весельчак и балагур. Вот Иван Иванович, седой старшина, голова его еще больше побелела за эти месяцы. Вот Володя Иринушкин, удивительно возмужавший в крепости… Дорогие, дорогие люди. Мало ли отвоевано вместе с ними? Мало ли пережито? — Ну, ребята, — говорит комиссар, — держитесь дружно. Впереди большие бои… Марулин благодарил бойцов, они отвечали как полагается: «Служим Советскому Союзу». Обещали, что не подведут, славы Орешка не уронят. «Прощай, наш комиссар. Прощай, отец!» — хотелось сказать каждому. Через протоку Валентина Алексеевича вез Евгений Устиненков. Молодой ледок звенел и разлетался под веслами. В крепость пришел новый комиссар. Бойцы ревниво сравнивали его с Марулиным. Он оказался человеком храбрым, умным и знающим. Но больше полюбился солдатам комендант, назначенный на остров несколько раньше. Это был жизнерадостный, плотного сложения майор, не выпускавший изо рта трубку. Он еще в финскую командовал батальоном. Здесь его боевой опыт очень пригодился. Жизнь в гарнизоне шла по прежнему, заведенному порядку. Изменилось лишь то, что боеприпасов стало еще больше. Теперь крепостная артиллерия и минометы — «полтинники» — работали в полную силу. В те дни произошел один очень запомнившийся всем случай. Начинался ледостав. Неву затягивало хрупким ледком. Но волнами с озера его то и дело ломало. На быстрине же река оставалась постоянно открытой. По вечерам над нею стлался пар. Однажды, в ночную пору, ждали изШереметевки Устиненкова с почтой. Миновали все сроки его возвращения, но он не появлялся. Видимо, что-то непредвиденное задержало почтаря. Решили, что он вернется перед рассветом, как уже бывало не раз. Между тем в эту ночь в протоке разыгралась настоящая трагедия. Устиненков шел к острову. Но в десятке метров от причала шальной очередью из автомата разбило весло у него в руках. Звать на помощь, кричать было нельзя. На голос немцы непременно кинули бы пару мин. Евгений пробовал выгрести одним веслом. Но скоро убедился, что это напрасная трата сил. В истоках развело крупную волну, тут и с двумя-то веслами еле управишься. С каждой минутой лодку выносило в Неву, все дальше и дальше. Почтарь знал, что у самого острова начинается струя большой силы; она делает поворот у подводной гряды и выходит прямиком к Шлиссельбургу. Из крепости Устиненков не раз видел, как бревна выплывали в реку и почти торчком налетали на левый берег, слегка подмытый течением. Этой струи Евгений боялся. Он изо всех сил старался выбиться из нее. Единственное весло гнулось, гнулось и обломилось с громким треском. Вскоре и обломком стало грести невозможно, потому что лодка слишком приблизилась к Шлиссельбургу. Впервые в жизни солдат испытал чувство отчаяния. Не страшно умереть в пылу боя, но вот так, когда тебя несет прямо к смерти и ты ничего, ничегошеньки не можешь сделать, это — мучительно. Он считал, что выражение «от страха волосы поднялись дыбом» выдумка. Но сейчас он действительно почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы. И сама мысль, что он чувствует это, отрезвила его. Почтарь спросил себя: «То есть как это ты не можешь ничего сделать?» Он вынул из кобуры пистолет, с которым всегда ездил в Шереметевку, послал патрон в ствол и опустил предохранитель. Евгений лег на днище. Он видел над собой звезды, такие красивые и равнодушные к его беде. Вода мирно журчала, обтекая киль лодки. Солдату стало нестерпимо жаль себя. Он услышал: на берегу затопали десятки ног, и тотчас застучал пулемет. Пули прошивали борт. Щепа падала на лицо Устиненкова. Он лежал неподвижно. Пулемет затих. Голоса все слышались, но спокойные и не очень громкие. Видимо, немцы, обманутые темнотой, решили, что видят бревно, занесенное с озера. Почтарь шевельнулся, чуть приподнял голову. Наплывала черная громада берега. Где-то здесь, на отмелях, течение должно замедляться. Оно встречается с береговым потоком и отворачивает на середину реки. Евгению показалось, что вода уже не так звучно рокочет о доски обшивки. Он перекинул через плечо ремень сумки и сжал зубами рукоятку пистолета. Медленно, тихо, без плеска перевалился через борт. Прислушался: немцы ничего не заметили. Вода показалась почтарю совсем не холодной. Но он понимал, что это только кажется в первую минуту. Лодку отпускать нельзя, без нее не выплыть, ноги уже начинает сводить судорога. Одной рукой он держался за носовой брус, другой загребал. Чуть не закричал от радости, когда увидел, что черный берег отходит все дальше, дальше. Точно сил прибавилось. Взмах. Взмах. Взмах. Едва лишь уменьшилась опасность, Устиненков ощутил обжигающий холод воды. Теперь можно было снова залезть в лодку. Теплей не стало. Мокрая одежда облепила тело. Он не считался уже с тем, что его могут увидеть. Напрягая силы, загребал обломком весла. Старался побольше двигаться, уберечь в теле живое тепло. Лодку опять стало относить. Евгений прыгнул за борт и удивился, что в воде теплее. Правый берег, спасительный берег близко. Почтарь отпустил лодку, поплыл. Волоча сумку — поднять ее не было сил — вышел на пологий откос. Свои, свои! И как обидно погибать, когда свои рядом. Почтарь не мог не знать, что от самой воды до передовых траншей тянутся густые минные поля. Он ощупал землю руками, замирая над каждым бугорком. Он терял сознание, приходил в себя от ледяного холода и полз, полз вперед. Евгению почудилось, что как-то сразу рассвело, сразу, как никогда не бывает в действительности, кончилась ночь. Он услышал: — Стой! Не двигаться! Стукнул затвор винтовки. У Евгения не было голоса, он не мог ответить. В землянке ему разжали зубы ножом. Влили в глотку полкружки спирта. Не открывая глаз, Устиненков прошептал: — Почта… Сумку… В крепость. И заметался в бреду.
__________
Так потертая, с обношенными углами, видавшая виды сумка нашла дорогу в крепость без почтаря. Письма в ней намокли, превратились в ледяные комочки. Некоторые так промерзли, что ломались. На острове их отогревали в ладонях, старались прочесть наполовину смытые адреса. Иринушкин получил письмо от Аллы Ткаченко. Большое письмо на нескольких страницах. Но чернила расплылись, можно было разобрать всего десяток слов. Володя сумел понять только, что Алла уезжает на год-полтора учиться в школу счетоводов. Девушка просила писать ей по новому адресу. Но вместо адреса через лист тянулась синяя размазанная полоса. Пожалуй, в гарнизоне не было человека, который бы не попытался помочь Володе. Все пробовали угадать залитый адрес. Одни называли город Кустанай, другие — Кунгур, а третьи утверждали, что тут значится не Кустанай и не Кунгур, а Курган. Пулеметчик понимал, что товарищи все выдумывают для его утешения. Легче от этого не становилось. Адрес Аллы Ткаченко был потерян. Иринушкин очень печалился. Но вскоре его втянуло в такой круговорот событий, что всякие личные переживания отступили на второй план.Г Л А В А XXV ЗА „ЯЗЫКОМ“

В крепости снова появился Иван Уварович Куклин. На своих коротких ногах он шариком носился по острову, всех задевал, тормошил. Думалось, он и к наблюдателям на башню, и в «хитрый домик», и в траншеи к минометчикам забирается единственно, чтобы пошутить, позубоскалить. На самом деле своими цепкими глазами он просматривал Шлиссельбург. Что там изменилось за эти дни? Какие новые землянки вырыты? Какие еще тропинки протоптаны? Немцы не могли знать Шлиссельбург так, как знал его Уварыч. Ему известны были каждый овраг в окрестностях, форма каждого дерева на побережье, валуны на полях, опрокинутые створы на канале. Он видел город глазами разведчика, примечая места, где можно затаиться, проползти. Он говорил товарищам, что по береговым улицам Шлиссельбурга мог бы пройти не глядя, на ощупь, и не хвастал. На этот раз Куклин притащил из Шереметевки сани. Они не отличались от обыкновенных санитарных — низенькие, окрашенные в белый цвет. Но в лобовую часть был вделан небольшой броневой лист. При необходимости за ним можно укрыться от пуль. По поводу этой брони Уварыч веско сказал: — Несурьезно и для разведки несподручно. Вообще Куклин недоверчиво относился к подобным защитным сооружениям. Он ехидно посматривал на стальные кирасы, которые как раз в эту пору стали появляться в штурмовых отрядах. Он даже каску не надевал, а носил вместо нее теплый, вязаный подшлемник. Так как командиры его за это ругали, он каску брал с собою, но подвязывал ее к поясу. — Защита у нас какая? — говорил разведчик. — Ловкость, быстрота. Железо тут ни к чему. Сани понадобились Уварычу для иной цели, а с броней они или без брони, ему было совершенно безразлично. Предстояло испробовать, крепок ли лед. Ночью разведчик уехал со своей «бандурой» на озеро. Вернулся невеселый. Своими раздумьями он поделился с Иринушкиным: — Слабоват ледок, молодой еще. Под полозьями трещит, страх… Слушай-ка, — облапил Куклин пулеметчика, — а может, это и хорошо? По такому льду немцы гостей не ждут. Рыск, конечно, — так он выговаривал слово «риск», — а только подходяще получится. Как думаешь? Разговаривали они в Шереметевском проломе. Лежали за щитком и смотрели на безлюдный, заносимый снегом город. Немцы успели уже натянуть колючую проволоку. На набережной громоздились горбатые доты. Время от времени они сверкали огнем. Улицы казались вымершими. Уварыч толкнул Володю локтем. — Сходим? Пулеметчик не понял: — Куда? — В Шлиссельбург. Куклин говорил об этом, как говорят о недальней прогулке. Пулеметчик относился к разведчикам с великим уважением и считал их людьми, одаренными особой смелостью. Ему никогда не думалось, что и он мог бы «сходить» вместе с ними туда, в Шлиссельбург, где враг и смерть. — Ты не бойся, — по-своему понял Уварыч его замешательство, — тебя мы в поддержку поставим, может, с пулеметом ручным. А на захват пойдет со мной Степан, он в тех краях бывал… Понимаешь, Володька, если бы меня сделали каким ни на есть начальником, я бы посылал в разведку только друзей, чтобы один за другого жизнь отдать не пожалел. То ж рыск, такое дело случается… Иринушкин не знал, привирает приятель или правду говорит, будто вызвал его сам комдив, недавно произведенный в генералы, и сказал Уварычу: «На тебя смотрит вся дивизия. Нужно добыть «языка». Сможешь?» А разведчик ответил: «Будет «язык», товарищ генерал. Если я сказал будет, значит, будет. Не сомневайтесь, товарищ генерал». Навряд ли такой разговор мог состояться. Но важно, что Куклину велено «приволочь живого фашиста» и что для этой операции ему поручено самому подобрать помощников. Состав разведки, действительно, утверждался в дивизии поименно. Уварыч некоторое время спустя начал учить друзей трудному искусству разведки: как становиться незаметным, неслышно ходить, наносить внезапный удар. Учил и объяснял все по-своему. Он, например, сунул Иринушкину в карманы по колокольцу — такие подвешивают коровам на шею, чтобы не заблудились, и приказал: — Ползи! Володя припал к земле. Передвигался, не отрываясь от нее. Но как только звякнет колоколец, Куклин заставлял повторить все снова: — Отрабатывай, отрабатывай. Иринушкин учился терпеливо. Но порывистый, горячий Левченко огрызался: — Тю! Да ведь мы не в посудную лавку пойдем. — Не понимаешь ты, Степа, — укорял его разведчик. — У нас как бывает? Малая ли ошибка, большая ли, а расплата одна — жизнь… Сам он подбирал и снаряжение, и оружие. Пробовал веревки, ножи, проверял рубашки на гранатах. К гранатам, так же как к любому огнестрельному оружию, Уварыч относился неодобрительно: — Неподходяще оно в нашем деле. Как пустил его в ход, разведка кончена. Тогда, понятно, отбивайся… Надо, — чтоб все тихо, ладно. Стрельба да «ура» — не про нас. Это я вам — всурьез. Мы работаем — молчим, и помираем — молчим… Операция готовилась основательно. Возглавлял ее офицер из разведбатальона. Разведчики составляли две группы. Первая, поменьше, — легкая, подвижная, для захвата. Вторая, побольше, — с оружием, достаточным, чтобы прикрыть отход. Уварыча и Степана назначили в первую группу Иринушкина — во вторую. Бывалые разведчики ждали приказа спокойно. Они отдыхали, отсыпались. Володя все спрашивал: — Скоро ли? Ему отвечали без насмешки, дружелюбно; каждый когда-то так же волновался перед первой вылазкой. — Не спеши, еще отведаешь этого сахара.
__________
Вышли глубокой недреманной ночью. С острова скользнули на лед и пропали в начинающейся пурге. Иринушкину показалось, что направление взято в сторону от Шлиссельбурга, ближе к середине озера. Разведчики в белых маскхалатах двигались на расстоянии один от другого, опасаясь продавить не вполне окрепший лед. На Ладоге, у зимнего покрова, так же, как у воды — свой нрав, недобрый, коварный. Льдом затягивает медленно, с промоинами, а там, где течение побыстрей, лед только кажется прочным, он на этом месте хрупкий. Когда Володя вдруг переставал видеть ближайшего к нему солдата, он сильно тревожился — не потеряться бы. Только сейчас Иринушкин понял все значение слов Куклина о безмолвии в разведке. Даже заблудившись, нельзя было окликать товарищей. Команды передавались сигналом, жестом, шепотом. Через несколько минут Володя уже не мог различить, где крепость и где Шлиссельбург. Снег с сухим шорохом несся над озером, колол лицо, забивался за ворот. Мерзли руки. Иринушкину казалось, что прошло очень много времени. По цепочке передали строгий запрет: не подниматься на ноги. Ползти. Ползти. Значит — близко. В небо взлетела ракета, другая. Разведчики удвоили осторожность. Володя удивился, почему раньше не видел ракет. Наверно, оттого, что внимание было слишком сосредоточенным. Он не оглядывался. Теперь разведчики повернули прямиком на этот бледный, то возникающий, то меркнущий свет. Иринушкин увидел берег, какие-то раскиданные бревна, торчащую трубу. И опять все исчезло до взлета следующей ракеты. Разведчики приникали ко льду, заботливо подминая ручки гранат, стволы автоматов — все, что могло блеснуть. Свет угасал, снова ползли. Ночь уже не казалась такой непроглядной. Думалось: хоть бы ты потемней была, ноченька, добрая мать разведчиков. Залегли надолго. Ноги ломило от холода и неподвижности. Только один пополз вперед. Когда он вернулся, все двинулись в ход, прокусанный в проволоке. Нечаянно Володя задел халатом о колючку. Проволока зазвенела. Сосед схватил его руку, больно сжал ее, вдавил в снег. Разведчики перестали дышать. Звон только показался таким сильным настороженному слуху. Можно было двигаться дальше. Володя чувствовал: под руками не лед, земля, она теплей. И у нее совсем другой запах. Нанесло дымок. Залегли. Автоматы на изготовке. Теперь поползли вперед двое — Куклин и Левченко. Странное чувство переживал в эти минуты Иринушкин. Не верилось, что полоска земли, которую он видел чаще всего через прицел, — вот она. Сосед толкнул Иринушкина. Приказ — еще продвинуться. Володя пополз. Сначала он ничего не видел, даже не очень ясно понимал, зачем ползет. Он почти наткнулся на скат землянки. Наверно, это было какое-нибудь складское помещение, рядом валялись ящики. Чуть подальше приметил еще один холм. В нем светилось крохотное оконце. «Если бы фашисты знали, что мы тут, рядом, — мелькнула мысль, — вот бы поднялась кутерьма!» Сразу возник вопрос: что тогда? Ведь это было очень возможно. Неловко подвинулся, стукнул, чихнул. И тогда… Иринушкин хорошо знал инструкцию этой разведки. Обе группы должны вступить в бой, чтобы дать возможность хотя бы одному уйти с «языком». Но где он, этот «язык»? Пока неизвестно. Как тут разобраться во тьме-тьмущей? Почти ослепленный, Володя припал к земле, стараясь уйти в нее всем телом. Прошла минута, прежде чем он понял, что рядом выстрелила пушка. В следующую минуту он услышал голоса и шорох падающей земли. Где-то близко траншея, и по ней идут. Так вот почему задержались Куклин и Левченко. Угораздило ж попасть как раз на смену расчетов… Где они, двое друзей? Как ни старался Иринушкин, разглядеть их не мог. Заскрипел снег. Володя повернулся и увидел, что оконце землянки то исчезнет, то появится. Около землянки ходил часовой. Обозначился его темный силуэт, в шинели, с поднятым воротником. Чиркнула спичка. Спрятанная в ладонях, она осветила широкий небритый подбородок. Запахло табаком. В то же мгновение Володя заметил две беззвучно подползающие тени. Это могли быть только Уварыч и Степан. От волнения замерло сердце. Немец постучал сапогом о сапог, сплюнул, снова затянулся сигаретой. Внезапно снизу вверх метнулось что-то темное, как сгусток ночи, и часовой мгновенно исчез. Послышался не то вздох, не то стон. Все стихло… Обратную дорогу к озеру Володя находил по приметному береговому склону. Разведчики стягивались к месту сбора. Куклин и Левченко с пленным были уже на льду. Уварыч лизал окровавленную руку: часовой укусил, когда ему забивали рот кляпом. Возвращались тем же порядком. Впереди тащили гитлеровца. Он был без сознания, и потому, чтобы сберечь время, решили не связывать его. Очень скоро разведчики поняли, что совершили ошибку. Только миновали колючую проволоку и направились к середине озера, пленный очнулся. Он вскочил на ноги и ударом кулака отбросил ближайшего к нему бойца. Немец защищался расчетливо и очень умело. Каждый, кто приближался, налетал на его кулаки, тяжелые, как два молота. Но руки, занятые дракой, не могли освободить рот от затычки. Он не заметил, а может быть, не оценил силу маленького Куклина. Тот ударил гитлеровца головой в грудь, и он рухнул. Разведчики возвращались с добычей. За всю операцию не было сделано ни одного выстрела. Ночь кончалась. Пленный снова пришел в себя. Ему стянули веревкой руки, велели идти самому. Он увидел крепость и упал на колени. Он давился слезами, его щетинистые, намокшие щеки дрожали. Только теперь послышался шум тревоги в Шлиссельбурге. Там вопили, стреляли. Но разведчикам это было уже не страшно. «Языка» конвоировали в штаб дивизии Куклин и Иринушкин. Позже Уварыч ушел в санпалатку перевязываться, а Володя в качестве переводчика присутствовал при допросе. Сейчас он мог как следует разглядеть человека, которого впервые увидел этой ночью на бровке, у входа в землянку: огромного роста, немолод, лицо в шрамах. Сломанная и неровно сросшаяся переносица придавала ему грубое выражение. Генерал велел пленному снять шинель. На темно-зеленом мундире блеснула высшая награда гитлеровской армии — железный крест. — За что? — спросил комдив. — За Варшаву, — ответил немец. Рядом с крестом болталась на цепочке маленькая серебряная рукавичка. — А это? — поинтересовался генерал. — Я чемпион Пруссии по боксу. — Вот так птица, — улыбнулся комдив и начал допрос. «Язык» отвечал с готовностью. Его подвели к карте Шлиссельбурга, и он замолчал только потому, что не сразу сориентировался. Он назвал номера батальонов, показал, где они расположены. Пленный выкладывал все, что знал. Под конец он попросил разрешения обратиться к генералу: — Как поступят со мною? Все еще углубленный в изучение карты, генерал ответил: — Врач осмотрит, не очень ли повредили вас наши молодцы. Учтивости не обучены. Могли очень просто и кости поломать. — А потом? — Еще один допрос. — О, я о другом. Комдив подкидывал на ладони разлапистый железный крест и, должно быть, удивлялся, как мало он весит. — Война для вас закончена, чемпион. — А жизнь? Жизнь? Пленный почти выкрикнул эти слова. Его можно было по-человечески пожалеть, измученного страхом, потрясенного тем, что пришлось пережить за одну эту ночь. Он ждет пощады. А дети Варшавы не взывали к жалости? Они не просили пощады? Комдив встал и, тяжело ступая, ушел к себе. Иринушкин повел «языка» в палатку к санитарам. День был солнечный. Искрились снежинки. Пленный волочил ногу. Но он знал, что будет жить, и от возбуждения стал болтлив. Он оглядывался на солдата, шедшего сзади с автоматом, молодого русского солдата, который совсем неплохо знает его родной язык. Оглядывался и говорил, говорил. У входа в палатку они повстречали Куклина. Разведчик держал на весу распухшую, забинтованную руку. Он исподлобья посмотрел на гитлеровца и сказал: — Еще кусается, стервец. А Володе подмигнул: — Вот мы с тобой и побывали в городе Шлиссельбурге. И хорошо, и порядок.Г Л А В А XXVI ПОД НОВЫЙ ГОД

Крепость ежедневно дралась с врагом. После того как наши разведчики утащили часового, немцы опять с досады подогнали бронепоезд и засыпали остров снарядами. Но такие налеты уже ни на кого не производили большого впечатления. Кажется, фашисты сами поняли бесполезность огневого нажима на крепость, в которой стены и люди, думалось, сотворены из одного материала — несокрушимого гранита. Фашисты поутихли. Поутихли — это значит, что остров подвергался обстрелу в «положенные часы» — на рассвете, после полудня и перед ужином. Но теперь противник стал ярче освещать крепость, забрасывал в небо огненный шар, и он долго горел, рассыпая искры. Репродукторы Орешка по утрам передавали сводки Совинформбюро. Они передавались для жителей Шлиссельбурга — пусть знают, что час освобождения близок. На юге страны, в междуречье Волги и Дона, гибли немецкие армии. Добрые русские степи, в мирные годы известные своим плодородием, своей пшеницей, становились могилой для врага. Отборные фашистские дивизии были окружены под Сталинградом. Они обречены. Вести с юга согревали сердца советских людей и здесь, в Приладожье. Солдаты говорили: «Должны и мы двинуться. Будет и нам приказ». Невская оперативная группа войск, сокращенно ее называли НОГ, вела бои местного значения. По ночам в лесах передвигались полки. В штабах появились новенькие, хрусткие карты левобережья, Синявинских торфяников, Мгинского рубежа. Над Невою кружили самолеты-разведчики. Порознь это были не очень заметные факты фронтовой жизни. Но они не ускользали от внимания солдат. Ефрейтор Калинин говорил так: — Весна, к примеру, приходит по уставу, скрытно. На дворе морозы трещат, а смотришь, на снегу корочка звякнула, на елке иглы ледком обнесло, птаха запела. Пройдет месяц, другой, глядишь, реки тронулись, земля развернулась, дышит, семян ждет… С малого начинается весна, а попробуй останови ее… Ефрейтор Калинин, ездивший в Шереметевку, однажды возвратился, обрадованный нечаянной встречей с приятелем. — Подумайте-ка, — удивлялся ефрейтор, — мы вместе в армию уходили, письма от него получал. Он же где-то под Ораниенбаумом был. А тут — глазам своим не верю, Митрич навстречу топает. «Откуда?» — спрашиваю. «Про то, — отвечает, — генералы знают». И физиономия важная… Примерно в это же время через крепость на Неву вышли два лейтенанта. Долго их не было. Вернулись утром. Один нес на руках другого, да и сам ранен. Он попросил позвонить в штаб, чтобы прислали за кассетами с фотопленкой… Нет, не напрасно и новые карты в планшетах, и ефрейтор встретил в Шереметевке друга, и офицеры идут на рекогносцировку вплотную к вражеским траншеям. Не напрасно. Может, и прав Калинин, говоря о весенних приметах посреди зимы. Иному и невдомек, а солдаты все на ус мотают. Защитники Орешка воюют на острове, но все видят, все понимают… Старшина Иван Иванович как обычно хлопочет по своим хозяйственным делам. Володя выслеживает врага беспощадным снайперским пулеметом. А Виталька Зосимов неистощим в выдумках, очень смелых и дерзких. Он готовил щедрый «подарок» врагу. Но об этом необходимо рассказать подробнее. О замысле в свое время узнали и командир полка, и комдив. Без их благословения обойтись было невозможно. Они пообещали поддержку и помощь. На Ладоге начались сильные морозы. Они в несколько дней сковали незамерзшую полосу воды. Вздыбленный снег отвесными стенами двигался по озеру. Приближался новый год. Что нес он с собою? Радиостанция крепости передавала приказ Сталина. Слова звучали торжественно. Они рождали великие надежды. — Враг уже испытал однажды силу ударов Красной Армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином, — гремели рупоры, заглушая треск пулеметов. — Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник! Грозные то были слова. Бойцы знали их наизусть, повторяли в письмах к родным. Дело ясное. Пусть те, кто начали войну, испытают полную меру ее горя. Враг задыхается, а мы набираем силу. Будет и на нашей улице праздник! Шли последние дни старого года. Много ждали солдаты от нового. Встретить его надо было как подобает. Только какой же это праздник без елки? У каждого в сердце хранится память детства — огоньки на колючих ветвях, лесной запах хвои, звонкий хоровод. Где это светлое ребяческое чудо? Где сейчас наши дети? Как встречают праздник без отцов? Нет, без елки обойтись нельзя… Наступила ночь под Новый год. В крепости опустели землянки. Гарнизон — на позициях. Праздничная пора на фронте — самая тревожная пора. Обе стороны стараются приготовить подарки похлеще. Над Ладогой — густая, непроглядная ночь. Только снега и светятся. Нигде ни огонька живого. Ночь. Тьма. Вдруг произошло нечто невероятное, сказочное. В стороне от крепости, в правобережных лесах, которые в этом месте спускаются к озеру, яркими огнями загорелась елка. Солдаты в удивлении терли глаза, спрашивали друг у друга: — Почудилось что ли? Видишь? Видишь? В лесу полыхала елка. Настоящая, на корню. Ее опоясывали гирлянды электрических ламп. Лампы угасали и зажигались снова, дразнили врага. Бойцы в крепости и в береговых укреплениях хохотали, топали ногами, обнимались. Орудия из Шлиссельбурга начали бить по елке. Гитлеровцы как будто обезумели. Они старались во что бы то ни стало скорее погасить елку. Но они спешили и плохо целились. Лампы угасали. Думалось — все, нет елки. А она вдруг снова вспыхивала. Оттого, что огни загорались не через равные промежутки времени и неожиданно, всякий раз казалось, что это другая елка, на новом месте. В канонаду включились многие орудия. Били уже не по елке, а по всему лесу. Артиллеристы Орешка в это время не дремали. Они открыли ответный огонь, который долго не утихал. В Шлиссельбурге яркой вспышкой осветило стены собора. Судя по гулу и силе пламени, там горели боеприпасы. Оба берега, точно ждали этого взрыва, прекратили перестрелку. В пылу боя никто в крепости не заметил, как стрелки часов перешагнули за двенадцать. Евгений Устиненков посмотрел на мерцающий фосфорными точками циферблат ручных часов. Шел уже второй час. Устиненков выбежал из землянки на стену и громко прокричал так, что его услышали и в Светличной башне, и на дворе цитадели: — С Новым годом, ребята! С новым боевым счастьем!
Г Л А В А XXVII ПРОРЫВ

В Шлиссельбурге опять захрипели репродукторы. Фашисты отвечали на радиопередачи Орешка. Они поставили пластинку с недавней речью Гитлера. Сначала донеслось какое-то шипение. Потом раздался невнятный истерический вопль. Пластинку повторяли снова и снова. Услышав голос Гитлера, старшина Воробьев изумился: — Да он припадочный. На что ефрейтор Калинин рассудительно заметил: — Сумасшедший не сумасшедший, а весь мир взбаламутил… В общем, похоже, немцы сами себя уговаривают, чтоб не бояться. Дорожку-то к нам нашли, а выбраться им никакой фюрер не поможет! На фронте было тихо. Эта тишина явно страшила врага. Особенно беспокойно гитлеровцы вели себя ночью: тарахтели пулеметами, жгли ракеты. Удар же был нанесен утром, при полном солнечном свете. Накануне в крепости уже знали о приказе командующего фронтом: наступать, имея целью прорыв блокады Ленинграда! Наступала Шестьдесят седьмая армия, в которую гарнизон Орешка входил как одно из самых малых подразделений. Шестнадцать месяцев, почти пятьсот дней защитники Шлиссельбургской крепости стояли непоколебимо на своем островном рубеже. Теперь — вперед! Солдаты поздравили друг друга с наступлением. Готовились к бою. Утром двенадцатого января где-то вдалеке громыхнул пушечный выстрел, три красные ракеты сгорели в небе, и началось… Казалось, над Невою во второй раз в это утро поднималась заря. Весь горизонт, насколько видел глаз, был охвачен пламенем. Каждая высотка, едва ли не каждый бугорок, исторгали огонь. С береговых позиций прямой наводкой стреляли полковые и дивизионные орудия. Из глубины материка били тяжелые калибры, морские и железнодорожные дивизионы. Реактивные снаряды чертили над рекой яркие дуги. Канонаду слышали за десятки километров, в Ленинграде. Впервые артиллерия Ленфронта наносила такой массированный плотный удар. Земля сотрясалась. Воздух ревел. Стреляли и орудия Орешка. Но даже те, кто стояли у самых пушек, не слышали выстрела. У Виталия Зосимова пошла кровь из ушей. Он не мог вытереть ее. Ни на секунду нельзя было оторваться от наводки. Иван Иванович Воробьев лежал на земляном полу в «хитром домике», он напрасно старался разглядеть левый берег. Там все смешалось, подернулось гарью. Нельзя было различить ни земли, ни неба. Более двух часов артиллерия обрабатывала передний край противника. Потом перенесла огонь в глубину его обороны. Старшина смотрел теперь на Неву. Ему показалось, что лед вдали, ниже Шлиссельбурга, ожил. Воробьев не заметил, когда штурмовые отряды вышли на реку, наверно, еще во время артподготовки. Солдаты в белых халатах поднимались, бежали, падали и снова поднимались. Вот они уже на левом берегу во вражеских траншеях, там сквозь черные клубы прорываются зеленые взблески. Завязался ближний, гранатный бой. Белых халатов на Неве становится все больше. Они просочились уже не одной цепочкой, сплошным потоком. Но упав, поднимаются далеко не все. На черно-белом снегу набухают красные пятна. Фронт схватки ширится, она становится более жестокой, упорной. Из «хитрого домика» старшина бежит на крепостной вал. Прыгает в траншею. Дно ее забросано отстрелянными гильзами. Пулеметчики и автоматчики держат на прицеле бровку и шлиссельбургскую набережную, не дают противнику стрелять по Неве. В крепости уже знают: — Пошла наша дивизия! Солдаты напрямик спрашивают у сержантов: — А мы, что же, так и будем сидеть на месте? На командном пункте понимают нетерпеливую солдатскую душу. И потому снова и снова повторяют приказ: — Держать рубеж. Подавлять огневые средства врага. На острове в точности известно, какие дивизии в бою. Их называли по именам командиров: Красновская, Борщовская, дивизия Симоняка. За каждым шагом наступления следили. Вот уже освобожден первый населенный пункт на левобережье — Марьино. Но наступление замедляется. Оно не остановилось, сила удара не ослабела. Возросло противодействие.


На другой день гитлеровцы подтянули резервы, бросили в сражение комендантские части, писарей, санитаров, всех тыловиков. Они контратаковали штурмующих, силясь сбросить их в Неву. Шесть суток ни на час, ни на минуту не стихала битва на левом берегу. Горели разрушенные селения. В воздухе над полем боя проносились «илы», выискивая цель. Они летали так низко, что можно было рассмотреть звезду на фюзеляже и лицо пилота в застегнутом шлеме. Сквозь обугленные леса, через замерзшие болота бойцы рвались к Синявину, к рабочим поселкам. На исходе шестого дня передовые батальоны услышали отдаленную перестрелку. Это дивизии Волховского фронта с внешней стороны пробивали кольцо осады. Они шли навстречу ленинградцам. К этому времени судьбу Шлиссельбурга можно было считать решенной. Там еще держался враг. Но все пути отхода оказались отрезанными. Гитлеровцев вело в бой отчаяние. Утром восемнадцатого со стороны рощи и Преображенской высоты начался штурм Шлиссельбурга. В эти часы сказалось все мастерство артиллеристов и пулеметчиков Орешка. Они знали каждую улицу в городе, перекрестки и повороты, каждый дом, где фашисты могли оборудовать доты. Только это знание и ни с чем не сравнимая точность прицела дали возможность Орешку огнем участвовать в уличных боях. Крепость наносила удар с левого фланга и с тыла, расчищала дорогу для штурма. В Шлиссельбурге есть улица Иустина Жука, где до войны размещался Городской совет. Эта улица идет параллельно набережной. С улицы Иустина Жука, из развалин углового здания, гитлеровцы обстреливали набережную, мост через канал и главный проспект. Пехотинцы, наступавшие со стороны проспекта, готовились штурмовать угловой дом. Но бой за эту ключевую точку начался прежде, чем они двинулись в атаку. На глазах у пехотинцев уцелевшие стены здания стали крошиться, падать, обнаруживая крутой бетонный купол сильно оснащенного дота. Квадратные амбразуры смотрели во все стороны, то и дело выбрасывая дымки. Пехотинцы видели, как снаряды, летевшие из крепости, упрямо долбят купол. Напрасно долбят. Такую толщу не проклюешь. Неожиданно дот осветился изнутри и тотчас окутался пламенем. Снаряд попал в бетонную щель и разорвался там. Стрелки бросились к доту. Командир пехотинцев тут же, положив на закоптелый бетон листок папиросной бумаги, написал на нем всего одну строку: «Товарищам из Орешка. Спасибо за огонек!» Рота пошла вперед. А листок двинулся назад, через Неву. И не замечательно ли? В неудержимом потоке, захлестнувшем город, в кровопролитной битве, где гибли люди и рушился камень, крохотный бумажный лоскуток сохранился невредимым. Санитары передавали его шоферам, те — связным. И в тот же день, измятый, замусоленный, хранящий тепло десятков рук, он попал в крепость. Ефрейтор Калинин разгладил его на ладони. Долго не мог разобрать ни слова. Передал его Виталию: — Прочти-ка, востроглазый…
__________
Гитлеровцы, выброшенные из города, выбегали на озеро. Но на белой глади им некуда было деваться. Иринушкин с легким ручным пулеметом лежал на льду, за снежным бруствером. Тренога глубоко впаялась в лед. Гитлеровцы швыряли под ноги автоматы, шли с поднятыми руками. Когда исход боя полностью определился и стало ясно, что островная оборона навсегда закончена, стрелковые взводы Орешка получили приказ продвинуться в Шлиссельбург. Впереди бежал Степан Левченко. Он размахивал винтовкой, что-то кричал. Одним прыжком взлетел на бровку и остановился. На земле, раскинув руки, навзничь лежал эсэсовский офицер. На плечах топорщились витые погоны, на петлицах серебрились двойные молнии. Фуражка валялась рядом. Его волосы заносило снегом. В глазных впадинах застыли льдинки. По набережной, с автоматами на ремнях, в обнимку прошагали четверо бойцов. Они окликнули Степана: — Эй, солдат, знаешь? В освобожденном городе от человека к человеку передавалась весть: в нескольких километрах отсюда на Синявинских торфяниках встретились два фронта — Волховский и Ленинградский. Уже ночью по горящим улицам, медленно огибая воронки, проехал фургон передвижной радиостанции. Станция передавала из Москвы сообщение «В последний час». Блокада Ленинграда прорвана!Г Л А В А XXVIII В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Шлиссельбург лежал в развалинах. Густой запах горелого пропитал воздух. По улицам ходили саперы. Они шарили перед собою миноискателями. Связисты раскатывали провод, тянули штабную линию. На перекрестке стояла пушка на разбитом лафете. Она задрала в небо черный ствол. Степан смотрел на пушку и думал о том, что у раненого орудия такой же беспомощный и жалкий вид, как у раненого человека. Левченко давно уже ходил по городу, стараясь все увидеть, запомнить: и эти жирные хлопья копоти, и землю, раздавленную гусеницами самоходок, и стены домов с пустыми проемами вместо окон, и людей, осторожно выбиравшихся из подвалов. Смотреть на людей было больно. Они вылезали из каких-то щелей, закутанные в тряпье, долго озирались, прежде чем отправиться в путь. Степан пошел туда же, куда спешили большинство из них. Улица поднималась на скат широкого холма. На обгорелом крайнем доме можно было различить жестяную дощечку с потрескавшейся надписью: «Пролетарская». Люди толпились около бревенчатого здания с просторным крыльцом без перил. Здесь было много ребятишек с остренькими от худобы, любопытными лицами, стариков с глубокими, въевшимися в кожу морщинами, женщин, которые все казались пожилыми. Мальчик лет десяти в облезлой ушанке рассказывал солдату, сидевшему на ступенях крыльца: — Погнали нас фашисты на работу: больших окопы рыть, маленьких — дрова таскать для комендатуры. — Сколько же лет большим-то? — спросил солдат, положив красную, обмороженную руку на слабенькие плечи мальчика. — Я всех старше был. — А маленьким много ли? — Лет восемь, наверно. Солдат перетряхивал заплечный мешок, рылся в нем и что-то бормотал про себя. Он достал ломоть хлеба, пачку концентрата гречневой каши и все это сунул в руки пареньку. Солдат поднялся, надел винтовочный ремень, зашагал прочь и снова вернулся к своему маленькому собеседнику. — Послушай, мужичок, сделай милость, запиши мне свой адрес, на обратном пути, коль доведется, зайду посмотрю, как ты живешь. — Так я же неграмотный, дяденька. А вы запомните — бункер у моста. — Ладно, найду, — махнул рукой солдат. Он ушел торопливыми, крупными шагами, не оборачиваясь. Гудевшая говором толпа группировалась около нескольких бойцов и капитана в дубленом полушубке. Их расспрашивали о Ленинграде — немцы давно уже сообщили, что город взят — спрашивали о Шереметевке, о Морозовке, что уцелело там, что разрушено, интересовались хлебными пайками, и когда в Шлиссельбурге будет опять горсовет. Те, кто посмелее, трогали звездочки на шапках и в особенности — погоны. Степана Левченко так же плотно окружили, забросали вопросами. Стоило ему сказать, что он из крепости, толпа сразу выросла, засветилась улыбками. Седая женщина подвела девочку, закутанную в темный бахромчатый платок. — Смотри, Ольгунька. Вот он пришел, красноармеец из крепости. Перед седой женщиной расступились. Пока она говорила, все молчали. — Дорогой ты мой, — сказала женщина, — ведь мы утром, бывало, проснемся, глядим на крепость — на месте ли флаг? На месте, значит, держатся, родные. И голос ваш слышали, и видели, как вы фашистов крушите. Правду сказать, тем и жили… Ольгунька, ну, что понимает ребенок, дрожит от холода, я скажу ей: терпи, придет красноармеец из крепости, теплей будет… Вот он, внучка, смотри, пришел… По щекам женщины текли слезы. Девочка пряталась за юбку бабушки, выглядывала оттуда любопытными, круглыми, как у мышонка, глазами. Степан спросил, что находилось у оккупантов в бревенчатом доме. Ему ответили: — Комендатура. Он поднялся по широким ступеням, полузанесенным снегом. В помещениях с низкими потолками было холодно. Сквозняком крутило на полу мусор. В угловой комнате с заиндевелыми окнами у кирпичной оштукатуренной печи стоял на коленях боец и швырял в огонь связки бумаг. Работа доставляла ему видимое удовольствие. Полное лицо разрумянилось. На бумагах можно было разглядеть оттиск свастики: сводки, приказы, объявления командования вермахта. — Погоди, — сказал Левченко, — эти бумаги не надо жечь. — На кой ляд они? — спросил боец, продолжая свою работу. — Для истории понадобятся, — ответил Степан, — в них разобраться нужно. Боец покосился на погоны непрошеного указчика и, обнаружив, что они как у него самого, без нашивок, сказал: — Так я уж разобрался. Видишь — свастика. В огонь ее… А в общем вот что: хочешь погреться, грейся. Ежели нет, топай дальше. Левченко вышел во двор, набрал щепок, досок. Все это принес в помещение, бросил к печке. Боец вскочил, перепуганный внезапным грохотом. — Нашел из-за чего сердиться. Дрова, конечно, горели жарче бумаги. Степан сел на пол среди бумажного вороха. Он брал то один лист, то другой. Некоторые из них были отпечатаны на машинке, другие исписаны от руки по-немецки или по-русски, но строй речи и в этом случае оставался чужим. Бумага шуршала, как осенняя, палая листва. У Степана вздрогнули руки. За каждой буквой виделось ему страшное, враждебное, полное смертельной ненависти и злобы. Он читал приказ, написанный твердым, заостренным почерком: «Это будет еще один раз приказано, что население не может выходить из города без солдат, когда выйдет один без солдат, будет расстрелян». За появление на набережной — смерть. За появление на улице после двух часов дня — смерть. Другой печатный листок начинался словами: «Русские рабочие, заработок и хлеб ожидают вас в Германии». На обороте — машинописное объявление: «Всем от 12 до 60 лет явиться в комендатуру. Кто не явится, не получит больше ни продовольствия, ни жилища. Кто едет в Германию, может столько взять, сколько он может унести в обеих руках». Из стопы таких же объявлений выпала записная книжка, маленькая, с коленкоровым корешком. На заглавной странице было обозначено имя ее владельца. Но как ни старался Левченко прочесть имя, не мог. За этим занятием и застал его Володя Иринушкин, который пришел в Шлиссельбург со вторым взводом. Володя прочел без затруднений: — Август Бехер. Степан полюбопытствовал: — Про что же он пишет, этот Август? Записи в книжке оказались очень однообразными. Число месяца, вес продуктов: 1 кг масла и 1 кг меда. Шерсть и сало. И опять — масло и мед. Бойцы не сразу догадались, что перед ними точный перечень посылок, отправленных в Германию. На одной из страниц записной книжки этот хладнокровный бухгалтерский перечень вдруг обрывался воплем насмерть перепуганного человека: «Я не в силах дольше переносить кошмар, — переводил Иринушкин, — уже неделю бушует над нами ураган огня и стали. Мы совсем потеряли головы. У большевиков тысячи пушек. Они бьют прямой наводкой, как из винтовок. К ним все время подходят подкрепления, и мы не в силах им помешать. Они хозяева, а не мы. Какое ужасное слово — Ладога! Неужели мы не вырвемся из этой могилы?..» Кто ты, Август Бехер? Служащий комендатуры или охранник? Где ты сейчас? С понурой головой идешь в колонне пленных? Или лежишь на дороге и остановившимися глазами смотришь в серое, чужое небо? Тебя обманул твой фюрер, обманула жизнь. Перечень посылок окончен… А это что? В очередной пачке бумаг оказалась тетрадь, вполне обыкновенная, в косую линеечку, с красной полоской сбоку. Иринушкин развернул тетрадь. Ничего интересного. Какой-то список фамилий. Пожалуй, только на растопку и годится. Но вдруг уголком глаза выхватил в этом списке что-то поразительно знакомое. Пулеметчик снова, внимательней просмотрел его. Сам себе не поверил. Подозвал Степана. — Прочти. Каждая из фамилий в тетради была зачеркнута. Степан читал вслух: — Яковлев Борис, Яковлев Михаил, Рассказов Петр, Рыжиков Геннадий. На последней фамилии голос осекся. Левченко перечитал еще раз. Ошибки нет. Это фамилия бывшего второномерного. Как же она попала сюда, в тетрадку? И почему перечеркнута? Что означает странная находка? Ни к чемузадавать друг другу эти вопросы. Ответа на них нет.
Г Л А В А XXIX БАБКИН СКАЗ

В тесной комнате, в пыли мертвых бумаг стало невмоготу душно. Двое друзей вышли на площадь перед комендатурой. Люди все еще толпились у крыльца. Степан заметил знакомую уже ему седую женщину с маленькой девочкой. Они тотчас подошли, словно ждали его. Женщина спросила о Володе: — Тоже из крепости? Левченко кивнул головой. — Сынки, — старческий голос от волнения вздрагивал, — прошу, зайдите к нам, отдохните… Верно, угостить нечем… Бабушка и внучка жили поблизости, в подвале с полуокном, через которое виднелся затоптанный снег. Подвал был вместительный. Посредине громоздилась самодельная железная печка. Здесь жили несколько семей — все, что осталось от населения двух больших улиц. Кроме печки и стола в подвале еще имелись кровати, стоявшие так тесно, что к половине из них надо пробираться ползком через другие. Глаза не сразу привыкали к полумраку. Только через две-три минуты можно было разглядеть на подушках лохматые, изможденные головы. Оленька, не раздеваясь, забралась под тряпичное одеяло, где лежала такая же маленькая девочка, закутанная до кончика носа. Бойцы сели на скамью, все еще чувствуя на себе пытливые взгляды. Бабка быстро растопила печь, подогрела чайник, наполнила стаканы, раздала лежащим на кроватях. Две дымящиеся кружки протянула гостям. — Для них, для болезных наших, — объяснила она, — я и привела вас сюда, сынки… Кто на ногах, всех нынче из хаты повымело, а этим не подняться и не порадоваться… Из крепости они, с Орешка! — сказала седая женщина погромче, обращаясь к больным. На кроватях зашевелились. Гости пили кипяток и смотрели на портрет редкостно красивой девушки, висевший на стене, у окна. У девушки были высокие брови над спрашивающими глазами. Бабка приметила зачарованность бойцов. И она рассказала им невеселую повесть об Анфисе, своей невестке. Говорила старая долго, положив на колени большие натруженные руки. В комнату входили другие жильцы подвала, они садились к печке или на лавку у стола. Старались не мешать рассказчице, хотя не только знали эту историю, но и тяжело пережили ее в свое время. У Анфисы была подруга, с которой они вместе семилетку кончили. Вместе и на ситценабивную фабрику поступили. За несколько лет до войны обе они замуж вышли. Мужья их работали на той же фабрике и были большими приятелями. Молодые семьи жили по соседству. Вскорости загугукали у них малыши. В одной семье и в другой родились девочки. Они уж подрастали, когда началась война. Отцы ушли в армию. На долю жен и дочерей выпала горькая судьба, немецкий плен. В городе творилось страшное. У стен собора появились виселицы. И взрослых, и детей заставляли рыть окопы. Тех, кто работал плохо, пороли. Кто отказывался работать, убивали. Расстрелянных гитлеровцы не разрешали предавать земле. Хоронили они только своих солдат и офицеров. Бывали дни, когда все взрослые жители города занимались производством гробов. Это случалось при особо сильных обстрелах из крепости и с правого берега. Город вымирал. Люди поедали траву, росшую на откосах канала, поедали падаль. Но скоро и падали не осталось. Как-то Анфису вызвали в комендатуру. Она прибежала оттуда ночью, избитая, с распухшим лицом. — Поймите, мама, — давясь слезами, говорила Анфиса, — они не считают нас людьми. Я не хочу жить. Но она жила. Остригла косы, изуродовала лицо, И жила. А подружка ее очень скоро надломилась, затихла и умерла в самом начале неволи. — Что же нам тогда оставалось делать? — задала вопрос бабка и подперла щеку рукой. — Взяли мы к себе ее дочку, Фенюшку. Левченко поднялся так порывисто, что задел головой свисавшую с потолка коптилку, и она закачалась, заскрипела проволокой. — Вы сказали — Фенюшка? — Ну, да, такое имя. — А отец ее по фамилии Рыжиков? — То-то и есть, — спокойно сказала старая женщина. Кажется, все пережитое отучило ее удивляться чему бы то ни было. — Ну, слушайте дальше, сынки. Поздней осенью, когда из крепости вышел на лодках десант к Шлиссельбургу, город встрепенулся. Но немцы отбили десант. На набережной осталось много раненых красноармейцев. Фашисты прикалывали их штыками. Одного, полуживого, Анфиса ночью принесла в подвал, где обитало уже немало народа. Красноармеец прожил всего сутки. Анфиса решила похоронить его непременно честь честью. Гитлеровцы поймали ее ночью, у свежей могилы, с заступом в руках. Анфису расстреляли на дворе комендатуры. Многие приходили хоть издали проститься с нею. Она лежала лицом вниз, раскинув руки, точно в предсмертную минуту хотела обнять родную приладожскую землю… Старая рассказывала о смертях и утратах ровным, тихим голосом, и выражение ее лица не менялось. Только когда говорила о детях, глаза теплели, морщинистая рука тянулась к двум головкам на одной подушке. Ей было бы не спасти девочек. Но помогли соседи. Один отдавал корочку хлеба, другой какую-нибудь требушинку, найденную около немецкой кухни… Оля держится молодцом, а Фенюшка очень плоха, неведомо, выживет ли… — Бабушка, вы про Рыжикова расскажите, — нетерпеливо попросил Иринушкин. — Да что про Рыжикова, — нахмурилась старая. Геннадий появился в подвале однажды вечером. Он бросился к дочери, прижался к одеялу заросшим лицом. Рыжиков не скрывал, какой дорогой вернулся в Шлиссельбург. Он все рассказал. Но тут произошло то, чего он понять не мог. Бабка подошла и несильной рукой ударила его. — Мой сын воюет в Красной Армии, а ты сбежал, да еще смеешь мне на глаза показываться? У каждой женщины, жившей в подвале, муж, или брат, или сын воевали против гитлеровцев. Этим женщинам невыносимо было видеть предателя. Они выгнали его. Рыжиков приходил еще несколько раз. Он ругался и плакал у закрытой на щеколду двери. Его не пускали к дочери. Как-то бабка сжалилась, вышла к нему и сказала: — Подумай о дочке. Ведь вырастет, стыдиться тебя будет. Не надо ей знать тебя. Беглец кинулся к старухе. Она не шевельнулась. — Одно тебе осталось, — проговорила бабка, — привести сюда немцев. Иди, зови! Но Геннадий никого не позвал. Он ушел. На следующий день в Шлиссельбурге услышали его голос. Геннадий по радио обращался к гарнизону Орешка, призывал переходить на немецкую сторону. Голос его оборвался на полуслове. Люди, находившиеся поблизости от землянки радиостанции, потом рассказывали, что Рыжиков крикнул: «Не верьте!» Но только он тогда уже лежал на полу с проломленной головой. Должно быть, в последнюю минуту увидел он себя лицом к лицу с теми, кто были его товарищами, и заговорила совесть, и страшно ему стало. Но поздно… Иринушкин и Левченко были потрясены услышанным. Все стало понятным: и смысл недосказанной фразы, и тайна списка, найденного сегодня в комендатуре, списка, в котором фамилии были зачеркнуты жирной карандашной чертой. Они представили себе второномерного — встрепанного, с беспокойными глазами, в шинели, пузырящейся над поясом. Что же ты натворил, Геннадий? Ты думал, что родину можно отделить от родных, от семьи. Ты предал одну и потерял другую. Ты расплатился жизнью. Но казнь твоя не кончилась вместе с нею. Есть кара страшнее смерти… Бойцы отчетливо, снова и снова, слышали голос бабки, ее слова, сказанные Рыжикову: «Дочь, твоя любимая дочь, устыдится имени твоего!» И, возможно, самое большое благодеяние людское будет в том, что Фенюшке никогда не расскажут, кто ее отец. Но что надо сделать, чтобы эта бедная девочка осталась жить?.. Двое солдат в раздумье шли по обугленным улицам. Над белой рекой тянулись темные, порубленные осколками, ветви деревьев.
Г Л А В А XXX ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

Шлиссельбургская крепость оказалась в тылу. К этому надо было привыкнуть. Долго еще солдаты перебегали крепостной двор пригибаясь, хотя гитлеровцы уже не могли их видеть. Иной идет через протоку на правый берег, а глазами опасливо косится на Шлиссельбург, и ноги сами убыстряют шаг. Остановится, оглядится — не заметил ли кто? Парни на острове зубастые, засмеют. И пойдет медленно, улыбаясь про себя. Особенно трудно было привыкать к солнечному свету. Ведь гарнизон большую часть дня проводил в подземельях. Как раньше у людей болели глаза от темноты, так теперь они болели от света. И все же бойцы не могли наглядеться, надышаться. Многие и спать укладывались под открытым небом. Очень уж надоели землянки, накаты над головой, до которых можно лежа рукой дотянуться. Евгений Устиненков дивился: — Хорошо в тылу! Никакого тебе беспокойства, тихо. Так и считать будем — нас вместе с крепостью во второй эшелон вывели. Но отдыха не было и тишины — тоже. Тем, кто долгие месяцы смотрели в глаза врагу и слышали его голос, казалось, что теперь он отброшен основательно. Тем, кто привык мерять расстояния шагами, какой-нибудь десяток километров представлялся невесть какой далью. А враг он тут, близко. Над Дубровкой, Синявином, Мгой полыхает небо. С острова хорошо видно, как строится железнодорожный мост через Неву. Днем и ночью саперы наводят понтоны, наращивают бревна, ставят упоры и фермы. Берег где подрывают, где выравнивают, чтобы протянуть по нему полотно. Фашистские самолеты налетают на мост. Воровато сбросят бомбы и удерут. Наши ястребки кружатся, прикрывают саперов. Всем ясно: взмах у гитлеровцев не тот, ослабла рука. Помешать не могут. Саперы нередко заглядывают на островок. Осматривают развалины, говорят с сочувствием: — Не весело вам тут пришлось. Появились в крепости и офицеры из других частей. Кто на передовую едет, непременно завернет взглянуть на знаменитый Орешек. Солдатам забавно, что к ним приходят, как в музей. Но в объяснениях никогда не отказывают. У Иринушкина и Левченко появились новые обязанности. Они стали как бы гарнизонными экскурсоводами. Притом рассказывают очень по-разному. Володя — с ученой серьезностью и обстоятельностью, Степан — увлекается, балагурит, не прочь и прихвастнуть. Товарищи слушают его и покачивают головами. — Ну, заливает. Все-таки слушают до конца. На остров приехал генерал из штаба армии. Впервые за все время была отдана команда на общее построение. Шеренги вытянулись на крепостном дворе. И каждый солдат впервые увидел своих товарищей всех разом и удивился тому, как их мало, все в застиранных гимнастерках, в обтрепанных шинелях. Генерал встал перед шеренгами. Он сутулый, с седой головой, взгляд у него усталый. Он смотрит на солдат, и в его глазах можно прочесть: «Трудно вам воевалось. А будет не легче. Тяжелая работа впереди». Генерал объявил, что командование армии от имени Президиума Верховного Совета СССР наградило защитников крепости боевыми орденами и медалями и он поздравляет награжденных. Над Невой разнеслось: — Служим Советскому Союзу! Генерал развернул газетный лист и сказал, что не может найти лучших слов, чем те, которые напечатаны сегодня в армейской многотиражке. Он прочел короткое, сердечное обращение к солдатам Орешка. «Вы, дорогие товарищи, — говорилось в обращении, — заняли передовое место в рядах бесстрашных бойцов за Ленинград. С вашей помощью враг был остановлен. Каменные стены крепости крошатся, ломаются, но вашей воли не сломить никому. Ваша доблесть и мужество будут записаны на седых стенах золотыми буквами: «Здесь в тысяча девятьсот сорок первом — сорок третьем годах вели бой с немецко-фашистскими захватчиками советские героические богатыри за нашу святыню — Ленинград». Слова были красивые и торжественные. Но солдаты слушали не очень внимательно, потому что то жаркое, смертельное и радостное, составлявшее их жизнь на острове, еще не отлилось в форму, подходящую для золотых букв, и многим невольно подумалось: «Ну, какие же мы богатыри?» За наградой подходили к генералу строевым, четким шагом. Иван Иванович нес на ладони свою медаль «За боевые заслуги». Старшина сильно похудел за этот месяц. У него на лбу появились поперечные морщины. Ефрейтор Калинин очень стеснялся: как это он пойдет перед строем за орденом, и все на него будут смотреть. Он двинулся неловкой и совсем не свойственной ему, запинающейся походкой. У Володи Иринушкина совсем уж некстати разболелись зубы, щеку разнесло флюсом, повязка на щеке лишала его всякой воинственности. Как в таком виде разговаривать с генералом, неизвестно. Однако все обошлось. Генерал приколол к его гимнастерке медаль «За отвагу», а повязку даже не заметил. Только Левченко прошагал за наградой так лихо, что многие залюбовались им и позавидовали. Грудь выпятил, руки наотмашь — молодец с картинки! Возвратясь в строй, Степан шепнул соседу: — Как отвоюем, приеду домой, женюсь. Право, женюсь. Любая за меня пойдет. Первый орденоносец на селе. Шутишь? Награждение отметили по-праздничному. Пели песни. Левченко во второй раз нарушил зарок, заиграл на баяне. И все говорил про девушек, про свадьбы. Ордена и медали носили только в первые дни. Потом попрятали их в котомки. Так сохранней будут. Награда — за минувшее. А думалось о будущем, о том, что ждет завтра. Солдаты без конца спорили: куда перебросят крепостной батальон, на какой участок фронта? Кто-то даже высказался в том смысле, что пора в поход собираться. Большое дело начинается под Курском. Вдруг — туда пошлют? На это старшина Воробьев заметил: — Работы для нас и тут вдоволь. Спор, конечно, напрасный. Солдату — идти, куда пошлют. Разумнее было использовать до конца скупые дни передышки. Отдых сказывался прежде всего в том, что бойцам разрешали по сменам уходить с острова. Пожалуй, чаще всех в Шлиссельбург ходили двое неразлучных друзей — Степан и Володя. Их неизъяснимо тянуло к суровой бабке и ее двум внучкам, родной и приемной. Гарнизон узнал о горькой судьбе Рыжикова. Солдаты пожалели не его, а девочку. Каждому захотелось порадовать ее чем можно. Через два дня после первой встречи Иринушкин и Левченко притащили в подвал мешок всякой снеди. Тут были хлеб, пряники, конфеты. Фенюшка ни до чего не дотронулась. Лицо у нее пожелтело. Она смотрела в сторону серьезными глазами. Этот взгляд испугал Володю. Он переглянулся со Степаном и попросил бабку закутать девочку потеплее, в одеяло. — Ее надо лечить, — сказал Иринушкин, — нельзя терять ни минуты… До середины Невы Фенюшку нес Володя, потом его сменил Степан. Девочка была легче пера, тяжесть совсем не чувствовалась. В Шереметевке, куда подтянулись уже армейские тылы, с трудом разыскали госпиталь. Врачи удивленно смотрели на бойцов, протянувших им сверток с ребенком. Пожилая санитарка в белом платке с красным крестом поняла их тревогу, постаралась успокоить: — Все сделаем, милые, все, что в наших силах…
__________
Каждое из этих событий по-своему волновало людей в гарнизоне. Жизнь за стенами крепости счастьем и горем открывалась перед солдатами. Лишь один человек не спешил брать увольнение и почти никуда не уходил с острова. Ефрейтор Калинин. Его назначили артмастером. В крепости он выбрал камеру посветлее, сколотил там верстак, привинтил к нему тиски, доставленные из Морозовки. Замасленными руками Константин Иванович расчленял боевые механизмы, протирал их паклей с тавотом, выбивал нагар из стволов. В эти дни старый артиллерист снова почувствовал себя в цехе, рабочим, «заводской косточкой». И это было счастьем. Калинин спешил. Не сегодня-завтра вся железная справа, над которой он трудился, понадобится. Но еще до того на острове произошла встреча, ради которой даже Константин Иванович покинул свой верстак. Эта встреча взволновала весь гарнизон. В крепость пришел Валентин Алексеевич Марулин. Он был в Шлиссельбурге, в политотделе укрепленного района, и, конечно, не мог не наведаться к «своим». Первым увидел его Степан, стоявший у Государевой башни. Он очень удивил Валентина Алексеевича тем, что не подошел к нему поздороваться, а кинулся бежать обратно, в ворота. Через несколько минут Левченко вернулся с большой группой бойцов. Они встретили Марулина, когда он поднимался на вал, дружно откозыряли и остановились в нерешительности. Валентин Алексеевич каждого обнял, каждому посмотрел в лицо. Как они переменились за это время, возмужали — в бою люди быстро мужают. Солдаты называли Марулина по-прежнему «комиссаром», хотя к этому времени комиссарских должностей в армии уже не существовало. По всему острову пронеслась весть: «Наш комиссар приехал». Тесной гурьбой шли бойцы через двор, разговаривая и перебивая друг друга. Остановились на бастионе Головкинской башни. Отсюда Нева видна до излучины. — Знаете, о чем я думал, когда подходил к крепости? — спросил Валентин Алексеевич. — Смотрел я на эти стены, где, кажется, нет вершка целого, и не верил: как тут люди держались под таким ураганом? — Обыкновенное дело, — усмехнулся ефрейтор Калинин, — это потому что вы издали взглянули… Где же ваш батальон наступал, товарищ комиссар? — У Ивановских порогов, — ответил Валентин Алексеевич, — тоже знаменитое местечко… Ну, рассказывайте, как вы тут жили? Рассказать было о чем. Солдаты сидели вокруг Марулина на камнях. Вспоминали о делах и происшествиях минувших месяцев. Мысленно Валентин Алексеевич спрашивал себя: в чем же сила этих парней, его боевых товарищей? Это простая сила, как снежная даль, летящая перед глазами, как седые откосы приневского острова, как кровь, пролитая на нем. Простая и ясная сила. Валентин Алексеевич гордился тем, что рожден на одной земле с этими людьми, на русской земле. Нужно ли сказать об этом чувстве солдатам Орешка, дорогим парням, в час встречи и перед новой разлукой? Нет, конечно, нет. Они удивились бы, зачем их комиссар говорит о понятном без всяких слов… Марулин спросил у старшины, проверил ли он у солдат обувку и всем ли выдал сменные портянки. Он понимал, что в крепости есть кому позаботиться о том. Но не спросить не мог. — Сам знаешь, дорога… Времени у Валентина Алексеевича было мало. Он спешил добраться к вечеру до Ивановских порогов. На прощание обнялись. Пожелали друг другу удачи и скорой встречи. Они не знали, что встретятся вновь через два с лишним года, в конце трудного солдатского пути, и что многим не доведется пройти этот путь до конца. Начался же он утром следующего дня. Бойцы покидали крепость. Они уходили на Синявинские болота, чтобы держать ту узкую полосу, которая была завоевана в январе и по которой уже пошли составы на Большую землю.Г Л А В А XXXI ТРЕТЬЕ ПИСЬМО В. ИРИНУШКИНА

Д о б р ы й д е н ь, А л л а. Никак не могу примириться с тем, что мы потеряли друг друга. По моим расчетам, ты давно уже должна закончить учебу и вернуться в Леднево, и письмо мое застанет тебя дома. Как давно я ничего не знаю о тебе! Очень интересуюсь, что нового в твоей личной жизни? Понимаешь, я никогда ни на минуту не сомневался, что рано или поздно мы встретимся. Я найду тебя. Люди находят друг друга и не в таких обстоятельствах. Командир нашего полка, майор, киевлянин, нашел жену и маленького сына. Он искал их в родном городе, но соседи ему сказали, что их угнали в Германию. Тогда наши войска еще только подходили к границе. Майор в мыслях простился со своими родными. Я потом видел, как он ходил по улицам немецких городов. Все мальчишки семи-восьми лет казались ему похожими на сына. Он останавливал их, заглядывал в глаза и шел дальше. В приморском городе Пилау майор встретил мальчугана, который ответил ему на ломаном русском языке, и это был его сын. Мать лежала больная, в лачуге на краю города. Он выпрашивал для нее еду на полевых кухнях. Эту встречу праздновал весь полк… Видишь, Алла, как находят близких. А я на родине, на Ладоге, да не разыщу тебя? Верить тому не хочу. Еще надо будет разыскать друзей моих с Орешка. Всех нас разбросало по белу свету. Мы были вместе только на Синявинских болотах. Потом, как начались бои да госпиталя, так и следы наши позанесло дорожной пылью. Ты понять не можешь, до чего обидно лечь в госпиталь, когда все вперед идут. Я с острова Даго угодил на носилки и еще раз — из Тильзита. Ничего, поднимался быстро. Но только после выздоровления попадал обязательно в другую часть. Тех, вместе с кем неделю назад воевал, уж не догонишь. Живу я сейчас, последние дни перед демобилизацией из армии, в городе Кенигсберге, вернее сказать, в городе, который носил это имя. Вот уж правильно говорится, кто посеял ветер, пожнет бурю! Развалины, развалины в цветущей черемухе. Отчего это так буйно цветет она в запустении? Наш полк первым вошел в Кенигсберг, в его проклятые форты. Мы потеряли слишком много товарищей, и нам не было жаль этих разбитых кварталов. Сейчас я только что вернулся с Шенфлиссераллее. Это предместье города, там много садов, и в них — маленькие пестрые домики. Немки уже вскапывают гряды. Просто не верится, что нет огня, нет войны. Люди смотрят на землю, и им все равно, годится она для укрытия или нет. Им важно совсем другое: взойдут ли тут морковка, огурцы, картошка? Улицы, перекрестки города полны всяких неожиданностей. Гремит оторванная жесть где-то на крыше. Ветер ворвался в распахнутые двери кирхи и поет в трубах органа. Двое бойцов разложили костер на тротуаре, подвесили котелок, а третий их товарищ нагнулся над роялем, выдвинутым на улицу, нажимает клавиши, слушает струны… В эти дни трудно усидеть под крышей. Тянет к людям. Я хожу по городу и читаю надписи на стенах. Это последнее, чем Гитлер подбадривал своих солдат. Буквы белые, в аршин. В них — крик истошный: «Победа или Сибирь». «Отвага и верность». «Свет — твоя смерть». На фронтоне вокзала: «Сначала победить, потом путешествовать». Нет, фашистам не путешествовать больше, не пятнать землю кровью! По набережной тянется колонна пленных гитлеровцев. Они небритые, в грязных мундирах. Впереди тащат веревками автомобиль, в котором сидит их генерал, насупленный, мрачный. Сбоку вышагивает наш боец с автоматом. Гимнастерка у него пропотела насквозь, под мышками — белые пятна соли. Пилотка съехала на затылок. Он лениво смотрит на реку. Там на волне покачивается баржа. Босая девчонка стоит на палубе, щурится от солнца, машет рукой бойцу. Баржа называется «Кет-Мари». Ей не уйти отсюда, пока не разминируют устье… Знаешь, Алла, на берегу Прегеля есть место, где я очень люблю бывать. На холме — средневековый за́мок с высокими стенами и расколотой колокольней; половину ее как ножом срезало. Жители так и называют это место: За́мок. И вот, представь, здесь я встретил человека, удивительно похожего на того генерала, который вручал нам награды на острове. Военная форма ну просто никак не подходила к нему. Он сам по себе, а обмундирование само по себе. Умора… Разговорились мы, он оказался тоже ленинградцем. А тут земляка встретить все равно что родного брата. Так этот человек подвел меня к стене за́мка. — Смотрите! — сказал он мне. — Смотрите, юноша, и понимайте. Я не сразу разглядел среди облупленной штукатурки, под слоем копоти и грязи, гипсовый барельеф, не сразу узнал уже виденный однажды девиз гитлеровских гренадеров: солдат и волк пьют из одного источника. Ей-богу, о фашистах не скажешь беспощаднее того, что они сами о себе сказали. Разве могли они, волки, победить в этой войне? Я повернулся к своему земляку и нечаянному собеседнику. — Да вы не тревожьтесь, — сказал я, — не тревожьтесь. Пустая картинка. Мы ее непременно соскребем… Взглянула бы ты, Алла, отсюда, с холма, на Кенигсберг. Развалины, развалины без конца. Трудно будет его восстанавливать. Может, легче построить рядом новый город. Много же городов на земле придется поднимать заново. Смотрю я на речку Прегель, а в мыслях у меня — Нева и маленький сожженный городок близ озера. Как-то он выглядит сейчас? Когда мы уходили из Шлиссельбургской крепости, на том берегу уже клали венцы первых домов… Вот что я вспомнил еще. В первый день в освобожденном Шлиссельбурге, в этом дотла разрушенном «населенном пункте», дружок мой Степа Левченко сказал, что не будет знать покоя, пока не увидит сожженные вражеские города. Вот мы видим их. Нет, руины не радуют сердце. На одной из улиц Кенигсберга стоит непонятно как уцелевший памятник: склоненная женщина закрыла лицо руками. Это памятник еще той войны, первой мировой. А вокруг дымятся развалины другой войны, последней. Пусть бы — последней войны на земле. Ты и не представляешь себе, Алла, до чего тянет меня в родные края. Во сне вижу бегущие за окном вагона перелески… Домой, домой! Мне все кажется, что дома меня ждет женщина. Она похожа то на мою мать, то на ленинградок, каких я видел зимой сорок второго года, то на суровую старую бабку, которую встретил в Шлиссельбурге, то на совсем еще молодую, русую девушку, — она сейчас далеко, где-то на приладожской пристани… Домой, скорей домой! Алла, почти каждый день я прихожу на кенигсбергский Восточный вокзал. Там уже полно наших железнодорожников. Они терпеливо, в сотый раз, объясняют будущим пассажирам, что полотно перешивается на широкую колею и движение скоро начнется. И вот они двинулись, поезда в Россию! Не могу тебе объяснить, что сейчас происходит на вокзале. Солдаты пляшут. Гармони заливаются на все голоса. Посмотришь на паренька, подумаешь — хлебнул чуток. Нет, он от счастья пьяный. Едем в Россию. Домой. Уже известно, что завтра начнет грузиться наш полк. Теперь это не полк, а просто молодые москвичи, ленинградцы, куряне, псковичи, орловцы. Они очень, очень спешат на родину. Алла, писать мне не надо. Скоро увидимся. До свидания. До свидания на этой неделе.
Г Л А В А XXXII НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ

На пристани в Шереметевке Иринушкин узнал, когда отправляется пароход по Ладожскому каналу. Этим пароходом он решил доехать до Леднева. У Володи оставалось достаточно времени, чтобы побывать в Шлиссельбургской крепости и затем снова вернуться на пристань. Он ждал, когда подойдет катерок-перевозчик. Этот катерок ходил через Неву, от берега к берегу. При необходимости он швартовался по пути у островного причала. Нева в это первое послевоенное лето сильно обмелела. На пристань вели длинные шлепающие мостки. Сама пристань представляла собою плот, обнесенный зелеными перилами. Плот раскачивался на волне. Володя стоял, опираясь на перила. Он слушал, как вода бьется о бревна, и вспоминал каждую дорогую ему мелочь вчерашнего дня, первого дня в Ленинграде. Он возвратился в родной город, домой. Но дома у него не было. Пришлось остановиться в битком набитом комендантском общежитии на Садовой. До ночи он ходил по улицам. Моросил мелкий, нудный дождик. Но солдат не замечал его. Он вышел на Дворцовую набережную и сказал: «Здравствуй, набережная». Вышел на Марсово поле и сказал: «Здравствуй, Марсово поле». В сквере перед Инженерным замком ставили на место петровский памятник: «Прадеду — правнук». Бронзовый конь с всадником был прислонен к постаменту, и казалось — вот-вот ударит копытом о землю. Дом на Литейном проспекте уже отстроили. На фасаде, настоящем, каменном, а не фанерном, в подвешенных люльках работали штукатуры. Все прилегающие улицы были в лесах. Чувствовалось, что строители стали первыми людьми в городе. В общежитие солдат вернулся поздно. Едва рассвело, он был уже снова на ногах. Он листал старенькую записную книжку с адресами ленинградцев, товарищей по Орешку. Это те самые адреса, которыми защитники крепости обменялись в сорок втором году, в июне, когда ждали штурма. Сегодня он навестит Валентина Алексеевича, только его, и сразу поездом, потом пароходом отправится в Леднево. Поездка в Леднево была желанной и почему-то немножко страшила. Даже хорошо, что можно на часок отдалить ее. Вот ахнет комиссар, когда увидит Володю! А вдруг Марулин еще не демобилизовался. А вдруг… Ни о каких «вдруг» думать не хотелось. Еще дворники подметали улицы, когда солдат вбежал в подъезд дома за Московской заставой. Володе открыла дверь сероглазая, светловолосая женщина. Она раскачивала и прижимала к груди ребенка. Застенчиво посмотрела на незнакомого военного. — Валентина Алексеевича нет, — сказала женщина, — только что уехал в Шлиссельбургскую крепость. А вы сами не с Орешка? Я сразу узнала, к нему многие приходят… Вы не спешите, на первый поезд все равно не успеете. Разве что — на второй… В вагоне Володя пристально разглядывал узкую картонную полоску с дырочками компостера и обозначением маршрута: Ленинград — Петрокрепость. Петрокрепость. Оказывается, так теперь называется Шлиссельбург. К новому названию было трудно привыкнуть. Есть Петропавловская крепость. А это — Петрокрепость. Разве так легко переименовать город? Имена рождаются, складываются веками, врастают в народный обиход. Почему — Петрокрепость? Надо было старое название просто перевести на русский язык: Ключ-город. Колеса выстукивали: «Ключ-город! Ключ-город!» К Иринушкину подсел мужчина в порыжелой куртке, под которой виднелась морская тельняшка. Лицо у него скуластое, голос с хрипотцой. — Далеко едешь, браток? Узнал, и снова спросил: — На работу, или как? Ответить на этот вопрос Володя затруднялся, а попутчик снова спрашивает: — Профессия у тебя имеется? — Видишь, солдат я. Попутчик ухмыльнулся. — По-моему, такой профессии нет. До озера ехали более часа. Выходя из вагона, новый знакомый сказал дружески: — Валяй к нам в бригаду, браток. Народ во как нужен… Мы в Петрокрепости, на Судоремонтном, новый цех закладываем. Придешь, спроси Алексеева, меня знают…
__________
На пристани в Шереметевке собралось много пассажиров. Тут были и приезжие, и местные жители, тетки с мешками, плотники с пилами в деревянных ноженках, рыбаки — их сразу узнаешь по высоким сапогам. Все спешили в Петрокрепость и были недовольны, что катерок запаздывает. Смотрели на Неву. Разговаривали. Скука ожидания — самая тяжелая скука. Крепость виднелась за протокой, совсем рядом, что называется, рукой подать. Огромная груда камней. Над нею — остов колокольни. — Да, здесь повоевано было, — сказал паренек, по виду ремесленник, на его рубашке блестели пуговицы с молоточками. — Повоевано, — откликнулась пожилая женщина с бидонами. Она то и дело вытирала пот с лица концами ситцевого платка, повязанного у подбородка. В воздухе было душно. Пари́ло. — Повоевано, — повторила женщина, — что ты понимаешь? Ты меня спроси. Я тут всю войну на бережку прожила. Она повернулась к соседям и начала рассказывать, прикрыв глаза тяжелыми, в жилках веками. Пассажиры подошли ближе. Рассказ всех заинтересовал. — Говорят, — начала она, — будто у них в крепости имелся флаг, вроде как заколдованный. Тот флаг выткала старая мастерица в Ленинграде и подарила сыну. А сын-то и был самый главный в крепости. Поднимали они флаг вот на этой колокольне… Ну, немцы осерчали. Сто пушек подкатили. Бьют. А флаг не шелохнется. Раз всю колокольню полымем обнесло. Сник огонь. А красное полотно, материнский-то дар, вьется, целехонько… Паренек усмехнулся. Рассказчица строго посмотрела на него. — Не веришь? Вот хоть у военного спроси. Как думаешь, быль то или небылица? Женщина обращалась к седоватому человеку в гимнастерке. Володя слушал ее рассказ, боясь помешать. Ведь это начало легенды. В ней, как всегда бывает в народной молве, чудесное сплетается с действительным. И, наверно, давно уже тот сказ ходит по Приладожью, дивятся ему, верят и не верят. — Я считаю, — ответил седоватый, — такое могло случиться. Дело возможное… Иринушкин смотрел на крепость. Там сейчас должен был находиться Валентин Алексеевич и с ним кто-то еще из боевых друзей. Тянет к себе эта землица, тянет, навек породнились с нею. На острове никого не видно. Не слышно и голосов. Володя ждал встречи с товарищами. Но все время его не покидала мысль о другой встрече. Он смотрел на крепость, а видел худенькое девическое лицо, легкие, летящие волосы… Алла, конечно, не знает, что он здесь. Ох, добраться бы поскорее до Леднева… Мог ли Володя подумать, что долгожданная встреча произойдет не в Ледневе, а сейчас, сию минуту, здесь. Пассажиры на пристани задвигались, засуетились. Наконец-то показался катерок-перевозчик. Беленький, чистый, быстрый, он без всякого усилия преодолевал течение. Перед крутым кованым носом взлетали прозрачные струи. Вот уже слышно, как весело и четко стучат моторы. Вот катерок разворачивается. Матрос размахнулся, чтобы бросить чалку. Иринушкин читает выведенное крупными синими буквами на борту: «Алла Ткаченко». Он не сразу понял, что это значит. Вместе со всеми, толкаясь, спешит к трапу. На катере впился глазами в прикрепленные к ходовой рубке пробковые круги, и на них прочел то же имя: «Алла Ткаченко». Тогда Володя бросился разыскивать кого-нибудь из экипажа. Все были заняты погрузкой. Когда катер отошел, юноша в белом кителе, в фуражке с форменной золотой «капустой» ответил на вопрос солдата спокойным, вежливым голосом. Ему, очевидно, часто приходилось давать объяснения любопытным пассажирам. — Наш пароход, — он так и сказал: «пароход», — носит имя героической девушки. Она работала во время Отечественной войны на речном транспорте, была таксировщицей. — Была? — тихо спросил Володя. Юноша не обратил внимания на вопрос и тем же тоном продолжал объяснять: — При налете фашистской авиации на склады в поселке Леднево Алла Ткаченко погибла в огне. — Но ведь она собиралась на Большую землю, учиться? Молодой речник только сейчас внимательно посмотрел на спрашивавшего. — Нет, она не уехала, не успела. Я знаю, я сам ледневский… Ссутулясь, Володя подошел к жестяному бачку и до краев наполнил привязанную кружку. Он пил жадными, долгими глотками. Слышал, что речник о чем-то спрашивает его, но никак не мог понять о чем. — Пожалуйста, — сказал он, — подкиньте меня к крепости. Иринушкин попросил об этом вовремя, так как показались уже створы левобережья. Катер взбурлил поверхность реки и подошел к острову. Володя соскочил на узкую деревянную кладочку. Вода отлетела с винтов и прозрачной полосой накрыла берег.Г Л А В А XXXIII ЯБЛОНЬКА

В крепости не было ни дорог, ни тропинок. Высокая трава в половину человеческого роста колыхалась меж стенами. В каменных расселинах выросли тонкие деревья. Иринушкин крикнул: — Э-эй! Ответило эхо. Оно долго перекатывалось, становясь все тише. Иринушкин снова крикнул: — Э-эй! И опять глухие отзвуки пошли по каменным громадам. Тогда Володя взглянул повыше и увидел три фигуры, стоящие во весь рост на стене, которая отделяла большой двор крепости от цитадели. Иринушкин сразу узнал их: почтарь Евгений Устиненков, ефрейтор Калинин и Валентин Алексеевич. В следующую минуту они уже прыгали с камня на камень вниз. Володя бежал им навстречу. Он сильно махал руками, вправо, влево — через траву нелегко пробиться. На середине двора они встретились, обхватили друг друга и долго молчали, пряча лица. — Как тебя занесло сюда? — задал вопрос Марулин. Пулеметчик рассказал, что был у него дома. — Ну, пойдем, пойдем! — торопили его товарищи. В цитадели, среди притоптанных зарослей, горел костер. Над ним булькала вода в закопченном котелке. На земле лежали ломти хлеба, вскрытые банки консервов, баклажка с завинченной пробкой. Все было подоходному, по-солдатски. Товарищи рассказали Володе, что нашли друг друга так же, как он их, в первый день возвращения, по июньским адресам. Они давно уже сговорились съездить на заветный островок, долго выбирали подходящий день. И вот сегодня удрали от городской духоты на ладожский простор. Иринушкин смотрел на лица друзей, находил в них новые черты. Но в общем-то они не очень переменились. Только одеты по-разному. На Марулине — поношенный китель, на Константине Ивановиче — гражданский пиджачок, Устиненков — в старой гимнастерке. Володя спешил узнать, что с остальными солдатами гарнизона, где они. Товарищи рассказывали наперебой: кто на заводе работает, кто на верфи, а кто в госпитале ремонтируется. И вдруг разговор оборвался. Все четверо услышали, как шумит трава, упруго гнется на стеблях. Иринушкин заметил, что друзья смотрят на него, и понял, что они все знают. Ведь и они приехали на остров на том же катерке и, разумеется, прочли имя на его борту. А сейчас молчат, будто щадят его, безмолвно спрашивают: все ли говорить? Пулеметчик не выдержал молчания. — Кого еще нет? Валентин Алексеевич содрал с головы кепку, которая так не шла к воинскому кителю, вытер ею потное лицо. — Степан наш погиб. В Прибалтике похоронен. Под Нарвой, в сорок четвертом, убили Ивана Ивановича… У тлеющего костра сидели четыре солдата и смотрели в высокое небо. Они прислушивались. Им казалось, что в стенах крепости живут отгремевшие звуки, — сейчас вот запоет летящий свинец, и дневальный крикнет: «В ружье!» Но все было тихо. От теплой земли поднимался настоенный полынный дух… Марулин пододвинул к себе заплечный мешок и принялся его развязывать. Из мешка вытащил маленькое зеленое деревце, с обернутой бумагой вершинкой, с примятыми листочками, и все увидели, что это саженец яблони. С корней посыпались комочки земли. Солдаты поняли и одобрили замысел комиссара. Они встали и руками разгребли землю на том месте, где росла старая яблоня, разбитая снарядом. Они рыли и натыкались на ее заматерелые корни. Вокруг саженца, как полагается, взрыхлили околоствольный круг. Устиненков нашел старую каску и принес в ней воды с озера. — Расти, наша яблонька! — сказал Валентин Алексеевич. Четверо обнажили головы. Уж они-то знали, что вся земля в цитадели — братская могила защитников крепости. — Мертвым — покой, живым — работа без устали! — произнес Марулин. Вернулись к костру. Варево наполовину выкипело. Солдатский «суп из трех круп» припахивал горьким дымом. У горячих угольков друзья повели душевный круговой разговор. Каждый рассказал о своей судьбе. Первым, по воинскому старшинству, начал комиссар. Он возвратился к довоенной профессии. Преподает в областной школе киномехаников. Женился на девушке, которую полюбил еще в пулеметном батальоне; она там была связисткой. Теперь у них растет сын. Рассказ Константина Ивановича был так же прост. Жизнь у него, как и прежде, рабочая. Он поступил на завод механиком. И еще поступил в машиностроительный техникум. Верно, в техникуме он самый старый студент, даже многих преподавателей постарше. Но очень уж надоело, что молодежь постоянно «перебегает ему дорогу». Получит диплом, тогда он еще покажет молокососам! Самым коротким был, пожалуй, рассказ Евгения Устиненкова. Почтарь особенным многословием никогда не отличался. Впрочем, он теперь был уже не почтарем, а работал на хлебозаводе. О себе рассказывать Устиненков вовсе не стал. Он говорил о последнем дне войны, о колонне, которая стоит в Берлине, за Бранденбургскими воротами, на площади Гроссе Штерн. — Толстущая такая колонна, — начал Евгений, — и вся опоясана старинными орудийными стволами. Внутри колонны — каменная лестница, совсем как на нашем НП, в Головкинской башне… Ну, поднялся я на самую верхушку, взглянул на город. Он только что с бою взятый, весь в тумане плывет. Обернулся я и пистолетом вывел на закоптелой стене: «Орешек пришел в Берлин». Это — за себя и за всех вас… Слушатели одобрили эту надпись. Правильная надпись! На маленьком острове, на пороге Ладоги четыре солдата поднялись во весь рост. Их лица были суровы, они хранили следы пройденных дорог, боль невозвратимых утрат. Солдаты сдвинули кружки за то, чтобы никогда больше не свистели пули в воздухе. Друзья вышли за стены, к Флажной башне. Близился вечер. От воды потянуло холодом. Пора бы окликнуть деловито спешивший мимо катерок-перевозчик. Но не хотелось покидать остров. Они стояли на валу и глядели на зеленый городок, шумевший на том берегу Невы. По улицам, перекликаясь, бегали дети. Доносился стук топоров. Около пристани строили целую улицу. «Горбыли давай!» — кричал кто-то на лесах. «Несу!» — отвечал певучий женский голос. Марулин внимательно посмотрел на Иринушкина. — Как думаешь дальше жить? Володя удивился вопросу. Ведь это же ясно. Работать, учиться. Но раньше всего — работать. На любом заводе, на любом строительстве. Может быть, даже вот здесь, в моем Ключ-городе. Рыбачья моторка с сетями на днище подошла к острову. Парень спрыгнул на берег, набрал полные пригоршни снарядных осколков. Он заметил людей около башни, дружелюбно кивнул им, объяснил: — Для грузила годятся. Моторка развернулась и, оставив рябую дорожку, ушла на озеро. С бровки послышались голоса, смех. Там заплескалась вода, полетели брызги, алые в свете вечернего солнца. Девочка с бантиками в косицах саженками доплыла до валуна, торчащего из воды. Она выбралась на камень, закинула руки и выпрямилась — тоненькая, загорелая, легкая. Валентин Алексеевич смотрел на озерную даль, на извечно несущую свои воды Неву, на камень, на девочку. — Вот она, жизнь, — прошептал Марулин, — жизнь!
__________

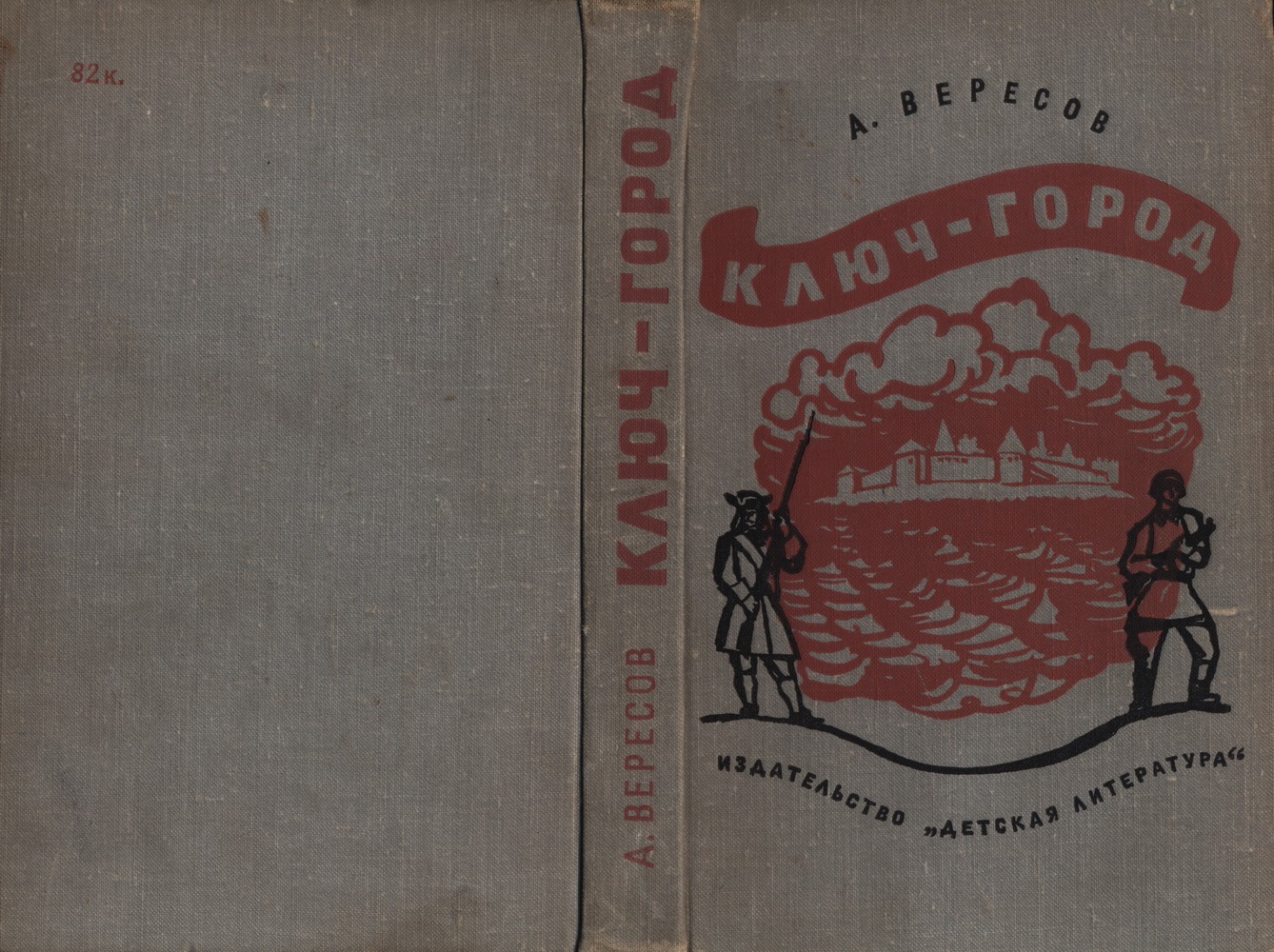 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствуетпрофессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствуетпрофессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

Последние комментарии
4 часов 37 минут назад
5 часов 18 минут назад
5 часов 19 минут назад
7 часов 19 минут назад
13 часов 24 минут назад
13 часов 36 минут назад