О Владимире Ильиче Ленине [Надежда Константиновна Крупская] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
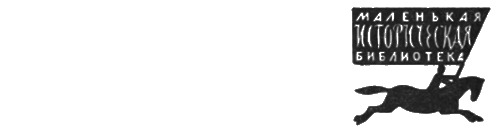
Н. К. КРУПСКАЯ
О Владимире Ильиче
Ленине

*
Составитель В. С. Дридзо Рисунки И. Незнайкина
© Иллюстрации. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988
Дорогие ребята!
Все вы с самого детства хорошо знаете Владимира Ильича Ленина, любите вашего большого, заботливого друга. Часто рассказывали вам о его детстве и юности, о жизни, полной тревог и лишений, о его борьбе за дело рабочего класса, о том, как он создал нашу великую Коммунистическую партию, наше могучее Советское государство. Смело, решительно вёл он партию и рабочий класс к победе. И рабочие победили, установили в октябре 1917 года Советскую власть. Владимир Ильич Ленин стал руководителем Советского государства. Много забот было у него. На нашу страну напали капиталисты четырнадцати стран — не хотели они допустить, чтобы рабочие управляли государством; в стране был голод, большинство фабрик и заводов не работало. Но партия и рабочий класс победили — прогнали из нашей страны иностранные войска, восстановили заводы и фабрики, справились с голодом, начали строить социализм. Партия, советский народ свято выполняют заветы Ленина. Мы с вами видим, как день за днём, час за часом с радостью и гордостью строит советский народ светлое здание коммунизма. Вы, ребята, будете тоже строить коммунистическое общество. Жизнь и заветы Ленина мы должны знать и изучать. В этой книге о Владимире Ильиче Ленине рассказывает его жена, друг и соратник по борьбе Надежда Константиновна Крупская. Надежда Константиновна всю свою сознательную жизнь боролась рука об руку с Лениным за победу рабочего класса. Вместе они пережили мрачные годы царизма, под руководством Владимира Ильича вместе работали над созданием партии, вместе боролись за завоевание и укрепление Советской власти. Пройдя всю жизнь с Владимиром Ильичём Лениным, Надежда Константиновна после его смерти много сделала для того, чтобы жизнь и деятельность Ленина стали широко известны народу нашей страны. Её «Воспоминания о Ленине» переведены и изданы во многих странах мира. В этой книжке напечатаны выдержки из книги Н. К. Крупской «Воспоминания о Ленине», сборника её статей и выступлений «О Ленине», из её писем и статей, опубликованных в 5, 6, 11-м томах её педагогических сочинений. Надежда Константиновна рассказывает о детских годах Владимира Ильича, о его жизни и деятельности до и после Октябрьской революции, о том, каким замечательным человеком был Владимир Ильич. В рассказе Надежды Константиновны вы, дорогие ребята, найдёте много интересного; вы поймёте, к чему вам нужно стремиться, поймёте, каким должен быть человек коммунистического общества.Вера Дридзо
ЛЕНИН

В комнате на стене висит портрет.
Вася сказал отцу:
— Папа, расскажи мне про него.
— А ты знаешь, кто это?
— Знаю. Это Ленин.
— Да, это Владимир Ильич Ленин. Наш любимый, родной, наш вождь.
Ну, слушай. Был я молод. Плохо жилось тогда нам, рабочим. Работа была тяжёлая. Работали мы с утра до поздней ночи, а жили впроголодь. Много нас на заводе работало. Хозяин завода был Данилов. Он не работал. Спины не гнул, а жил он ох как богато!
Откуда всё было у него? Мы на него работали. Он нам за работу платил мало — прямо сказать, грабил нас. На нашем труде наживался. У него завод был, деньги, машины, а у нас ничего, кроме наших рабочих рук, не было. Вот и приходилось к нему па работу идти. Не только на заводе Данилова так было. Так было и на всех заводах и фабриках.
В деревне крестьянам тоже плохо жилось. У них земли было мало, а у помещиков — много. Крестьяне на помещиков работали. Помещики жили богато, а крестьяне бедно.
Помещики и капиталисты были заодно. Заодно с ними был и самый главный, самый богатый помещик — царь. Он над всеми хозяином был. Такие порядки заводил, которые были хороши только для помещиков и капиталистов. А рабочим и крестьянам от этих порядков было очень трудно жить. Владимир Ильич Ленин был другом, товарищем рабочих.
Он хотел все порядки изменить. Хотел, чтобы все, кто работает, стали жить хорошо, Ленин боролся за рабочее дело.
Ленин стал собирать тех, кто стоял за рабочих. Всё больше их становилось, всё крепче становилась рабочая партия — партия коммунистов.
Партия видела, что без борьбы ничего не добъёшься. Стали это понимать и рабочие всех стран.
Рабочие любили Ленина, а помещики и капиталисты его ненавидели. Царская полиция его арестовывала, сажала в тюрьму, ссылала в далёкую Сибирь, хотела его навек в тюрьму засадить. Ленин уехал за границу и издалека писал рабочим, что им надо делать. А потом опять приехал и руководил всей борьбой.
В феврале 1917 года рабочие вместе с солдатами — тогда война была — прогнали царя, а потом, 7 ноября 1917 года, прогнали и помещиков и капиталистов. Отняли у них землю, а потом заводы, фабрики и стали заводить свои порядки.
Не царь, не помещики и капиталисты, а сами рабочие и крестьяне стали обсуждать и решать свои дела в Советах.
Новое это было для них дело. Ленин и его партия вели рабочих по этому трудному пути и помогали им налаживать жизнь по-новому. Много пришлось работать Ленину. Много у него было забот. Здоровье его стало плохо, и в 1924 году Владимир Ильич умер.
Очень горевали мы, когда Ленин умер, но то, что он говорил, мы никогда не забудем. Мы стараемся всё делать так, как он советовал. Работу, жизнь по-новому налаживаем.
Как же жил Ленин? Какими были его родители? Как он учился? Как работал? К чему стремился? Дружил ли с ребятами? Каким надо быть, чтобы быть похожим на Владимира Ильича Ленина? Вот что рассказывает об этом Надежда Константиновна Крупская[1].
СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

Родился Владимир Ильич 22 апреля 1870 года в приволжском городке Симбирске и прожил там до 17 лет. Это был губернский город, но не было там ни фабрик, ни заводов, не было даже железной дороги; ни телефонов, ни радио, конечно, не было.
Настоящая фамилия Ильича была Ульянов. Только много позже, став революционером, он стал писать под вымышленной фамилией Ленин. Теперь Симбирск в память Ильича носит имя Ульяновск.
Отец и мать
Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был простого звания. Жил он в тяжёлых условиях. С семи лет он остался сиротой, и только благодаря помощи старшего брата, отдавшего последние гроши на его образование, благодаря необычайной талантливости и упорному труду удалось Илье Николаевичу «выйти в люди», кончить гимназию и Казанский университет. Он стал педагогом, затем в Симбирске был инспектором, а потом директором народных училищ. Жадно слушал рассказы отца о деревне Ильич. Много слышал он о деревне ещё малышом от няни, которую он очень любил, от матери, которая тоже выросла в деревне. Не только глубоко было влияние на Ильича отца; очень сильно было влияние на него и матери. Отец её был родом с Украины; был крупным врачом-хирургом. Марию Александровну он не захотел отдавать ни в какое учебное заведение, училась она дома, была прекрасной музыкантшей, много читала, знала жизнь. Отец приучил её к большому порядку, она была хорошей хозяйкой, учила потом хозяйству и своих дочерей. Когда опа вышла замуж, когда стала у них расти семья, на неё легло много забот. Жалованья Ильи Николаевича еле-еле хватало, надо было много работать, чтобы создать тот уют, тот порядок, который был в семье Ульяновых, который давал возможность всем детям спокойно, толково учиться, который позволял привить детям ряд культурных привычек. На учёбу ребят Мария Александровна, как и отец Ильича, обращала очень большое внимание, учила их немецкому языку, и Ильич, улыбаясь, рассказывал, как его нахваливал в младших классах немец-учитель. Ильич потом очень увлекался изучением языков. Мне кажется, что талант организатора, который был так присущ Ильичу, он в значительной мере унаследовал от матери. Кроме того, мать примером своим показывала старшим, как надо заботиться о младших. Она организовала хоровое пение ребят, которое они ужасно любили, играла с ними. И Ильич с ранних лет заботился о младшем брате Мите и младшей сестре Мане, играл с ними, помогал им в учёбе, когда они стали постарше. В игру он умел вносить известную организованность, и столько мягкости, внимания было у него во время игры к младшим. Ильич всегда очень любил мать, по особенно ценил её в годы её тяжёлых переживаний. В 1886 году умер Илья Николаевич, и Ильич рассказывал мне, как мужественно она переносила смерть мужа, которого так любила, так уважала. Но особенно стал Ильич вглядываться в мать, понимать её после гибели брата. Изменилась Мария Александровна, стала близка ей революционная деятельность её детей, и особо горячо стали любить её дети. В 1899 году, когда она приехала в Петербург хлопотать о том, чтобы Владимира Ильича из Енисейской губернии перевели за границу или хотя бы куда-нибудь ближе к Питеру, директор департамента полиции Зволянский зло ей сказал: «Можете гордиться своими детьми: одного повесили, а о другом также плачет верёвка». Мария Александровна поднялась и, полная достоинства, сказала: «Да, я горжусь своими детьми». Марию Александровну я очень любила, — она такая чуткая и внимательная была всегда. Владимир Ильич страшно любил мать. «У ней громадная сила воли, — сказал он мне как-то, — если бы с братом это случилось, когда отец был жив, не знаю, что бы и было». Свою силу воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унаследовал также и её чуткость, внимание к людям. Много горя выпало на долю Марии Александровны — казнь старшего сына, смерть дочери Ольги, бесконечные аресты других детей. Заболел Владимир Ильич в 1895 году, — она тотчас же приезжает и отхаживает его, сама готовит ему пищу; арестуют его, — она опять на посту, часами просиживает в полутёмной приёмной Дома предварительного заключения, ходит на свидание, носит передачи, и только чуть-чуть дрожит у ней голова.Братья и сёстры. Школа
Владимир Ильич поступил в гимназию девяти с половиной лет, всё время учился отлично, кончил с золотой медалью. Это не так легко ему давалось, как многие думают. Ильич был очень живым. Любил ходить далеко, гулять, любил Волгу, Свиягу, любил купаться, плавать, любил кататься на коньках. Он страшно любил читать, книги захватывали его, увлекали, говорили о жизни, о людях, ширили горизонт. У него был заведён такой порядок: сначала уроки выучит, потом за чтение возьмётся. Держал себя в руках. Время экономил. Когда читал, очень сосредоточивался и потому читал очень быстро. Делал для себя выписки из книг, старался тратить на запись поменьше времени. Илья Николаевич, обращая внимание на то, чтобы Владимир Ильич хорошо и упорно учился, старался воспитать в нём сознательное отношение к тому, чему и как учили его в школе. Илья Николаевич был директором народных училищ в Симбирске. Он всегда очень заботливо относился к детям других национальностей — мордвинов, чувашей и др. Владимир Ильич видел это, это ему нравилось, и у Владимира Ильича было исключительное отношение к детям нацменам. В старшем классе гимназии с ним вместе учился чуваш, который не мог учиться на «отлично», потому что не знал русского языка. Целый год занимался он [Владимир Ильич] с товарищем чувашом Огородниковым, помогал ему подготовиться в высшую школу, занимаясь с ним главным образом русским языком, и помог — тот сдал очень хорошо экзамен. Помогал Ильич товарищам в учёбе: в решении задач, в объяснении непонятного, писал некоторым сочинения. Сильную волю он в себе выработал. Что скажет — сделает. На его слово можно было положиться. Как-то, мальчиком ещё, он попробовал курить. Увидя его как-то курящим, его мать, Мария Александровна, очень огорчилась и стала просить его: «Володюшка, брось курить». Ильич обещал и с тех пор ни разу не дотронулся до папирос. Семья Ульяновых была большая — шесть человек детей. Все они росли парами: старшие — Анна и Александр, потом Владимир и Ольга и, наконец, младшие — Дмитрий и Мария. Ильич очень дружил с Ольгой, в детстве играл с ней, позднее вместе читали они Маркса. В 1890 году она поехала на Высшие женские курсы в Питер и умерла там весной 1891 года от тифа. Александр рос революционером и имел очень сильное влияние на Ильича. Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и, когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодёжи — двоюродных братьев или сестёр (их было много), у мальчиков была излюбленная фраза: «Осчастливьте своим отсутствием». Оба брата умели упорно работать, оба были революционно настроены. Александр Ильич, видя тяжёлую долю крестьянства, все те безобразия, которые кругом творятся, решил, что нужна борьба с царской властью. В Питере Александр Ильич примкнул к партии «Народная воля» и принял активное участие в подготовке покушения на Александра III. Покушение не удалось — 1 марта 1887 года он вместе с другими товарищами был арестован. Весть об аресте Александра Ильича получила в Симбирске учительница Кашкадамова, которая передала её Ильичу как старшему сыну (ему уже было 17 лет) в семье Ульяновых. Анна Ильинична тоже училась в это время в Питере, на Высших женских курсах, и тоже была арестована. Передавать эту ужасную весть матери пришлось Ильичу. Он видел её изменившееся лицо. Она собралась в тот же день ехать в Питер. В то время железных дорог в Симбирске не было, надо было до Сызрани ехать на лошадях, стоило это дорого, и обыкновенно ехавшие отыскивали себе попутчиков. Ильич побежал отыскивать матери попутчика, но весть об аресте Александра Ильича уже разнеслась по Симбирску, и никто не захотел ехать с матерью Ильича, которую перед этим все нахваливали как жену и вдову директора. От семьи Ульяновых отшатнулись все, кто раньше у них бывал. Уехала мать; с тревогой ждал Ильич вестей из Питера, особенно заботился о младших, взял себя в руки, занимался. Много он после того дум передумал. Брата казнили 8 мая. Получив об этом известие, Владимир Ильич сказал: «Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти». Перед тем матери, начавшей ходатайствовать за сына и дочь, дали свидание с сыном, и это свидание потрясло её. Она стала было уговаривать сына подать прошение о помиловании, но когда сын сказал ей: «Мама, я не могу этого сделать, это было бы неискренне», — она не стала его больше уговаривать и, прощаясь с ним, сказала: «Мужайся!» Ходила на суд, слушала речь сына.
В ПЕТЕРБУРГЕ

Сердце Владимира Ильича билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетённым. Это чувство он получил в наследие от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать ответа на вопросы: каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответы на свои вопросы он получил у Маркса. С ними пошёл он к рабочим.
Пришёл он к рабочим не как надменный учитель, а как товарищ. И он не только говорил и рассказывал, он внимательно слушал, что говорили ему рабочие.
Работа среди питерских рабочих, разговоры с ними, внимательное прислушивание к их речам дало Владимиру Ильичу понимание великой мысли Маркса, той мысли, что рабочий класс является передовым отрядом всех трудящихся и что за ним идут далее трудящиеся массы, все угнетённые, что в этим его сила и залог его победы. Только как вождь всех трудящихся рабочий класс может победить. Это понял Владимир Ильич, когда он работал среди питерских рабочих. И эта мысль, эта идея освещала всю дальнейшую его деятельность, каждый его шаг. Он хотел власти для рабочего класса. Он понимал, что рабочему классу нужна эта власть не для того, чтобы строить себе сладкое житьё за счёт других трудящихся; он понимал, что историческая задача рабочего класса — освободить всех угнетённых, освободить всех трудящихся. Эта основная идея наложила отпечаток на всю деятельность Владимира Ильича.
С приездом Владимира Ильича в Петербург стала складываться под его руководством из разрозненных кружков стройная марксистская организация. Эта организация получила впоследствии, в декабре 1895 года, название Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Надежда Константиновна входила в центральное ядро «Союза борьбы» и являлась одним из деятельнейших его работников.
И вот целый десяток лет вёл Ленин трудную работу по собиранию партии, по объединению отдельных кружков революционеров. Дело это было особенно трудное, потому что кружки должны были скрываться от полиции, кружки постоянно арестовывались и распадались. Всё приходилось делать тайком, с большими предосторожностями. Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Владимир Ильич знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Лето 1895 года Владимир Ильич провёл за границей, ходил по рабочим собраниям. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература. Тотчас же за Владимиром Ильичём началась бешеная слежка: следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время её дежурства, пришёл сыщик и хвастал: «Выследили, вот, важного государственного преступника Ульянова, — брата его повесили, — приехал из-за границы, теперь от нас не уйдёт». Зная, что я знакома с Владимиром Ильичём, двоюродная сестра поторопилась сообщить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича.
В декабре 1895 года Владимир Ильич был арестован и заключён в тюрьму. В то же время были арестованы и заключены в тюрьму и многие его товарищи — руководители марксистской организации Петербурга.
Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так и в тюрьме он был центром сношений с волей. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах[2]. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать тёплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 года я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай и, как уйдёт надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной, по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал её. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос шёл не о геройских подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем её лучших стремлений, научиться быть ей близким и понятным и вести её за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковался из Владимира Ильича вождь рабочей массы.
В тюрьме Владимир Ильич провёл больше года. А затем был приговорён к ссылке на три года в Сибирь. Отбывал он ссылку в селе Шушенском. Надежду Константиновну тоже приговорили к ссылке на три года в Уфимскую губернию. Ей удалось добиться разрешения отбывать ссылку в Шушенском с Владимиром Ильичём. В ссылку с нею поехала её мать Елизавета Васильевна Крупская, которая всю жизнь прожила вместе с ними.
ССЫЛКА

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте.
Мы выгрузились, нас провели в избу.
В Сибири — в Минусинском округе — крестьяне очень чисто живут, полы устланы пёстрыми самоткаными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой.
Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы.
В Шушенском из ссыльных было только двое рабочих — польский рабочий Проминский и питерский рабочий Оскар[3]. С нами жила моя мать, которая нам во всём сочувствовала и помогала как могла. Проминский был в ссылке тоже не один. С ним была жена. У них было пятеро детей. Все мы часто виделись. Проминский очень хорошо пел польские революционные песни, дети подпевали. Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири, мама и все другие подтягивали ему. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич.
Мы порядком-таки попривыкли к нашим шушенским товарищам, если почему-либо не придёт какой-нибудь день Оскар или Проминский, так точно чего-то не хватает.
Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, — Журавлёв, чахоточный, лет тридцати. Журавлёв был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлёв смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью.
Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка — Сосипатычем его звали; он, впрочем, очень хорошо относился к Владимиру Ильичу и дарил ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.
Через Сосипатыча, через Журавлёва Владимир Ильич изучал сибирскую деревню.
Мы с мамой насадили всякой всячины (даже дынь и помидоров), и мы давно уже едим редиску, салат, укроп. Сад тоже развели, резеда цветёт, а остальные цветы (левкои, душистый горошек, маргаритки, анютины глазки, флоксы) ещё имеют цвести в более менее отдалённом будущем, всё же сад и маме доставляет удовольствие.
Праздник Первого мая
Помню, как мы встречали Первое мая. Утром пришёл к нам Проминский. Он имел сугубо праздничный вид: надел чистый воротничок и сам весь сиял, как медный грош. Мы пили чай с шаньгами. Угостили и его. Потом он закурил трубку и затянул «Интернационал». Мы очень быстро заразились его настроением и втроём пошли к Энг-бергу, прихватив с собою собаку Женьку. Женька бежала впереди и радостно тявкала. Идти было надо вдоль речки Шуши. По реке шёл лёд. Женька забиралась по брюхо в ледяную воду и вызывающе лаяла по адресу мохнатых шушенских сторожевых собак, не решавшихся войти в такую холодную воду. Оскара взволновал наш приход. Мы расселись в его комнате и принялись дружно петь:Минька
Появился детский элемент. Во дворе жил поселенец — латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один Минька. Отец был горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико, ясные глазки и серьёзный разговор. Стал он бывать у нас каждый день — не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материной тёплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нём не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Как-то раз, когда Владимир Ильич вернулся из одной своей поездки, Минька второпях схватил материны сапоги и стал торопливо одеваться. Мать спрашивает: «Куда ты?» — «Да ведь Владимир Ильич приехал!» — «Ты помешаешь, не ходи…» — «О, нет, Владимир Ильич меня любит!» (Володя действительно его любит.) Когда же ему дали лошадь, которую Володя привёз ему из Красноярска, то он проникнулся к Володе такой нежностью, что даже не хотел идти домой спать, а улёгся с Дженькой на половике.На охоте
Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завёл себе штаны из чёртовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было! Я приехала весной, удивлялась. Придёт Проминский — он страстно любил охоту — и, радостно улыбаясь, говорит: «Видел — утки прилетели». Приходит Оскар и тоже об утках. Часами говорили, а на следующую весну я сама уже стала способна толковать о том, где, кто, когда видел утку. После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна становилась власть её. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идёт в лес, просит подержать Женьку, которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке. Держишь её, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы.Коньки
Около нашего дома на речке по инициативе Володи и Оскара сооружён каток, помогали учитель и ещё кое-кто из обывателей. Володя катается отлично и даже закладывает руки в карманы своей серой куртки, как самый заправский спортсмен, Оскар катается плохо и очень неосторожно, так что падает без конца, я вовсе кататься не умею: для меня соорудили кресло, около которого я и стараюсь (впрочем, я только 2 раза каталась и делаю некоторые успехи), учитель ждёт ещё коньков. Для местной публики мы представляем даровое зрелище: дивятся на Володю, потешаются надо мной и Оскаром и немилосердно грызут орехи и кидают шелуху на наш знаменитый каток. Дженни очень неодобрительно относится к катку, она предпочитала бы носиться по поскотине, совать морду в снег и приносить Володе всякие редкости вроде старых лошадиных подков. Мама катка побаивается. Был как-то славный денёк, мы и вытащили её погулять, лёд на реке был тогда такой славный, прозрачный, мы и пошли по льду, мама как-то поскользнулась и расшибла голову в кровь, с тех пор ещё больше катка боится. Володе прислали из Красноярска коньки Меркурий, на которых можно «гиганить» и всякие штуки делать. Володя теперь поражает шушенских жителей разными «гигантскими шагами» да «испанскими прыжками». У меня тоже новые коньки, но и на новых, как и на старых коньках, я также плохо катаюсь или, вернее, не катаюсь, а переступаю по-куриному, мудрена для меня эта наука!Шахматы
Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: «Если он конём сюда, то я турой туда». Мы собираемся в город, и Володя к тому времени шахматы приготовляет, собирается сразиться не на живот, а на смерть с Лепешинским. Шахматы Володя режет из коры, обыкновенно по вечерам, когда уже окончательно «упишется». Иногда меня призывает на совет: какую голову соорудить королю или талию какую сделать королеве. У меня о шахматах представление самое слабое, лошадь путаю со слоном, но советы даю храбро, и шахматы выходят удивительные.Кончился срок ссылки
Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичём нетерпение, тем больше рвался он на работу. А тут ещё нагрянули с обыском. По старой питерской привычке нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники, — и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошёл благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули ещё несколько лет ссылки. В феврале 1900 года, когда кончился срок ссылки Владимира Ильича, мы двинулись в Россию. Рекой по ночам разливалась Паша, ставшая за два года настоящей красавицей; Минька суетился, перетаскивая к себе домой остающуюся бумагу, карандаши, картинки и пр.; приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо волновался, принёс мне подарок — самодельную брошку в виде книги с надписью «Карл Маркс» — в память моих занятий с ним по «Капиталу»; заглядывали то и дело в комнату хозяйка или соседка; недоумевала наша собака, что весь этот переполох должен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли на месте; кашляла мама, возясь с укладкой; деловито увязывал книги Владимир Ильич. Книги уложили в ящик и свесили, выходит около 15-ти пудов. Книги и часть вещей отправляем транспортом. Ввиду морозов хотели заказать кошеву с верхом, но в городе достать нельзя, а тут заказывать сомнительно, такую ещё, пожалуй, сделают, что не доедем до Ачинска. Тёплой одёжи много, авось не замёрзнем, да и погода, кажется, собирается потеплеть: Оскар вчера видел где-то облачка, а сегодня утром было только 28 градусов мороза. Нам советуют брать в дорогу непременно пельмени, остальное всё замёрзнет. Вот мама и собирается настряпать уйму этого снадобья, без жиру и луку. Доехали до Минусы. Там уже собралась вся наша ссыльная братия, было то настроение, которое бывает, когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каждый думал, когда и куда он сам поедет, как будет работать. Владимир Ильич договорился уже раньше о совместной работе со всеми, кто вскоре ехал в Россию, договорился о переписке с остающимися. Барамзин подкармливал бутербродами Женьку, которая оставалась ему в наследство, но она не обращала на него внимания, лежала у маминых ног и не сводила с неё глаз, следя за каждым её движением. Наконец, урядившись в валенки, дохи и пр., двинулись в путь. Ехали на лошадях 300 вёрст по Енисею, день и ночь, благо луна светила вовсю. Владимир Ильич заботливо засупонивал меня и маму на каждой станции, осматривал, не забыли ли чего. Мчались вовсю, и Владимир Ильич — он ехал без дохи, уверяя, что ему жарко в дохе, — засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю.Приехали в Уфу, где Надежда Константиновна должна была ещё целый год отбывать ссылку. Мать Надежды Константиновны, Елизавета Васильевна, оставалась с нею.
Пару дней пробыл Владимир Ильич в Уфе и, поговоривши с публикой и препоручив меня с мамой товарищам, двинулся дальше, поближе к Питеру.
Так как в больших городах Владимиру Ильичу полиция жить не разрешала, то он поселился в Пскове. Псков был не так далеко от Петербурга, и Владимиру Ильичу было удобно из Пскова сноситься с партийными товарищами, договариваться с ними о совместной революционной работе, договариваться о связях, об адресах для переписки. Владимир Ильич собирался ехать за границу, чтобы там издавать общерусскую политическую газету. Надо было хорошенько всё продумать, обо всём договориться.
Чуть не арестовали
Перед отъездом за границу Владимир Ильич чуть не влетел. Приехал из Пскова в Питер одновременно с Мартовым. Их выследили и арестовали. В жилетке у него было две тысячи рублей, полученных от Тётки (А. М. Калмыковой), и записи связей с заграницей, писанные химией на листке почтовой бумаги, на которой было написано чернилами что-то безразличное — счёт какой-то. Если бы жандармы догадались нагреть листок, не пришлось бы Владимиру Ильичу ставить за границей общерусскую газету. Но ему «пофартило», и через дней десять его выпустили. Потом он ездил ко мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний.
ПРИШЛОСЬ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Закончилась ссылка Надежды Константиновны, и она торопится скорее к Владимиру Ильичу за границу, где уже к этому времени начала выходить общерусская марксистская газета Искра», созданная Владимиром Ильичём.
В Праге, в Мюнхене
Из Москвы отвезла я свою мать в Питер, устроила её там, а сама покатила за границу. Направилась в Прагу, полагая, что Владимир Ильич живёт в Праге под фамилией Модрачек. Дала телеграмму. Приехала в Прагу — никто не встречает. Подождала-подождала. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины, поехала. Приезжаем в рабочий квартал, узкий переулок, громадный дом, из окон которого во множестве торчат проветривающиеся перины. Лечу на четвёртый этаж. Дверь отворяет беленькая чешка. Я твержу: «Модрачек, герр Модрачек». Выходит рабочий, говорит: «Я Модрачек». Ошеломлённая, я мямлю: «Нет, это мой муж». Модрачек, наконец, догадывается: «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живёт в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма». Модрачек провозился со мной целый день, я ему рассказала про русское движение, он мне — про австрийское, жена его показывала мне связанные ею прошивки и кормила чешскими клёцками. Приехав в Мюнхен, — ехала я в тёплой шубе, а в это время в Мюнхене уже в одних платьях все ходили, — наученная опытом, сдала корзины на хранение на вокзале, поехала в трамвае разыскивать Ритмейера. Отыскала дом, квартира № 1 оказалась пивной. Подхожу к стойке, за которой стоял толстенный немец, и робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: «Это я». Совершенно убитая, я лепечу: «Нет, это мой муж». И стоим дураками друг против друга. Наконец, приходит жена Ритмейера и, взглянув на меня, догадывается: «Ах, это, верно, жена герра Мейера, он ждёт жену из Сибири. Я провожу». Иду куда-то за фрау Ритмейер на задний двор большого дома, в какую-то необитаемую квартиру. Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов и Анна Ильинична… Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера. Комнатёшка у Владимира Ильича была плохонькая, жил он на холостяцкую ногу, обедал у какой-то немки. Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана. Вид у него был озабоченный, всё налаживалось не так быстро, как хотелось. До моего приезда Владимир Ильич жил просто без паспорта. Когда я приехала, взяли паспорт какого-то болгарина, д-ра Йорданова, вписали туда ему жену Марицу и поселились в комнате, нанятой по объявлению в рабочей семье. Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провёл, что секретарём «Искры» буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича. Связи с Россией очень быстро росли. Одним из самых активных корреспондентов «Искры» был питерский рабочий Бабушкин, с которым Владимир Ильич виделся перед отъездом из России и сговорился о корреспондировании. Он присылал массу корреспонденции из Орехово-Зуева, Владимира, Гусь-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кохмы, Кинешмы. Он постоянно объезжал эти места и укреплял связи с ними. Писали из Питера, Москвы, с Урала, с Юга. Поселились мы после моего приезда в рабочей немецкой семье. У них была большая семья — человек шесть. Все они жили в кухне и маленькой комнатушке. Но чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решила, что надо перевести Владимира Ильича на домашнюю кормёжку, завела стряпню. Готовила на хозяйской кухне, но приготовлять надо было всё у себя в комнате. Старалась как можно меньше греметь, так как Владимир Ильич в это время начал уже писать «Что делать?». Когда он писал, он ходил обычно быстро из угла в угол и шепотком говорил то, что собирался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его манере работать. Когда он писал, ни о чём уж с ним не говорила, ни о чём не спрашивала. Потом, на прогулке, он рассказывал, что он пишет, о чём думает. Это стало для него такой же потребностью, как шепотком проговорить себе статью, прежде чем её написать. Бродили мы по окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подичее, где меньше народа. Через месяц перебрались на собственную квартиру.Лондон и Женева
В Лондон мы приехали в апреле 1902 года. На вокзале нас встретил Николай Александрович Алексеев — товарищ, живший в Лондоне и прекрасно изучивший английский язык. Он был вначале нашим поводырём, так как мы оказались в довольно-таки беспомощном состоянии. Думали, что знаем английский язык, так как в Сибири перевели даже с английского на русский целую толстую книгу. Когда приехали в Лондон, оказалось — ни мы не понимаем, ни нас никто не понимает. Попадали мы вначале в прекомичные положения. Владимира Ильича это забавляло, но в то же время задевало за живое. Он принялся усердно изучать язык. Стали мы ходить по всяческим собраниям, забираясь в первые ряды и внимательно глядя в рот оратору. Слушание английской речи давало многое. Потом Владимир Ильич раздобыл через объявления двух англичан, желавших брать обменные уроки, и усердно занимался с ними. Изучил он язык довольно хорошо. Ильич изучал живой Лондон. Он любил забираться на верх омнибуса и подолгу ездить по городу. Ему нравилось движение этого громадного торгового города. Тихие скверы с парадными особняками, с зеркальными окнами, все увитые зеленью, где ездят только вылощенные кебы, и ютящиеся рядом грязные переулки, населённые лондонским рабочим людом, где посередине развешано бельё, а на крыльце играют бледные дети, оставались в стороне. Владимира Ильича всегда тянуло в рабочую толпу. Он шёл всюду, где была эта толпа, — на прогулку, где усталые рабочие, выбравшись за город, часами валялись на траве, в читалку. Мы шатались и по окрестностям города. Чаще всего ездили на так называемый Prime Rose Hill[5]. Это был самый дешёвый конец — вся прогулка обходилась шесть пенсов. С холма виден был чуть не весь Лондон — задымлённая громада. Отсюда пешком уходили уже подальше на лоно природы — в глубь парков и зелёных дорог. Любили мы ездить на Prime Rose Hill и потому, что там близко было кладбище, где похоронен Маркс. Туда ходили. В апреле 1903 года мы переехали в Женеву. В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем посёлке Séchéron[6],—целый домишко заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленькие комнатушки. Кухня была у нас и приёмной. Недостаток мебели пополнялся ящиками из-под книг и посуды. Толчея у нас сразу образовалась непротолчённая. Когда надо было с кем потолковать, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера. Осенью мы из предместья Женевы перебрались поближе к центру. Владимир Ильич записался в «Société de Lecture»[7], где была громадная библиотека и прекрасные условия для работы, получалась масса газет и журналов на французском, немецком, английском языках. В этом «Société de Lecture» было очень удобно заниматься, члены общества — по большей части старички профессора — редко посещали эту библиотеку; в распоряжении Ильича был целый кабинет, где он мог писать, ходить из угла в угол, обдумывать статьи, брать с полок любую книгу. Можно было, не отвлекаясь, думать. Подумать было над чем.Наступил 1905 год. 9 января в Петербурге царь расстрелял рабочих, попытавшихся пойти к нему с просьбой об улучшении своего положения. Рабочие поняли, что царь всегда будет защищать капиталистов и помещиков, никогда царь не поможет рабочим и крестьянам, им не на кого надеяться, надо самим бороться, силой завоёвывать свободу. Начались забастовки рабочих на фабриках и заводах, бунты крестьян в деревне. В России всё бурлило. Владимир Ильич горячо верил в рабочих, в трудовой народ, был уверен, что рабочие добьются победы, надо им только хорошо организоваться, он знал, что рабочие будут бороться не только за своё освобождение, но и за освобождение всех трудящихся. Владимир Ильич звал большевистскую партию, руководившую борьбой рабочих, к организации, к работе над вооружением трудящихся. Надо было готовиться к восстанию, запасать оружие, обучать, как обращаться с оружием.
Ильич не только перечитал и самым тщательным образом продумал всё, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, онпрочёл немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооружённого восстания, организацию его. Служащий «Société de Lecture» был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвёрнутых от грязи на швейцарский манер дешёвеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь, а потом ходил всё взад и вперёд и, сев к столу, что-то быстро сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги. И большевики делали в смысле подготовки вооружённого восстания немало, изыскивали все средства, чтобы переправлять в Россию оружие, проявляя нередко колоссальный героизм, рискуя каждую минуту жизнью. Подготовка вооружённого восстания — таков был лозунг большевиков.
РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

Революционное движение в России развёртывалось всё шире.
Надо было ехать в Россию, надо было быть вместе с рабочими, готовить всё для вооружённого восстания. И вот Владимир Ильич в России, в Петербурге.
Партия большевиков во главе с Лениным руководит подготовкой восстания. Рабочие организовывают боевые дружины, учатся стрелять, готовятся с оружием в руках сражаться против царя, фабрикантов и помещиков. Крестьяне жгут помещичьи имения.
Обычно, когда мы жили в России, я могла много свободнее передвигаться, чем Владимир Ильич, говорить с гораздо большим количеством людей. По двум-трём поставленным им вопросам я уже знала, что ему хочется знать, и глядела вовсю. На другой же день у меня оказалась в этом отношении довольно богатая пожива. Я отправилась искать нам пристанище и на Троицкой улице, осматривая пустую квартиру, разговорилась с дворником. Долго он мне рассказывал про деревню, про помещика, про то, что земля должна отойти от бар крестьянам. Тем временем Мария Ильинична устроила нас где-то на Греческом проспекте у знакомых. Как только мы прописались, целая туча шпиков окружила дом. Напуганный хозяин не спал всю ночь напролёт и ходил с револьвером в кармане, решив встретить полицию с оружием в руках. «Ну его совсем. Нарвёшься зря на историю», сказал Ильич. Поселились нелегально врозь. Мне дали паспорт какой-то Прасковьи Евгеньевны Онегиной, по которому я и жила всё время. Владимир Ильич несколько раз менял паспорта. Он работал целыми днями в редакции «Новой жизни». Виделись чаще всего в редакции «Новой жизни». Но в «Новой жизни» Ильич всегда был занят. Только когда Владимир Ильич поселился с очень хорошим паспортом на углу Бассейной и Надеждинской, я смогла ходить к нему на дом. Ходить надо было через кухню, говорить вполголоса, но всё же можно было потолковать обо всём. Оттуда он ездил в Москву. Тотчас по его приезде я зашла к нему. Меня поразило количество шпиков, выглядывавших изо всех углов. «Почему за тобой началась такая слежка?» — спрашивала я Владимира Ильича. Он ещё не выходил из дома по приезде и этого не знал. Стала разбирать чемодан и неожиданно обнаружила там большие круглые синие очки. «Что это?» Оказалось, в Москве Владимира Ильича урядили в эти очки, снабдили жёлтой финляндской коробкой и посадили в последнюю минуту в поезд-молнию. Все полицейские ищейки бросились по его следам. Надо было скорее уходить. Вышли под ручку как ни в чём не бывало, пошли в обратную сторону против той, куда нам было нужно, переменили трёх извозчиков, прошли через проходные ворота и приехали к Румянцеву, освободившись от слежки. Пошли на ночёвку, кажется, к Витмерам, моим старым знакомым. Проехали на извозчике мимо дома, где жил Владимир Ильич, шпики около дома продолжали стоять. На эту квартиру Ильич больше не возвращался. В то время я была секретарём ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Ильич маялся по ночёвкам, что его очень тяготило. Он вообще очень стеснялся, его смущала вежливая заботливость любезных хозяев, он любил работать в библиотеке или дома, а тут надо было каждый раз приспособляться к новой обстановке. 9 мая Владимир Ильич первый раз в России выступил открыто на громадном массовом собрании в народном доме Паниной под фамилией Карпова. Рабочие со всех районов наполняли зал. Поражало отсутствие полиции. Два пристава, повертевшись в начале собрания в зале, куда-то исчезли. «Как порошком их посыпало», — шутил кто-то. Председатель предоставил слово Карпову. Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу. И сразу почувствовалось, как волнение оратора передаётся аудитории. И вдруг зал огласился громом рукоплесканий — то партийцы узнали Ильича. Запомнилось недоумевающее, взволнованное лицо стоявшего рядом со мной рабочего. Он спрашивал: кто, кто это? Ему никто не отвечал. Аудитория замерла. Необыкновенно подъёмное настроение охватило всех присутствовавших после речи Ильича, в эту минуту все думали о предстоящей борьбе до конца. Красные рубахи разорвали на знамёна и с пением революционных песен разошлись по районам. Была белая майская возбуждающая питерская ночь. Полиции, которую ждали, не было. Не удалось Ильичу больше выступать открыто на больших собраниях в ту революцию.
Вскоре состоялся Пятый (Лондонский) съезд партии.
Со съезда Ильич приехал позже других. Вид у него был необыкновенный: подстриженные усы, сбритая борода, большая соломенная шляпа.
После того как было подавлено вооружённое восстание, полиция начала преследование революционеров. Скоро Владимиру Ильичу стало опасно оставаться в Петербурге, пришлось перебраться в Финляндию. Там было удобно — Петербург был близко, к Владимиру Ильичу постоянно приезжали партийные товарищи.
Он поселился на станции Куоккала, неподалёку от вокзала. Неуютная большая дача «Ваза» давно уже служила пристанищем для революционеров. Ильичу отвели комнату в сторонке. Ильич из Куоккалы руководил фактически всей работой большевиков. Через некоторое время я тоже туда переселилась, уезжала ранним утром в Питер и возвращалась поздно вечером. В то время русская полиция не решалась соваться в Финляндию, и мы жили очень свободно. Дверь дачи никогда не запиралась, в столовой на ночь ставились кринка молока и хлеб, на диване стелилась на ночь постель на случай, семи кто приедет с ночным поездом, чтобы мог, никого не будя, подкрепиться и залечь спать. Утром часто в столовой мы заставали приехавших ночью товарищей. К Ильичу каждый день приезжал специальный человек с материалами, газетами, письмами. Ильич, просмотрев присланное, садился сейчас же писать статью и отправлял её с тем же посланным. Почти ежедневно приезжал на «Вазу» Дмитрий Ильич Лещенко. Вечером я привозила каждодневно всяческие питерские новости и поручения. Конечно, Ильич рвался в Питер. Я редко видела в это время Ильича, проводя целые дни в Питере. Возвращаясь поздно, заставала Ильича всегда озабоченным и ни о чём его уж не спрашивала, больше рассказывала ему о том, что приходилось видеть и слышать.
Надежда Константиновна была секретарём Центрального Комитета нашей партии и встречалась с приходившими к ней по делу товарищами на пеке». «Явка» устраивалась обычно в таком месте, где бывало много народу, — в столовой, библиотеке, у врача, — чтобы не привлекать внимания полиции, одно время «явка» была в столовой политехнического института. Как-то раз в эту столовую пришёл на «явку» один из партийных товарищей с Кавказа — Камо.
В народном кавказском костюме он нёс в салфетке какой-то шарообразный предмет. Все в столовке бросили есть и принялись рассматривать необыкновенного посетителя. «Бомбу принёс», — мелькала, вероятно, у большинства мысль. Но это оказалась не бомба, а арбуз. Камо принёс нам с Ильичём гостинцев — арбуз, какие-то засахаренные орехи. Он страстно был привязан к Ильичу. Бывал у нас в Куоккале. Подружился с моей матерью, рассказывал ей о тётке, сёстрах. Камо часто ездил из Финляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый раз особо заботливо увязывала ему револьверы на спине.
Преследования революционеров всё усиливались. Полиция всё настойчивее искала Владимира Ильича, и оставаться дольше в Куоккале стало опасно.
Ильича товарищи отправили в глубь Финляндии, он жил в то время в Огльбю, на небольшой станции около Гельсингфорса, у каких-то двух сестёр-финок. Чужим чувствовал он себя в изумительно чистенькой и холодной, по-фински уютной, с кружевными занавесочкамл комнате, где всё стояло на своём месте, где за стеною всё время слышались смех, игра на рояле и болтовня на финском языке. Ильич писал целыми днями свою работу по аграрному вопросу, тщательно обдумывая опыт пережитой революции. Часами ходил из угла в угол на цыпочках, чтобы не беспокоить хозяек. Я как-то была у него в Огльбю. Ильича полиция уже искала по всей Финляндии, надо было уезжать за границу. Надо было опять податься в Швейцарию. Больно неохота было, но другого выхода не было. Да и необходимо было наладить за границей издание «Пролетария»[8], поскольку издание его в Финляндии стало невозможно. Ильич должен был при первой возможности уехать в Стокгольм и там дожидаться меня. В Питере мне надо было устроить больную старушку мать, устроить ряд дел, условиться о сношениях и потом уже выехать следом за Ильичём. Пока я возилась в Питере, Ильич чуть не погиб при переезде в Стокгольм. Дело в том, что его выследили так основательно, что ехать обычным путём, садясь в Або[9] на пароход, значило наверняка быть арестованным. Бывали уже случаи арестов при посадке на пароход. Кто-то из финских товарищей посоветовал сесть на пароход на ближайшем острове. Это было безопасно в том отношении, что русская полиция не могла там заарестовать, но до острова надо было идти версты три по льду, а лёд, несмотря на декабрь, был не везде надёжен. Не было охотников рисковать жизнью, не было проводников. Наконец, Ильича взялись проводить двое подвыпивших финских крестьян, которым море было по колено. И вот, пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичем чуть не погибли — лёд стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались. Потом финский товарищ, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайность спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что, когда лёд стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать». Пробыв несколько дней в Стокгольме, мы с Ильичём двинулись на Женеву через Берлин. Началась наша вторая эмиграция, она была куда тяжелее первой.
ОПЯТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Трудно было Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне после кипучей работы во время революции вновь привыкать к жизни за границей, надо было после поражения революции не хныкать, не поддаваться тяжёлым настроениям, а думать о том, как готовиться к новым боям. Надо было определить линию партии, продумать, каким путём идти.
Сначала жили в Женеве, в Швейцарии, потом через год переехали в Париж. Владимир Ильич засел за книги, целые дни проводил в библиотеке.
Заниматься в Париже было очень неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж, не то, что езда по окрестностям Женевы, — требует большого напряжения. Осенью мы переменили квартиру, поселились на глухой уличке Мари-Роз, — две комнаты и кухня, окна выходили в какой-то сад. «Приёмной» нашей теперь была кухня, где и велись все задушевные разговоры.
Сейчас в этой квартире французские коммунисты создали Музей В. И. Ленина.
С осени у Владимира Ильича было рабочее настроение. Он завёл «прижим», как он выражался: вставал в 8 часов утра, ехал в Национальную библиотеку, возвращался в 2 часа. Много работал дома. Я усиленно его охраняла от публики. У нас всегда бывало много народу, была толчея непротолчённая. Приезжавшие из России с воодушевлением рассказывали, что там делается. Живя мыслью о России, Ильич в то же время внимательно изучал и французское рабочее движение. Особенно внимательно наблюдал Ильич предвыборную кампанию. В ней всё тонуло в личной склоке, взаимных разоблачениях, политические вопросы отодвигались на задний план. Только некоторые собрания были интересны, понравилось выступление Вайяна. Старый коммунар, он пользовался особой любовью рабочих. Запомнилась фигура высокого рабочего, пришедшего с работы, с ещё засученными рукавами. С глубочайшим вниманием слушал этот рабочий Вайяна. «Вот он, наш старик, как говорит!» — воскликнул он. И с таким же восхищением смотрели на Вайяна двое подростков, сыновей рабочего. Но не везде ведь выступали Вайяны. А рядовые ораторы крутили, приспособлялись к аудитории: в рабочей аудитории говорили одно, в интеллигентской — другое. Любил Ильич ходить в театр на окраины города, наблюдать рабочую толпу. Любил ещё наблюдать быт. Куда-куда мы не забирались с ним в Мюнхене, Лондоне и Париже! Он хотел видеть жизнь немецкого, английского, французского рабочего, слышать, как он говорит не на больших собраниях, а в кругу близких товарищей, о чём он думает, чем он живёт. Владимир Ильич связался с Лафаргом, зятем Маркса, испытанным борцом, мнение которого он особенно ценил. Поль Лафарг вместе с своей женой Лаурой, дочерью Маркса, жили в 20–25 верстах от Парижа. Они уже отошли от непосредственной работы. Помню, раз ездили мы с Ильичём на велосипедах к Лафаргам. Лафарги встретили нас очень любезно. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась — дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в её лицо, в её чертах искала невольно черты Маркса. Ильич ездил повидаться с матерью и Марией Ильиничной в Стокгольм, где и пробыл десять дней. Последний раз видел он в этот раз свою мать, предвидел он это и грустными глазами провожал уходящий пароход. Когда в 1917 году он вернулся в Россию, её не было уже в живых. В 1911 году к нам в Париж приехал арестованный в Берлине в начале 1908 года с динамитом в чемодане т. Камо. Камо попросил меня купить ему миндалю. Сидел в нашей парижской гостиной-кухне, ел миндаль, как он это делал у себя на родине, и рассказывал об аресте в Берлине, рассказывал о годах, когда он притворялся сумасшедшим, о ручном воробье, с которым он водился в тюрьме. Ильич слушал, и остро жалко ему было этого беззаветно смелого человека, детски наивного, с горячим сердцем, готового на великие подвиги и не знающего после побега, за какую работу взяться. В конце концов было решено, что Камо поедет в Бельгию, сделает себе там глазную операцию (он косил, и шпики сразу его узнавали по этому признаку), а потом морем проберётся на юг, потом на Кавказ. Осматривая пальто Камо, Ильич спросил: «А есть у вас тёплое пальто, ведь в этом вам будет холодно на палубе?» Сам Ильич, когда ездил на пароходах, неустанно ходил по палубе взад и вперёд. И когда выяснилось, что никакого другого пальто у Камо нет, Ильич притащил ему свой мягкий серый плащ, который ему в Стокгольме подарила мать и который Ильичу особенно нравился. Разговор с Ильичём, ласка Ильича немного успокоили Камо. Потом, в период гражданской войны, Камо нашёл свою «полочку», опять стал проявлять чудеса героизма.
Весной 1911 года под Парижем в местечке Лонжюмо была организована Владимиром Ильичём школа для приехавших из России рабочих-большевиков. Владимир Ильич читал там лекции, Надежда Константиновна вела занятия с рабочими, учила их писать статьи и заметки в газеты. Чтобы быть поближе к школе, семья Ленина переехала на это время в Лонжюмо.
Мы нанимали пару комнат в двухэтажном каменном домишке (в Лонжюмо все дома были каменные) у рабочего-кожевника и могли наблюдать быт рабочего мелкого предприятия. Рано утром уходил он на работу, приходил к вечеру совершенно измученный. При доме не было никакого садишка. Иногда выносили на улицу ему стол и стул, и он подолгу сидел, опустив усталую голову на истомлённые руки. Никогда никто из товарищей по работе не заходили к нему. Невольно напрашивалось сравнение с Присягиным, тоже кожевником по профессии, жизнь которого была не легче, но который был сознательным борцом, общим любимцем товарищей. Жена французского кожевника с утра надевала деревянные башмаки, брала в руки метлу и шла работать в соседний замок, где она была подёнщицей. Дома за хозяйку оставалась девочка-подросток, которая целый день возилась в полутёмном, сыром помещении с хозяйством и с младшими братишками и сестрёнками. И к ней никогда не приходили подруги. Никогда никому в семье кожевника не приходила в голову мысль о том, что не плохо бы кое-что изменить в существующем строе. Бог ведь создал богачей и бедняков, значит, так и надо, — рассуждал кожевник.
Ближе к России. Война. Арест Ленина
Чтобы быть поближе к России, Владимир Ильич и Надежда Константиновна переехали в польский город Краков, который расположен недалеко от границы с Россией. Оттуда легче было налаживать переписку с революционерами, тайно работавшими в различных местах России, легче пересылать им революционную литературу.
Когда мы приехали в Краков, нас встретил товарищ Багоц-кий — польский эмигрант, политкаторжанин, который сразу же взял шефство над нами и помогал нам во всех житейских и конспиративных делах. Надо сказать, что в Кракове полиция не чинила никакой слежки, не просматривала писем и вообще не находилась ни в какой связи с русской полицией. Мы приехали летом, и т. Багоцкий присоветовал нам поселиться в краковском предместье, так называемом Звежинце. Грязь там была невероятная, но близко была река Висла, где можно было великолепно купаться, и в километрах пяти Вольский лес — громадный чудесный лес, куда мы частенько ездили с Ильичём на велосипедах. Осенью мы переехали в другой конец города, во вновь отстроенный квартал. С хозяйством дело было много труднее, чем в Париже. Не было газа, надо было топить плиту. Я попробовала было по парижскому обычаю спросить в мясной мяса без костей. Мясник воззрился на меня и заявил: «Господь бог корову сотворил с костями, так разве могу я продавать мясо без костей?» Не только едущие в Россию заезжали в Краков, приезжали и из России посоветоваться о делах. Когда не было приездов, жизнь наша шла в Кракове довольно однообразно. «Живём, как в Шуше, — писала я матери Владимира Ильича, — почтой больше. До 11 часов стараемся время провести как-нибудь — в 11 ч. первый почтальон, потом 6-ти часов дождаться не можем». Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами.
А в России опять стало неспокойно. На фабриках и заводах начались забастовки. Революционное движение развёртывалось всё шире.
Надвигавшаяся война несла с собой угнетение слабых национальностей, подавление их самостоятельности. Но война должна будет неминуемо — для Ильича это было несомненно — перерасти в восстание, угнетённые национальности будут отстаивать свою независимость. Это их право.
Лето 1914 года Владимир Ильич и Надежда Константиновна жили в горах, в Поронине.
Хотя давно уже всё пахло войной, но, когда война была объявлена[10], это как-то ошарашило всех. Надо было выбираться из Поронина, но, куда можно было ехать, было ещё совершенно неясно. 7 августа к нам на дачу пришёл поронинский жандармский вахмистр с понятым — местным крестьянином с ружьём — делать обыск. Чего искать, вахмистр хорошенько не знал, порылся в шкапу, нашёл незаряженный браунинг, взял несколько тетрадок с цифирью, предложил несколько незначащих вопросов. Понятой смущённо сидел на краешке стула и недоуменно осматривался, а вахмистр над ним издевался. Показывал на банку с клеем и уверял, что это бомба. Затем сказал, что на Владимира Ильича имеется донос и он должен был бы его арестовать, но так как завтра утром всё равно придётся везти его в Новый Тарг (ближайшее местечко, где были военные власти), то пусть лучше Владимир Ильич придёт завтра сам к утреннему шестичасовому поезду. Ясно было — грозит арест, а в военное время, в первые дни войны, легко могли мимоходом укокошить. Владимир Ильич съездил к Ганецкому, жившему тогда в Поронинс, рассказал о случившемся. Владимир Ильич дал телеграмму в краковскую полицию, которая знала его как эмигранта. Ильича беспокоило, как мы вдвоём с матерью останемся в Поронине, одни в большом доме. Мы с Ильичём просидели всю ночь, не могли заснуть, больно было тревожно. Утром проводила его, вернулась в опустевшую комнату. В тот же день Ганецкий нанял какую-то арбу и в ней добрался до Нового Тарга, добился свидания с окружным начальником — императорско-королевским старостой, наскандалил там, рассказал, что Ильич — член Международного социалистического бюро, человек, за которого будут заступаться, за жизнь которого придётся отвечать, видел судебного следователя, рассказал ему также, кто Ильич, и заполучил для меня разрешение на свидание на другой же день. Вместе с Ганецким по его приезде из Нового Тарга сочинили мы в Вену письмо члену Международного бюро, австрийскому депутату социал-демократу Виктору Адлеру. В Новом Тарге я получила свидание с Ильичём. Нас оставили с ним вдвоём, но Ильич мало говорил (была ещё полная неясность положения). Краковская полиция дала телеграмму, что заподозревать Ульянова в шпионаже нет основания, дал такую же телеграмму Марек из Закопане, ездил в Новый Тарг один известный польский писатель заступаться за Ильича. Мне давали свидание каждый день. Рано утром с шестичасовым поездом выезжала я в Новый Тарг — езды там час, потом часов до одиннадцати болталась по вокзалу, почте, базару, потом было часовое свидание с Владимиром Ильичём. В этой тюрьме по ночам, когда засыпало её население, он обдумывал, что сейчас должна делать партия, какие шаги надо предпринять для того, чтобы превратить разразившуюся мировую войну в мировую схватку пролетариата с буржуазией. Я передавала Ильичу те новости о войне, которые удавалось добыть. Не передала следующего. Как-то, возвращаясь с вокзала, я слышала, как крестьянки громко — очевидно, мне на поучение — толковали о том, что они сами сумеют расправиться со шпионами. Если начальство даже выпустит ненароком шпиона, они выколют ему глаза, вырежут язык и т. д. Ясно было: оставаться в Поронине, когда выпустят Владимира Ильича, нельзя будет. Я стала укладываться, отбирать то, что надо обязательно будет взять с собой, что придётся оставить в Поронине. Хозяйство у нас совсем расстроилось. Домашнюю работницу, которую пришлось взять на лето ввиду болезни матери и которая рассказывала соседям всякие небылицы про нас, про наши связи с Россией, я постаралась сплавить поскорее в Краков, куда она стремилась, выдав ей деньги на проезд и жалованье вперёд. Помогала нам топить русскую печь, ходить за продуктами девочка соседки. Моя мать — ей было уже 72 года — очень плохо себя чувствовала, она видела, что что-то случилось, но неясно сознавала, что именно. Хотя я ей сказала, что Владимира Ильича арестовали, но временами она толковала, что его мобилизовали на войну; она волновалась, когда я уезжала из дому: ей казалось, что и я куда-то исчезну, как исчез Владимир Ильич. Раз надо мне было получить какое-то удостоверение от того крестьянина-понятого, над которым издевался жандарм во время обыска. Я ходила к нему куда-то на край села, и долго мы разговаривали с ним в его избе — типичной избе бедняка, что это за война, кто за что воюет, кто заинтересован в войне, и он дружески провожал меня потом. Наконец, 19 августа Владимира Ильича выпустили из тюрьмы. С утра я по обыкновению была в Новом Тарге, на этот раз меня даже пустили в тюрьму помочь взять вещи. Мы наняли арбу и поехали в Поронин. Пришлось там прожить около недели, пока удалось получить разрешение перебраться в Краков. Ехали мы из Кракова до швейцарской границы целую неделю. Долго стояли на станциях, пропуская военные поезда. Вагоны были испещрены разными надписями-директивами, что делать с французами, англичанами, русскими: «Jedem Russ ein Schuss!» («Каждого русского пристрели!») В Вене останавливались мы на день, чтобы получить нужные удостоверения, устроить дело с деньгами, телеграфировать в Швейцарию, чтобы получить чьё-либо поручительство, без чего не пустили бы в Швейцарию. В Вене Рязанов возил Владимира Ильича к В. Адлеру, который помог вызволить Ильича из-под ареста. Адлер рассказывал, как он разговаривал с министром. Тот спросил: «Уверены ли вы, что Ульянов — враг царского правительства?» — «О, да! — ответил Адлер. — Более заклятый враг, чем ваше превосходительство». От Вены до швейцарской границы доехали довольно скоро.
Обратить оружие против своих правительств
Швейцария не принимала участия в войне, и поэтому жить в Швейцарии было безопасно.
5 сентября въехали, наконец, в Швейцарию, направились в Берн. Мы ещё не решили окончательно, где будем жить — в Женеве или Берне, пока сняли комнату в Берне. Немедленно же Ильич стал списываться с Женевой о том, есть ли там едущие в Россию (их надо было использовать для завязывания связи с Россией), выяснил, сохранилась ли русская типография, можно ли там будет издавать русские листки и т. д.
Вначале не все революционеры понимали, что нужно делать, когда идёт война. Владимир Ильич ясно видел, что эта война грабительская, что драка идёт между капиталистами, которые преступно гонят рабочих и крестьян на смерть ради прибылей кучки богачей. Вот это со всей страстностью разъяснял Владимир Ильич в своих работах, призывал рабочих и крестьян всех стран обратить оружие не против своих братьев из других стран, а против своих правительств. Он призывал революционеров всех стран объединиться, выступить против войны.
В общем, голоса интернационалистические звучали ещё очень слабо, разрозненно, неуверенно, но Ильич не сомневался, что они будут всё крепнуть. Всю осень у него было приподнятое боевое настроение. Воспоминание об этой осени у меня переплетается с осенней картиной бернского леса. Осень в тот год стояла чудесная. В Берне мы жили на Дистельвег — маленькой, чистенькой, тихой улочке, примыкавшей к бернскому лесу, тянувшемуся на несколько километров. Мы часами бродили по лесным дорогам, усеянным осыпавшимися жёлтыми листьями. Иногда мы сидели на солнечном откосе горы, покрытой кустарниками. Ильич набрасывал конспекты своих речей и статей, оттачивал формулировки, я изучала по Туссену итальянский язык. Ильичу понадобилось поработать в цюрихских библиотеках, и мы поехали туда на пару недель, а потом всё откладывали да откладывали своё возвращение в Берн да так и остались жить в Цюрихе, который был поживее Берна. В Цюрихе было много иностранной революционно настроенной молодёжи, была рабочая публика, социал-демократическая партия была более лево настроена и как-то меньше чувствовался дух мещанства. Пошли нанимать комнату. Зашли к некой фрау Прелог. Устроились было мы у ней, но на другой день выяснилось, что возвращается прежний жилец. Фрау Прелог попросила нас найти себе другую комнату, но предложила нам приходить к ней кормиться за довольно дешёвую плату. Мы кормились, должно быть, там месяца два; кормили нас просто, но сытно. Ильичу нравилось, что всё было просто, что кофе давали в чашке с отбитой ручкой, что кормились в кухне, что разговоры были простые — не о еде, не о том, что столько-то картошек надо класть в такой-то суп, а о делах, интересовавших столовников фрау Прелог. Правда, их было не очень много, и они часто менялись. Нас никто не стеснялся, и, надо сказать, в разговорах этой публики было гораздо более «человеческого», живого, чем в чинных столовых какого-нибудь приличного отеля, где собирались состоятельные люди. Я торопила Ильича перейти на домашний стол. Потом всё время, встречаясь на улице с фрау Прелог, Ильич всегда её дружески приветствовал. А встречались мы с ней хронически, ибо поселились неподалёку, в узком переулочке, в семье сапожника. Многое хотелось Ильичу додумать до конца, дать своим мыслям дозреть, и потому мы решили поехать в горы. Мы поехали на шесть недель в кантон Сен-Гален, неподалёку от Цюриха, в дикие горы, в дом отдыха Чудивизе, очень высоко, совсем близко к снеговым вершинам. Дом отдыха был самый дешёвый — 2 1/2 франка в день с человека. Правда, это был «молочный» дом отдыха — утром давали кофе с молоком и хлеб с маслом и сыром, но без сахара, в обед — молочный суп, что-нибудь из творога и молока на третье, в 4 часа опять кофе с молоком, вечером ещё что-то молочное. Первые дни мы прямо взвыли от этого молочного лечения, но потом дополняли его малиной и черникой, которые росли кругом в громадном количестве. Комната наша была чистая, освещённая электричеством, безобстановочная, убирать её надо было самим, и сапоги надо было чистить самим. Последнюю функцию взял на себя, подражая швейцарцам, Владимир Ильич и каждое утро забирал мои и свои горные сапоги и отправлялся с ними под навес, где полагалось чистить сапоги, пересмеивался с другими чистильщиками и так усердствовал, что раз даже при общем хохоте смахнул стоявшую тут же плетёную корзину с целой кучей пустых пивных бутылок. Публика была демократическая. В доме отдыха, где цена за содержание 2 1/2 франка с человека, «порядочная» публика не селилась. По вечерам хозяйский сын играл на гармонии и отдыхающие плясали вовсю, часов до одиннадцати раздавался топот пляшущих. Чудивизе было километрах в восьми от станции, сообщение возможно было лишь на ослах, дорога шла тропинками по горам, все ходили пешком, и вот почти каждое утро, часов в шесть утра, начинал названивать колокол, собиралась публика провожать уходящих, и пели какую-то прощальную песню про кукушку какую-то. Каждый куплет кончался словами: «Прощай, кукушка». Владимир Ильич, любивший утром поспать, ворчал и плотнее закутывался в одеяло с головой. В Чудивизе мы жили оторванные от всех дел, шатались по горам целыми днями. Когда мы уезжали, и нас санаторы провожали, как всех, пением «Прощай, кукушка». Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы и, несмотря на то, что шёл дождь, принялся с азартом за их сбор. Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок. Запоздали, конечно, к поезду, и пришлось часа два сидеть на станции в ожидании следующего поезда. За время пребывания в Чудивизе Владимир Ильич со всех сторон обдумал план работы на ближайшее время.
1917 ГОД. РЕВОЛЮЦИЯ

Скорей на Родину
Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда уходить в библиотеку, а я кончила убираться, пришёл Вронский со словами: «Вы ничего не знаете?! В России революция!», и он рассказал нам, что было в вышедших экстренным выпуском телеграммах. Когда ушёл Вронский, мы пошли к озеру; там на берегу под навесом вывешивались все газеты тотчас по выходе. Перечитали телеграммы несколько раз. В России действительно была революция. Усиленно заработала мысль Ильича. Не помню уж, как прошли конец дня и ночь. С первых же минут, как пришла весть о февральской революции, Ильич решил ехать в Россию, рвались туда и другие большевики. Сон пропал у Ильича, и вот по ночам строились самые невероятные планы. Можно перелететь на аэроплане. Но об этом можно было думать только в ночном полубреду. Стоило это сказать вслух, как ясной становилась неосуществимость, нереальность этого плана. Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны, лучше всего шведа: швед вызовет меньше всего подозрений. Паспорт шведа можно достать через шведских товарищей, но мешает незнание языка. Может быть, немого? Но легко проговориться. Англия и Франция не соглашались пропускать в Россию большевиков. Через швейцарцев начались переговоры с германским правительством. Швейцарский социалист-интернационалист Фриц Платтен заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии. Сопровождать русских эмигрантов обязался Платтен, никто в вагон без разрешения Платтена входить не мог. Никто не имел права контролировать ни паспортов, ни багажа едущих эмигрантов. Тогда на основе такого соглашения рискнули ехать лишь большевики (32 человека поехали). Когда пришло письмо из Берна, что переговоры Платтена пришли к благополучному концу, что надо только подписать протокол и можно уже двигаться в Россию, Ильич моментально сорвался: «Поедем с первым поездом». До поезда оставалось два часа. За два часа надо было ликвидировать всё наше «хозяйство», расплатиться с хозяйкой, отнести книги в библиотеку, уложиться и пр. «Поезжай один, я приеду завтра». Но Ильич настаивал: «Нет, едем вместе». В течение двух часов всё было сделано: уложены книги, уничтожены письма, отобрана необходимая одежда, вещи, ликвидированы все дела. Мы уехали с первым поездом в Берн. Ильич весь ушёл в себя, мыслью был уже в России. 31 марта мы уже въехали в Швецию. Как-то плохо помню Стокгольм, мысли были уже в России. На финских вейках[11] переехали мы из Швеции в Финляндию. Было уже всё своё, милое: плохонькие вагоны третьего класса, русские солдаты. Ужасно хорошо было. Надо было видеть, как посветлел весь Ильич. В одном поезде с нами ехали солдаты. Узнав, что в поезде едет Ленин, солдаты позвали его к себе в вагон поговорить с ним о совершающихся событиях. Речь Ильича не походила на обычную речь пропагандиста или агитатора. Он говорил о том, что его самого так волновало, о необходимости дальнейшей борьбы, борьбы за мир, борьбы против грабительской войны. Ему возражал побледневший поручик. Солдаты напряжённо слушали, придвигались, влезали на полки, чтобы лучше уловить каждое слово того, кто так просто, понятно говорил с ними, волновался тем, чем они волновались. В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие товарищи. Были работницы, Сталь все убеждала меня сказать им несколько приветственных слов, но у меня пропали все слова, я ничего не могла сказать. Товарищи сели с нами. Ильич спрашивал, арестуют ли нас по приезде. Товарищи улыбались.Рабочие встречают Ильича
В Петроград приехали вечером. Питерские рабочие, солдаты, матросы пришли встречать своего вождя. Было много близких товарищей. Тот, кто не пережил революции, не представляет себе её величественной, торжественной красоты. Того, что увидел Ильич, он себе не представлял. Встречать его пришли тысячи рабочих и работниц с фабрик и заводов, вся площадь перед Финляндским вокзалом была залита народом. Площадь освещалась движущимися лучами прожекторов. На перроне стоял, выстроившись вдоль всей платформы, почётный караул. Когда Ильич вышел на перрон, к нему подошёл капитан и, вытянувшись, что-то отрапортовал. Ильич, смутившись немного от неожиданности, взял под козырёк. На перроне стоял почётный караул, мимо которого провели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской. «Да здравствует социалистическая мировая революция!» — бросал Ильич в окружавшую многотысячную толпу. Начало этой революции уже ощущал Ильич всем существом своим. Нас привезли в дом Кшесинской, где помещались тогда ЦК и Петроградский комитет. Наверху был устроен товарищеский чай, хотели питерцы организовать приветственные речи, но Ильич перевёл разговор на то, что его больше всего интересовало, стал говорить о той тактике, которой надо держаться. Около дома Кшесинской стояли толпы рабочих и солдат. Ильичу пришлось выступать с балкона. Впечатления от встречи, от этой поднятой революционной стихии заслоняли всё. Потом мы поехали домой, к нашим, к Анне Ильиничне и Марку Тимофеевичу. Мария Ильинична жила с ними. Жили они на Петроградской стороне, на Широкой улице. Нам отвели особую комнату. Мальчонка, который рос у Анны Ильиничны, Гора, по случаю нашего приезда над обеими нашими кроватями вывесил лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Мы почти не говорили с Ильичём в ту ночь — не было ведь слов, чтобы выразить пережитое, но и без слов было всё понятно. Время было такое, что нельзя было терять ни минуты. Не успел Ильич встать, а уж приехали за ним товарищи, чтобы ехать на совещание большевиков — членов Всероссийской конференции Советов рабочих и солдатских депутатов. Дело происходило в Таврическом дворце, где-то наверху. Ленин в десятке тезисов изложил свой взгляд на то, что надо делать сейчас. Он дал в этих тезисах оценку положения, ясно, чётко наметил те цели, к которым надо стремиться, и пути, по которым надо идти, чтобы добиться этих целей. В буржуазных газетах началась бешеная травля Ленина и большевиков.Революционный Петроград
18 апреля (1 мая) Ильич принимал участие в первомайской демонстрации. Он выступал на Охте и на Марсовом поле. Я не слышала его выступлений — лежала в этот день, не могла даже подняться с постели. Когда Ильич вернулся, меня поразило его взволнованное лицо. Живя за границей, мы обычно ходили на маёвки, но одно дело — маёвка с разрешения полиции, другое дело — маёвка революционного народа, народа, победившего царизм. 21 апреля я должна была встретиться с Ильичём у Данского. Мне был дан адрес: Старо-Невский, 3, и я прошла пешком весь Невский. Из-за Невской заставы шла большая рабочая демонстрация. Её приветствовала рабочая публика, заполнявшая тротуары. «Идём! — кричала молодая работница другой работнице, стоявшей на тротуаре, — Идём, всю ночь будем ходить!* Навстречу рабочей демонстрации двигалась другая толпа, в котелках и шляпках: их приветствовали котелки и шляпки с тротуара. Ближе к Невской заставе преобладали рабочие, ближе к Морской, около Полицейского моста, было засилье котелков. Класс против класса! Рабочий класс был за Ленина. В конце июня Ильич вместе с Марией Ильиничной поехал на несколько дней отдохнуть к Бонч-Бруевичам в деревню Ней-вола, около станции Мустамяки (недалеко от Питера). Тем временем в Петрограде разразились следующие события. Пулемётный полк, стоявший на Выборгской стороне, решил начать вооружённое восстание. Я пошла в дом Кшесинской. Вскоре я нагнала пулемётчиков на Сампсониевском проспекте. Стройными рядами шли солдаты. Осталась в памяти такая сцена. С тротуара сошёл старый рабочий и, идя навстречу солдатам, поклонился им в пояс и громко сказал: «Уж постойте, братцы, за рабочий народ!»В доме Кшесинской находились Центральный и Петербургский комитеты большевистской партии.
Пулемётчики останавливались около балкона и отдавали честь, потом шли дальше. Потом к ЦК подошли ещё два полка, потом подошла рабочая демонстрация. Вечером был послан товарищ в Мустамяки за Ильичём. Центральный Комитет дал лозунг превратить демонстрацию в мирную. Заводы и фабрики забастовали. Из Кронштадта прибыли матросы. Огромная демонстрация вооружённых рабочих и солдат шла к Таврическому дворцу. Ильич выступал с балкона дворца Кшесинской. Центральный Комитет написал воззвание с призывом о прекращении демонстрации. Временное правительство вызвало юнкеров и казаков. На Садовой открыта была стрельба по демонстрантам.
Арестовать Ленина!
6 июля Временное правительство приняло постановление арестовать Ленина. Дом Кшесинской был занят правительственными войсками. Вечером у нас на Широкой был обыск. Обыскивали только нашу комнату. Был какой-то полковник и ещё какой-то военный в шинели на белой подкладке. Они взяли из стола несколько записок, какие-то мои документы. Спросили, не знаю ли я, где Ильич, из чего я заключила, что он не объявился. 9-го к нам ввалилась с обыском целая орава юнкеров. Они тщательно обыскали всю квартиру. Мужа Анны Ильиничны Марка Тимофеевича Елизарова приняли за Ильича. Допрашивали меня, не Ильич ли это. В это время у Елизаровых домашней работницей жила деревенская девушка Аннушка. Была она из глухой деревни и никакого представления ни о чём не имела. Она страстно хотела научиться грамоте и каждую свободную минуту хваталась за букварь, но грамота ей давалась плохо. «Пробка я деревенская!» — горестно восклицала она. Я ей старалась помочь научиться читать, а также растолковывала, какие партии существуют, из-за чего война и т. д. О Ленине она представления не имела. 8-го я не была дома; наши рассказывали, что к дому подъехал автомобиль и устроена была враждебная демонстрация. Вдруг вбегает Аннушка и кричит: «Какие-то Оленины приехали!» Во время обыска юнкера её стали спрашивать, указывая на Марка Тимофеевича, как его зовут? Она не знала. Они решили, что она не хочет сказать. Потом пришли к ней в кухню и стали смотреть под кроватью, не спрятался ли там кто. Возмущённая Аннушка им заметила: «Ещё в духовке посмотрите, может, там кто сидит». Нас забрали троих — меня, Марка Тимофеевича и Аннушку — и повезли в генеральный штаб. Рассадили там на расстоянии друг от друга. К каждому приставили по солдату с ружьём. Через некоторое время врывается рассвирепелое офицерьё; собираются броситься на нас. Но входит тот полковник, который делал у нас обыск в первый раз, посмотрел на нас и сказал: «Это не те люди, которые нам нужны». Если бы был Ильич, они бы его разорвали на части. Нас отпустили. Марк Тимофеевич стал настаивать, чтобы нам дали автомобиль ехать домой. Полковник пообещал и ушёл. Никто никакого автомобиля нам, конечно, не дал. Мы наняли извозчика. Мосты оказались разведены. Мы добрались до дому лишь к утру. Долго стучали в дверь, стали уж бояться, не случилось ли что с нашими. Наконец достучались. У наших был обыск ещё третий раз. Меня не было дома, была у себя в районе. Прихожу домой, вход занятсолдатами, улица полна народу. Постояла и пошла назад в район, всё равно ничем не поможешь. Притащилась в район уже поздно, никого там не было, кроме сторожихи.В подполье
Ильич скрывался у старого подпольщика рабочего Сестрорецкого завода Емельянова на станции Разлив, недалеко от Сестрорецка. К Емельянову и его семье у Ильича сохранилось до конца очень тёплое отношение. Жить в шалаше на станции Разлив, где скрывался Ильич, было дальше невозможно — настала осень, и Ильич решил перебраться в Финляндию. Н. А. Емельянов достал ему паспорт сестрорецкого рабочего, Ильичу надели парик и подгримировали его. Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ времён 1905–1907 гг., съездил в Разлив и заснял Ильича (к паспорту нужно было приложить карточку). Тов. Ялава, финский товарищ, служивший машинистом на Финляндской железной дороге, взялся перевезти Ильича под видом кочегара. Так и было сделано. Сношения велись с Ильичём также через т. Ялаву, и я не раз заходила потом к нему за письмами от Ильича. Когда Ильич устроился в Гельсингфорсе, он прислал химическое письмо, в котором звал приехать, сообщал адрес и даже план нарисовал, как пройти, никого не спрашивая. Только у плана отгорел край, когда я нагревала письмо на лампе. Емельяновы достали паспорт и мне — сестрорецкой работницы-старухи. Я повязалась платком и поехала в Разлив, к Емельяновым. Они перевели меня через границу (для пограничных жителей было достаточно паспорта для перехода границы); просматривал паспорта какой-то офицер. Надо было пройти от границы вёрст пять лесом до небольшой станции Олилла и здесь сесть в солдатский поезд. Всё обошлось как нельзя лучше. Только отгоревший кусок плана немного подвёл: долго бродила я по улицам, пока нашла ту улицу, которая была нужна. Ильич обрадовался очень. Видно было, как истосковался он, сидя в подполье в момент, когда так важно было быть в центре подготовки к борьбе. Я ему рассказала обо всём, что знала. Пожила в Гельсингфорсе пару дней. Захотел Ильич непременно проводить меня до вокзала, до последнего поворота довёл. Условились, что приеду ещё. Второй раз была я у Ильича недели через две. Как-то запоздала и решила не заезжать к Емельяновым, а пойти до Олилла самой. В лесу стало темнеть — глубокая осень уже надвигалась, — взошла луна. Ноги стали тонуть в песке. Показалось мне, что сбилась с дороги, — заторопилась. Пришла в Олилла, а поезда нет, пришёл лишь через полчаса. Вагон был битком набит солдатами и матросами. Было так тесно, что всю дорогу пришлось стоять. Солдаты открыто говорили о восстании. Говорили только о политике. Вагон представлял собой сплошной крайне возбуждённый митинг. Никто из посторонних в вагон не заходил. Зашёл вначале какой-то штатский, но, послушав солдата, который рассказывал, как они в Выборге бросали в воду офицеров, на первой же станции смылся. На меня никто не обращал внимания. Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым, и потом уже, о чём бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом, о восстании, о том, как лучше его подготовить.
ОКТЯБРЬ

Надо брать власть немедленно, сегодня
Ильич страшно волновался, сидя в Финляндии, что будет пропущен благоприятный момент для восстания. Весь целиком, без остатка, жил Ленин этот последний месяц мыслью о восстании, только об этом и думал, заражал товарищей своим настроением, своей убеждённостью. Ильич перебрался в Питер. Поселили мы его на Выборгской стороне, на углу Лесного проспекта, в большом доме, где жили исключительно почти рабочие, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой. Квартира была очень удобна, по случаю лета никого там не было, даже домашней работницы, а сама Маргарита Васильевна была горячей большевичкой, бегавшей по всем поручениям Ильича. 10 октября Ильич принимал участие в заседании ЦК, где была принята резолюция о вооружённом восстании. Восстание развёртывалось. 6 ноября (24 октября) Ильич сидел ещё на Выборгской стороне. Посылал через Маргариту мне записки для передачи дальше, что медлить с восстанием нельзя. Вечером, наконец, пришёл к нему Эйно Рахья, финский товарищ, хорошо связанный с заводами, с партийной организацией и служивший связью Ильича с организацией. Эйно рассказал Ильичу, что по городу усилены патрули, что Временным правительством дано приказание развести мосты через Неву, чтобы разъединить рабочие кварталы, и мосты охраняются отрядами солдат. Явно было — восстание начинается. Ильич решил, что он сам сейчас же пойдёт в Смольный, и заторопился. Маргарите оставил записку: «Ушёл туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». Ночью я ходила к Ильичу на квартиру к Фофановой и там узнала, что Ильич ушёл в Смольный.В Смольном
Смольный был ярко освещён и весь кипел. Со всех концов приходили за указаниями красногвардейцы, представители заводов, солдат. Стучали машинки, звонили телефоны, склонившись над кипами телеграмм, сидели девицы наши, непрерывно заседал на третьем этаже Военно-революционный комитет. На площади перед Смольным шумели броневики, стояла трёхдюймовка, были сложены дрова на случай постройки баррикад. У входа стояли пулемёты и орудия, у дверей — часовые. В 2 часа 30 минут открылось заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. С бурным ликованием встретил Совет информацию о том, что Временное правительство больше не существует, отдельные министры подвергнуты аресту, будут арестованы и остальные, предпарламент распущен, вокзалы, почта, телеграф, Государственный банк заняты. Идёт штурм Зимнего дворца. Он ещё не взят, но судьба его предрешена, и солдаты проявляют необычайный героизм; переворот прошёл бескровно. Бурно приветствовал Совет пришедшего на заседание Ленина. Ленин делал доклад. Он не говорил никаких больших слов по поводу одержанной победы. Это характерно для Ильича. Он говорил о другом, о тех задачах, которые стоят перед Советской властью, за осуществление которых надо взяться вплотную. Он говорил, что началась новая полоса в истории России. Советское правительство будет вести работу без участия буржуазии. Близка эта речь была членам Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов. Да, начинается новая полоса в нашей истории. У помещиков возьмём землю, фабрикантов обуздаем, а главное — добьёмся мира. На помощь придёт мировая революция. Ильич прав. Бурными аплодисментами покрыта была речь Ильича. Вечером должен был открыться II съезд Советов, он должен был провозгласить власть Советов, закрепить одержанную победу. Ильич, не спавший почти совершенно предыдущую ночь и всё время принимавший активное участие в руководстве восстанием, когда не было уже никаких сомнений в одержанной победе, ушёл из Смольного ночевать к Бонч-Бруевичам, жившим неподалёку от Смольного на Песках. Ему отвели отдельную комнату, но он долго не мог заснуть, тихонько встал и стал составлять давно уже продуманный со всех сторон декрет о земле. Заседание 26 октября (8 ноября) открылось в 9 часов вечера. Я присутствовала на этом заседании. Запомнилось, как делал доклад Ильич, обосновывая декрет о земле, говорил спокойно. Аудитория напряжённо слушала. Во время чтения декрета о земле мне бросилось в глаза выражение лица одного из делегатов, сидевшего неподалёку от меня. Это был немолодой уже, крестьянского вида человек. Его лицо от волнения стало каким-то прозрачным, точно восковым, глаза светились каким-то особенным блеском. Была отменена смертная казнь, введённая на фронте, были приняты декреты о мире, о земле, о рабочем контроле, утверждён был большевистский состав Совета Народных Комиссаров. Председателем СНК был назначен Владимир Ульянов (Ленин). Мы поселились с Ильичём в Смольном. Нам отвели там комнату, где раньше жила какая-то классная дама. Комната с перегородкой, за которой стояла кровать. Ходить надо было через умывальную. В лифте можно было подыматься наверх, где был кабинет Ильича, в котором он работал. Против его кабинета была небольшая комната-приёмная. Делегация за делегацией приходили к нему. Особенно много делегаций приезжало с фронта. Зайдёшь, бывало, к нему, а он в приёмной. Стоят там солдаты, набившись плечом к плечу, слушают, не шевелясь, а Ильич стоит около окна и что-то им толкует. Работа Ильича шла в обстановке тогдашнего Смольного, всегда переполненного народом. Все туда тянулись. К Ильичу был приставлен один из пулемётчиков — т. Желтышев, крестьянин Уфимской губернии. Ильича он очень любил, относился к нему с большой заботой, обслуживал его, носил ему обед из столовки, которая была в то время в Смольном. Этот солдат Волынского полка очень любил Ильича и решил, что его надо кормить белым хлебом. А тогда белого хлеба нигде нельзя было достать. Он пошёл в свой Волынский полк и сказал, что у нас для Ильича нет белого хлеба. Там сейчас же хлеб достали. Ильич перекидывался иногда парой слов с Желтышевым, и тот готов был за него идти в огонь и воду. Я целыми днями была на работе, сначала в Выборгском районе, потом в Наркомпросе. Ильич был порядочно-таки беспризорный. Желтышев носил Ильичу обед, хлеб— то, что полагалось по пайку. Марья Ильинична привозила иногда Ильичу из дома всякую пищу, но меня не бывало дома, регулярной заботы о его питании не было. Недавно мне рассказывал один парень, Коротков, ему тогда было лет 12, он жил у матери, которая была уборщицей при столовой в Смольном. Слышит она раз, кто-то ходит по столовой. Заглянула и видит: Ильич стоит у стола, взял кусочек чёрного хлеба и кусок селёдки и ест. Увидя уборщицу, он смутился немного и, улыбаясь, сказал: «Очень чего-то есть захотелось». Короткова знала Владимира Ильича. Как-то раз в первые дни после революции идёт Ильич по лестнице, видит: она моет лестницу, устала, стоит опершись на перила. Ильич с ней заговорил. Она тогда ещё не знала, кто это. Ильич её спросил: «Ну что, товарищ, как теперь, по-вашему, лучше при Советской власти, чем при старом правительстве жить?» А она ему ответила: «А мне что, платили бы только за работу». Потом, как узнала она, что это Ленин был, так и ахнула. Всю жизнь вспоминала, как она тогда ему ответила. Наконец у нас водворилась мать Шотмана, финка, очень любившая сына, гордившаяся тем, что он был делегатом II съезда партии, помогал Ильичу скрываться в июльские дни. Она завела чистоту, тот порядок, который так любил в домашней жизни Ильич, стала просвещать и Желтышева, и уборщиц, и подавальщиц столовой. Теперь можно было, уезжая, быть спокойной, что Ильич будет сыт, хорошо обслужен. Под вечер, когда смеркалось, я приезжала с работы, и, если Ильич не занят, мы ходили с ним побродить около Смольного, поговорить. Ильича мало кто знал тогда в лицо, и он ходил тогда ещё без всякой охраны. Правда, видя, что он выходит, пулемётчики волновались, не случилось бы чего.
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ
НОВЫЙ ГОД

Выборгский район устроил встречу Нового года. Встреча Нового года была связана с проводами товарищей — выборгских красногвардейцев — на фронт. Многие из них участвовали в борьбе с войсками Керенского, двинутыми на Питер. Они ехали на фронт, чтобы вести пропаганду за Советскую власть, будить активность солдат, внести во всю борьбу революционный дух. Встреча Нового года была организована в большом помещении Михайловского юнкерского училища. Отъезжающим товарищам, да и всем выборжцам, хотелось повидать Ильича, и я стала соблазнять его поехать туда, встретить первый советский Новый год с рабочими. Ильичу этот проект понравился. Мы двинулись. Еле выбрались с площади. По случаю упразднения дворников никто снег не расчищал, и нужно было большое искусство со стороны шофёра, чтобы пробраться через наваленные горы снега. Приехали в 11 1/2 часов вечера. Большой «белый» зал Михайловского училища напоминал манеж. Ильич, радостно встреченный рабочими, взошёл на трибуну, аудитория зажгла его, и хоть говорил он просто, без громких фраз и восклицаний, но излагал то, о чём он так неустанно думал последнее время, говорил о том, как должны рабочие по-новому организовать через Советы всю свою жизнь. Говорил и о том, как должны товарищи, едущие на фронт, вести там работу среди солдат. Когда Ильич кончил, ему устроили целую овацию. Четверо рабочих взялись за ножки стула, на котором сидел Ильич, подняли его на стуле и стали качать. Я подверглась той же участи. Потом в зале началось концертное отделение, а Ильич ещё попил чаю в штабе, потолковал там с публикой, и потом мы постарались незаметно уйти. Воспоминание об этом вечере осталось у Ильича очень хорошее. В 1920 году он стал меня звать поехать в районы — это было уже в Москве, хотелось ему встретить опять Новый год с рабочими, объехали мы тогда три района.
В МОСКВЕ

Переезд в Москву. В Кремле
12 марта Советское правительство переехало в Москву, в центр РСФСР, подальше от границы, ближе к ряду губерний, с которыми надо было как можно теснее связаться. Ильич был полон энергии, полон готовности к борьбе. В Москве первое время нас (Ильича, Марью Ильиничну и меня) поселили в «Национале», во втором этаже, дали две комнаты с ванной. Была весна, светило московское солнце. К Ильичу ходило много народу. Часто приходили военные. Ильичу хотелось поскорее обосноваться, и он торопил с устройством. Правительственные учреждения и главных членов правительства решено было поселить в Кремле. Мы тоже должны были там жить. Помню, как Яков Михайлович Свердлов и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич в первый раз повезли нас в Кремль смотреть нашу будущую квартиру. Нас предполагалось поселить в здании «судебных установлений». По старой каменной лестнице, ступеньки которой были вытоптаны ногами посетителей, посещавших это здание десятки лет, поднялись мы в третий этаж, где помещалась раньше квартира прокурора судебной палаты. Планировали дать нам кухню и три комнаты, к ней прилегавшие, куда был отдельный ход. Дальше комнаты отводились под помещение Управления Совнаркома. Самая большая комната отводилась под зал заседаний. К ней примыкал кабинет Владимира Ильича, ближе всего помещавшийся к парадному ходу, через который должны были входить к нему посетители. Было очень удобно. Но во всём здании была невероятная грязь, печи были поломаны, потолки протекали. Особенная грязь царила в нашей будущей квартире, где жили сторожа. Требовался ремонт. Временно нас поселили в Кремле в так называемых «кавалерских покоях», дали две чистые комнаты. Ильичу нравилось гулять по Кремлю, откуда открывался широкий вид на город. Больше всего любил он ходить по тротуару напротив Большого дворца, здесь было глазу где погулять, а потом любил ходить внизу вдоль стены, где была зелень и мало народу. В комнате, в которой мы жили в «кавалерских покоях», на столе лежало какое-то старинное издание со снимками Кремля, с историей Кремля, рассказывалась история его стройки, история и значение каждой башни. Ильич любил листать этот альбом. Тогдашний Кремль, Кремль 1918 года, мало походил на теперешний. Всё в нём дышало стариной. Около здания «судебных установлений» стоял окрашенный в розовую краску Чудов монастырь, с маленькими решётчатыми окнами; у обрыва стоял памятник Александру II; внизу ютилась у стены какая-то стародревняя церковь. Напротив дома «судебных установлений», в кремлёвском здании, работали рабочие. Новых зданий, скверов в Кремле не было. Охраняли Кремль красноармейцы. Красноармейцы усердно учились. Они понимали, что знание нужно им для победы. Проходя быстрой походкой по коридору из своей квартиры в кабинет, нагруженный газетами, бумагами, книгами, Ильич особенно приветливо всегда здоровался с часовыми. Знал их настроение, их готовность умереть за власть Советскую. Своей убеждённостью, уверенностью в победе революции Ильич зажигал массы. Его упорная работа была образцом того героизма организационной работы, о которой он говорил. Каждую неделю выступал Ильич в районах, часто по нескольку раз в день. Работа с массами, организационная установочная работа не прошла даром, именно она помогла победить. Имя Ленина повсюду пользовалось уже большим авторитетом. Ленин был против помещиков и капиталистов, Ленин был за землю, за мир. Все знали, что Ленин — руководитель борьбы за власть Советов. Это знали трудящиеся массы в самых глухих углах России. Но Ленин не принимал непосредственного участия в боях, не бывал на фронтах, а как можно руководить па расстоянии, — этого часто не могли в те времена представить себе люди неграмотные, кругозор которых был ограничен условиями их замкнутой жизни. Целые легенды складывались насчёт Ленина. Байкальские рыбаки далёкой Сибири рассказывали, например, лет 10 назад, как в самый разгар боя с белыми прилетел к ним Ильич на самолёте и помог им справиться с врагом. На Северном Кавказе говорили, что хоть и не видели они Ленина, но наверное знают, что боролся он у них в рядах Красной Армии, только делал это тайно, чтобы никто не знал, помогал их победам. Ильич любил спать с открытыми окнами. И каждое утро врывались в окно со двора песни живших в Кремле красноармейцев. «И как один умрём за власть Советскую», — пели молодые голоса. И хоть ни на минуту не ослабевала у Ильича уверенность в победе, но работал он с утра до вечера, громадная забота не давала ему спать. Бывало, проснётся ночью, встанет, начнёт проверять по телефону: выполнено ли то или иное его распоряжение, надумает телеграмму ещё какую-нибудь добавочную послать. Днём мало бывал дома, больше сидел у себя в кабинете: приёмы у него шли. Я в эти горячие месяцы видела его меньше обыкновенного, мы почти не гуляли, в кабинет заходить не по делу я стеснялась: боялась помешать работе. Придёшь, бывало, к Ильичу. Придёшь, он молчит. Знала я, что для того, чтобы разговорить его, перебить ему настроение, надо рассказать ему что-нибудь характерное из жизни рабфаковцев, из жизни совпартшколы[12]. Рассказывать было что. Его интересовало, как растёт у людей сознание, как растёт понимание задач, стоящих перед ними. Много приходилось говорить с Ильичём на эти темы.Никаких преимуществ
Теснее и теснее стала беднота сплачиваться вокруг Советской власти. Беднота стала считать Ильича, о котором так много говорили ей рабочие, солдаты, своим вождём. Но не только Ильич заботился о бедноте — и беднота заботилась об Ильиче. Лидия Александровна Фотиева — секретарь Ильича — вспоминала, как пришёл в Кремль красноармеец-бедняк и принёс Ильичу половину своего каравая хлеба: «Пусть поест, время теперь голодное», — не просил даже свидания с Ильичём, а лишь просил издали показать ему Ильича, когда он пойдёт мимо. Ильич ужасно раздражался, когда ему хотели создать богатую обстановку, платить большую заработную плату и прочее. Помню, как он рассердился на какое-то ведро халвы, которое принёс ему тогдашний комендант Кремля тов. Мальков. 23 мая 1918 года Ильич пишет В. Д. Бонч-Бруевичу записку: «Управляющему делами Совета Народных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалованья с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведённого Вами самочинно по соглашению с секретарём Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю Вам строгий выговор. Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (ЛЕНИН)».На волосок от смерти
Разгоралась гражданская война. Контрреволюционеры чувствовали, что не вернуть им старого, злобствовали на Советскую власть, на большевистскую партию и её видных работников и в особенности на вождя партии — Ленина. Они решили убить большевистских деятелей, решили убить Ленина.30 августа[13] сообщили Ильичу из Питера, что в 10 часов утра убит председатель Ленинградской ЧК т. Урицкий. Вечером Ильич — по мобилизации МК — должен был выступать в Басманном и Замоскворецком районах. Мария Ильинична в этот день была больна и сидела дома. Ильич вошёл к ней уже в шапке и пальто, готовый ехать. Она стала просить его взять её с собой. «Ни под каким видом, сиди дома», — ответил он и уехал на митинг, не взяв с собой никакой охраны. У нас шло совещание по народному образованию. За два дня перед тем на нём выступал Ильич. Заседание шло к концу, и я собралась ехать домой, взялась подвезти одну знакомую учительницу, живущую в Замоскворечье. Меня ждал кремлёвский автомобиль, но шофёр был какой-то незнакомый. Он повёз нас к Кремлю, я сказала ему, что мы сначала отвезём нашу спутницу; шофёр ничего не сказал, но у Кремля остановил машину, открыл дверцу и высадил мою спутницу. Я диву далась, чего это он так распоряжается, хотела разворчаться, но мы подъехали к нашему подъезду, во двор ВЦИК, там встретил меня т. Гиль, шофёр, всегда ездивший с нами, стал рассказывать, что он возил Ильича на завод Михельсона и что там женщина стреляла в Ильича, легко его ранила. Видно было, что он подготавливает меня. Вид у него был расстроенный очень. «Вы скажите только, жив Ильич или нет?» — спросила я. Гиль ответил, что жив, я заторопилась. У нас в квартире было много какого-то народу, на вешалке висели какие-то пальто, двери непривычно были раскрыты настежь. Около вешалки стоял Яков Михайлович Свердлов, и вид у него был какой-то серьёзный и решительный. Взглянув на него, я решила, что всё кончено. «Как же теперь будет», — обронила я. «У нас с Ильичём всё сговорено», — ответил он. «Сговорено, значит, копчено», — подумала я. Пройти надо было маленькую комнатушку, но этот путь мне показался целой вечностью. Я вошла в нашу спальню. Ильичёва кровать была выдвинута на середину комнаты, и он лежал на ней бледный, без кровинки в лице. Он увидел меня и тихим голосом сказал минуту спустя: «Ты приехала, устала. Поди ляг». Слова были несуразны, глаза говорили совсем другое: «Конец». Я вышла из комнаты, чтобы его не волновать, и стала у двери так, чтобы мне его было видно, а ему меня не было видно. Наша квартира превратилась в какой-то лагерь, хлопотали около больного Вера Михайловна Бонч-Бруевич и Вера Моисеевна Крестинская, обе врачихи. В маленькой комнате около спальни устраивали санитарный пункт, принесли подушки с кислородом, вызвали фельдшеров, появилась вата, банки, какие-то растворы. Наша временная домашняя работница, латышка, перепугалась, ушла в свою комнату и заперлась на ключ. В кухне кто-то разжигал керосинку, в ванне тов. Кизас полоскала окровавленные повязки и полотенца. Глядя на неё, я невольно вспоминала первые но^и Октябрьской революции в Смольном, когда тов. Кизас, не смыкая глаз, сидела целыми ночами над грудой сыпавшихся отовсюду телеграмм, разбирала их. Наконец, пришли врачи-хирурги: Владимир Николаевич Розанов, Минц и другие. Несомненно, жизнь Ильича была в опасности, он был на волоске от смерти. Когда шофёр Гиль вместе с товарищами с завода Михельсона привезли раненого Ильича в Кремль и хотели его внести вверх на руках, Ильич не захотел и сам поднялся на третий этаж. Кровь залила ему лёгкое. Кроме того, врачи опасались, что у него прострелен пищевод, и запретили ему пить. Я стояла у двери. Раза три ночью ходила в кабинет Ильича на другом конце коридора, где, примостившись на стульях, всю ночь провели Свердлов и другие. Ранение Владимира Ильича взволновало не только все партийные организации, но и широчайшие массы рабочих, крестьян, красноармейцев: как-то особенно ярко осознали, чем был для революции Ленин. С волнением следили все за появившимися в газетах бюллетенями о его здоровье. Покушение заставило рабочий класс подтянуться, теснее сплотиться, напряжённее работать. Надежды врагов Советской власти не оправдались. Ильич выжил. Все окружающие Ильича повеселели. Ильич шутил с ними. Ему запрещали двигаться, а он втихомолку, когда никого не было в комнате, пробовал подниматься. Хотелось ему скорей вернуться к работе, он очень волновался, что пропускает заседание Совнаркома, а там стоят важные вопросы. Как только он стал поправляться, он стал просить врачей, чтобы скорее ему позволили встать и пойти на заседание. Наконец, 10 сентября было сообщено в «Правде» о том, что опасность миновала, а Ильич сделал приписку, что так как он поправляется, то просит не беспокоить врачей звонками с вопросами о его болезни. 16 сентября Ильичу разрешили, наконец, пойти в Совнарком. Он очень волновался, от волнения еле встал с постели, но был рад, что может опять вернуться к работе. Когда он пришёл в Совнарком, все товарищи были взволнованы и настойчиво принялись за работу.
В Горках
Владимир Ильич, приступив к работе, сразу же почувствовал, что повседневная напряжённая административная работа ему ещё не по силам, и согласился поехать на пару недель отдохнуть за город. Его перевезли в Горки, в бывшее имение Рейнбота, бывшего градоначальника Москвы. Дом был хорошо отстроен, с террасами, с ванной, с электрическим освещением, богато обставлен, с прекрасным парком. В нижнем этаже разместилась охрана. Ильич был к ней непривычен, да и она еще неясно представляла себе, что ей делать, как вести себя. Встретила охрана Ильича приветственной речью и большим букетом цветов. И охрана и Ильич чувствовали себя смущёнными. Обстановка была непривычная. Мы привыкли жить в скромных квартирках, в дешёвеньких комнатах и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Выбрали самую маленькую комнату, в которой Ильич потом, спустя 6 лет, и умер; в ней и поселились. Но и маленькая комната имела три больших зеркальных окна и три трюмо. Лишь постепенно привыкли мы к этому дому. Маловато сил было после ранения у Ильича, понадобилось порядочно времени, пока он смог выходить за границы парка. Настроение было у него бодрое — настроение выздоравливающего человека, а кроме того, начался перелом во всей окружающей обстановке. Стало меняться положение на фронте. Красная Армия побеждала.
ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЧЕЛОВЕК

Первый среди равных
Ленин был коллективистом до глубины души. Вся его жизнь, деятельность были подчинены одной великой цели — борьбе за торжество социализма. И это накладывало печать на все его чувства и мысли. Ему чужда была всякая мелочность, мелкая зависть, злоба, мстительность, тщеславие. Ленин писал, что коммунист должен быть готов на всё, что он должен быть готов отдать свою жизнь за рабочее дело, готов работать в подполье — скрываться и работать так, чтобы никто не знал даже его имени. Он должен вести не покладая рук повседневную борьбу. Если развернётся гражданская война, нужно, чтобы он умел взять винтовку и бороться на баррикадах. Нужно, чтобы он сумел делать и самую простую, незаметную, но нужную для дела работу. Должен быть смелым, идти вперёд, как бы трудно это ни было. Партийцы должны научить пионеров подчинить свою волю коллективу, научить сплочённости, товариществу. Ленин боролся, резко ставил вопросы, но никогда не вносил он в споры ничего личного, подходил к вопросам с точки зрения дела, и потому товарищи обычно не обижались на его резкость. Он очень внимательно вглядывался в людей, вслушивался в то, что они говорили, старался охватить самую суть, и потому он умел по ряду незначительных мелочей улавливать облик человека, умел замечательно чутко подходить к людям, раскрывать в них всё хорошее, ценное, что можно поставить на службу общему делу. Постоянно приходилось наблюдать, как, приходя к Ильичу, человек становился другим, и за это любили товарищи Ильича, а сам он черпал из общения с ними столько, сколько очень редко кто другой мог почерпнуть. Учиться у жизни, у людей не всякий умеет. Ильич умел. Он ни с кем не хитрил, не втирал никому очки, и люди чувствовали его искренность, прямоту. Успехи дел глубоко радовали Ильича. Дело — это было то, чем он жил, что он любил и что его увлекало. Ленин старался как можно ближе подойти к массе, и он умел это делать. Общение с рабочими давало ему самому очень многое. Из тысячи замечаний, даже отдельных выражений, разбросанных в его статьях и речах, глядит личность Ильича — коллективиста, борца за рабочее дело. Быть коллективистом, борцом за рабочее дело — большое счастье. И потому так заразительно смеялся Ильич, так весело шутил, так любил он «зелёное дерево жизни», столько радости давала ему жизнь. Понять Ильича как человека — значит глубже, лучше понять, что такое строительство социализма, значит почувствовать облик человека социалистического строя.Разговор всерьёз
Ленин подходил к рабочему, к крестьянину — бедняку и середняку, к красноармейцу не свысока, а как к товарищу, как к равному. Они были для него живые люди, много пережившие, над многим думавшие, требующие внимания к своим запросам. «Он говорит с нами всерьёз», — говорили про него рабочие и особенно ценили его простой, товарищеский подход. Вопросы, которые он объясняет, близки ему самому, волнуют его, и это больше всего убеждало. Вся эта тяга к рабочим у Ильича была связана с пониманием той роли рабочего класса, которую, по убеждению Владимир Ильича, он должен сыграть, она была связана со всеми надеждами, которые он возлагал на рабочий класс. Это отношение к рабочему классу вытекало из его понимания тех задач, которые стоят перед рабочим классом. Встают перед глазами его выступления на митингах, перед рабочими и крестьянскими массами. Первый раз выступал он на митинге перед рабочими (раньше выступал лишь в подпольных кружках да за границей на собраниях эмигрантов) весной 1906 года в Питере, в доме Паниной, под фамилией Карпова. Его выступления после приезда в Россию в 1917 году у всех в памяти. Выступая на рабочих, крестьянских, красноармейских собраниях, никогда не говорил он общих фраз, говорил о самом важном и существенном, о том, что — он знал — волнует массу, о том, что волновало его самого. И, слушая его, каждый рабочий, каждый крестьянин думал: «Он понимает. Он наш>.Быть дисциплинированным
Владимир Ильич писал о том, что при капитализме люди работают только из-за выгоды, при капитализме царит принудительная дисциплина, при коммунизме же принудительной дисциплины не будет, будет дисциплина добровольная. Ленин никогда не запаздывал на заседания Совнаркома. Заседание обычно начиналось в 6 часов. Ильич берёт телефонную трубку и звонит секретарю — т. Фотиевой: «Что же, пришёл кто-нибудь? Никого. Как только придут двое, сейчас же позвоните мне». И как только Фотиева позвонит ему, что пришло два или три человека, он сейчас заторопится, возьмёт бумаги и быстрыми шагами пойдёт в Совнарком. Не дожидается, пока все соберутся. Сам вовремя на месте. Скоро все стали собираться в Совнарком без всяких опозданий.Вглядываться в жизнь
Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичём, сказал мне, что Ильич — человек учёный, читает исключительно учёные книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п., такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому всё это не интересно нисколько. Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки людей, наблюдала его пристальное вглядывание в жизнь, в людей — и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки книг, говоривших о том, чем живы люди. Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то поговорить на эту тему. Потом уж, в Сибири, узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но и перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Владимир Ильич читал беллетристику, изучал её, любил. Владимир Ильич при выборе книг по беллетристике особенно любил те книги, в которых ярко отражались в художественном произведении те или иные общественные идеи. Владимиру Ильичу пришлось долгие годы жить в эмиграции: в Германии, Швейцарии, Англии, Франции. Он ходил по рабочим собраниям, внимательно вглядывался в жизнь и быт рабочих, наблюдал их домашнюю жизнь, их отдых. Приходилось наблюдать, как велико было влияние окружающей буржуазной среды, всего буржуазного уклада на семью, на быт рабочих. Это влияние сказывалось в тысяче мелочей. Когда мы жили во Франции, особо бросалось в глаза противоречие между общим революционным настроением рабочих и пошлым мещанским бытом. Мы жили за границей бедновато, большей частью в комнатах, нанимаемых за дешёвую плату, где жил всякий народ, кормились у разных хозяек, в дешёвеньких ресторанах. В Париже Ильич очень любил посещать кафе, где пели свои песни певцы, очень остро критиковавшие буржуазную демократию и бытовые стороны жизни. …Как-то уже после Октябрьской революции встретили на улице Владимира Ильича восточные женщины, приехавшие на международную конференцию, окружили его, стали что-то говорить ему на своём языке, с волнением и плачем обнимать его, и, взволнованный этим, Владимир Ильич сказал мне, когда мы шли с ним вдоль кремлёвской стены: «Это уже самые низы подымаются, теперь дело социализма непобедимо!» Мы с Ильичём ездили в Кашино, Московской области, в село, где крестьяне построили местную электрическую станцию. Ильич узнал об этом, поехал на открытие станции. Ильич выступал в Кашино на улице, когда вечером открылась станция и па улице и в избах вспыхнул электрический свет. Он говорил, какое значение имеет электричество, что надо сделать в нашей стране, чтобы жизнь стала сытой, здоровой, светлой, просвещённой, как это важно, чтобы рабочие и крестьяне взялись за устройство такой жизни. Эту речь никакая стенографистка не записывала, но речь была горячая, слушали её напряжённо и внимательно. Есть такая фотография: Ильич снят с кашинскими ребятами. Ильич рассказывал, ребята слушали, и хоть многого не понимали они, но запомнили на всю жизнь выступление Ильича. Многие из них выросли строителями социализма. Им запомнилось, что был Ильич, говорил, что надо жизнь по-новому перестраивать. Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои университеты» Горького. Кроме того, он любил слушать стихи, особенно Демьяна Бедного. Читаешь ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами»[14]. Читаешь, точно клятву Ильичу повторяешь, — никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции.Смотреть правде в глаза
Особенностью Ильича было то, что он никогда не обманывал себя, как бы печальна ни была действительность, всегда умел трезвыми глазами смотреть на действительность. Не всегда это было ему легко. Ильич меньше всего был человеком холодного рассудка, каким-то расчётливым шахматистом. Он воспринимал всё чрезвычайно страстно, но была у него крепкая воля, много пришлось ему пережить, передумать, и умел он бесстрашно глядеть в глаза правде.Жить просто
Жили просто, это правда. Но разве радость в жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить? Владимир Ильич умел брать от жизни её радости. Любил он очень природу. Я не говорю уже о Сибири, но и в эмиграции мы уходили постоянно куда-нибудь за город подышать полной грудью, забирались далеко-далеко и возвращались домой опьяневшие от воздуха, движения, впечатлений. Ильич не боялся самой чёрной, мелкой работы. Без такой чёрной, будничной, невидной работы нельзя было ничего добиться в те времена. Эта невидная повседневная работа сочеталась с необычайно ясным пониманием того, что нужно делать, с умением сплачивать около основной работы новые и новые кадры.Постоянно учиться
У Владимира Ильича масса тетрадок со всевозможными выписками. Работает он очень много. Про своего казнённого брата, который был естественником, он рассказывает, что последнее лето тот вставал в три часа утра для того, чтобы использовать весь дневной свет, который был ему необходим для работы с микроскопом. Он не терял ни одного дня и использовал максимум света для своих исследований. То же упорство в работе было и в работе Владимира Ильича. Он был очень знающим человеком, хорошо очень изучил революционное движение всех стран, прекрасно знал всё, что писали Маркс и Энгельс и другие иностранные революционеры, знал замечательно настоящее и прошлое России, знал хорошо историю, то, что написано было о технике, фабриках, заводах, сельском хозяйстве, знал хорошо законы, какие существуют в капиталистических странах и в царской России, и многое другое. Знания вооружили его, помогли ему понять, что надо делать и как надо делать, чтобы рабочим и крестьянам сбросить царя, помещиков и капиталистов и начать строить социализм. Знания помогли Ленину стать подлинным вождём трудящихся, вождём мирового пролетариата. Трудно сосчитать, сколько книг он прочитал. Всю жизнь он пользовался библиотеками, полжизни провёл в библиотеках и за чтением библиотечных книг. Когда он жил в Самаре, он брал очень много книг из библиотеки. Когда приехал в Питер, целыми днями просиживал в Публичной библиотеке, он брал книжки и из библиотеки Вольно-экономического общества, и из ряда других. Даже когда он сидел в тюрьме, сестра носила ему книги из библиотеки. Он делал выписки из этих книг. Для того чтобы написать свою книжку «Развитие капитализма в России», ему пришлось пользоваться 583 книгами. Мог ли Ленин купить себе все эти книги? Ленин жил тогда, как студент, в небольшой комнатушке, тратил на себя гроши. Не было у него возможности истратить столько денег — не меньше тысячи — на покупку этих книг, не было времени бегать по книжным лавкам, разыскивать эти книги, не осталось бы времени на чтение, без книжных библиотечных каталогов он даже не знал бы о существовании многих из этих книг. И, наконец, негде ему было держать эти книги. Прочтя эти книги, он не только смог написать такую большую и важную книгу, как «Развитие капитализма», но в то же время прекрасно изучил тогдашнюю жизнь рабочих и крестьян. А без этого не мог бы из него выйти тот Ленин, которого мы все знаем. Попав за границу, Владимир Ильич ещё усерднее стал пользоваться библиотеками. Он знал иностранные языки и прочёл на них массу книг. Он никогда не мог бы купить их, потому что в эмиграции приходилось рассчитывать каждую копейку, экономить деньги на трамвай, на еду и пр. А не читая книг, не читая иностранных газет и журналов, Ильич не мог бы вести той работы, которую он вёл, не было бы у него тех знаний, которыми он был так прекрасно вооружён. Ленин знал много иностранных языков. Хорошо знал немецкий, французский, английский, изучал их, переводил с этих языков, читал по-польски, по-итальянски. Он мог «для отдыха» часами читать какой-нибудь словарь.Самый близкий друг
Ильич очень любил детей. В присутствии ребят у него светлело лицо, смеялись глаза, он любил слушать их болтовню, шутить с ними, возиться. Но главное, он умел подойти к ним. Только жизнь у нас сложилась так, что ребят приходилось видеть лишь мельком. В семье у нас ребят не было. Его младший брат, Дмитрий Ильич, рассказывает замечательно интересно, как играл с ним в детстве Владимир Ильич. Играли они, например, в лошадки. Владимир Ильич был лошадью, брат — кучером. Лошадь была буйная, никак не мог с ней справиться кучер. И вот кучер запротестовал: «Не хочу быть кучером, лучше лошадью буду». Ильич подумал и говорит брату: «Кто сильнее, лошадь или кучер? Лошадь ведь сильнее. Значит, я лошадью должен быть! А ты с лошадью обращайся поласковей, не всё понукай, а травкой её покорми…» Нарвали травки, кучер «покормил» Ильича травкой, лошадь помахала от удовольствия головой и стала кучера слушаться, не скакать бешено, не рваться в сторону. Так ещё мальчиком умел играть с младшим братом Ильич. Потом, когда мы познакомились с ним, приходилось наблюдать постоянно его умение подойти к ребятам, его умение говорить с ними, он умел с ними играть, поднимая иногда отчаянную возню, умел влезать в их детскую шкурку. В ссылке, в селе Шушенском, постоянно звал он к себе шестилетнего мальчонку, сына катанщика, разговаривал с ним о разном, о том, что интересно было для малыша. Ещё все спят, а уж отворяется дверь, появляется Минька и оповещает: «А вот и я». Толчётся у нас по дому, за обедом докладывает все новости деревенские: «Сегодня овец стригли» или «Иван Степанов приехал, в волости был» и т. д. Это был весёлый, но болезненный мальчонка. Владимир Ильич снабжал его бумагой, давал рисовать красным карандашом, поддерживал все мои мероприятия по части доставления Миньке всяких удовольствий. Приходили к нам ребята Проминского, польского рабочего-ссыльного, у которого была очень большая семья. Ребята обычно приходили с родителями — с отцом. Проминский охотно и много пел польские революционные песни. Поёт Проминский, вторит ему Владимир Ильич, подтягивают ребята. Владимир Ильич шутил и возился [с ними]. Помню, как однажды он долго улыбаючись наблюдал шестилетнюю Зоею Проминскую, которой я вырезывала зверьков из бумаги и которая смеялась от радости, на них глядя. После ссылки Владимир Ильич уехал в Псков, поближе к Питеру, а я осталась доживать ссылку в Уфе. В Пскове Владимир Ильич столовался у Радченко, там были две девчурки-малышки, с которыми он особенно охотно возился. Потом он, смеясь, рассказывал мне, какие это милые и забавные ребята. Летом Владимир Ильич приезжал ко мне в Уфу. В это время я давала уроки дочке одного машиниста — десятилетней девчурке. Она приходила ко мне на дом. Раз я застала девчурку с котёнком на руках, беседующую с Владимиром Ильичём. Она рассказывалаему, что, когда мы занимаемся, котёнок просится в комнаты, просовывает лапу в щёлку под дверью. Ей тогда делается ужасно смешно, и она не может заниматься. Владимир Ильич смеялся, качал головой, гладил котёнка и говорил: «Как нехорошо! Как нехорошо!» А потом, когда мы занимались, он на цыпочках проходил мимо двери, чтобы не мешать нам заниматься. Владимир Ильич относился всерьёз к занятиям ребят, к тому, что они говорят и делают. Дети очень чутки! И они сразу чувствовали в Ильиче близкого, интересного для них человека. Очень любили его. Часто, когда он говорил с детьми, он полушутя, полусерьёзно спрашивал: «Не правда ли, ты вырастешь хорошим коммунистом?» Конечно, это была полушутка, но это было и его глубокое желание, чтобы каждый ребёнок вырос сознательным коммунистом и продолжал то дело, за которое мужественно боролись и борются революционеры всех стран. И ребята вспоминают: «Со мною говорил Владимир Ильич, он меня спрашивал: «Не правда ли, ты будешь хорошим коммунистом?»В конце 1918 года Надежда Константиновна заболела. Санаториев тогда не было, и её отправили подлечиться и отдохнуть в Сокольники в лесную школу. Надежда Константиновна быстро подружилась с ребятами, жившими в лесной школе, почти каждый вечер к ней приезжал Владимир Ильич.
Ильич часто шутил с ребятами, они его полюбили, поджидали его. В начале 1919 года школа устраивала ёлку для ребят. Дети звали Ильича приехать к ним на ёлку. Он обещал. Попросил Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича купить ребятам гостинцев побольше. Когда он ехал в тот вечер ко мне с Марией Ильиничной, дорогой напали на них бандиты. Они смутились, узнав, что напали на Ильича. Высадили из машины Ильича и Марию Ильиничну, а также шофёра тов. Гиля и сопровождавшего Ильича товарища из охраны, руки которого были заняты кувшином с молоком, и угнали автомобиль. А мы в лесной школе поджидали Ильича с Марией Ильиничной и удивлялись, что они запаздывают. Когда они добрались наконец до школы, лица у них были какие-то странные. Я потом в коридоре спросила, что с ним. Он минуту поколебался, боясь меня взволновать, а потом мы пошли в мою комнату, и он рассказал подробно. Рада я была, что остался он цел и невредим.
Замечательно дельный
Когда Владимир Ильич был маленький, у него старушка няня была, без очков совсем плохо видела. А когда очки запотеют, плохо видно. Владимир Ильич очень заботливо ей очки протирал. Плохо я стала видеть последнее время, очки завела. Владимир Ильич и говорит: «Очки чистые должны быть. Дай я тебе их протру. Я няне моей всегда очки протирал». Владимир Ильич любил людей. Он не ставил себе на стол карточки тех, кого он любил, как кто-то недавно описывал. Но любил он людей страстно. У Владимира Ильича был всегда большой интерес к людям, бывали постоянные «увлечения» людьми. Подметит в человеке какую-нибудь интересную сторону и, что называется, вцепится в человека. Чуткость и отзывчивость ни в каком противоречии с суровой непримиримостью и ненавистью к врагам революции не находятся. Чуткое, внимательное отношение к людям должно быть присуще каждому коммунисту. Он всегда заботился о товарищах. Он был образцовым товарищем-другом. Но в то же время все мы знаем, если кто из его товарищей, из его самых близких друзей начинал защищать неправильную точку зрения, что этот товарищ своими высказываниями, своими действиями вредит делу, он самым резким образом выступал против него и рвал с ним товарищеские отношения, рвал дружбу. Он был замечательно цельным человеком. Выступая на III съезде комсомола, Владимир Ильич говорил молодёжи о том, что нужно отдавать всю свою работу, все свои силы на общее дело. Перед Лениным всегда стояла великая цель. Эта цель — борьба с капитализмом, борьба за социализм. И жизнь Ленина была показом, как надо это делать. Иначе Ильич не мог, не умел жить. Он любил и на коньках кататься, и на велосипеде гонять, и по горам лазить, и на охоту ходить, любил музыку, любил жизнь во всей её многогранной красоте, любил товарищей, любил людей. Все знают его простоту, его весёлый заразительный смех. Но всё у него было подчинено одному — борьбе за жизнь для всех светлую, просвещённую, зажиточную, полную содержания, радости. Больше всего его радовали успехи в этой борьбе. Личное у него сливалось само собой с его общественной деятельностью.INFO
Крупская Н. К. К84 О Владимире Ильиче Ленине: Воспоминания / Сост. В. С. Дридзо; Рис. И. Незнайкина — Переизд.—М.: Дет. лит., 1988.— 80 с.: ил. — (Маленькая историческая б-ка). ISBN 5-08-000754-0
К 4802010000-252/М 101(03)-88*038-88 ББК 13.5 3К26
Составитель Вера Соломоновна Дридзо
Литературно-художественное издание Для младшего школьного возраста
Крупская Надежда Константиновна О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ ЛЕНИНЕ Воспоминания
…………………..
FB2 — mefysto, 2023


Последние комментарии
1 день 3 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 17 часов назад