Плач перепелки. Оправдание крови [Иван Гаврилович Чигринов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


ИВАН ЧИГРИНОВ
ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ
ОПРАВДАНИЕ КРОВИ
РОМАНЫ

*
Перевод с белорусского
Художник Л. Ламм
М., «Известия», 1981
ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

Перевод Михаила Горбачева
I
Ночь была росистая, даже холодная, как осенью. И тишина стояла непривычная — не слышалось того грохота и гула, что принесла в Забеседье война. Измотанные в боях части 55-й дивизии, временно приданной 13-й армии, которая оборонялась на Соже между Пропойском и Кричевом, переправились в середине августа через Беседь, небольшую реку на юго-востоке Белоруссии, и отступили на Струговскую Буду. Там был подготовлен «новый оборонительный рубеж. Почти месяц женщины и парни допризывного возраста ездили из Веремеек копать окопы и противотанковый ров. Поначалу окопников возили к деревне Латока, за местечко Бабиновичи, но приехали откуда-то военные на «эмках» и приказали свернуть работы. Тогда окопников посадили на колхозные машины, что еще не были реквизированы для армии, и переправили за Струговскую Буду. Оттуда колхозники возвращались через неделю — работали посменно, и женщины уверяли, что если на Соже наши, не дай бог, и не остановят немца, то уж дальше Ипути — за второй большой приток Сожа — он ни за что не пройдет: там столько наворочено одной земли и уложено бревен в песок, что сам черт ногу сломит. Но пока бои шли на Соже, была надежда, а может, и в самом деле немца дальше не пустят, и Веремейки минует беда. Поговаривали, что и в ту войну, в первую мировую, германец здесь до Беседа не дошел. Но в конце июля появились первые беженцы — бабиновичские евреи. А еще через неделю веремейковцы увидели, как два гусеничных трактора потащили по песчаному большаку из Белой Глины огромную пушку, отдельно ствол и лафет. Дальнобойная, покачивали головами догадливые мужики, а раз дальнобойную снимают с фронта, значит, отступают. Люди как-то сразу притихли, начали закапывать в землю все, что имели ценного. В начале августа Родион Чубарь, председатель колхоза, созвал последнее общее собрание. Из двух поселков, Мамоновки и Кулигаевки, которые входили в веремейковский колхоз на правах одной бригады, пришел на собрание лишь старый правленец Сидор Ровнягин. Тогда Чубарь направил посыльного в Мамоновку за одноруким Боханьком: из Крутогорья, районного центра, позвонили, чтобы немедля возвращали с выпаса оставшихся в колхозе коров и угоняли на восток. Основное стадо, полтораста голов, угнали из Веремеек раньше. Погонщиками были заместитель председателя колхоза, а точнее, завхоз, Денис Зазыба и двое колхозников, не подлежавших пока мобилизации, Иван Хохол и Микола Рацеев. Остальных коров велено было гнать в том же направлении, через Карачев на Хатыничи. Как только Боханек узнал, зачем его вызвал в Веремейки председатель, он начал отнекиваться, даже всплакнул, потрясая пустым рукавом. Однако Чубарь настоял на своем, и тот вынужден был собраться в дорогу. Угоняли стадо в воскресенье под вечер. Коровы будто чувствовали, какой им предстоит путь, жалобно мычали, будоража деревню, и, пока гнали их по улице, норовили забежать в любой двор, где были открыты ворота. Чубарь сам помогал выгонять их оттуда, подталкивая прикладом винтовки, ругался и кричал на баб, которые упрашивали оставить хоть молодняк: мол, еще неизвестно, как оно все обернется. Чубарь злился и всерьез объяснял, что есть указание из района и что он не имеет права оставлять врагу колхозное добро. Наконец стадо вышло за околицу, и Боханек, орудуя березовым хлудом, погнал его по дороге на Гутку. А через два дня в деревню вернулся Денис Зазыба. Ивана Хохла и Миколы Рацеева с ним не было: те подались на призывной пункт в Хатыничи. Зазыба вернулся в деревню недужный — напившись в поту по дороге в Веремейки холодной воды, он застудил зубы и горло. Когда в хату с нему при шел председатель колхоза, Денис Зазыба лежал на широкой деревянной кровати. Вид у него был явно больной. Поставив в угол между печью и порогом винтовку, Чубарь нарочито бодро спросил: — Ну, как дела? Жена Дениса Зазыбы Марфа поправила на ногах мужа дерюжку, сотканную в широкую полоску, и тихо вышла из хаты. Она всегда уходила, когда Чубарь бывал у них. — Так… сдали мы коров, расписка с печатью во-он на столе. Только сам вот… — Зазыба виновато посмотрел на Чубаря. — Да ничего, поправлюсь. Не впервой. Она завсегда меня так вот, эта горлянка, выветривает всего. Чубарь прошелся по хате. Мужчина он был здоровенный, пудов шести, и половицы, рассохшиеся за лето, заскрипели, прогибаясь под его ногами. — Что-то долго вы там… — заморгал Чубарь красными от бессонницы глазами. — Так… как справились… — К шапочному разбору, считай, явился! Зазыба потер левой ладонью кончик широкого носа, сморщил небритое лицо. — Ты бы сел, Антонович… Чубарь послушался и отошел к лавке, что стояла у стены. Сел на краешек боком, словно только затем, чтобы наблюдать в окно за улицей, и Зазыбе были видны его затылок и левое ухо, которое насквозь просвечивало и казалось красным. Минуту-другую председатель молчал. — Не понимаю, — пожал он плечами, — почему ты не остался там? Все бегут как можно дальше отсюда, а ты вдруг? — Я, Антонович, за это время, пока шел сюда, нагляделся чуточку и на людей и на свет. Одни и вправду, как ты говоришь, бегут, а другие вовсе и не думают. Из Веремеек, кажись, никто не побег? — Ну и что? — будто не понял своего завхоза Чубарь. — Ты с рядовыми колхозниками не равняйся. Колхозом ведь руководили мы с тобой. Или, может, забыл? — Нет, про это я не забыл, — улыбнулся Зазыба. — Ну и нечего тогда пустое молоть! А может, порешил с новой властью поладить? Что ни говори, и сам вроде пострадавший, и сын твой… Зазыба подвинул к стене подушку, сел — вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. — Ну, вот что!.. Ты это! — с трудом произнес он: его охватило неприятное чувство, которое пережил несколько лет назад, после ареста Масея. Появилось оно тогда не потому, что вдруг сняли с председателей его, Зазыбу, а поставили Чубаря. Это Зазыба пережил без особого надрыва, может, потому, что несчастье, случившееся с сыном, взяло верх над обидой и он даже не думал о себе, К тому же Зазыба считал, да и не один он, что с ним обошлись еще не слишком круто. Не забыли его прошлое — участие в гражданской войне и восьмилетнее председательство в колхозе. И вот в то тяжелое время Чубарь словно в собачью шкуру влез. То и дело старался подсыпать соли на живую рану — вместе с другими попрекал Зазыбу сыном. Тогда Зазыба понимал Чубаря: человек просто боялся, что история с Масеем ненароком заденет и его, Чубаря. Зазыба пересилил себя и сказал рассудительно: — Рано еще нам чубы делить, председатель. Чубарь помолчал немного, потом заговорил торопливо, будто не хватало времени: — Ты, Зазыба, отлежись, раз уж так вышло, что захворал, но чтоб недолго. А то я один. С ног сбился. — Голос у него сделался слабым. — Да не бойся, теперь забот убавилось. Последних коров мы тоже отправили, мог даже встретить Боханька, когда шел домой. За Клинцами сегодня будет, если все благополучно. Тогда спросил Зазыба: — Это что ж, всех коров угнали? — А ты думал, тут оставим? Зазыба снова спросил: — Марфа моя говорила, что у Палаги Харитоновой корова бульбиной подавилась, дал ты ей взамен? — Нет. — А Боханьку? У него же старая, да и яловая, кажись. Если по справедливости, так и ему стоило б заменить. — Надумали когда менять!.. — А он, если помнишь, просил давно, еще в мае подавал на правление. Чубарь в досаде повел плечом. — Напрасно, — сказал Зазыба. Это замечание неожиданно взорвало Чубаря. — Мы не обязаны за счет колхозного стада пополнять частный сектор! — При чем тут частный сектор? — уселся поудобнее на постели Зазыба. — Раз уж случилось, что у колхозника нет коровы, так кто ему поможет, если не мы? — Ну, знаешь!.. Ты будто забыл, что уже почти два месяца война идет. Или, может, нарочно все это говоришь? Того и гляди, фашисты тут будут. А ты про коров. Еще неизвестно, кому они достанутся. Кто мне гарантию даст, что к немцам во щи не попадут? — Чубарь мотнул головой. — В конце концов, я выполнял директиву. Или ты не слышал выступления товарища Сталина? — Отчего ж, слыхал, спокойно ответил Зазыба. — А про директиву не знаешь. — Про директиву не знаю. — А нам читали. Собирали в райкоме и читали. Так вот, чтоб ты не говорил чепухи. Там черным по белому сказано, нетрудно было запомнить: при вынужденном, понимаешь, при вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ничего. Колхозы должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам. А имущество, которое нельзя вывезти, должно безоговорочно уничтожаться, понимаешь? Чтоб не оставлять врагу. Одну опустошенную землю надо оставлять. Одну опустошенную землю! — А людей? — хмуро спросил Зазыба. — Что — людей? — А то, что люди остаются на этой земле. Им же есть что-то надо будет? — А кто их заставляет оставаться? Тот, кто по-настоящему любил Советскую власть, не будет сидеть. Тот уже давно снялся с места. Зазыба нащупал за спиной подушку, взял ее обеими руками и, прижимая к животу, сказал: — Ладно, тогда давай рассуждать по другому. Ты вот говоришь: тот, кто любил Советскую власть, не останется. Пусть так. А как по-твоему, наши веремейковские бабы не любили ее, что никуда не трогаются? — Я им в души не залезал! — А стоило б. А то ты больше под юбки к ним лазил. Чубарю такой разговор не понравился, особенно возмутили его последние слова Зазыбы, но что ответить на них, он не нашелся и только стиснул зубы. А Зазыба тем временем продолжал выговариваться: — И еще я тебе скажу, Чубарь, а ты уж смотри сам, хочешь, слушай, а хочешь, нет. Я еще помню, как Панаська в ту германскую говорил. Был у нас такой человек, до колхозов помер. Ты его не застал. Так вот, Панаська и говорил тогда: кто с родной земли убегает, тот врага не побеждает. Чубарь понял, что Зазыба уже обвиняет не его лично, и потому снова начал возражать: — Это не твоего ума дело. Мы с тобой люди маленькие. — Но думать же никому не запрещено. — Чем глупости говорить, так лучше совсем не думать, — отрубил Чубарь. — Словом, хватит валяться, приходи завтра в контору. Раз считаешься в колхозе моим заместителем, то и к ответу готовься. Не у одного меня шея. — Вот это верно, — усмехнулся Зазыба. — Так бы и говорил. — Я тебя введу в курс, — заговорил Чубарь, становясь спиной к Зазыбе. — Знай, в амбаре у нас пусто. Сдали все: и пшеницу, какая была, и гречку. За это я спокоен. Это уже, кажется, фашистам не достанется. А теперь о том, что в поле стоит… Словом, это уж твоя забота. Раз есть директива, ее надо выполнять. После этого Чубарь не стал задерживаться в хате. Взял из угла винтовку, повесил ее на плечо и шагнул за порог. Говорят, от чужих слов голова не болит. Но Зазыба после беседы с председателем не на шутку встревожился. В душе поселился страх — было такое ощущение, словно по деревне ходил кто-то с горящей головней. …На другой день Зазыба с самого утра поспешил в колхозную контору, стоявшую поодаль от деревни, рядом со зданием сельского Совета, но Чубаря там не застал. Титок, колхозный и сельсоветский истопник, который одновременно присматривал и за выездными лошадьми, сказал, что видел своими глазами, как председатель подался по большаку на Белую Глину. Едва удрученный Зазыба успел вернуться из колхозной конторы, как прибежала из Кулигаевки внучка Сидора Ровнягина. — Дед сказал, чтобы вы сразу же к нам шли, — шепнула она. — А что у вас, свадьба? — улыбнулся Зазыба. — Не знаю, — замялась девочка, — только дед сказал, чтоб вы шли. Зазыба подумал — Ровнягин зря не пошлет за ним в такое время девчушку. — Ладно, — кивнул, — скажи деду, что сейчас приду. А может, вместе потопаем, а? — Нет, мне надо скорей… — Тогда беги. Зазыба накинул на плечи ватник и зашагал огородами в Кулигаевку. Это было недалеко, стоило лишь миновать Мамоновку, как за ней, метрах в трехстах, открывался второй поселок. В поселках этих, Мамоновке и Кулигаевке, насчитывалось дворов пятнадцать, появившихся в двадцатые годы во время так называемой «прищеповщины», или же, попросту, хуторизации. Веремейковским мужикам, особенно братьям Ровнягиным, Сидору и Игнату, тоже захотелось «культурно похозяйствовать», и они присмотрели себе под усадьбу Кулигаевку, урочище, где при панах на берегу речушки была показательная конюшня, что-то вроде небольшого конезавода. Правда, урочище то заросло сорняком, но это не пугало двужильных братьев, и уже где-то осенью на берегу Кулигаевки задымили трубы перевезенных из Веремеек хат. Потом хат в Кулигаевке прибавилось, стало шесть. В Мамоновку тем временем переехали Данила Райцев и Василь Хроменков. Кажется, год или два в Веремейках посмеивались над новоселами, но тем и кончилось. Скоро обжились там веремейковские мужики. Хаты уже были не соломой крыты, а гонтом. Сидор, младший из братьев Ровнягиных, грамоту из Минска получил как образцовый культурный хозяин. Словом, жили себе на новом месте мужики — не тужили. Когда создавались колхозы, мамоновцы и кулигаевцы тоже постановили жить артельно. Но через несколько лет в районе по чему-то решили, что пятнадцать хозяйств — это еще не колхоз по здешним понятиям, и предложили мамоновцам и кулигаевцам присоединиться к Веремейкам. Зато по-прежнему в поселки с большой охотой наведывалось разное начальство: там тебе и баня с веничком — каждый хозяин имел свою, и рыба свежая, прямо из воды — озеро неподалеку, и дичи вдоволь — лес кругом. Может, потому и уцелели до самой войны поселки, может, потому и не свезли их, как это случилось в других местах, в Веремейки. До Кулигаевки шагать всего километра полтора, и Зазыба добрался быстро, даже сам удивился, что способен на такое после болезни. За поворотом, откуда уже виднелись крыши кулигаевских хат, его поджидал Сидор Ровнягин, высокий и плешивый мужик; он вышел на тропу из ольшаника, поздоровался за руку и сказал: — А мы думали, за тобой ехать придется. Зазыба спросил: — Что у тебя там? — Увидишь сам, — Сидор отвел глаза и, тяжело переставляя искривленные ревматизмом ноги, повел Зазыбу в поселок. «Может, Чубарь зовет? — подумал вдруг Зазыба. — Но к чему тогда эта таинственность?» Ему не хотелось вновь спорить с Чубарем. В конце концов, нельзя же все сводить к неразумной мудрости — лишь бы месяц светил, а звезды как хотят. Однако погрешил он на Чубаря зря. Около Сидоровой хаты под столетними дубами стоял грузовик, и в нем неподвижно, словно вылепленные из воска, сидели у бортов красноармейцы, держа меж колен винтовки с примкну тыми штыками. В хате Зазыбу ждали секретарь Крутогорского райкома партии Прокоп Маштаков и незнакомый военный с двумя шпалами на петлицах. Маштаков сразу поднялся из-за стола, на котором до этого рассматривал топографическую карту, и пошел навстречу Зазыбе. А Зазыба от неожиданности остановился в проеме двери и, пока Маштаков нес через хату свое полное, негнущееся в пояснице тело, успел заметить, что за полгода, что они не виделись, тот сильно изменился. Может, в чем-то виновата была полувоенная форма — зеленая диагоналевая гимнастерка, подпоясанная широким командирским ремнем, но и лицо, прежде холеное, тоже утратило живость и казалось отекшим, даже в оспинах; под глазами у секретаря райкома были синие припухлины, как при грудной болезни. Маштаков обнял Зазыбу за плечи, повел к столу. — Знакомься с товарищем, — показал он на военного. Военный встал, подал Зазыбе руку, но не назвался. Маштаков глядел на Зазыбу с нескрываемой радостью. — Очень хорошо, что ты пришел, — положив руки ладонями на карту, сказал Маштаков. — Садись и рассказывай. — Он подождал, пока Зазыба усаживался на табурет с отверстием-полумесяцем посредине, а затем сказал: — Как дела у вас в Веремейках? — Разве ж это дела? — почему-то глядя на военного, ответил Зазыба. — Я вот который день валяюсь в постели… — Что так? — Горлянка замучила. — Поганая это болезнь, — посочувствовал Маш таков. — Кажется, так себе, ерунда для мужика, а бойся, как самой страшной заразы. Военный почему-то усмехнулся. Маштаков же спросил Зазыбу: — А Чубарь где? — Не знаю, — пожал плечами Зазыба и тут же добавил: — Говорили в деревне, подался в сторону Белой Глины, может, к вам в Крутогорье? Маштаков насупился — Зазыба ответом своим явно расстроил его. Но продолжал он спокойно: — Ну, что коров колхозных не оставили в деревне, об этом я знаю. Зерна, очевидно, тоже не осталось? — Маштаков посмотрел, на Зазыбу. — А как с новым хлебом? — Не знаю, — ответил Зазыба, — он ведь в поле еще весь, в колосках. — И перевел взгляд на ослепительно блестевшие сапоги молчаливого военного, которые тот поставил на подножку стола. — В Бабиновичах уже немцы, — сказал Маштаков — В Крутогорье тоже… — Со вчерашнего дня, — добавил военный. — Весь день Крутогорье держали, да сдали вот. — А Чубарь пошел туда! — насторожился Зазыба. — Вашего Чубаря не поймешь, — сказал недовольно Маштаков. — Когда его вызывали по важному делу, он по довоенной привычке где-то прятался, а теперь… — Секретарь райкома постоял немного в задумчивости, потом кивнул головой, указывая на карту: — Словом, район наш уже занят противником! В разговор снова вступил военный: — Свободным остается пока один сектор, вот этот. — Он ткнул средним пальцем левой руки в небольшой красный кружок — Крутогорье, от которого отходили под углом почти в сорок пять градусов две толстые линии, проведенные синим карандашом. — Как видите, Веремейки ваши попадают в этот сектор. — Мы это для ясности тебе говорим, чтобы знал, — поспешил добавить Маштаков. — Считай сам, если не сегодня, то завтра фашисты и в Веремейках будут От Бабиновичей до вас недалеко, Тем более что наших войск на Беседи уже нет. Зазыба слушал, ощущая, как кожа лица делается неподвижной и совсем не чувствительной, будто от нее отливала кровь. А Маштаков посмотрел в глаза Зазыбе и спросил: — Ты вот что мне скажи, Денис Евменович, ты как, к Советской власти не переменился? Зазыба тоже посмотрел в глаза секретарю райкома, но вопроса явно не понимал. — Ты непременно должен сказать, — настаивал Маштаков. — Ведь я не просто так спрашиваю… Зазыба подумал, что ответа ждал не столько Маштаков, сколько военный, и потому сказал без обиды, с сознанием всей важности своих слов: — Нет, не переменился. — Другого я от тебя и не думал услышать, — улыбнулся Маштаков. — Ты прости, но разговор пойдет о более серьезных вещах, чем о простом доверии. Мы вот посоветовались с товарищем майором и решили обратиться к тебе. Человек ты надежный, это я знаю. И у нас к тебе дело. Маштаков перевел взгляд на военного. Тот кивнул. — Надо устроить в Бабиновичах одного товарища, — договорил Маштаков. Военный спросил Зазыбу: — У вас знакомые в местечке есть? Зазыба мысленно прикинул, но ответить не успел. Военный уточнил: — Ну, такие, чтоб как свои были? — Есть. — Вот и хорошо, — с облегчением произнес Маштаков. — Тогда, может, позовем сюда Марылю? — посмотрел он на военного. Тот сразу же вышел из-за стола и направился к двери. Когда в хате остались Маштаков и Зазыба, секретарь райкома положил на плечи Зазыбе обе руки. — Тяжело? — Да и не легко… — Всем теперь тяжело, Денис. Но как-нибудь одолеем. Не может быть, чтоб не одолели. Придет время, возьмем фашиста за горло. — Так надо ж… Маштаков спросил: — Есть ко мне вопросы? — Есть. — Тогда говори, а то времени у нас мало. — Ты вот говорил про новый хлеб. Так… Словом, сам знаешь, жатву еще не начинали в колхозе, однако должны скоро начинать. Что же тогда делать с зерном? Чубарь говорил про какую-то директиву, будто в райкоме ты читал. — Да, мы знакомили районный актив с директивой Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета партии от двадцать девятого июня. — Ну, вот… Я Чубаря понял так, что по ней все, что нельзя угнать или вывезти, подлежит уничтожению. — Правильно. Но ты же сам говоришь, что жатву не начинали, значит, хлеба еще нет. — Так будет! — Конечно, будет, — кивнул головой Маштаков. — Чубарь сказал, что посевы… Маштаков прошелся по хате. — Н-да, — произнес он через некоторое время, — кругом нам задал фашист задачу. Задержись на Соже фронт еще на две недели, хоть об этом голова не болела бы. С жатвой успели б. А теперь все стоит в поле, как нарочно. Придется как-то выкручиваться. Фашистам действительно нельзя хлеб отдавать. Он еще нам самим пригодится. — Я тоже так думаю… Но договорить помешали: отворилась дверь, и в хату вместе с военным, который пригнул голову, когда переступал порог, вошла девушка. Все в ней — и фигура, которую ладно облегало платье в клетку, и спокойные, открытые до плеч руки с белой кожей, и черные глаза, которые, казалось, слегка косили, но не портили молодого лица, — привлекало взгляд. Зазыба посмотрел на Маштакова, будто усомнившись, что именно ее придется устраивать в Бабиновичах. — Да, это и есть тот человек, — улыбнулся военный.В Веремейки немцы почему-то не спешили, и непотревоженная августовская ночь кружила над соломенными крышами затаившейся деревни, как заколдованная птица. Почти полтораста дворов — по шнуровой книге точно сто сорок три — тонуло в этой ночи, притулившись к лесу, который пугал своей густой, как черная вовна[1], темнотой. Лес простирался досюда от самой реки, что поделила всю прибеседскую местность на лесную и безлесную стороны. К лесной относились и Веремейки. На топографической карте двухсотлетней давности, которую отыскал когда-то в старых книгах сын Зазыбы Масей, Веремейки еще не значились. Тогда вообще все это Забеседье лежало нетронутым, одна бескрайняя пуща да озера посреди болот, которые незаметно, год за годом, заволакивала трясина; следом наступал лес, спускаясь с сухих грив, — сперва появлялись чахлые сосенки, которые долго не могли простоять на кочках в трясине, но постепенно болото крепло, высыхало, и на нем вырастали могучие сосны. По правую сторону Беседи тем временем уже гомонили Бабиновичи, которые потом, когда распродали в здешних местах коронные земли, начали называться местечком. Это было самое большое поселение на всю волость. Отсюда набирал свое войско и Василь Ващила, когда взбунтовал против арендатора Гдалия, а вместе с ним и против князя Радзивилла Кричевское староство. Восстание, как известно, было подавлено. Сам Выщила скрылся на одной из порубежных застав, стоявших тогда километрах в сорока от реки. Между Сожем и Беседью лютовала радзивилловская «экспедиция». Бывшие повстанцы спасались кто как мог, а часто подавались за Беседь — подальше от кары и поближе к русским заставам. Одна за другой там возникали лесные деревни. Как раз тогда и возникли Веремейки, в четырех километрах от Беседи. Основал их бабиновичский кузнец Веремей, соратник атамана Ветра, что из Канич. С кузнецом за Беседь подался и его брат Сенька, который, по-видимому, тоже повоевал с поляками. Местные предания не сохранили подробностей о братьях, но в Веремейках все равно знали, где была поставлена первая хата — на берегу ручья, что впадал в озеро, укрытое гущей леса… Так вот, было это двести лет тому назад. Но за два столетия все тут изменилось. Главное, выросла целая деревня. Теперь она лежала подковой вокруг озера и занимала, конечно без пахотной земли, чуть ли не два километра пригорков, которых когда-то даже нельзя было разглядеть за стеной деревьев. …Зазыба оделся, как в дорогу. На нем был тот же ватник, который он уже не снимал после возвращения из Кулигаевки, и смазанные жидким дегтем сапоги — на случай, если бы вдруг пришлось уходить из деревни. Устроился на лавке, положив голову на кожух. Одолевали думы. Он перебрал их уже немало в своей голове, а оставалось еще больше. Эти неполные четыре года, после ареста Масея, он прожил словно в затмении каком-то. И потому многого из того, что происходило вокруг, просто не замечал. И вот загрохотала война. Но и она вначале не нагнала большого страха. В конце концов, если говорить честно, мало кто из умных людей верил в то, что писали о войне в последнее время, особенно после тридцать девятого года, когда немцы подошли вплотную к советской границе. Даже не столь уж осведомленным людям было ясно, что подошли они так близко не зря. Однако накануне войны вышли газеты с опровержением ТАСС, которые вновь убеждали «неверующих», что Германия так же неуклонно сохраняет условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз… Потом, правда, некоторые объясняли, что делалось все, мол, для большой политики, или, как сказал старый Титок, для международного этикета. Однако издавна считалось: где много этикета, там мало искренности, ибо от собак, кроме блох, ничего не наберешься. А фашисты — те же собаки. Об этом хорошо знал и Зазыба, хотя он и понимал, что в политике расход с барышом не всегда на одном полозе едут. По дороге, пока Зазыба добирался в Веремейки из Хатыничей, он наслушался всякого. У людей будто языки развязались. Порой даже казалось, что говорили теперь почти одно и то же и скрытые недоброжелатели, если не враги, которые действительно ждали прихода фашистов, и люди честные, которых волновало и беспокоило то, что происходило в стране. Но во всей этой говорильне, справедливой и несправедливой, было нечто такое, что заставляло призадуматься: видимо, не всему и не всегда стоило верить… Про Масея напомнил ему в Кулигаевке и военный, когда Зазыба уводил с собой Марылю из Сидоровой хаты. — Вы от сына письма получаете? — спросил он вдруг. Зазыба сгорбился, втянул в плечи голову и тяжело, как маховое колесо, повернулся на голос. Военный стоял, держась рукой за край стола, и не сводил глаз с Зазыбы. — Нет, — тихо, как при удушье, ответил Зазыба. — Он осужден по семьдесят второй статье, без права переписки. Тогда военный улыбнулся, будто желая подбодрить человека, но улыбка его была какой-то неестественной, явно вынужденной. — Может, вы слышали что-нибудь о нем? — сделал Зазыба шаг вперед. — Даже видеть пришлось. — Давно? — Недавно, — уже строго сказал военный. — Но вы не волнуйтесь, у него все хорошо. Тогда Зазыба в своей неожиданной радости взглянул на Маштакова и тотчас же поник: секретарь райкома, будто стыдясь чего, отвел глаза в сторону. «Обманывает, — с досадой и душевной болью подумал Зазыба о военном, — не видел он Масея!» И пока шел из Кулигаевки с Марылей, не мог справиться с волнением. Успокоился Зазыба уже в Веремейках. Обида прошла, и теперь он вспомнил о разговоре в Сидоровой хате как о чем-то заслуживающем большого снисхождения: до чего может довести человека перестраховка, вызванная не столько боязнью за порученное дело, сколько недоверием! Тем не менее на душе у Зазыбы было скверно, хотя он и хорошо знал, что ума в чужую голову лопатой не накидаешь. Вначале он даже хотел рассказать об этом разговоре Марфе, но сдержался, не желая волновать ее, зная, что та может впасть в отчаяние. Теперь Марфа тоже не спала, она лежала на топчане, стоявшем между стеной и печью. Было слышно, как порой она ворочалась и вздыхала, но тихо, боясь потревожить покой в хате. Марыля ночевала в другой половине, за филенчатой дверью. Не ожидал Зазыба, но и его вдруг сморил сон — затерялись где-то, как эхо в бору, беспокойные мыс — ли, и глаза перестали гореть сухим огнем. Кажется, давно сны оставили его, может, потому, что стареть начал, однако сегодня вдруг стало возвращаться как раз то, что, пожалуй, и не вспоминалось уже… Он видел, что едет с отцом на вырубку версты за четыре от деревни за дубовыми бревнами — они тогда надумали перебрать свою хату. Дерево отец высмотрел заранее, даже сговорился с лесником, и они вскоре начали пилить его без особой осторожности. Опилки, сыпавшиеся из прореза, были теплые и мягкие, и Денис, тогда еще подросток, сгребал их со своего лаптя и, пока отец вгонял обухом клин, чтобы не зажимало пилу, просеивал между пальцами, поглядывая вверх — когда будет падать дуб? Но тот стоял и даже не дрожал. Пила тем временем все глубже врезалась в его крепкую, как кость, древесину. Дуб прожил в лесу лет полтораста, не меньше. Об этом, сказал Денису отец, когда они подошли. И еще отец предупредил: «Упаси бог, не отбегай никуда, если затрещит. Стой на месте». Но вот дерево наконец покачнулось, и Денис почему-то забыл отцовский наказ: бросился как раз в ту сторону, куда метил упасть дуб. Спасло его лишь то, что дерево выросло к макушке раздвоенным: когда оно рухнуло на землю, Денис оказался между сучьями. Конечно, страху набрался, да и без болячек не обошлось. Однако более всего досталось отцу: тот, приехав из лесу, пролежал несколько недель на топчане и едва справился с нервной болезнью. И вот Зазыбе снился тот страшный случай, и он снова ошалело бежал по вырубке, слышал над собой треск дерева. Но теперь бежалось почему-то не так прытко и вообще все казалось как бы умышленно подстроенным: Денис, уже в летах, как сегодня, не столько бежал меж пней по вырубке, сколько спотыкался, скользя по мокрой траве, а дерево нависало над ним, угрожало раздавить… Разбудила Зазыбу Марфа. — Немцы! — тревожно шепнула она. Зазыба сбросил со скамейки ноги, вскочил, словно и не спал. — Где? — Послушай… Чтобы не выдать себя, Зазыба осторожно толкнул окно. Одна половинка открылась на улицу, в лицо дохнуло прохладой и запахами позднего лета, но ухо ничего не улавливало. Тогда Зазыба открыл и вторую створку, высунулся по плечи наружу. — Померещилось тебе, — во весь голос сказал он жене. — Нет, я, кажется, не спала, — не поверила Марфа. Зазыба постоял еще несколько минут, опершись на подоконник, но никаких посторонних звуков и теперь не услышал — в деревне по-прежнему было тихо. И вдруг за огородами, в овсе, будто спохватившись, свистнула перепелка: — Пить!.. Пить!.. Сперва Зазыба даже не понял, что это подала голос перепелка. Но вот послышалось выразительное и полное: — Пить пиль-вить… Пить-пил-ьвить…Пить-пиль-вить… И Зазыба уже не сомневался. — Пить пиль-вить….. А не запоздала ли песня ее в этом году? — Пить-пиль-вить… Зазыба собрался уже закрыть окно. Но только прикоснулся рукой к створке. Что-то удерживало потянуть ее к себе. — Пить-пиль-вить… Пить-пиль-вить… В голосе перепелки не было той ядреной и беззаботной удали, которая, будто удар хлыста, порой прямо-таки подстегивает и поднимает дух. — Пить-пиль-вить… Пить-пиль-вить… Сегодня перепелка не иначе как плакала. То ли гнездо ее разорили, то ли другая какая беда заставила оглашать тоскливым зовом окрестность. — Пить-пилт-вить… Пить-пиль-вить… Зазыба почувствовал это и с грустью подумал: если птицы так плачут, то как же должны голосить люди, у которых горя несравненно больше, а теперь так его и вовсе через край? Вспомнилось:

Вершков мотнул головой. — Это зачем? — Не на чем ехать дальше. Горючее выгорело. Но выдержат ли постромки? Коротки, пришлось надвязать, — беспокоился Зазыба. — Кони стронули с места, так выдержат. — И надо тебе, Парфен, абы что говорить людям. — Какое «абы что»? вспылил Вершков. — Самое неприятное я берегу про запас. — Он прошел немного рядом с Зазыбой, который правил лошадьми, а потом сказал: — Чем эту коробку пустую тянуть, вы лучше б погоняли по чердакам мужиков наших, попороли бы их штыками, как воробьев киловатых. А тоже прячутся где-то. Окруженцы, мать их за ногу! Еще фронт не прошел, а уже окруженцы! — Что-то я не понимаю тебя… — Так поймешь, когда пролупишь зенки. Да поздно небось будет. — Говори ясней! — Да уж куда яснее… «Неужто кто из веремейковцев дезертировал? — подумал Зазыба. — Но кто?» Кони вытащили танкетку за выгон на край овсяного поля, и тогда откуда-то из серых потемок вынырнули Овею ков с четырехугольной жестянкой и Ганна Карпилова. — Где пропадал? — строго спросил красноармейца лейтенант. Тот молча потупился. — Я спрашиваю, где пропадал столько времени? — Товарищ лейтенант… Но тут заступилась за красноармейца Ганна Карпилова. — Не кричи на него, командир, — сказала она и засмеялась: — Солдат же пришел!.. Лейтенант с брезгливостью чистоплотного чело — века передернул плечами, но распекать Овсюкова перестал. Зазыба с Парфеном Вершковым тем временем отцепили постромки. Из танкетки вылез красноармеец, показал лейтенанту замок от пулемета. — Надо куда-то выбросить, — кивнул тот и взял у Овсюкова жестянку с керосином, поболтал для порядка, а затем, не жалея, начал выливать керосин на броню. — Поджигай! — скомандовал он. Овсюков тут же чиркнул спичкой о коробок и, не дождавшись, пока разгорится, бросил ее на самый верх танкетки. Синее пламя сначала несмело лизнуло броню, затем рванулось вверх и, став красным, охватило всю танкетку. Сразу вокруг сделалось светло, а тени, которые отбросило пламя от пятерых удрученных мужчин и одной женщины, выросли чуть ли не до самых деревенских дворов, заплясали, словно живые.
II
Зазыбова усадьба находилась в коротком переулке, который не имел названия, и была там крайней. Усадьба бросалась в глаза еще с улицы просторной, в двенадцать венцов с подрубом, хатой; двор, как и положено, был обнесен тыном, а ворота, сколоченные из отесанных досок, вот уже много лет висели на почернелых дубовых вереях. Тыном двор выходил на пустошь, где с самой весны обычно росли репей и крапива; дальше, между пустошью и колхозным полем, был глубокий овраг, который терялся в сизой полыни и постепенно раздавался вширь, пока не достигал леса, затем распадался, образуя лощину, по росшую по краям болотным перцем, а посредине — бледно розовым букашником, ползучим клевером и лилово-красными луговыми васильками. В начале этого оврага было глинище, там брала глину для стен и печей вся деревня, потому почти всегда летом дорога под окнами в переулке была словно окрашенная. Зато зимой тут все заметало и по переулку нельзя было проехать даже на санях. Окна Зазыбовой хаты смотрели на две стороны — одни выходили на юго-запад, прямо на деревню, а другие во двор, откуда видны были поле с большаком, обсаженным березами (когда-то сажал их каждый против своего надела), и лес, почти круглый год, и летом и зимой, окутанный дымкой. Рядом с Зазыбой в переулке жили Евхим Касперук, Христина Гоманькова с сыном-подростком — она овдовела в финскую войну — да большая семья Кузьмы Прибыткова, два сына которого воевали теперь на фронте. Но первым начинал этот переулок человек из зазыбинского рода, Денисов дед Иван… Был он человек болезненный и скоро, кажется, через год после того как отменили крепостное право, умер. У его жены остались сын Ев мен и дочь Устинья. Денис, Евменов сын, брал жену из Зеленкович. Невесту он указал сам, но ездили за ней три раза. Сперва отец невесты, Давыд Сеголетка, не решался отдать дочь на ту сторону Беседи, в Веремейки, потом сама невеста будто чего испугалась, однако в третий раз сватов приняли. Тогда как раз веремейковцы были в Бабиновичах на ярмарке. Свадьбу сговорились справить осенью, не стали ждать зимы. Случилось так, что теперь торопил уже отец невесты: сваты из Веремеек попались сговорчивые и не запросили большого приданого, а мать жениха даже кужельным[2] не поинтересовалась. Все Веремейки ходили тогда в Зазыбову хату смотреть Денисову невесту. Марфа сидела с грустью в блестевших, будто заплаканных, глазах, но была красива, всем приглянулось ее смуглое, почти цыганское лицо и волосы цвета воронова крыла. Жених тоже был под стать невесте: лицо светлое, брови черные, волосы русые. Со временем волосы эти пополовели, будто их пылью присыпало на большой дороге, наконец и вовсе стали седыми на висках и возле ушей, а на макушке заблестела плешь. Марфа с годами не изменилась, только стала слишком тихая, руки старалась прятать под фартуком: от работы они у нее были в синих сужильях. Родила Марфа Денису одного сына, Масея. Может, были бы у них другие дети, да в четырнадцатом году, как началась война с кайзером, Дениса забрали на румынский фронт. Оттуда он вернулся из госпиталя — отпустили долечиваться к семье в деревню. Тут он и две революции пережил, а когда в восемнадцатом году пришел в Забеседье из Унечи Щорс набирать добровольцев, Денис достал из сундука свою солдатскую фуражку с блестящим околышем, с которой даже не была снята кокарда, и записался в красное войско. Может, он тогда и не попал бы к Щорсу, но вышла неожиданная ссора с отцом: цыгане увели с луга их жеребую кобылу, на которую возлагались большие надежды в хозяйстве, и виноват был Денис, так как не остался в ночном, а сбежал в деревню к жене. Тем не менее Зазыба прикипел к революции — через всю гражданскую пронес он веру в нее, познавал исподволь, зато крепко и навсегда. Когда спустя несколько лет вернулся в Веремейки, то носил уже на гимнастерке орден Красного Знамени. Тогда это был, может, третий человек с орденом на весь Калининский округ… Веремейки расстроились так, что солнце, выплыв из-за пригорка, на какое-то время словно ложилось на дорогу между крайними хатами посреди улицы. Могло показаться, что это даже не солнце, а огненный клубок, скатившийся откуда-то. Но время шло, клубок постепенно отрывался от земли, на глазах уменьшался, белел и становился похожим на солнце. Наконец солнце-клубок сворачивало, плыло до полудня вдоль деревни, снова поворачивало и останавливалось к вечеру в другом конце ее, но теперь уже не касалось земли — за озером начинался лес, и оно незаметно, как-то сразу скрывалось за ним. Сегодня солнце продиралось сквозь туман, как спросонья. Туман долго скрывал землю и небо на востоке, но вот он наконец будто встрепенулся, приподнялся над землей, и тогда солнечные лучи посеребрили росу, плотно лежащую везде, от пригорка до самой деревни. Можно было подумать, что солнце будет светить весь день. Но вскоре оно вдруг потускнело, хоть и сделалось еще более красным, даже багровым, словно намеревалось перегореть. Деревня постепенно пробуждалась. Поднимали и опускали деревянные бадьи на длинных очепах колодезные журавли — в Веремейках было четыре колодца, и все с журавлями, — и деревенские бабы, шлепая потресканными пятками по узким стежкам, уже сгибались под коромыслами, носили воду. Валил дым из труб. Хлопая крыльями, на пряслах распевали гологутские петухи. Денис Зазыба вышел во двор, когда солнечные лучи упали с вяза, что стоял на улице напротив хаты, и легли на большие тыквенные листья, которые на желто-зеленых косах выползали на дорогу из Прибыткова огорода. Небо над головой было чистым. Только с левой стороны, аккурат над озером, толпилась стайка белых облачков, которые чем-то напоминали разбежавшихся и чисто вымытых ярок. Минувшая ночь давала о себе знать: в голове шумело, как на пожаре; Зазыбу познабливало, несмотря на солнце, которое выплывало правым боком из-за угла хаты. За тыном пряталась в тумане пустошь, и Зазыбе казалось, что оттуда нестерпимо пахнет полынью. Спустя некоторое время на крыльцо вышла Марфа. Зазыба не повернулся к ней, и они так и стояли порознь, вслушиваясь в утро. Потом Марфа вздохнула, приблизилась к мужу и сказала: — Может, и нам что-нибудь закопать в землю? Прошлогодняя яма, где картошку хранили, не обвалилась, так новую копать не надо, только повыбрасывать из нее курап[3]. Машину швейную туда, что ли? А то вдруг заберут? Зазыба на это с досадой махнул рукой. — Это еще неизвестно, то ли машину твою прятать, то ли самим в той яме хорониться. — Он хмуро помолчал и спросил: — А постоялица наша проснулась? — Ходит по хате. — Марфа так ничего и не спросила о незнакомой девушке. Зазыба только предупредил — говорить всем, что это племянница из Латоки. — Ты по-свойски с ней, — не меняя хмурого лица, посоветовал Зазыба. — Так ужо ж… Зазыба еще немного постоял, поводил глазами поверх тына, будто хотел отыскать что-то на пустоши, затем сошел с крыльца и подался на улицу. — A-а, Денис, — увидел его Кузьма Прибытков, тот сидел на лавочке возле хлева; пока Зазыба шагал через дорогу, Прибытков снял с круто витой веревки, которой был опоясан по холщовым штанам, хромовый кисет-каптур, растянул его, словно гармошку, сверху вниз и, нащупав пальцами лист рыжего табака, начал крошить мелкими дольками. — Ты это совсем не куришь? — спросил он Зазыбу, когда тот сел рядом на лавочку. — Не балуюсь. Прибытков закуривал не торопясь, аккуратно и долго примериваясь, рвал от газеты на самокрутку, слюнил ее и дрожащими руками передвигал по нижней губе из уголка в уголок неспокойного рта. Зазыба, наблюдая за этим, усмехнулся: — Слабеешь, Кузьма! — Так… семьдесят годков небось. Но в свои семьдесят годков Кузьма еще имел лоснящееся лицо с большим, точно без хрящей, носом, покрытым чуть ли не от самых глаз тонкими, как корешки луговой травы, жилками. — Как думаешь, германец сегодня придет к нам? — пуская через нос первый негустой дым, посмотрел Прибытков на соседа. — Да уж как захочет. — И то правда, от Бабиновичей ему недалеко. Прибытков наконец хорошо раскурил самокрутку и сказал, пожалуй, самое странное, до чего не каждый мог теперь додуматься: — А я так думаю, что он и вовсе сюда не пойдет. — Он глянул на Зазыбу, словно чего-то ожидая от него, а потом принялся рассуждать: — Ну, за каким лешим ему идти к нам? В Бабиновичи, там ясное дело, что ни говори, а местечко, дорога большая есть, езжай себе хоть на машинах, нигде не загрузнешь. А что у нас? Домов богатых нет, дороги тоже не проложены. Словом, глухомань кругом, только волки да мы вот. Так нас, что ли, стеречь? Тогда и сторожей не хватит. Германия, она не то, что мы, мале-е-е-нькая… Ей с нами, если разум иметь в голове, так и связываться не стоило. Это где тот Хабаровск, а за Хабаровском тоже земля. Просто диву даешься, как он только посмел напасть. Это ж, если посчитать, так ихний один на наших трех или четырех… Зазыба поправил: — Четырех не будет. — Ну, нехай трех, — легко согласился Прибытков, — но попробуй уследи — даже трех зайцев и тех не уследишь, а тут люди. — Так людей, наверное, и он набрал, раз на Москву целит. — Москва, она как приманка. С войной на Москву ходили и в старину. Да все через нас, все через Беларусь. — Прибытков покачал явно в осужденье головой и продолжал: — Я так вот думаю иногды, что очень уж чудно размещена эта Беларусь наша, что господь бог с умыслом ее положил так. Все через нас с войной на Москву, все через нас. Кажется, кабы кто перенес ее в другое место, так и нам бы лучше зажилось в одночасье. А земля хорошая, может, даже лучше, чем тот рай. Это ж подумать только, у других голод так уж голод, люди как мухи мрут, а у нас мужики только поопухали. И завсегда вот так — не кора, так ягода подоспеет, не ягода, так гриб вырастет, а там уж бульба пойдет, рожь высыплет, и человек как-то выбьется из беды, лишь бы не сидел сложа руки. Нет, не говори, земля наша взаправду райская, а вот же… — Старик потушил самокрутку — мол, великовата, за один раз не высосешь! — и положил ее рядом с собой на край лавочки. — Вот и Гитлер этот теперь… Сперва с дружбой лез, а потом и дружбу кобыле под хвост, и все такое прочее. — Играла кошка с мышкой… — Так, ей-право! Я и сам… Между тем распахнулось окно в хате Прибытковых и послышался голос Кузьмовой снохи Анеты: — Тата, бульба сварилась! Старик, наверное, этого и ждал. Опершись обеими руками о посох, он встал на ноги. — Может, и ты, Денис, не снедал еще, так хочешь? — Он посмотрел на крышу Зазыбовой хаты, усмехнулся: — Что-то бабы наши сегодня… позднятся… похоже, и в самом деле ждут германца… — Мужиков дома нет, так и роскошествуют, хоть выспятся. Щупая посохом землю, Прибытков пошел к себе во двор, обутые в лапти ноги — в свои годы он не мог их променять ни на какие сапоги! — ставил так, будто боялся наступить на что-то колючее. Зазыба подумал: верно, износился Кузьма!.. Но люди помнят еще, как Прибытков не очень давно шутя разгибал железную подкову, а когда-то походил с сыновьями почти по всему Забеседью — от Большого до Малого Хотимска. Почти все полы в хатах, построенных за последние тридцать лет в деревнях, были положены из его досок. Пильщик он был отменный и вечно ходил в опилках. Зазыба даже пожалел, что так сразу ушел Прибытков. Но в переулке как раз появился сын Гоманьковой Христины. Иван явно спешил, таща надетый через голову хомут из черной кожи. Видимо, парень бежал по улице, но приостановился, когда увидел в переулке Зазыбу, на какой-то момент даже растерялся, однако свернуть уже было некуда, и он, смущенный, что наскочил на заместителя председателя колхоза, перешел на другую сторону, хотя хата Гоманьковых стояла рядом с Прибытковой. Когда Иван приблизился, Зазыба спросил: — Это куда ж вы надумали ехать? — Н-не, мы не поедем, — испуганно уставился на Зазыбу парнишка. — Тогда зачем хомут? — А я его взял в конюшне! Там теперь берут кто хочет. Зазыба вздрогнул, как от неожиданного удара. — Ты вот что, — сказал он без особой злости, — неси назад, раз не поедете. — И чуть не бегом направился к конюшне на берегу озера. Пока шел по улице, понемногу успокоился, но уже у самых ворот, которые были открыты и в которых, толпясь, гомонили деревенские бабы, сжал пальцы в кулаки. — Здорово, — кивнул бабам. Те сразу притихли, точно увидели привидение, и расступились, давая Зазыбе дорогу. — Ну, чего вы сбежались сюда? — прикрикнул на них Зазыба. Кто-то сдержанно хихикнул. Тогда вперед выступила Кулина Вершкова: — Мы это, Евменович, на работу пришли, а тут… — Несите все на место, — сказал Зазыба. Бабы, пристыженные, бросились наперегонки в трехстенку, побросали на пол хомуты, седелки — все, что держали до этого в руках. Зазыба стоял в проходе конюшни, и на лице у него под кожей ходили желваки. Он мог всего ожидать от своих веремейковцев — где только ярмарка, и они всегда там, — но то, что видел сейчас, не укладывалось в голове. Выходило, стоит лишь отвести глаза, так сразу разнесут все колхозное по дворам. Утешением могло служить одно, что не было здесь мужиков. Через минуту к Зазыбе подошла та же Кулина Вершкова. — Это все Роман, — сказала она виновато, — он начал первый таскать к себе, даже телегу закатил во двор, а мы, глядя на него, тоже загорелись. — Какой там еще Роман? — недоумевающе посмотрел на женщину Зазыба. — Да Семочкин. — Его ж призвали? — А родимец его знает, — пожала она плечами. — Видим только, ходит по деревне, грозится колхоз распустить. А тут ни Чубаря, ни тебя. «Значит, Парфен тогда правду подсказывал, — вспомнил ночной разговор Зазыба. — Дезертировал Роман…» Он подобрал оброненные кем-то вожжи, отнес в трехстенку. Там, подпирая левым плечом ко сяк, действительно стоял Роман Семочкин. Глаза его так и смеялись, выпуская на волю задиристых черти-ков. Зазыба приблизился к Роману. Все в нем возмущалось против этого человека. Раньше в Веремейках были два брата Семочкины — этот, Роман, старший, и Павлик. Но Павлика лет пять назад посадили за убийство кулигаевской Домны Ворониной. Убивали старую женщину они вдвоем. В Веремейках знали об этом. Кто-то видел их в ту ночь вместе, братья шли в Кулигаевку. А началось все с того, что вдруг у младшего Семечкина стала усыхать нога. И что ни год, то хуже. Роман возил брата и в районную больницу, и в областную, но доктора ничего не могли посоветовать. Тогда кто-то в Веремейках подсказал, что в Латоке есть шептуха, которая снимает такие болезни. Поехали к ней. Шептуха поглядела на ногу, покрутила головой — кто-то сушит. Братья начали думать, кто бы это мог. Перебрали по дворам все Веремейки, потом Кулигаевку с Мамонов кой. Наконец сошлись на Домне Ворониной. Вспомнили, что один раз, когда возвращались с ярмарки на Илью, отрясли ее сад. Известное дело, с точностью подсчитали года, время как раз совпало. Тогда шептуха посоветовала разрушить в Домниной хате дымоход, забрать оттуда землю со следом, которая должна была висеть в мешочке. В Кулигаевку Семочкины отправились ночью. Но подвешенной земли в трубе не нашли. Тогда они подступились к самой Домне. Просили, чтоб отдала след. В конце концов, обезумевшие, задушили старуху. Однако на суде, который состоялся в Крутогорье через несколько недель, Павлик взял вину на себя, сказал, что душил Домну один — пожалел семью женатого брата… Зазыба, обминув Романа, прошел в трехстенку. Там валялась разбросанная по земляному полу колхозная упряжь, и он принялся подбирать ее, вешать на большие деревянные гвозди, вбитые в просверленные в стене дырки. — Дорвался? — зло бросил Роману. А тот сказал, будто играя словами: — А что, нельзя? Тогда Зазыба подступил к нему вплотную. — Заруби себе на носу, в другой раз по рукам получишь! Семочкин презрительно усмехнулся: — Мое, потому и беру. Когда-то принес, следовательно, а теперь назад беру! — Тут не одно твое! Тут общее! Колхозное! И не тебе распоряжаться им! — Так и не тебе уже! — крикнул Роман. — Хватит, следовательно, покомандовал! — Ну, вот, что, — вскипел Зазыба, — марш отсюда! — Ты не кричи, а то знаешь!.. — Что — знаешь? — Руки неохота пачкать! — А то тебе привыкать?! — Зазыба помутневшими от злости глазами сверлил Романа. — Только не взяли еще тебя за шиворот! Но не думай, возьмут! Теперь пойдешь под трибунал, дезертир! Доберутся до тебя! — Кто, большевики? — визгливо спросил тот. — Не фашисты ж! — Не-е, — не своим голосом захохотал Роман, — товарищам-большевикам, следовательно, стало некогда. Они хоть бы себе спасение нашли за Уралом. — И открыто начал угрожать: — А тебе, Зазыба, я посоветовал бы придержать пока язык. Теперь суда нет. Придавит кто-либо, как клопа, и отвечать, следовательно, не надо. Лучше ходить не котом, а мышкой. И дезертирством не попрекать. Не один я, следовательно, сделал так. Вон вся армия разбежалась, так и дезертиры, по-твоему? — Ты армию не трогай. Армия отступила. — На заранее подготовленные, следовательно, рубежи? Так мы, солдаты, знаем, что это за рубежи! — Ничего ты не знаешь! Да и какой ты солдат! Может прямо из военкомата удрал да спрятался на чердаке. Молись богу, что не догадались, а то бы скинули, как воробья киловатого. Был бы хорош! — Я уже вымолил свое у бога, теперь тебе надо молиться. Посмотрим, следовательно, как он тебе поможет, — оскалил зубы Роман и вышел из трехстенки с видом человека, которому что-то удалось. Он всегда был упрям, мог броситься даже с завязанными глазами на каждого, кто станет поперек, и потому Зазыбу немного удивило то, что сегодня обошлось так спокойно. Роман, наверное, хитрил, как зверь, который после неудачи обычно поджимает хвост лишь до первых кустов. Очевидно, настораживала его неопределенность — и немцев по эту сторону Беседи не видно, и красные, не иначе, далеко не отошли. «Все-таки зря не выведал тогда у Парфена Вершкова, — вспомнив опять ночной разговор, начал укорять себя Зазыба, — и совсем легко было все сделать: скажи лейтенанту, и тот непременно послал бы бойцов достать Романа с чердака». •Пошатываясь, словно нехотя, покинул вскоре конюшню и Зазыба. Погода резко переменилась. Ветер, неожиданно подув с северо-запада, прогнал с пригорков туман. Но в лощинах и над овсяным полем, на краю которого стояла обгоревшая под утро танкетка, туман еще плавал. Солнце поднялось вверх, однако совсем чистым, кажется, сегодня оно не пробыло и часа. Сперва его закрывал туман, потом заволокла дымка, похожая на водяные брызги; теперь оно плыло под разреженной завесой туч; первыми достигли его белые облачка, гулявшие над озером утром, когда Зазыба стоял еще на своем крыльце, затем из-за леса выплыли тучи, и ветер погнал их прямо на восток: наверное, где-то далеко уже который день поливал землю дождь. Озеро было как застывшее, и на его пепельной глади еще не горбились волны. Между лесом, что перевернулся в воде вверх комлями, и тем берегом, который порос сушеницей, болотником и аистиными ножками, паслись выпущенные из стойла кони. Зазыба услышал голоса — разговаривали на бревнах, лежавших на скатах за конюшней. Бревна те уже второе лето как были привезены из леса на хатку для конюхов. Но хатку так и не построили, и под бревнами пока прятались от собак одичавшие кошки да деревенские парни приводили туда по вечерам разомлевших девок. На бревнах Зазыба увидел в окружении подростков веремейковских мужиков — Вершкова, сухорукого Хрупчика, Ивана Падерина, которого в деревне прозвали Цукром Медовичем и которого из-за грыжи не взяли в армию, и Романа Семочкина. Пятым среди взрослых сидел незнакомый человек с лицом восточного типа. Говорил Роман: — Так, переехали мы, следовательно, Сож, глядим, а немец уже у реки. Следовательно, дело швах- Тогда мы с Рахимом… «Должно быть, тот», — окинул взглядом Зазыба скуластое лицо незнакомого человека. — …тогда мы с Рахимом кувырком из машины да в кусты. Ну а немцы, они, следовательно, тоже не дураки — увидели наши грузовики на дороге и давай чихвостить по ним, только гайки летят. Роман рассказывал и одновременно наблюдал за односельчанами. Те слушали его по-разному. Парфен Вершков, например, сидел с опущенной головой, тихо шевелил носками порыжевших обрезней — сапог без голенищ — высохшую кору под бревнами. Щетинистое и длинноносое лицо его казалось безразличным, но толстая шея от внутреннего напряжения покраснела. Силка Хрупчик между тем не сводил глаз с Романа Семочкина, ловил каждое его слово. Иван Падерин беспокойно вертел головой, сидевшей на кадыкастой шее, и все ухмылялся: мол, ладно, бреши уж до конца. И Роман продолжал: — …вдруг, слышим, перестают стрелять. Тогда я, следовательно, толкаю под бок Рахима, показываю глазами — бежим. Видим, кое-кто тоже встает на карачки. А кто-то кричит: «По машинам!» Но куда поедешь, если командеров нема? Это ж как начали стрелять по нас около реки, так те на броневике своем и удрали. Ну, подошли мы с Рахимом, следовательно., к своему грузовику, глядим, совсем разбитый и бензин вытекает. Зазыба не спеша приблизился к бревнам, сел поодаль. Роман Семочкин стрельнул в его сторону глазами, заговорил громче: — Оно и правда, что мы без командеров, одни? Следовательно, начали расходиться кто куда. Мы с Рахимом тоже решили податься сюда, благо до Веремеек недалеко. Верст сорок, если напрямик. До этого все, кто слушал Романа, по разным причинам могли сдерживаться и не высказывать своего отношения, ибо то, что он говорил, было обычным трепом человека, который не только хвастался, выдавая неправду за правду — веремейковцы не знали действительного положения в армии и на фронте, — но вместе с тем и не хотел показать себя в глазах одно — сельчан явным дезертиром, мол, так сложились обстоятельства… Однако Роман допустил одну ошибку, даже не ошибку, скорее обыкновенную промашку — неточно назвал расстояние от Сожа до Веремеек. И этого было достаточно, чтобы Иван Падерин поправил: — Считай, с гаком. А деревенским людям только начни. — Да и гак надо еще померить, — добавил тут же Силка Хрупчик. — Парфен, наверное, точно знает, — сказал Иван Падерин, — он ведь когда-то водил в Чериков, так… Но Роман Семочкин не дал ответить Вершкову. — Это когда то было, что Парфен ходил, — возразил он, — а мы вот с Рахимом, следовательно, нынче ногами померили все. Напрямки, так верст сорок, не больше. Вершков посмотрел на Зазыбу, заговорщицки усмехнулся. — Роман, должно быть, сигал здорово, сам себе на пятки наступал? — Так нехай скажет он! — сделал обиженный вид Роман Семочкин и кивнул на Рахима, который с одинаковым вниманием слушал каждого, как-то по волчьи наставляя ухо. — Рахим твой тоже едва ли успел оглянуться хоть раз, — помогая Парфену Вершкову, отозвался наконец со своего бревна Зазыба. Мужики захохотали. — Рахиму, с его ростом, наверное, пришлось делать по два шага вместо твоего одного, — не переставая смеяться, сказал Силка Хрупчик. — А что? — вскочил Роман Семочкин, — Ты не гляди, что он мал ростом. Бывает маленький, да удаленький. Вот увидите, Рахим приживется у нас. Теперь в деревне мужиков не хватает, так пускай обслуживает молодух. А там, может, еще и власть передадим ему. Походили в начальниках Чубарь да Зазыба, теперь нехай Рахим. — А сам что, будто и не хочешь? — подмигнул Парфен Вершков. Роман отрицательно замотал головой. — Боязно? — усмехнулся Вершков. — Я, сам знаешь, не очень пугливый. Да и некого, следовательно, бояться. — Значит, тебе прямая дорога в навильники, — сказал Иван Падерин. — Начальником я не хочу быть, — вполне серьезно сказал Роман. — Так уж и не хочешь? — прищурившись, поглядел на него Парфен Вершков. — И не хочу! — А может? — Что — может? — Да то, что голову еще крепкую надо иметь, чтоб начальником быть. — Ну, это мы посмотрим! — А что смотреть? — уже явно поддразнивал Романа Парфен Вершков. — Раз считаешь, что голову хорошую имеешь, так бери в свои руки власть, зачем отдавать кому-то? Что этот Рахим тебе, брат или сват? — Мне власть не нужна. — Экий ты осторожный! Кажется, человек, как и все мы, а тоже кумекаешь — власти теперь искать, так все равно что петлю на шею. Потому ты и привел вот Рахима. Все же не своя шея! От Парфеновой откровенности Роман даже глазами захлопал, ища поддержки у остальных веремейковских мужиков. Силка Хрупчик и Падерин Иван поглядывали друг на друга, и в глазах их таилась скрытая усмешка, которую трудно было заметить. Из всех только Зазыба не скрывал своего удовлетворения: Парфен говорил Роману то, что мог высказать и он, Зазыба, но тогда все выглядело бы по-другому и воспринималось бы не так категорично. Парфен выждал немного, как раз столько, чтоб не очухался Роман, потом снова начал: — Ты вот говоришь: некого бояться. Но это ты своей головой думаешь так, а я своей так по-другому маракую. Да и баба моя вчера на сковородке ворожила, выходило, что наши вернутся. Роман Семочкин молчал. Тогда спросил Иван Падерин: — Скажи, а заместо кого ты своего Рахима ставить хочешь? Заместо Чубаря или заместо Зазыбы? — Почему заместо Чубаря? — будто удивился Роман. — Колхоза при немцах не будет, следовательно, и должности такой не будет. — Ага, значит, волостным? — подсказал Силка Хрупчик. — И это еще неизвестно, — сказал Роман Семочкин. — Это как немцы сами скажут. Но могу об заклад биться, больше ни сельсовета, ни колхоза не будет! — Много ты знаешь! — А тут и знать нечего. Тут уже все ясно. — Значит, у нас теперь будет командовать Рахим? — спросил Парфен Вершков. — А чем он хуже Чубаря или Зазыбы? — уставился на Вершкова Роман. — Так я не говорю. А если вдруг Денис возьмет да не захочет отдать Рахиму власть? — Ну, об этом, допустим, спрашивать у него не будут. Теперь орден Зазыбин не играет. Вершков взглянул на Зазыбу. — Роман, видать, продумал все. — Еще бы, засмеялся Иван Падерин. — Времени ведь хватало, пока где-то на чердаке прятался! — Вот только поздно, — сказал вдруг Парфен Вершков. — И правда, никак поздно, — засуетился Силка Хрупчик. — Пора домой идти, а то мы что-то сегодня разболтались. — Я не про это, — удержал его Парфен Вершков, — я полагаю, что Роман с Рахимом, наверное, уже опоздали. Браво-Животовский опередил их. Еще на рассвете в Бабиновичи пошел. Может, как раз с немцами договаривается там. — Так и Браво-Животовский в Веремейках? — удивился Силка Хрупчик. — А ты думал, один я? — обрадовался Роман. — Ну-у-у, — развел руками Силка. — Они с Романом с одного насеста слетели, — засмеялся Иван Падерин. — Все мы тут, следовательно, с одного шестка, — возразил Роман Семочкин, — это, может, только Зазыба с другого. — Однако ж Браво Животовский! — как бы в восторге сказал Иван Падерин. — Не надо было так долго сидеть Роману, — сказал тем временем Парфен Вершков. — Теперь не быть Рахиму начальником у нас. Все Браво-Животовскому немцы отдадут. Между тем кто-то из подростков подсказал вдруг: — А Животовщик не один в Бабиновичи пошел. Он к Миките Дранице заходил. Мужики переглянулись. — Правда, как это мы не подумали? — сказал Иван Падерин. — Сколько сидим, а Ми киты Драницы нету. Этого ж еще не бывало с ним. Должно быть, подался-таки в Бабиновичи с Браво-Животовским. Ну-у-у, асессора отхватит! Новая власть не пожалеет! Хотя что я говорю, это ж, наверное, переводчиком при Браво Животовском Микита пошел! Все засмеялись. Микита знал много слов по-немецки, выучился у своего тестя, который был в германском плену в ту войну, «шпрехать» целыми предложениями и задавался в деревне этим, особенно перед школьным учителем немецкого языка. — Потянуло Микиту на волокиту, — сказал Силка Хрупчик. — Теперь к его носу и с кукишем не подступишься. Однако недавно он тоже куда-то бегал. Потом прятал что-то на огороде. Баба моя сказала. Говорит, глянь, чего это они с Аксютой по огороду ходят. — Так они и трав да что то сховали там, — загомонили разом, перебивая друг друга, подростки, которые будто ждали своего часа. Мужики замолчали, как уличенные в чем-то, а Парфен Вершков спросил строго, но с безразличным видом: — Кто это видел? — Федька Гаврилихин, — ответил за всех Иван Гоманьков, который раньше Зазыбы отнес на место хомут, да так и остался со взрослыми. — Мы его посылали подсмотреть. — Тоже мне шпионы! — сдвинул брови Парфен Вершков. — Где ваш Федька? — оглянулся Силка Хрупчик. — Так он дома, — засмеялись почему-то дети. Мужики призадумались. Но вскоре Иван Падерин заметил Роману Семочкину: — Видишь, как некоторые делают! — А он рот нараспашку да язык на плечо, — насмешливо сказал Парфен Вершков про Романа Семочкина. — Не зря говорят, ранний зайчик точит зубки, а поздний только глазки продирает. — Ничего, — положил Роману руку на плечо Силка Хрупчик, — для тебя это, может, и хорошо оно, что в Бабиновичи пошли Драница с Браво Животовским, потому как по теперешнему времени идти туда, так все равно что сгребать на перекрестке попел: пошел по попел, а черт и ухопил! — Умные все стали! — с укором, но уже не крикливо, сказал Роман. Он был рад, что постепенно внимание всех переключилось на другое. — Но что это Рахим твой молчит? — вдруг вспомнил Силка Хрупчик. — Мы вот болтаем что попало, а у него или языка нет, или слушает да на ус мотает? Роман Семочкин сказал: — Рахим все понимает. — И это прозвучало как угроза наперед, хотя Роман делал вид, что просто шутит. После этого Силка Хрупчик зевнул, заложив обе руки — и больную, и здоровую — ладонями за шею. — Так это будем мы сегодня делать что в колхозе? — спросил он, поглядывая на небо. — Хмурится ведь, — прищурил глаза в ответ Ивац Падерин. Но Силка Хрупчик, будто не слыша, продолжал: — Давали наряд куда-нибудь? — Это по Денисовой части, он должен знать, — сказал Иван Падерин. — Так и по твоей. — Силка Хрупчик перевел взгляд на Зазыбу: — А может, Денис, пока гонял коров, так прозевал. Иван теперь ведь тоже в начальниках у нас. Счетоводом стал. — Это при мне было, — кивнул головой Зазыба. — Мое дело писать, — будто открещиваясь от чего-то. сказал Падерин. — Я потому о работе, — объяснил Силка Хрупчик, — что вспомнил: остались в лесу клепки мои. — Силка немного мастерил по бондарному делу и несколько дней назад пощепал осину, а привезти не успел. — Так, сможет, коня какого взять? — Одноглазку, — шутя подсказал Иван Падерин. — Это уж ты сам вози на одноглазой! — отмахнулся Силка Хрупчик. — Смотри сам, какого, — сказал Зазыба, — я теперешних коней не знаю. — А зачем тебе, Силантий, клепки? — поинтересовался Иван Падерин. — Не ко времени. Бочки теперь ведь некуда будет сбывать. — Это поглядеть еще надо, — сказал Силка Хрупчик. — Раньше, так на ильинки… — А теперь на воздвиженье! В Медведи поеду и продам. Думаешь, в войну людям и бочки не нужны? — Когда это ильинки нынче были? — Они завсегда припадают на август, на второй день, — подсказал Парфен Вершков. — Такая кутерьма, — вздохнул Иван Падерин, — Тут и про святых забудешь. — А то без этого ты крепко о них помнил! — засмеялся Силка Хрупчик. — Теперь, должно, и попы толком не знают, какой праздник за каким идет. Я сам про ильинки помнил, следил, чтоб на базар в Бабиновичи попасть… Парфен Вершков, вспомнив прежний разговор, сказал Роману Семочкину, кивнув на Рахима: — Раз привел в деревню человека, позаботиться должен. Пока. он власти дожидаться будет. — Так теперь бабушка надвое сказала, — засмеялся Иван Падерин. — Браво-Животовский явно не уступит ему власть, раз сам пошел в Бабиновичи. Как пить дать, не уступит. Но Парфен Вершков не обратил внимания на то, что вдруг встрял в разговор счетовод. С присущей ему серьезностью продолжал: — Так пока он власти дожидаться будет, пристроил бы его к своей свояченице. — К какой еще свояченице? — Ну, к Акулине. Ведь давно без мужика живет. Сколько это прошло, как Евдоким помер? — Лет семь уже, — подсказал Силка Хрупчик. — Ну вот! Зачем же ей без мужика пропадать? Сам говоришь, Рахим твой мастак по этой части. Зачем ему со всей деревни бабы? Свояченицы твоей хватит. — Ты это, следовательно!.. — метнул на Парфена злой взгляд Роман Семочкин. Мужчины засмеялись. — Может, еще зря Роман хвалит Рахима, — подначил Иван Падерин. — Не зря! — повысил голос Роман. — Следовательно, знаю, раз говорю. — Что, вместе сходили уже куда-нибудь? — не отставал от него Иван Падерин. — Сам рассказывал. В тюрьме был за это. Взял там одну силой, а ему припечатали, следовательно. — Правильно сделали, — сказал Парфен Вершков. — Значит, научен уж вежливому обращению со слабым полом?.. — добавил, смеясь, Силка Хрупчик. — Так то было при Советской власти, а теперь… — усомнился Иван Падерин. — Понятливому человеку наука завсегда впрок бывает, — сказал Парфен Вершков. — Ну, а если непонятливый попадется? — посмотрел на него Иван Падерин. — Так говорят — горбатого могила исправит, — солидно ответил Парфен Вершков и обратился к Роману Семочкину: — Откуда он сам-то? — Из-за Волги, — сказал Роман. — Так Волга большая. Там вон сколько народу живет. — Я не допрашивал, следовательно. — Как же это, привел человека, а сам не знаешь о нем толком? — Что надо знать — знаю. — А из тюрьмы он давно? А то как-то получается непонятно — из тюрьмы да в армию сразу? Что-то я сомневаюсь. Так не бывает. В армию такого не возьмут. — Так то было давно. Он уже, следовательно, лет пять как отсидел. — Ну, это другое дело. Это понятно. Могли призвать. Решили, что человек исправился. — Как же, исправился! — осуждающе покачал головой Иван Падерин. — Ежели б исправился, так не сидел бы с нами на бревнах. Воевал бы г де то. — Его ж Роман привел. Сам сбежал и его привел, — уточнил Силка Хрупчик. — Ежели б упрямился, так не привел бы, — ответил ему Парфен Вершков. — Верно Парфен говорит — горбатого могила исправит, — сказал Иван Падерин. После этого мужчины некоторое время молчали. — А помните того летчика, что за Прусиком схоронили? — вдруг нарушил тишину Силка Хрупчик. — Его, кажись, тоже звали Рахимом?.. — Нет, летчика звали как-то по другому, — возразил Парфен Вершков. — Это я точно, знаю. Сам разговаривал с Рипиновичем и могилку видел. Прямо у дороги, что от Прусина к Крутогорью идет. Рипинович ведь первым к самолету тогда прибежал. Нет, летчика звали иначе. Это я точно помню. А вот что и тот татарин и что из-за Волги родом — это правда. Значит, Рахимов земляк был. А вот же чудно как-то жизнь устроена. Очень уж непохожи люди друг на друга. Вот Рахим… Ну, что про него хорошего скажешь? А тот — летчик, герой. Да, герой, самый настоящий герой. Выходит, один народ, одна земля и героев может давать и… — Парфен почему-то не захотел точнее сказать о Рахиме, только сощурил глаза и долго не сводил их с дезертира. Веремейковские мужики вспомнили действительный случай, что произошел в июле месяце за Крутогорьем, недалеко от деревни Прусин. В жаркий день завязался в небе бой нашего истребителя с двумя немецкими самолетами. Бой длился недолго. У всех на виду вспыхнули и рухнули на землю оба фашистских стервятника. Но и наш «ястребок» качнулся и потянул над лесом ближе к прусинскому полю. Летчик сумелпосадить самолет во ржи, но когда прибежали из деревни колхозники, герой сидел в кресле уже без дыхания. Его осторожно извлекли из кабины, положили на землю рядом с самолетом. На гимнастерке пилота под кожаной курткой были прикреплены два ордена Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА». Председатель местного колхоза тут же позвонил в Крутогорье, и вскоре на прусинское поле приехали откуда-то на легковой машине военные. Хоронили героя с речами, вспоминали его заслуги перед Родиной — оказывается, до этого он воевал и в Испании, и на Халхин-Голе… Примчались мальчишки — те уже успели незаметно сбегать на огород к Дранице. Там действительно была раскопана земля, и они быстро нашли тайник. Под деревом лежала завернутая в рваный мешок брезентовая торба. Иван Падерин взял торбу, взвесил на большом пальце. — Ого! — сказал он весело. Мужики повставали с бревен, обступили Ивана Падерина, однако глядеть при этом друг на друга не могли. На месте остались только Денис Зазыба, которому сделалось неприятно, что взрослые люди начали дурачиться, да еще Романов Рахим, который, казалось, был безразличен ко всему окружающему. Иван Падерин расстегнул торбу, сунул туда руку и вытащил целую стопку бумаг. Подержал в вытянутой руке, потом, разочарованный, отдал их Роману Семочкину. Тот тоже посмотрел на бумаги и с еще большим разочарованием передал Парфену Вершкову. — Вынимай все! — сказал Силка Хрупчик. Иван Падерин перевернул торбу, встряхнул. — А я-то думал, — покачал головой Силка Хрупчик, — может, деньги какие они прятали… А тут во-он что! Берите, хлопцы, — сказал он подросткам, — да несите эту писанину в озеро карасям. — Подожди, Силантий, — заступил ребятам дорогу Парфен Вершков. — Может, что важное, государственное. Надо хорошо посмотреть. Может, какие документы из района. А ты — в озеро! Карасям! Евменович, — позвал он Зазыбу, — погляди, может, и правда что нужно. — Нагнулся, сгреб растопыренной рукой бумаги и понес Зазыбе. Зазыба принял их, начал вчитываться. Парфен Вершков между тем стоял, не отходя, и наблюдал, как Зазыба все больше хмурил лоб, перебирая бумаги. Остальные веремейковские мужики также не сводили глаз с заместителя председателя колхоза. Наконец Зазыба поднял глаза на Парфена Вершкова и, виновато усмехаясь, сказал: — Глупость одна… Ничего государственного тут нет… Можно и в озеро бросить. — Тогда зачем же было закапывать Дранице? — не поверил Роман Семочкин. — И правда, зачем? — удивился Силка Хрупчик. — Может, Зазыба не все прочитал? — посмотрел на мужиков Роман Семочкин. — А что тут читать? — отмахнулся Зазыба. — Так то, что написано, — пошел наседать на Зазыбу Иван Падерин. — В конце концов, ты сам грамотный, возьми и читай, — сказал ему Зазыба. — Это письма подметные. — Письма? Целая торба? — Может, и другие бумаги есть, а мне попались письма. — И все на веремейковцев? — ошалело таращил глаза Иван Падерин. — А, следовательно, на кого? — пришел в недоумение Роман Семочкин. — Во всяком случае, не на тебя, — бросил ему Зазыва. — Но и не на тебя! — с какой-то открытой завистью сказал Роман Семочкин. — Советский власти Служил верой и правдой. А что она тебя малость осадила, так не надо было так стараться. Масея твоего тоже, должно быть, за сильную преданность забрали. Не-е, на тебя писем не писали. Кому было писать? — Нехай покопаются, — кивнул головой Зазыба, — так, может, найдут и твои. Мужики подступили к Ивану Падерину — давай читай. Но тот, будто остерегаясь чего, отказался. Тогда позвали Ивана Гоманькова: парень в этом году перешел в шестой класс и на него можно было положиться. Иван сразу узнал руку своего одноклассника Митьки Драницы, тот писал под диктовку отца. Первое письмо попалось на Родиона Чубаря. И это удивило веремейковских мужиков — Микита Драница все эти годы, пока Чубарь жил в Веремейках, набивался к нему в друзья. — «И тогда, — читал Иван Гоманьков, — я пригласил товарища Чубаря Родивона Антоновича к сибе. — Дранице, очевидно, очень хотелось, чтобы написано было по-русски. — Пили мы самогонку, которую принес мне Федос из Держинья, а также московскую водку, которую взяли на свои деньги в магазине. Товарищ Чубарь при етом ругал присядателя рика товарища Силязнева, критиковал также товарища Кочуру, который приезжал вчера в Веремейки. Затем товарищ Чубарь собрался и поехал в поселок Мамонов ку к своей полюбовнице Аграфене Азаровой, которая потеряла мужа в филянскую кумпанию. В чем и расписываюсь. Никита Драница». Было среди бумаг письмо и на председателя Веремейковского Совета Егора Пилипчикова. Послушали и его с неподдельным крестьянским любопытством. — А это уже про дядьку Дениса, — сказал Иван Гоманьков через некоторое время, отыскав письмо, написанное крупными буквами на листке из ученической тетради. — Читай! — подбодрили парнишку мужики, им было интересно послушать, о чем писал про своих односельчан Драница. — Что он там про Зазыбу пишет? Но Гоманьков то и дело оглядывался. — Ничего, читай, — наступил на ногу ему Парфен Вершков. Тогда Зазыба покрутил головой, усмехнулся. — И любите ж вы… — но не высказал до конца свою мысль. — «Сопчаю, начал читать Иван Гоманьков, — что последнее врэмя я наблюдал за нашим завхозом Зазыбой Денисом Е., которого три года назад прогнали с присядателя и поставили Чубаря. Д. Е. Зазыба молчит, но есть люди, которые не верют ему, потому что он не пьет. В дальнейшем буду также отписывать вам и пиридавать через мою бабу, так как она возит по пятницам в райвон сливки из Гутянского сипаратора. К сему — Никита Лексеевич Драница». — Как рашпилем, — покрутил головой Иван Падерин и передразнил Драницу: — «К сему — Ни-кита Ле-е-ксеевич…» Кто бы подумал? — Так он же про Дениса не очень, а? — посмотрев на всех по очереди, сказал Силка Хрупчик. Тогда захохотал Роман Семочкин. — Ишь, как тот пес, никогда блинов не пек — тестом ел! — А ты рот нараспашку, — сделал придурковатое лицо Парфен Вершков. Роман Семочкин почувствовал, что разговор с Ми-киты Драницы может перекинуться на него, и оттого сразу надулся, хотя Парфен Вершков, в сущности, ничего оскорбительного не сказал. Тем не менее Роман уже не на шутку покраснел от злости, которая распирала его и которую он старался сдержать. Парфену Вершкову Роман Семочкин не отвечал. Он повернулся к Рахиму, буркнул: — Пойдем… может, немцы уже в деревне, а мы… — Оно и точно! — нервно засмеялся Иван Падерин. — Пока мы сидим тут, так немцы, может, уже с бабами нашими!.. Но шутку никто не поддержал. Парфен Вершков нахмурился, провел ладонью по сухим губам. Хрупчик тем временем достал из-под бревна упряжь на целого коня — хомут, седелку, дугу — и сказал подросткам: — Отнесите на конюшню. — Ты же собирался за клепками ехать? — насмешливо посмотрел на него Зазыба. — Куда теперь поедешь! — отвел глаза Силка Хрупчик. Расходились по двое. Сперва двинулся Роман Семочкин, повел куда-то своего Рахима, за ними подались домой Иван Падерин и Силка Хрупчик, Денис Зазыба шел вместе с Парфеном Вершковым, им было по дороге. Начинался дождь. Тучи теперь чуть ли не цеплялись за деревенские крыши. Только кое-где в разрывах между ними можно было увидеть небо. Редкие, но крупные капли дождя падали на черную стежку, протоптанную вдоль заборов, лопотали на огородах по ботве, сбивали придорожную пыль с чистотела, этого чертова серебра, что не успело отцвести. Гнездо аистов, возвышавшееся на березе возле кладбища, тоже было окутано тучами. Оно то выступало из них на короткое время, и тогда было видно, как стояла там на одной ноге старая аистиха, который год сиротливо прилетавшая сюда, то снова скрывалось. — А вы тоже, — сказал с укором Зазыба Парфену Вершкову, — пришли на работу! Только сами айда на посиделки, а баб на конюшню послали. Нехай те растаскивают колхозную упряжь, а мы, мол, ни при чем. — Так оно ж… — замялся Парфен Вершков. — Чубарь куда-то ушел, а ты вот… будто и не хозяин теперь в колхозе. Как сгонял коров, так не только самого на деревне не видать, даже голосу не слышно. А время не ждет ведь. И немцы, ты сам говоришь, в Бабиновичах, и… жатву пора начинать. В другие годы мы уже, считай, кончали таким числом. А тут, как нарочно, этот год, одно к одному. К тому же Роман, наверное, правду сказал, колхозов немцы не допустят больше. Так что… — Не Роману колхозом распоряжаться, — со злостью сказал Зазыба. Своей головой он понимал, что Парфен Вершков прав, беспокойство не напрасное, но сам пока был не способен ни объяснить что-нибудь из того, что волновало людей в Веремейках, ни решить, в сущности, неотложное и насущное дело. А дело пока состояло в одном — что — то надо было делать или в колхозе, или с колхозом. — Вы, наверное, поцапались это на конюшне с Романом? усмехнулся Парфен Вершков. — Вижу, сперва Роман прибежал к нам как ужаленный, потом ты. По лицу видно, что между вами что-то произошло. Да и молчал ты неспроста. Посидел как без языка, точно Романов Рахим. А напрасно. Мне вот пришлось говорить и за тебя и за себя одновременно. — Я это понял, — будто в шутку сказал Зазыба. — А Роман, оказывается, хитрый, — вытирая рукавом лицо, мокрое от дождя, рассуждал Парфен Вершков. — Понимает, что своеволие может слезами кончиться. Потому какого-то Рахима хочет подставить, а сам при нем, как говорится, и с мукой и не пыльно. — Так теперь всякое г… всплывать будет, — вздохнул Зазыба. — Как в большое половодье. Вода слепая, она несет, что подхватит. Но скажи, может, ты выдумал и про Браво-Животовбкого, и про Драницу? — Стану я выдумывать! — А ночью я подумал, что ты просто по привычке ворчишь, — сказал Зазыба. — Почему не говорил тогда ясно, без намеков? Мы б их подоставали с чердаков! — А то сам не знал! — Если бы знал! — Жалко все же, человек, что ни говори. Но и я про Браво-Животовского не догадывался, — признался Парфен Вершков. — Думал, один Роман Семочкин удрал. А утром вижу, и Браво-Животовский в Веремейках. — А может, и еще кто? — Нет, видно, только они. — Парфен некоторое время шагал молча, затем снова заговорил: — Оно конечно, жить охота всем. Но ведь вон сколько, считай, из каждой хаты, мужиков ушло по мобилизации, а в деревне очутились только Роман да Браво-Животовский.III
Из Веремеек Чубарь действительно направился в Крутогорье. Но в Белой Глине бабы вдруг сказали, что в городе немцы, оттуда как раз вернулась дочь местного ветеринара, работавшая медсестрой в районной больнице. Чубарь опустился на лавочку под окнами чьей-то хаты, чувствуя, как пересыхает во рту. Наверное, и на лице его отразилась растерянность, так как белоглиновские бабы начали утешать веремейковского председателя, а жена объездчика, к которому в мирное время, случалось, Чубарь заезжал по дороге из Крутогорья, укоризненно покачала головой, показывая на винтовку: — И зачем ты, человече, с этой ломачиной ходишь теперь? Забросил бы куда в омут, так целей сам был бы. А то ни солдат, ни… Схватят, как бандюгу того… Чубарь попросил воды напиться, и какая-то молодица заспешила в хату. Вскоре она вышла оттуда с ведром в руке, выплеснула прямо возле ворот на траву воду, видно, уже теплую, и проворно направилась через улицу к колодцу, что был неподалеку, двора через два. Оттуда она вернулась с полным — по самые ушки — ведром холодной воды и поставила его на лавочку. Чубарь опустился на колени — почему-то на корточках не стоялось, — склонился над ведром, обхватив его обеими руками. Вода еще плескалась в ведре, и лицо Чубаря, отраженное в ней, колыхалось, то расплываясь вширь, как в неправильном зеркале, то вытягиваясь в длину. Когда вода отстоялась, Чубарь начал пить. Пил жадно, но без вкуса, ощущая слабость в теле. Вода лилась на грудь, сатиновая рубашка, застегнутая только на нижние Пуговицы, сразу намокла, холодок начал студить кожу; до боли заломило зубы; тогда Чубарь оторвался от ведра, отдышался и. снова сел, вытянув при этом ноги, обутые в яловые сапоги. С левой стороны деревенскую улицу пересекал. шлях, который вел из Бабиновичей в Крутогорье, и там теперь было не на чем задержаться глазу, лишь низкорослые, как огромные шары, кустистые вербы стояли вдоль, отбрасывая на пепельный песок тени Но уже было такое ощущение, будто из-за поворота за мостом, что возле курганов, которые в Забеседье называют волотовками, вот-вот выползет нечто ужасное и заслонит собой все пространство впереди. Постепенно это ощущение приобрело в мыслях определенную форму, и Чубарю уже чудилось стремительное движение по дороге вражеских танков. Впечатление было настолько сильным, что через какое-то время веремейковский председатель не мог больше оставаться посреди улицы. Вообще-то он не принадлежал к числу трусливых людей, по крайней мере так считал сам, может, до первого большого страха, но теперь у него чуть не‘вставали волосы дыбом под кожаным картузом: жутко было бы очутиться одному перед фашистами… Наспех попрощавшись с белоглиновскими женщинами, Чубарь зашагал в переулок, что напротив колодца. Случилось так, что Чубарь, занятый эвакуационными делами в колхозе, потерял живую связь с райцентром. Связь до последнего времени, конечно, была, но односторонняя — председатель только принимал из райцентра команды, которые должен был исполнять. Пока шли в Веремейки эти команды, он чувствовал себя спокойно, насколько способен на это человек, который знает, что уже валом надвигается фронт. Но настало время, когда телефон перестал звонить, в телефонной трубке только гудело, и на линии связи, проходившей по круговой чуть ли не по всему району, не было слышно даже голосов телефонисток. Чубаря это сразу обеспокоило. Однако в голову пришла мысль — повреждена где-то телефонная линия. Первый телефонный узел по пути к райцентру был в Бабиновичах, и Чубарь подумал, что, может, как раз на этих семи километрах и случилось повреждение, так как местечко тоже не отвечало на звонки. Тогда Чубарь посадил на коня старого Титка и приказал, чтобы тот проехался верхом вдоль телефонных столбов. Титок выполнил волю председателя, но повреждения не нашел — провода по-прежнему туго висели на белых чашках, а столбы, как и положе но, стояли через равные промежутки один от другого. Титок повернул в Веремейки, доложил Чубарю. И они вдвоем долго сидели в колхозной конторе, судили-рядили, что же это могло быть — и столбы целы, и провода не порваны, а телефон не работает. Наконец председатель приказал Титку остаться в конторе до самого вечера, а если надо будет, то и на всю ночь, — собственно, Титок и без того, пожалуй, с начала войны почти не отлучался из конторы, дежурил при телефоне, — а сам пошел в хату, где квартировал, почистил прутиком ствол винтовки, посчитал патроны и в тревоге зашагал по большаку, в сторону райцентра, надеясь еще застать там представителей власти, тем более что на территории района действовал истребительный батальон, которым командовал начальник милиции. К этому батальону были приписаны невоеннообязанные активисты, председатели сельских Советов и колхозов, подпавшие под броню, в том числе и Чубарь. Направляясь в Крутогорье, Чубарь принимал в расчет и то, что районный истребительный батальон в любом случае должен присоединиться к регулярной армии, тогда не надо будет активистам ютиться где придется, можно отступать вместе, став бойцом какой-нибудь красноармейской части. И вот всему этому, расчетам и надеждам, пришел конец — вдруг в Белой Глине выяснилось, что Крутогорье заняли фашисты!.. Успокоился Чубарь, когда вышел за Белую Глину и оказался на лугу возле дебры — старого русла, по которому в давнее-давнее время протекала Беседь и которое нынче заросло ольхой и верболозом. Из деревни Чубаря уже нельзя было заметить. Дорога, ведущая из Бабиновичей в Крутогорье, от дебры тоже не просматривалась.
Чубарь снял с плеча винтовку и медленно, будто нехотя или в глубокой задумчивости, зашагал к реке, задевая сапогами высохший плющ и перестоявшую мурожницу, прокладывая след по густой, свалянной, как медвежья шкура, траве. Как и в Веремейках, в Белой Глине колхозный луг тоже не весь выкосили — не хватало мужских рук, за неполных два месяца войны прошло уже несколько мобилизаций. Копны стояли на лугу только в устье, там в Беседь впадала Деряжня, может, самый большой приток этой реки, которая начиналась где-то на Смоленщине и вливалась неподалеку от Гомеля в Сож. Было на лугу и не-сгребенное сено, но давно сопрело в валках и имело вид прошлогоднего. На прокосах между тем отросла отава, она как-то необычно зеленела меж пожухлых стеблей, была молодая и квелая, как озимь после заморозков. Дебра во многих местах пересохла за лето, дно там, илистое и потрескавшееся, — успело покрыться печеночным мхом и еще какой-то мягкой клочковатой травой, а в озерцах среди ощипанных листьев белых и желтых кувшинок плавали утки. Посреди луга торчала наклоненная вешка, может, еще с весны осталась стоять, когда загораживали луг, и Чубарь, как только дошел до нее, на ходу выпрямил. Оглянулся на Белую Глину. Высокий берег над старым руслом больше не закрывал своим горбом крыши деревенских хат. Чубарь укорял себя, что зря так засиделся в Веремейках, передал бы колхозные дела Зазыбе, так не пришлось бы теперь бродить здесь, словно подбитому аисту перед покровом. Чубарь вспомнил, как он не поехал в Мошевую, когда вызывали туда телефонограммой из райкома партии. Тогда он не придал этом} вызову особого значения, точнее, не успел собраться, телефонограмму ему вручили с большим опозданием, так как в тот день они с Иваном Падериным ездили за Гаврилову пожню обмерять стога. Более того, даже на другой день он не собрался позвонить в райком, объяснить свою неявку — все еще ориентировался на довоенное время, когда вызовов на разные совещания было, может, действительно излишне много, и потому надо было иметь особое чутье, чтобы угадать, на какое совещание являться обязательно, а на какое нет. А тут вдруг почему-то вызывали не в Крутогорье, а в Мошевую, обыкновенную деревню, что в двенадцати километрах от Веремеек. И вот теперь Чубарь со страхом думал о том, что именно последнее, хотя и не совсем сознательное неподчинение, если можно так сказать, и было причиной сегодняшнего неведения с его мучительным волнением. …А в тот день действительно произошло важное событие — районным комитетом партии совместно со штабом 13-й армии был создан партизанский отряд, в который вошли активисты района, председатели сельских Советов, колхозов, директора машинно-тракторных станции и руководители предприятии. …В одном месте Беседь — как раз там, куда направлялся Чубарь, — делала крутой поворот, и правый берег был обрывистый. Глыбы земли, спрессованные серой известью и болотной рудой, повисали над водой, шумно хлопавшей внизу, словно река тут раздваивалась — одна, равная по ширине прежней, спокойно плыла через луг меж зарослей тростника и аира, а другая прокладывала себе путь где-то под землей, таясь от людей. Чубарь ступил на обрыв, глянул на поверхность реки. Вода была черная — солнце уже не доставало ее за берегом. Беседь в этом месте была широкая. С правой стороны почти посреди нее возвышался поросший красным лозняком песчаный островок. Туда, наверное, часто наведывались бобры, которых привезли на Беседь откуда то из сибирского заповедника и которые успели за несколько лет сильно расплодиться: вдоль всего берега выступало из воды погрызенное ими кустовье, а на берегу белели свежей древесиной обточенные комли поваленных деревьев. По левую сторону на реке, впритык к густым зарослям тростника, плавучим мостом качались выворотни. Напротив, шагах в трехстах, на пологом берегу стоял лес. Вблизи него, уже на опушке, возвышались два дуба: один рогатый, будто с нарочно подрезанной вершиной, а другой нетронутый, потому разросшийся и величественный. Чуть дальше стояли еще дубы, но они росли на большом расстоянии друг от друга и были разбросаны по всему лугу, омываемому рекой. Отсюда начинались забеседские растеребы, то есть большие вырубки, и сухие сосновые гривы, похожие на оголенные отмели, которые простирались на многие километры. Где-то посреди них были деревни, такие же деревни, как Веремейки, и такие же люди, как в Веремейках. Чубарю вдруг пришло в голову, что он за эти годы, пока жил в Веремейках, так и не побывал во многих деревнях. Сюда, в этот район, его переманил из-под Орши заведующий Крутогорским райземотделом Стахван Ядловский. В тридцать третьем году они вместе кончали совпарткурсы, но Ядловский по направлению сразу закрепился в Крутогорье, а Чубарь все пробовал свои способности руководителя на разных должностях, переезжая из района в район. Ядловский посылал Чубаря в Веремейки на время, пока откроется хорошая вакансия в районном центре. Но вскоре Ядловскому самому пришлось перебраться в соседний район, и Чубарь задержался в должности председателя колхоза. В Веремейках колхоз на ноги поставил еще Зазыба. Чубарю, таким образом, оставалось только руководить хорошо налаженным хозяйством. И вот на третьем году его председательства началась война… Чубарю надо было теперь как можно быстрей, пока не село солнце, попасть на другой берег Беседа, чтобы оказаться в лесу, и он хотел сперва поискать брод, потом вспомнил, что выше по реке должен стоять паром. Но вдруг спохватился — к парому же могут нагрянуть немцы, раз они заняли райцентр, тем более что мостов поблизости на Беседи не было, и потому лучше всего действительно перейти реку здесь. Вскоре он уже шагал вдоль извилистого берега, разыскивая брод. Стежки, протоптанной на берегу, не было, и Чубарь спотыкался, огибая кусты. Он даже не заметил, как достиг устья, где соединялась с Беседью Деряжня, и незаметно свернул от главного русла, пошел берегом Деряжни. Пойял он ошибку лишь тогда, когда очутился невдалеке от крайних дворов Белой Глины. Поднял голову и увидел впереди знакомый мост, а за ним мельницу. Мост был деревянный, в четыре пролета. По другую сторону его торчали из воды быки-треугольники, о которые во время половодья крошились льдины. Чубарь оцепенело постоял несколько минут напротив деревянного сооружения, осмотрелся. Казалось, ничто не угрожает ему. Жаль было зря потраченного времени — в планы Чубаря никак не входило колесить. Но как только он решил повернуть назад, навстречу ему вышел из кустов человек в красноармейской форме. Был он высокого роста, но чуть пониже Чубаря. Большие темные глаза посматривали на Чубаря с интересом, но без особой настороженности. На первый взгляд, красноармеец даже не имел при себе оружия, потом уже Чубарь разглядел, что наган висел на ремне сзади; по внешнему виду и по тому, как сдержанно вел себя красноармеец, можно было заключить, что он следил за Чубарем давно, может, еще от устья; даже такое обстоятельство, что Чубарь имел винтовку при себе, казалось, не вызывало его-удавления. Незаметно, по крайней мере так ему думалось, Чубарь бросил взгляд сперва по одну сторону от красноармейца, потом по другую. Там, где лозняк был почти непролазным, стоял шалашик, прямо на земле. Шагах в двух от него Чубарь увидел второго красноармейца. Тот тоже не сводил глаз с незнакомого человека» На лице его блуждала недоверчивая улыбка. Именно этот, второй, красноармеец и заговорил с Чубарем; будто выходя из воды, он отвел от себя руками лозняк и ступил на стежку. — Может, у товарища закурить найдется? — спросил красноармеец. Чубарь вытер рукавом взмокший лоб, улыбнулся. — Я не курю, товарищ. Тогда красноармеец погасил недоверчивую усмешку на лице, снял с головы пилотку, короткие и непокорные его волосы брызнули во все стороны. — А я думал… — сказал разочаровано красноармеец и сильно хлопнул по растопыренной ладони пилоткой. — Кто вы? — спросил Чубаря высокий красноармеец. — Я председатель колхоза. — Этого? — кивнул головой тот на Белую Глину. — Нет, туда дальше, — показал Чубарь на лес. — Что вы тут делаете? — Шел в Крутогорье. Но там, говорят, немцы. Высокий красноармеец сдвинул выгоревшие брови — одна, что над правым глазом, была когда-то рассечена, и теперь заметен был шрам, точно маленькая плешь, — постоял некоторое время в задумчивости, потом переспросил: — Значит, председатель колхоза? Второй красноармеец тем временем забросил за плечо винтовку и молча пошел извилистой тропкой к кургану-волотовке, что закрывал собой с правой стороны едва ли не полнеба. Вскоре фигура его замаячила на вершине, оттуда была видна дорога на Крутогорье. «А вдруг эти красноармейцы, — подумал Чубарь, — тоже держат путь на Беседь, тогда нам по дороге». — И куда вы теперь? — спросил высокий красноармеец. — Куда прикажете! «Чубарь махнул руками, будто крыльями, и, опуская их, неожиданно хлопнул себя по бедрам. Оба, и Чубарь и красноармеец, засмеялись от этой Чубаревой беспомощности. — Моя фамилия Шпакевич, — сказал, переходя на дружеский тон, красноармеец. — А тот, — он показал на своего товарища, который уже спускался с Болотовки, — Холодилов. Он сибиряк. Откуда-то из-за Урала. А я из Мозыря. Так что мы земляки с вами. — Белорусы, — будто для полной ясности подтвердил Чубарь. Подошел Холодилов и точно пропел: — Не пылит дорога, не шумят кусты… — Думаешь, замирение вышло? — посмотрел на него Шпакевич. — Знаешь, как в той поговорке… Шпакевич начал объяснять Чубарю: — Нам приказано взорвать этот мост. Конечно, когда пройдут по нему последние красноармейские части. Но мы задержались немного, и не по своей воле, а теперь хорошо было бы вместе с немцами поднять его на воздух! — Скажи точнее, забыли про нас, — сказал Холоди лов. — Обещали забрать отсюда и не забрали. Теперь вот думаем-гадаем. Как говорится, самодеятельностью занимаемся. — Я не думаю, чтобы про нас забыли, — возразил Шпакевич. — Что-то не получилось у них там. — Меня уже не первый раз забывают, — сказал с усмешкой Холодилов. — Я эти мосты взрываю чуть ли не от самой границы. И каждый раз потом выбираюсь из так называемого окружения, прохожу проверку. А вы? — повернулся он к Чубарю. — Почему вы оказались тут? — Хотел присоединиться к своим в Крутогорье, — ответил Чубарь. — У нас там истребительный батальон. Я тоже приписан к нему. — Для вящей убедительности он показал винтовку. — Патроны есть? — спросил Шпакевич. — Штук десять. — Негусто, — потер Шпакевич затылок. — У нас, по правде говоря, их тоже кот наплакал. Мало патронов. Но хорошо, что «вы здешний. Если не возражаете, можем следовать вместе. Чубарь согласно кивнул головой — как раз кстати? — Красиво деревня стоит, — поглядывая на белоглиновские хаты, сказал вдруг Холодилов. — Особенно если смотреть оттуда. — Он показал рукой на Болотовку и добавил: — У вас, в Белоруссии, вообще красиво. Когда-то мне казалось, что тут одни болота. Читал об этом в книжках. — Болота — это у нас на Полесье, — уточнил Шпакевич. — А тут, видишь, пески. — Хватает болот еще и у нас, — улыбнулся Чубарь. — А курганы? — посмотрел на него Холодилов. — Откуда они такие тут? Чубарь пожал плечами. — Говорят разное. Один утверждает, что это оста лось от шведов. Будто Карл XII переправлялся тут, когда на Украину шел к Мазепе. А другие, наоборот, — мол, курганы здесь испокон веку. В районной газете как-то была напечатана статейка. Писал ученый, кстати, выходец из этой вот Белой Глины, сын здешнего попа. Так он считает, что это славянские захоронения. — Попович, да ученый? — переспросил Шпакевич. — И не загремел до сих пор? — Так он, кажется, археолог! — ответил Чубарь, словно желая загладить какое-то неприятное ощущение от своих слов. — В земле копается. А в земле копаться поповичам в наше время не возбраняется. Как раз наоборот. Трудовое перевоспитание, так сказать, непролетарского элемента. — Подумаешь, попович, — хмыкнул Холодилов. — Я знаю одного человека, тот сам учился на попа, собирался господу богу служить, а теперь… — Я вижу, у тебя знако-омых!.. — нахмурил брови Шпакевич. — И тебе не советую чураться таких знакомых, — лукаво сощурил глаза в ответ Холодилов. — Ты вот что, схода-ка лучше снова на курган да посмотри на дорогу. — А чья очередь, помнишь? — Может, я посмотрю? — вдруг предложил Чубарь. Шпакевич, будучи старшим, а вернее, ответственным за взрыв моста, не перечил, но с удивлением посмотрел на Чубаря. Когда веремейковский председатель отошел на достаточное расстояние, он недовольно сказал Холодилову: — Гляди, чтобы твои знакомые когда нибудь не подвели тебя под монастырь… да и меня разом. — А-а» а, — сделал безразличную гримасу на лице и затем махнул рукой Холодилов. — Двум смертям не бывать. Солнце уже не искрилось. Вокруг стояла предвечерняя тишина. Солнечная прозолоть была разлита повсюду — по крышам деревенских хат, по кронам деревьев и, конечно, по колхозным полям, что начинались в большой излучине, которую создавала за мостом напротив мельницы Деряжня. Чубарь шел легко, пружинисто, несмотря на то, что тропка все время вела в гору. После неожиданной встречи с красноармейцами он снова обрел покой. Появилось какое-то обманчивое ощущение, будто жизнь, нарушенная войной, вошла в прежнюю колею. Но вдруг откуда-то долетел тихий звук, и Чубарь начал настороженно ловить его, полагая, что по дороге движутся немецкие танки или автомашины. Все его существо вновь пронизала тревога. Чубарь остановился, растерянно оглянулся. Красноармейцы тоже услышали звук и замерли невдалеке от моста. Тогда Чубарь со всех ног бросился бежать на вершину волотовки, чтобы оттуда посмотреть на дорогу. Но ни танков, ни автомашин на дороге не было. Звук между тем нарастал. Наконец Чубарь понял, что доносился он откуда-то с неба. «Самолеты», — успокоился он, хотя и понимал, что быть на виду у фашистского летчика тоже опасно. Однако прятаться на кургане не подумал. Открыто стоял на самой верхней точке, глядел на небо: звук долетал с той стороны, где сейчас заходило солнце. Прошло еще немного времени — измерялось оно секундами, — и чуть левее Белой Глины на высоте, может, тысячи метров появился самолет. За эти недели, как началась война, люди уже научились отличать свои самолеты от немецких. Чубарь также без особого труда по звуку узнал советский бомбовоз, который направлялся на Крутогорье. Чубарь еще раз взглянул на дорогу, что пролегла у подножья волотовки, и, упираясь каблуками в твердый грунт, начал спускаться вниз, чтобы присоединиться к красноармейцам. Тем временем у моста между Шпакевичем и Холодиловым продолжался разговор. — Сейчас где-то грохнет! — с восхищением сказал Шпакевич. — Если долетит, — усомнился Холоди лов. Подошел Чубарь, Шпакевич и ему сказал: — Полетел наш! Сейчас где-то грохнет! Но не успел скрыться бомбовоз, как в той стороне послышались короткие очереди, словно кто-то вспарывал мокрое полотно. — Ну вот, я же говорил, если успеет долететь! — без особой уверенности в своей правоте сказал Холодилов. Очевидно вблизи Крутогорья завязывался воздушный бой. Холодилов не выдержал, побежал на Болотовку посмотреть. Кончилось тем, что сильный взрыв вдруг потряс все окрест, и в небо взметнулся черный столб дыма. Столб этот сперва рос вверх, потом вдруг заклубился, образуя огромный огненный шар, который постепенно ширился, заслонив желто-белым, соломенным дымом небо на северо-востоке. На Шпакевича все это — и сбитый бомбовоз, и неожиданный пожар — подействовало угнетающе. Чубарь видел, как заходили у него на хмуром лице желваки. Шпакевич, как и Холодилов, отступал от запад ной границы, но привыкнуть к пожарам не мог, так же как не мог спокойно смотреть на убитых, жалость в нем всегда усиливалась чувством досады и беспомощности… — Собственно, нам необязательно оставаться тут дальше, — вдруг решительно, с какой-то не знакомой еще Чубарю жесткостью в голосе сказал Шпакевич. — Сейчас вот взорвем мост и айда. — Дотемна можно еще успеть на ту сторону, — будто подзадорил Шпакевича Чубарь, показав при этом на лес, черневший за Беседью. Незаметно подошел Холодилов. — И кто их, этих бомбардировщиков, пускает одних, без прикрытия? — пожалел он вслух. — Что там загорелось? — спросил Шпакевич. — Какая-то деревня. — Может, Крутогорье? — Нет, это ближе, — сказал Холодилов. — Сволочи, сбили над самой деревней. Два «мессера». Даже отрулить не дали. Теперь вот пожар. Горят избы. А летчик не успел выскочить. Низко летел. Кому-то снова сегодня нехороший сон приснится… — Мы тут с товарищем Чубарем решили: надо взрывать мост. — А я о чем тебе все время толкую? — склонил набок голову Холодилов. — Все равно, — не обращая внимания на укоризненное замечание, продолжал Шпакевич, — немцы до утра не попрутся сюда. У них, должно быть, ночлег. — Н-да, воюют фашисты с комфортом, — сплюнул Холодилов. — Все по расписанию. Обед, сон… Хотел вот какой-то чудак напугать к ночи, так и то не удалось!.. Красноармейцы постояли еще немного, словно скорбя, а затем двинулись к шалашику. Чубарь решил не отставать от них. В шалашике на увядшей траве лежали две красноармейские шинели и винтовка, видно, Шпакевича, так как Холодилов свою все это время носил при себе. Шпакевич сел на корточки, начал выбирать из шалашика вещи. Вот он подал Холодилову какой-то ящик. То была взрывмашина. Чубарь понял это, когда увидел, что от нее к мосту шел вдоль берега Деряжни черный шнур. Холодилов тут же достал из кармана ручку, приладил к ящику, сразу вспыхнула красная лампочка. Можно было производить взрыв. Шпакевич приказал всем спрятаться под обрывом, куда не могли долететь обломки, хотя заряд под средней опорой моста они положили небольшой. Холодилов прихватил с собой и взрыв-машину. Некоторое время Холодилов и Чубарь ждали под обрывом Шпакевича, тот почему-то задерживался возле шалашика. Холодилов сказал в друге сожалением: — Напрасно спешим. Можно было бы сходить еще на ночь в деревню. К молодицам. — Ну, времени для этого было достаточно, — засмеялся Чубарь. — Разрешения ждали, — пошутил Холодилов. — От местного начальства — справку, заверенную печатью. — Моя печать на белоглиновских молодиц, наверное, не подействует, — сказал Чубарь. — Тут не мое хозяйство. — Тогда, может, на девок? — не переставал балагурить Холодилов. — На девок тоже. — Это они напрасно, — усмехнулся Холодилов. — Все равно немцы попортят. И без справок, и без печатей. Чубарь с подчеркнутым интересом вдруг глянул на Холодилова, спросил: — А у тебя семья есть? — Нет, я холостой. — А батька с матерью? — Родители есть. — Мне Шпакевич говорил, что ты сибиряк. — Не совсем чтобы сибиряк, однако же… — До вас далеко еще… — Далеко. Они замолчали. Холодилов почувствовал укор в словах Чубаря, который неожиданно перевел его шутливый разговор на вещи, всегда заставлявшие умолкать и задумываться самых отчаянных трепачей. Наконец к ним спрыгнул Шпакевич. Подошвы его сапог глубоко вмялись в намытый песок на берегу, и следы, которые отпечатались у реки, начали наполняться водой, сочившейся снизу. Шпакевич опустился на колени, обхватил обоих за плечи, будто хотел столкнуть лбами, и зашептал Холодилову на ухо: — Крути, брат! Холодилов поставил взрывмашину на ракитовый корень, что локтем торчал из обрыва, забеспокоился: — А там, на мосту, никого нет? Может, зевака какой вышел? — Кого теперь понесет! — сказал Шпакевич. — А коли немцы, так сам бог велел! Чубарь привстал, посмотрел на мост. — Кажется, никого… — Ну, машиночка, не подведи! — Холодилов потер руки. В ожидании взрыва Чубарь втянул голову в плечи — дело это для него было непривычное, и потому даже захолонуло внутри. Холодилов повернул ручку. Но взрыва не последовало. Обеспокоенные красноармейцы переглянулись, в глазах у каждого было недоумение. Шпакевич кивнул головой, показывая, давай, мол, еще. Холодилов снова повернул ручку. И на этот раз не последовало взрыва. Тогда Шпакевич взялся сам. Однако и у него взрывмашина не сработала — лампочка не потухала, а контакта не было. То ли выходная клемма отошла, то ли подвела мина, которую вместе с толовыми шашками саперы привязали к опоре под мостом. — Холера, — почесал голову Шпакевич. Холодилов вытер тыльной стороной ладони вспотевшее лицо. — Этого еще не хватало!.. — Представляю, — нервно засмеялся Шпакевич, — что было бы с нами, если бы по мосту действительно… Холодилов, встав во весь рост, бросился бежать к мосту — надо было проверить заряд. Вернулся оттуда, растерянно развел руками, мол, там все в порядке, а… Тогда Шпакевич снова начал поворачивать ручку взрывмашины, и снова напрасно. Чубарь видел, как мучительно соображал что-то Шпакевич. Наконец тот зло сказал: — Черт, хоть еще один пожар разжигай! — Но как? — пожал плечами Холодилов, он чувствовал неловкость перед товарищем за свою взрыв-машину. — Конечно, самое лучшее — облить бензином, — с издевкой сказал ему Шпакевич. — Чего захотел! — покрутил головой Холодилов. Чубарь сразу же по-хозяйски прикинул: — На этот мост хватило бы воза соломы. — А что, председатель правду говорит, — ухватился за эту мысль Холодилов. Прикрыв рукой рот, Шпакевич постоял в раздумье. — Никуда не денешься, — буркнул он наконец сквозь пальцы, — придется действительно таскать на мост солому. Чубарь оживился и тут же посоветовал (во всем, что делали красноармейцы, ему хотелось, теперь принимать самое деятельное участие, чтобы тем самым приобщить себя к их заботам) сходить в Белую Глину, поискать подводу, на которой можно привезти солому. Но Шпакевич махнул рукой. — Пока будем искать подводу, неизвестно, что случится! Они взяли в руки вещи и гуськом направились к мосту, так как в деревню дорога вела только через него. Пройдя два пролета, остановились. Отсюда хорошо был виден пожар — красно-черное пламя пожирало большую деревню. А Белой Глины будто не касалось чужое горе: предвечерняя затаенность, царившая в природе, создавала впечатление безмятежного и устоявшегося покоя. И этот покой, казалось, не смогли нарушить ни звуки недавнего воздушного боя, ни шум пожара, которые, несмотря на далекое расстояние, доходили сюда. Посреди деревенской улицы безмятежно стояла чья-то рябая корова и лениво махала оборванным хвостом, отгоняя мошкару. Крайние белоглиновские хаты были в полутораста метрах, но огороды с правой стороны улицы подходили к самой излучине. На одном из огородов стояли ржаные копны. Обычная картина — на сотках жнут раньше всего. Достаточно было Чубарю кивнуть в ту сторону головой, чтобы красноармейцы поняли его. Перемахнув через прясло, все дружно двинулись по стерне к копнам. Подошли, ощупали снопы. Шпакевич даже оторвал и полущил колосок, разжевал зерно. Холодилов с Чубарем между тем стояли рядом, ждали. Но вот Шпакевич выхватил из копны первый сноп, тяжелый, в толстом перевясле. И все пошло словно по команде: Холодилов и Чубарь принялись разбирать копну сверху донизу. Чубарь, как самый сильный, норовил набрать побольше снопов, и когда наконец взвалил их на себя и понес к пряслу, то руки держал, словно рассохи, вверх. Шпакевич и Холодилов, едва поспевая, шли следом — у них ноши были хоть и поменьше, но тоже увесистые. Снопы сильно шуршали, заглушая даже шарканье сапог. И потому ни Шпакевич, который шел последним, ни Холодилов, ни тем более Чубарь сначала не услышали, как на огороде вдруг раздался истошный крик. По меже к копнам бежала разъяренная женщина с вилами в руках. Шпакевич остановился, чтобы оглянуться. Насторожился и Холодилов. Разгневанный вид ее смутил красноармейцев. Они побросали снопы на землю. Лишь Чубарь продолжал двигаться дальше. Он тоже слышал голос, но не оглядывался, нес снопы к перелазу. Крик почему-то вызвал в нем упорную злость. Тогда женщина подскочила к веремейковскому председателю и цевьем сильно толкнула его в спину. Чубарь сразу потерял равновесие. Снопы упали на жнивье. — А что ж это ты, ирод, делаешь? — накинулась женщина на Чубаря. Она чуть не заходилась от плача. Глаза ее блестели от ярости. Чубарь взглянул на нее и понял: баба не станет долго раздумывать, возьмет да и пырнет вилами. На какой-то момент он даже растерялся, но быстро спохватился и не своим голосом крикнул, стараясь сбить разгневанную женщину с толку: — Немцам на пироги припасаешь, что ли? Но на женщину это не подействовало, она еще больше распалилась. Красноармейцы с виноватым видом смотрели то на женщину, которая защищала свои снопы, то на Чубаря, заварившего всю эту кашу. Наконец Чубарь начал отступать: громко выругался самыми грязными словами, какие приходилось кому слышать, и захохотал. Давно уже, может, с того самого времени, как организовывали колхозы, не приходилось ему встречаться с таким делом. — Ироды вы, ироды!.. — Женщина вдруг уронила на межу вилы, села на колючую стерню и заголосила, обхватив руками простоволосую голову. — А что ж мои дети есть будут?.. — Ты пойми, — начал выговаривать ей Чубарь, — нам солома нужна. — И для вящей убедительности указал на красноармейцев. — Им вот, для дела. Для Красной Армии. Женщина не слушала его. — А что ж это вы делаете?.. — не переставала причитать она. Но голос ее постепенно слабел. Вскоре она уже-только качалась из стороны в сторону да обиженно всхлипывала. К Чубарю подошел Шпакевич. — Идем отсюда, — позвал он. Бабий плач, наверное, услышали в деревне, по крайней мере в ближних дворах, так как возле изгороди появились люди, как и положено в военное время — подростки да бабы с мальцами. Молча, как зачарованные, наблюдали они за тем, что происходило на ого роде, а в глазах, казалось, не было ни осуждения, ни сочувствия, одно любопытство. По другую сторону прясла тоже кто-то успелзабежать. Чубарь узнал вскоре — то был хромой старик по фамилии Якушок, который иммел привычку с утра до вечера сидеть на завалинке своей хаты и наблюдать за тем, что происходило на оживленной дороге. Каждый раз, когда веремейковскому председателю случалось ехать через Белую Глину в Крутогорье или обратно, они успевали перекинуться словом-другим. Старик тоже узнал теперь Чубаря, заискивающе, но как-то отчужденно заулыбался навстречу ему, до десен обнажая кривые зубы. — А я думал, — начал он, шаря глазами по всем троим, — что это вы, может, с того самолета? Да, вижу, нет. Так это ж, кажись, вы, товарищ начальник? — Он снова остановил взгляд на Чубаре. — Значит, еще тут? А наш Калатоз в вакуацию подался. Еще на той неделе. И сельсоветский председатель поехал. Запрягли лучших коней и потарахтели куда-то за Беседь. Там же пока не страшно. Чубарь спросил: — Что это за баба у вас такая? — Наша тут. Просто баба. Однако, как я погляжу, так может и кишки кому выпустить. — Дура бешеная, — оглянулся Чубарь. — Тут кто угодно ошалеть может, — засмеялся, видимо довольный воинственностью женщины, старик. — А зачем вам солома? — спросил он и сразу начал отвечать, будто самому себе: — Оно конечно, людям тоже поспать надо, а то возле Деряжни, даже если посидеть долго, задница отсыреет. — Он давал понять, что знает обо всем. — А солома горит. Во-о-он, видите, сколько горит ее! — и показал рукой на пожар. — Нам действительно очень нужна солома, — подошел к старику Шпакевич. — Где же ее взять теперь? В колхозе еще не начинали жатву. За деревней, правда, есть копны, даже обмолоченные, но это далеко. — Старик усмехнулся. — Одна Суклида вот управилась с жатвой. Так снопы и стоят в огороде, как чиряки на лбу, всем в глаза лезут. — Немцы не пожалеют, — сказал еще не остывший Чубарь. — А это поглядеть надо, — словно не поверил старик. — Она у нас баба такая, что и перед германцем с вилами постоять за себя сумеет. Свое отборонит и не отдаст кому не треба. А как же иначе? Детей полная хата, а мужика забрали по первой мобилизации, так… — Но как же нам соломы раздобыть? — перебил старика озабоченный Шпакевич, которому не терпелось быстрее покончить с мостом. — Так, может, коровник тогда раскрыть, раз треба? — подсказал Якушок. — А на что эта вам солома и в самом деле понадобилась? — Мост ваш жечь будем, — признался Шпакевич. — Так его лучше рвануть, — спокойно посоветовал старик. — Не печет, дед, — засмеялся Холодилов. — Машинка не работает? — Не работает. — Вишь ты! — покрутил головой Якушок. — А может, у тебя прошлогодняя солома есть? — спросил Чубарь. — Не-ет, — показал растопыренные ладони старик. — Спользовали в хозяйстве за зиму. Даже трухи не осталось. Корова ж, телка… — И будто спохватился, что заговорил не о том: — Мост, говорите, спалить собираетесь? Так палите его. Он нам тут; считай, и не нужен. Это если кому на машинах ездить, так другое дело. А нам… — Он махнул обеими руками. — Мы и так через Деряжню знаем где переехать… — Ты вот что, дед, — не дал говорить старику Чубарь, — покажешь, где у вас солома в поле, и подводу найдешь, коня… Старик растерянно оглянулся. — Так я ж слаб, даже в колхозе не работал уже, а тут!.. — В колхозе не работал, — повысил голос Чубарь, — а нам помочь обязан! — А если на меня заявят? — Кто? — Так мало ли кто! Людям же рот не закроешь Скажут, помогал Красной Армии уничтожать мост, а немцы меня за то к стенке. — Не волнуйся, — усмехнулся Чубарь, — скажешь, заставили. Я с тобой тоже пойду. Наконец старик понял, что Чубарь от него не отступится, и понурил голову. — Вы меня ведите тогда под ружьем по деревне, а? — сказал он. — Чтобы все видели. Чубарь засмеялся. — Ладно, старик, пойдешь под винтовкой, — сказал он Якушку и посмотрел на красноармейцев. — А вы мне сигнал подадите, если вдруг что случится. — Наделали шуму, — почесал затылок Холодилов. — Это все из-за твоей машинки, — сказал недовольно Шпакевич. — Не подводила ж до сих пор…. Шпакевич поглядел на огород. Женщина по прежнему сидела на стерне, но, кажется, не плакала. Шпакевичу стало жаль ее. Он подошел, сказал.: — Простите… Тогда женщина подняла голову и снова начала плакать, навзрыд. — Я знаю, что это не вы, — говорила она сквозь слезы. — Это тот, веремейковский. А вы такие же, как и мой. Мой тоже где-то вот так… воюет… а может, голову сложил… Нет, я на вас зла не держу. А тому веремейковскому… Из Крутогорья немцы наступали по двум направлениям — вдоль железной дороги на Увечу и по большаку, что вел через местечко Бабиновичи до Поповой горы и дальше, огибая, таким образом, почти все лесное Забеседье. 24-й моторизованный корпус был повернут гитлеровским командованием с центрального направления и вместе со 2-й танковой группой брошен на разгром отходивших армий только что созданного Брянского фронта. Предполагалось в итоге укрепить живой силой и танковыми соединениями южные войска, которые должны были, по плану фюрера, решать теперь главную задачу в войне. Хотя инициатива по-прежнему оставалась за фашистами, но темпы продвижения войск после жестоких боев на последнем оборонительном рубеже в Белоруссии стали чрезвычайно медленными: вместо тридцати километров, которые преодолевались раньше, теперь удавалось пройти за сутки не более шести-семи. По этой причине почти все деревни по левую сторону Беседи еще немало времени оставались незанятыми врагом даже после того, как начались бои на следующем оборонительном рубеже, пересекавшем большой тракт из Тулы на Орел. …Когда наконец был подожжен на Деряжне у Белой Глины мост, красноармейцы 111 го полка 55 и дивизии Шпакевич и Холодилов, а вместе с ними и председатель веремейковского колхоза Чубарь направились за Беседь. Мост горел долго, и отблеск пожара светил им в спины все время, пока шли лугом вдоль реки. Карты, по которой можно было, бы ориентироваться, у красноармейцев не было, и дорогу приходилось расспрашивать. К своим они вышли в расположение 284-й стрелковой дивизии, прибывшей на оборонительный рубеж из Орла. Рубеж состоял из нескольких линий траншей, пулеметных и артиллерийских гнезд, дзотов и большого противотанкового рва. Но сплошной линии обороны пока что не было. Не хватало войск. Отдельные подразделения дивизии еще находились на марше. Зато в ближайших деревнях почти по всему рубежу уже стояли высланные вперед дозоры, которые направляли на сборные пункты бойцов и командиров, отступавших группами и в одиночку по лесным и полевым дорогам. На одну такую заставу в деревне Пек-лино и наткнулись Чубарь и его товарищи.. Еще в Забеседье начался обложной дождь, и путники не просыхали до самого Пеклина. За время, пока были в дороге, спали только дважды — один раз в лесу, под деревьями, а второй — в хате у одинокой женщины. Она еще раз истопила печь и всю ночь заботливо сушила их одежду. Чубарь хоть и страдал от дождя — вельветовая толстовка не могла заменить шинель, — но был очень благодарен счастливому случаю, который свел его у Белой Глины с этими двумя красноармейцами. Теперь не надо было со страхом думать о том, что делать. Шпакевичу было двадцать девять лет, на три года меньше, чем Чубарю, однако воевал он с первого дня войны, так как призывался по закону о всеобщей воинской повинности. Ему оставалось прослужить неполных полгода, и если бы не напали фашисты, то уже нынешней осенью он снова надел бы свою милицейскую форму. В Мозыре у него осталась семья — жена и шестилетний сын… Холодилов тоже ушел в армию по так называемому ворошиловскому призыву, его забрали глубокой осенью тридцать девятого года, прервав учебу в институте. Собственно, учебы было всего около двух месяцев… Шел Холодилов всегда впереди, сам напрашивался сходить на разведку в деревни, хотя немцев поблизости и не было, и все время, даже несмотря на дождь, с его лица не сходила та недоверчивая улыбка, которую заметил Чубарь еще возле моста у Белой Глины. Казалось, человек родился с этой улыбкой, и потому не только ходил с ней повсюду, но и спал. Говорил он почти непрестанно, но каждый раз почему-то норовил повернуть разговор на опасную тему. Его занимал довольно странный вопрос: будут ли после войны судить виноватых в том, что мы все время отступаем? Шпакевич обычно не слушал своего подчиненного. Тогда Холодилов приставал с вопросами к Чубарю. Но тот тоже старался уклониться от разговора, иногда прикрикивал, на красноармейца, чтобы перестал молоть языком. Холодилов действительно замолкал на некоторое время, однако дорога была длинная, незнакомая, под дождем, и все забывалось довольно быстро, как-то само собой, и неугомонный Холодилов незаметно вновь ставил на круг свою щербатую пластинку: а вот после русско-японской войны судили генералов, по вине которых проиграли войну. Об этом написано в истории. Чубарь, конечно, злился, краснел и вполне серьезно доказывал, мол, если ты дюже грамотный, то должен знать, что русско японская война была проиграна царскими генералами, а в этой войне победа будет за нами, надо верить в то, что сказал товарищ Сталин… При этом ему самому всерьез казалось, что для доказательства вины и бездарности генералов, которые проиграли русско японскую войну, достаточно назвать их царскими; и уж конечно совсем достаточно было назвать лишь имя «товарищ Сталин», чтобы успокоить и заверить собеседника в лучшем исходе этой войны. Получалось, будто Сталин для победы имел что-то верное про запас, но чего пока не применял, не пускал в ход… Шпакевич, случалось, мирил их, и Чубаря и Холодилова, но делал это почему-то незлобно, и Чубарю было непонятно его попустительство, хотя сам он, наверное, тоже не взял бы Холодилова за жабры, если б что вдруг… Солнце не показывалось давно, и потому трудно было определить, когда начинался день и когда он кончался. Обычно даже в пасмурную погоду можно отыскать на небе солнце — в том месте тучи всегда немного светлее, и глаза тогда начинают ощущать скрытое тепло — но теперь тучи шли над землей чуть ли не в три наката, как сырой осенью, и в воздухе плавала задымленная густая морось. По обеим сторонам дороги стояла прибитая дождями рожь, а на земле белело осыпавшееся зерно. Артиллерийские залпы послышались издалека: начнутся вдруг, потом затихнут, и долго тишина кругом. И вот перед Пеклином отчетливо застрочил пуле мет — так-так-так-так… Будто вращал кто огромное зубчатое колесо. Тогда и пришло радостное чувство — близко фронт. В Пеклине стоял заслон одного из батальонов 284-й дивизии. При входе в деревню на заборе висела доска, на которой было выведено большими черными буквами: «Сбор отступавших групп, одиночных бойцов и командиров в лесу возле оборонительного рубежа». Шпакевич подошел к красноармейцу, стоявшему на посту почти по середине улицы, и спросил: — Подскажи, где тут 111-й полк? — Нам подобных сведений не дают, — ответил красноармеец, при этом молодое лицо его осталось почти неподвижным. — Нам приказано направлять таких, как вы, на сборный пункт. Туда, — он показал за деревню, где был невдалеке лес. Но Шпакевичу и Холодилову не хотелось идти на сборный пункт — попробуй докажи там, что ты выходил не просто из окружения, а выполнял спецзадание после отхода войск на новый рубеж. Зато Чубарю все равно куда пристать, но он ничего не решал, всецело полагаясь на своих спутников. И вот Шпакевич начал чуть ли не умолять красноармейца: — Браток, нам непременно надо в 111-й. Мы саперы, с задания идем. Выполняли спецзадание, понимаешь? Надо доложить командованию. — Ради вящей убедительности Шпакевич даже назвал фамилию командира полка. На постового это не подействовало, молодой и необстрелянный, он вообще свысока посматривал на всех окруженцев и отступающих, ибо полагал, что этот оборонительный рубеж для фашистов последний, через него они уже никак не пройдут… — Так все говорят, — ответил красноармеец. Шпакевич пытался разжалобить его: — Понимаешь, браток, нам очень нужно… Наконец красноармеец перевел глаза на Чубаря. Вид штатского человека будто спутал его мысли, и он с некоторым участием сказал: — Вот что, идите к лейтенанту может, он знает где ваш 111-й. — Куда это? — Тут недалеко. На крыльце там должен стоять часовой. Увидите. В деревенской хате пожилой лейтенант в накинутой на плечи шинели читал за столом книгу, она была пролистана до середины. Когда Шпакевич, строго по-уставному, начал докладывать о себе и о своем желании отыскать 111-й полк, лейтенант все еще не поднимал голову. Наконец положил левую ладонь на книгу, глянул исподлобья. — Мы тут люди новые, и нам неизвестно, где стоят какие части. Вам лучше пойти на сборный пункт. Там вас назначат куда следует. А этот товарищ, — лейтенант кивнул на Чубаря, — должен пойти в Журиничи. Там формируется ополчение. — Но нам было приказано… — Напрасно вы так, — улыбнулся Шпакевичу лейтенант, — все мы тут свои… Тогда поспешил выступить вперед Чубарь. — Товарищ лейтенант, где искать те Журиничи? — Вот это уже другое дело, — воскликнул лейтенант, которому, видимо, набили оскомину подобные разговоры. Он вышел из-за стола, поправил движением плеч шинель и показал рукой в окно: — Пойдете по этой улице, потом повернете налево. И все время держитесь левой стороны. Как начнет расходиться дорога, так поворачивайте на левую. Сколько у нас теперь? — Он вынул из кармана часы, щелкнул серебряной крышкой. — Ну что ж, если ворон в поле не ловить, то еще засветло можно дойти до Журиничей. Там у них свое начальство. Пускай разбираются с вами. Кстати, вы коммунист? — Да. — Словом, вам туда… — А может, и он пускай с нами на сборный пункт идет, товарищ лейтенант? — встрял в разговор Шпакевич, которому жалко стало отпускать Чубаря. — Нет, нет, — замахал рукой лейтенант. — Мы не военкомат. На улице Шпакевич долго тряс руку Чубарю. — Вот, Родион… — сказал Шпакевич с явным огорчением. — Если б мы вышли в расположение своего полка, то… словом, тебя не отпустили б. А тут, видишь, свои порядки… Холодилов тоже искренне сожалел о том, что приходится расставаться с Чубарем. Шпакевич снял с себя шинель, накинул Чубарю на плечи. Шинель не совсем подошла веремейковскому председателю — была коротка и тесновата. Это рассмешило сначала непосредственного Холодилова, а потом и самого Чубаря. Шпакевич еще больше нахмурился. — Ничего, — сказал он, — пока там, в твоем ополчении, выдадут тебе что-нибудь потеплее, носи эту. До тебя я немножко не дорос, факт, но ничего, пригодится. А мне дадут. Солдат без шинели долго не будет. Чубарь вдел руки в рукава и как-то по-мальчишески принялся оглядывать себя, глаза его при этом тепло повлажнели. — Ну, бывайте, — сказал он тихо. Но не успел Чубарь сделать и десяти шагов по улице, как из хаты на крыльцо выбежал лейтенант и крикнул вдогонку: — Эй, товарищ! Чубарь обернулся. — Винтовку надлежит сдать! Чубарь удивленно посмотрел сперва на лейтенанта, потом на Шпакевича, который тоже остановился, услышав неожиданное распоряжение. — Товарищ лейтенант, — подался к крыльцу Шпакевич, — это его винтовка. Товарищ Чубарь получил ее в военкомате и имеет на то удостоверение. Внезапное заступничество вдруг возмутило лейтенанта, и он сказал уже более непререкаемо: — Надо выполнять приказ. Товарищ часовой, — бросил он красноармейцу, стоявшему на крыльце, — примите оружие! Часовой сбежал с крыльца, забрал у Чубаря винтовку, тот даже заупрямиться не успел. Неожиданное распоряжение лейтенанта сперва лишь смутило Чубаря, но чем дальше он отходил от Пекли — на, где расстался со спутниками, тем глубже западала в душу обида, даже злость. Нелепым и ненужным казалось то, что у него отобрали винтовку, хоть она ни разу и не понадобилась Чубарю, не была пущена в ход, так как ни десанта, ни шпионов-диверсантов над Веремейками враг не сбросил, но незаметно и постепенно он привык к ней так же, как привыкает хромой к клюке. Быстро темнело. Чубарь не отмерил и двух километров пути, а картофельное поле, через которое он шел и которое все не кончалось, уже словно растворилось на глазах, и вскоре можно было распознать только близкие предметы да еще самую дорогу. Часы лейтенанта показывали тогда, наверное, краденое время. Как и повелось с недавних пор, в прифронтовых деревнях не зажигали огни, иначе их видно было бы в темноте за много километров. Собачьего лая, этого привычного звукового оформления вспугнутых деревенских околиц, также не было слышно сегодня. Чубарь ни на минуту не выпускал из головы совета, который дал ему лейтенант, — держаться левой стороны, но как только стемнело, стало трудно ориентироваться. Со слов лейтенанта Чубарь заключил, что Журиничи от Пеклина недалеко, однако и через три часа своего путешествия он никак не мог дойти до них. Наконец настал момент, когда он уже с трудом передвигал ноги. Дорога отнимала силы, хотя многие в свое время могли позавидовать его выносливости. Постепенно Чубарь начинал понимать, что сегодня вряд ли удастся попасть в Журиничи, на худой конец было бы неплохо набрести хоть на какую-нибудь деревню. И вдруг на дороге послышалось: — Хальт! Чубарь даже не понял, откуда долетел этот короткий и непонятный крик. Он настороженно остановился. Кто-то недовольным голосом заговорил впереди на чужом языке, и Чубарь ужаснулся — фашисты!.. Оторопевший, почти инстинктивно отскочил он в сторону от дороги, но неудачно — правая нога угодила в какую-то яму. Чубарь попытался высвободить ногу, да ничего не получилось. Потеряв равновесие, он головой вперед полетел меж борозд, хватаясь руками за скользкую картофельную ботву. Это его, очевидно, и спасло. Сразу резанула трескучая очередь из автомата, потом вторая, третья… Огненные строчки прошили на высоте метра от земли темноту, устремились мимо. На дороге застучали сапоги. Чубарь плотнее залег в борозду, казалось, даже перестал дышать. Но фашисты близко не подходили. Вели между собой разговор почти на том же месте. — Генуг. Вир фершойхен нур ди хазен. — Айн тирхен нидерцукнален, Курт, дас вере вас фюр унс гевезен. Их хабе шен швайнефляйш я цум коцен зат. Дэр арш кнурт мир фон ден эрбзенконсер-вен. — На эбен, Ганс. Айн хазенбратен лэст айнем гут гефален, дас браухен вир эст рехт. — Морген эсен вир маль. Их гляубе дох айнен гетрофен цу хабен? — Ай во! Нихт айнмаль айн шрайнен вар ну херен. Ди штербенден хазен шрайен я фаст ви дэ меншен. — Визо ден. Офтерст комет аух ганц штиль фор[4]. Но вот голоса утихли, и Чубарь еще больше насторожился, весь превратился в слух, чтобы не пропустить ни единого звука. Немцы действительно отходили по дороге в обратном направлении. И как только Чубарь убедился в этом, сразу же почувствовал, что его трясет, как в лихорадке. Полежал неподвижно, а потом приподнялся на корточки и тихо, чтоб не наделать шума, пополз. Ползти было очень неудобно — мешали полы шинели, которые Чубарь никуда не мог подоткнуть, а также борозды, что шли вдоль дороги и, таким образом, находились теперь поперек его пути. Полз Чубарь до тех пор, пока не одеревенели руки. Оставалось выбирать одно из двух — либо отдышаться, лежа в грязной борозде, либо стать на ноги. Чубарь выбрал последнее. Но, перед тем как подняться, прикинул, далеко ли отполз от того места, где произошла неожиданная встреча с немцами. Очевидно, это был какой-то патруль. По времени выходило, что до дороги, если, конечно, точно взято направление, было метров триста. Хотя это и небольшое расстояние, но можно было выпрямиться. Чубарь оттолкнулся руками от земли, встал. Минуту-другую прислушивался. Ничего подозрительного не улавливал. Тогда он вытер о шинель испачканные руки и, спотыкаясь на бороздах, пошел напрямик. Инстинкт самосохранения гнал его, как зверя, от того места, где он чуть не погиб. Ему было все равно куда идти, лишь бы не оказаться утром на виду у немцев. Поле в средней полосе обычно не может тянуться бесконечно, как бы велико оно ни было, и вскоре Чубарь действительно очутился возле каких-то зарослей. Определил это без труда по шелесту дождя в листве. Пришлось выставить вперед руки и, раздвинув мокрые ветви, войти в заросли. Под ногами захлюпала вода, но дно было твердое, и Чубарь понял, что встретилось не болото, а, скорее, полевая луговина, которая может вывести на опушку. Так оно и было. Когда Чубарь прошел по неглубокой воде луговину, началось сухое мелколесье. За ним, окутанный тьмой, стоял лес. Через некоторое время уши и глаза Чубаря стали привыкать к ночному лесу. В темноте уже угадывались комли деревьев. Чубарь подошел, ощупал кору замшелой ели. Борода на дереве была как расползшийся гриб, и ему, будто не полз только что по грязи и скользкой картофельной ботве, стало противно от прикосновения к ней. Хотя дождь и в лесу вымочил землю, но под большими деревьями было не мокро, по крайней мере, хвоя, лежавшая тут, оставалась почти сухой, ее можно было сгрести в распадану между корнями. Не раздумывая долго, Чубарь начал шарить понизу растопыренными пальцами, взрывая слежавшиеся пласты хвои. Вскоре выросла целая куча. Тогда он разровнял ее во всю длину своего тела, бросил еще несколько горстей под голову и замертво повалился на хвойное ложе
IV
За деревней, у самой дороги, что вела к Беседа, нашли убитого человека. Тот лежал в ельнике в одних исподниках, а живот его с посиневшей кожей, начавшей расползаться, непомерно вздулся, даже страшно было смотреть. Убит человек был в голову навылет — пуля угодила в щеку и вырвала весь левый висок, в рану уже успели заползти лесные жуки. Нашли его в тот день, когда Гаврилиха не погнала в свой черед коров на выпас — не захотела в такое смутное время оставлять детей одних в деревне. Веремейковские бабы покричали на улице, потараторили, как это бывает при деревенских неполадках, перемыли одна другой косточки и сошлись наконец на том, что с чередом теперь вообще надо повременить, лучше пускай каждый свою скотину пока пасет. И вот Наталья Родчихина, девка-вековуха, погнала буренку в Замосточье — небольшое урочище за одним из многочисленных мостиков — и обнаружила там неживого человека. Наталья была, как говорится, женщина, потерянная для жизни, может, именно из-за того, что осталась незамужняя и уже давно с неприязнью и отчуждением смотрела на всех и на все, что происходило вокруг, но и она ужаснулась, когда увидела между молодыми елями в высокой траве мертвеца- Корову пасти она больше не стала, прогнала, не дав ухватить и травинки, по Замосточью и возле первых дворов в Веремейках рассказала о том, что видела. Весть об убитом разнеслась по деревне быстро, и самые любопытные веремейковцы успели до вечера сходить в ельник посмотреть свой или чужой. Похоронил убитого Парфен Вершков. Сделал он это по своей воле. Взял в сарае лопату, вырыл могилу у самой дороги и забросал покойника землей, по-христиански прикрыв лицо рядном. А под вечер пришел к Зазыбе, принес Марфе корзину яблок — было это накануне великого спаса. Зазыба уже знал про убитого. И как только Вершков появился на пороге, спросил: — Что там? — Да вот… человека схоронили. — Вершков сказал это без особой скорби в голосе, как о чем-то привычном, что уже приходилось делать не раз. Подошел и сел на скамейке рядом с Зазыбой. — Что за человек? — Да кто же его знает, — пожал плечами Вершков. — Лицо незнакомое. Ясно только, что не сегодня убит и не вчера. Пропах уже. Хорошо, что похолодало, так хоть дышать можно было. Нехай пухом земля человеку будет. — И что, никаких бумажек при нем? — В одних подштанниках лежал. А клеймо на материи наше, советское. Даже номера были, это если кто разбирается в них. Но и то утешение — буду хоть знать, что не германца закопал. — Откуда ему взяться было, немцу, тут? — Вот, — вздохнула Марфа, — похоронили человека возле своей деревни, а не знаем, кто и откуда. А где-то ведь беспокоятся о нем, надеются, должно быть, что вернется. — Уголком платья она вытерла навернувшиеся слезы. — И что это война делает с людьми? Живет человек и знать не знает, где ему уготовано голову сложить. — Хорошо, если на своей земле, — задумчиво сказал Зазыба. — Ему теперь, наверное, все равно, — покачал головой Парфен Вершков. — Ясное дело, — согласился с Вершковым Зазыба, но тут же спохватился: — Не-ет, Парфен, не говори» Человек — он такое создание, что если не жить, так хоть лежать ближе к отчему дому хочет. Вот, помню, сколько нам пришлось хоронить в гражданскую!.. И от пуль гибли красноармейцы, и от хвороб умирали. В девятнадцатом в Армавире даже тиф начался, так наши было оставили больных в горах. Мой товарищ Лексей Сазонов помирал там. Все просил, чтобы домой отвезли. Ему и недалеко было, верст двести всего. Это у нас тут двести верст так дорога дальняя, кажись, на край света ехать треба, а там, в степи, что от станции до станции. — Был ведь и я позапрошлый год в тех местах, — поерзал на скамейке Парфен. Вершков, совсем без умысла переключая разговор на другое. — Наша старшая замужем в Тихорецкой за учителем. Так даже чудно — абрикосы. Мы тут, кажись, и не слышали про них, в Крутогорье и то никогда не бывают, а там абрикосовые деревья растут прямо на улице. Аккурат вот как у нас липы возле хат. Стоят деревья, даже не огороженные, а на них абрикосы. Вершков умолк, а Зазыба спросил: — Ну, а что у нас на деревне нового? — И, будто вину чувствуя за собой, добавил: — А то я теперь, видишь, как живу. Дожди все, так и я ни к кому, и ко мне никто. Да и прохворал столько. — Нового? Хватает и нового, — нахмурился Вершков. — Вчера был в поселке. Сидора Ровнягина видел. Так он тоже говорит… — Что? — Помнишь, промеж нас с тобой разговор был про колхоз? Так Сидор просил передать… — Я уж догадываюсь! — сказал Зазыба и отвернулся, словно рассердился. — А зачем спешить? — Так ты послушай, тогда и сам подумаешь, что… — Я и так много думаю. Теперь только и работы, что думать, так… — Зазыба посмотрел прищуренными глазами на Вершкова. — А вдруг наши скоро вернутся? Как на них глядеть будем? Они же недалеко отошли! Послушай ночью, как бухают пушки. Потому и говорю, не надо спешить. Тут дело еще неясное. Ну, положим, фашист дошел до нас, положим, забрал даже и нас под себя, но это ж еще не все, могут же завтра его турнуть назад, и он снова по ту сторону Беседи очутится. Придут тогда мужики, что теперь воюют доглядят, а в Веремейках колхоза нет, дезертир Роман Семочкин да вот вы, такие торопливые, по веревочке растащили. Вершков облизнул пересохшие губы. — Сидора и меня нечего равнять с Романом, — глухо сказал он. — Роман — это одно, а мы с Ровнягиным — другое. Ты сам знаешь. Тем более что Ровнягин тоже член правления. — Ну, член. — Так не враг же колхозу? — Не враг. — А зачем тогда зря наговаривать? — Не нравится мне ваша настырность. Тут с головой подход надо иметь, а вы сразу — дава-а-ай дели-и! — А ты вот послушай, что я хочу сказать. — Вершков глянул на Марфу, которая молча слушала мужиков. — Это теперь тебе Браво-Животовский да Драница не все скажут, а я так еще… Словом, что ухом уловлю, то и тебе принесу. — Говоришь, Драница с Браво-Животовским? — Так их уже и водой, поди, не разольешь. Друж-ками стали. — Чему тут удивляться! — не сдержалась Марфа, будто она давно догадывалась об этом. — А ты все еще вроде не веришь? — усмехнулся, обращаясь к Зазыбе, Вершков. Я просто в толк не возьму, ты это и в самом деле стал непонятливый или, может, притворяешься непонятливым? Тебя, кажись, даже подметные письма ничему не научили? — Вершков немного помолчал, делдя передышку. — Этот Драница ваш… — Он нагнул голову и пригладил ладонью седые волосы, сперва по темени провел рукой, потом за ушами с обеих сторон. — Когда ты был за старшину в колхозе, так Драница крутился возле тебя. Потом повернулась жизнь, стал набиваться в друзья к Чубарю. А теперь вдруг выскочил Браво-Животовский, значит, надо к нему быть ближе. Помнишь, мужики на бревнах шутили надысь, говорили, что Браво-Животовский с Драницей побежали в Бабиновичи, чтобы асессоров у немцев просить? Так оно почти так и вышло. Браво-Животовский из местечка вернулся полицейским. Это, как по-старому, считай, стражник. Только вот Дранице почему-то оружия не дали. Правда, может, Ми кита не врет, что сам не захотел. Дурак дураком, а голову на плечах тоже имеет. Как и Роман Семочкин. Я и не догадывался, что в Веремейках этакие хитрые мужики. Роман даже в местечко не пошел. Рахима одного послал. Теперь и Рахим полицейский. Но не в Веремейках, а там, в отряде. В Бабиновичах же, чтоб ты знал, из полицейских отряд создают. Набирают мужиков и из Бабиновичей, и из Латоки. И от нас вот. Словом, учреждают власть. Волость в местечке уже заместо Совета. А Браво-Животовскому поручили тут командовать. Говорят, мы тоже должны себе новую власть выбрать. Старосту. Вот только немцы что-то с этим делом тянут. — Видать, не дошла очередь до Веремеек, — совсем серьезно сказал Зазыба. — Тоже дело нелегкое. Поку-у-да это во всех деревнях выберут. Надо же поездить хоть. А тут все незнакомое — и люди и места… — Он поднял глаза на Вершкова. — А как они тех старост — выбирают или назначают? — Браво — Животов с кий говорит, кажись, выбирать будем. — Ну что ж, даже при царе старост выбирали. Стражника назначали, а старосту выбирали. — Потому Браво Животовский пока и командует. А Ми кита Драница ходит за ним, как на привязи. Когда Браво-Животовскому лень становится, Микита винтовку носит следом. Как это раньше, при Миколае было. А может, при Керенском? Сдается ж, даже товарищем министра называли кого-то. Так и Ми киту Драницу, говорю, можно величать товарищем, но не министра, конечно, до министра Микита не дорос, однако же товарищем председателя колхоза, товарищем председателя сельсовета в самый раз, это можно было, а теперь вот товарищем господина полицейского. Неизвестно только, будет ли он отписывать и новой власти на своих друзей — товарищей? — Будет, будет, — будто успокаивая Вершкова, сказал Зазыба. Тогда Вершков засмеялся. — Ладно, нехай дураков учит. А то одному Мешкову пока что довелось за дружбу с ним поплатиться! Зазыба слушал Вершкова уже без прежнего внутреннего неприятия, но держался хмуро, будто остерегаясь чего: обычно, когда Парфен начинал говорить, никто в деревне не мог догадаться, к чему он подведет. Почти все, о чем сообщал теперь Вершков, Зазыба знал от Марфы, которая наведывалась к соседям: перво-наперво приходилось экономить на спичках, уже носили утром хозяйки угли из хаты в хату, чтобы разжечь дрова в печи. Ходила Марфа к соседям и ради мужа: видела, как тот томится в неведении. Веремейковцы почему-то обходили стороной их хату, Вершков, считай, первым сегодня заглянул. Но для Парфена, как говорится, закон не писан. За ним давно утвердилась его странная слава: казалось, человек всю жизнь. сколько его помнят, только то и делал, что перечил либо односельчанам, либо приезжим людям. В двадцать девятом, когда организовывали колхоз, Вершков не пошел даже на сельский сход, он считался в ту пору середняком в деревне. Уже все веремейковские дворы были в колхозе, а Парфен вел хозяйство единолично. И только во вторую осень, когда собрал урожай своем наделе, принес заявление в правление колхоза и попросил Зазыбу, чтобы весной вместе с колхозной запахивали и его землю. С того дня он стал, пожалуй, самым рачительным человеком в колхозном деле и работал, как для своего дома. В тридцать седьмом его поведение тоже не осталось незамеченным. Когда пришли газеты о суде над маршалом Тухачевским, который был арестован вместе с другими видными советскими военачальниками, в Веремейках проходило колхозное собрание. Из Крутогорья на собрание приезжал начальник районного отдела Злотник. Может, как раз это обстоятельство и стало причиной, что на собрании, само собой, начался разговор и о новых «врагах народа». Конечно же, в Веремейках Тухачевского заклеймили позором. На собрании была принята резолюция, где мужики одобряли применение к маршалу самой высшей меры. Но во время голосования нашелся человек, который воздержался. Этим человеком был Парфен Вершков: вдруг он поднял руку в тот момент, когда совсем не следовало высовываться. Начальник районного отдела Злотник растерялся от неожиданности, готов был не заметить поднятой руки. Тогда Вершков подал голос. Это разозлило Злотника — надо же было такому случиться на собрании, которое шло при его участии!.. И вот Злотник сквозь зубы просит Вершкова объяснить «товарищам колхозникам», по каким мотивам хочет воздержаться от голосования. Местные активисты также принялись шикать со всех углов на деревенского неслуха. А старый Титок — он всегда на собраниях садился в первом ряду, — так тот вообще сунулся от имени рядовых! колхозников учинить разнос Вершкову (закричал: «Дайте сказать, дайте сказать!»). Но в президиуме собрания почему-то не разрешили выступить Титку — не доверяли. Вершков сам поднялся и объяснил свое поведение следующим образом: в Сталинской конституции, мол, записано, что каждый гражданин страны может голосовать по любому вопросу и «за» и «против», а может также и воздержаться. Словом, он, Парфен Вершков, действует согласно конституции. Это неожиданно успокоило всех. Поскольку начальник районного отдела ничего не имел против Сталинской конституции, то сразу перестал разговаривать с ним, назвав Вершкова сперва деревенским демагогом, затем просто отсталым элементом, которого надо еще воспитывать и привести к классовой сознательности. Ну и, понятное дело, Вершкова начали воспитывать после того почти все, кто имел к этому хоть какое-нибудь отношение: и председатель сельсовета Егор Пилипчиков, и директор школы Бутрима, и участковый милиционер Левшов… А грехов, вроде перечисленных, у Вершкова хватало, каждый в Веремейках мог бы вспомнить что-нибудь про Парфеновы «чудачества». Между тем человек вовсе не чудил, и это понимали в Веремейках, просто трудно и медленно он расставался с тем, к чему привыкал годами. …Перестав возмущаться Мики той Драницей, Вершков даже на минуту не дал установиться тишине. — Однако же и заговорились мы, — сделал он вид, что спохватился. — А дела не ждут, отклад ведь не идет в лад. — Откладывать никто и не собирался, — прикидываясь простачком, сказал Зазыба. — Вот перестанут дожди, всей деревней и выйдем в поле. Вершков прикусил верхнюю губу. — А Сидор Ровнягин говорит… — Почему же тогда Сидор твой молчал, когда можно было действительно говорить? — метнул на Вершкова сердитый взгляд Зазыба. — Там же был… — Однако Маштакова назвать не решился. — Там же… не одни мы с ним были. Были люди и повыше нас. Могли что-то присоветовать! — Ты про что? — захлопал глазами Вершков. Зазыба будто очнулся. — Да так, к слову пришлось. Тогда Вершков спросил прямо: — Когда ты Сидора успел повидать? — На днях. — Сам наведался в Кулигаевку или он приходил сюда? — Было, — неопределенно ответил Зазыба. — Жалуется старик на ноги. Ревматизм, говорит, донимает. — Сидор что-то хитрить стал, как в свое время Хомка Берестень, — сказал на это Вершков. Зазыба засмеялся. — Это у тебя женка еще молодая, — сказал он, — так ты молодцом и ходишь среди нас. Потому, наверное, не веришь и другим, когда жалуются на хвори разные. Конечно, тебе непременно треба держаться петухом, а то женка похватает свои узлы, да и… как от того Федора Крутеля, драпу даст. — Ты обо мне не беспокойся. У меня еще есть чем привязать к себе женку, — самодовольно буркнул Вершков. Тогда Зазыба снова подколол Вершкова: — Так это дело такое. Кто чем может. Вон Степан Ткач моток веревок привязывал в мошню для виду, чтоб сразу в глаза бросалось и никакого, мол, сомнения… — А, — махнул рукой Вершков, делая вид, что его вовсе не интересует такой поворот в разговоре, — как толстое бревно поднимать, так завсегда хитрецы найдутся. А нынче тоже надо за тяжелое бревно браться. Так, может, Сидор твой и жаловаться потому начал. Они там, на поселках, теперь все готовы Хомку в дядья взять. В Веремейках когда-то жил Хомка Берестень по кличке Абы — «абы этак, абы так», — человек, который всю жизнь притворялся. Так про того Хомку теперь вот и напомнил Парфен Вершков. Берестень ходил чуть ли не с малых лет по деревне с клюкой. И, наверное, потому, что вид у него был действительно неказистый, его жалобам на здоровье верили. Но как-то веремейковцы все же подсмотрели за ним. Хомка утречком срубил на краю Горелого болота толстую ольху и не рассчитал — дерево всей своей верхней частью упало в трясину. А понадобилась ольха на пол в клети. Хомка собирался сам расколоть ее на доски, чтобы не нанимать пильщиков. Но не будешь заниматься этим в болоте, надо выволакивать на твердый грунт. И вот Хомка обхватил руками комель, прижал к правому боку и, того не видя, что за ним наблюдают молодые хлопцы, которые возвращались откуда-то из другой деревни с вечеринки, потащил ольху на сухое место, аж сучья затрещали снизу. Конечно, в Веремейках это вызвало хохот по всей деревне — ну и Хомка Берестень!.. — Да что Хомка — махнул рукой Парфен Вершков. — Он давно истлел, а мы вот живем. Так живым надо о живом и думать. — Ты небось опять за свое? Тогда не сдержалась Марфа Зазыбова: — А ты, как погляжу, не даешь слова сказать человеку! Хочешь, чтоб мужики через тебя переступили? Так это недолго! Зазыба вдруг понял, что и жена берет Парфенову сторону, заодно с ним; даже сделала вид, что не все сказала и еще доскажет. Но напрасно ждал — Марфа взяла с припечка дерюжку, подала хозяину. — Возьми занавесь окно, лампу засветить пора. Зазыба торопливо стал на скамейку, развернул на распростертых руках дерюжку и начал цеплять за гвоздики, торчавшие вверху. Марфа тем временем поболтала керосин в лампе, подкрутила нагоревший фитиль. Когда в хате стало светло, снова сказала: — Да и поужинать час пришел, а то мы девку свою голодом заморим. — Парфен тоже с нами щей похлебает, — согласился Зазыба. — Ужинайте сами, а я из своей хаты голодным пока не выхожу, — степенно произнес в ответ Вершков. — Так у чужих всегда вкусней, — улыбаясь, сказал Зазыба и вслух пожалел: — Правда, бутылки не найдется для гостя. — Теперь, знать, один Браво-Животовский находит где-то. Мужиков угощает. Либо они его. Было уже, что некоторые поотвыкали от горелки, а теперь вот опять… Может, кто гонит уже? — Из нового хлеба? — Может, и из нового. На усадьбах бабы свое сжали ведь. — Дождь перестанет, и колхозное надо спешить жать. — Коли серпами, то давно можно было начинать. Выборочно. На горе, что возле маяка, должно быть, еще на той неделе жито поспело. Зря трактор разобрали да закопали где-то. — Ничего, справимся и без трактора. Не пожнем, так покосим. — Сколько теперь тех косарей! — Бабы тоже косить могут. — Накосят тебе бабы! Чтобы не мешать хозяевам ужинать, Парфен пересел на топчан.
Марфа уже несла к столу чугунок с варевом. Оно еще исходило паром, хоть печь топилась утром; в хате вкусно запахло томлеными щами. Зазыба достал из шкафчика, подвешенного на стене, ложки, что стояли там в деревянной, специально сделанной для этого ступке, потом крикнул, обернувшись на другую половину хаты: — Марыля, иди ужинать! Ответа не последовало. Тогда Зазыба открыл филенчатую дверь. Снова позвал. Наконец Марыля переступила порог, поздоровалась с гостем. — Ого, сколько яблок! — увидев корзинку, обрадовалась она. Молодой голос ее как-то непривычно прозвучал в хате. — Спасов день скоро, — важно сказал Вершков, — так Кулина, моя женка, и говорит, отнеси Зазыбам, нехай угощаются. Марыля подошла к корзине, взяла яблоко. — Это и есть как раз спасовка, — похвалил ее выбор Парфен Вершков. А хозяйка, словно чувствуя вину за собой, что потревожила и. гостя, и своих домашних ужином, снова начала приглашать Вершкова к столу, но тот по-прежнему отказывался. Тогда хозяева будто нехотя уселись за стол и стали есть варево прямо из чугунка. Вершков молча понаблюдал за ними, подумал про Марылю: девка-то похожа на городскую, а есть умеет как в хорошей крестьянской семье. Ели хозяева без хлеба, и Вершков, видя это, отметил про себя, что Зазыба хотя и был заместителем председателя в колхозе, но за столом не имел достатка, точно многодетный. Прошлогодние запасы, очевидно, иссякли, а из нового урожая еще ничего не получал, потому что нынче пока хлеб не убирали. Беспокойно было сидеть Вершкову на топчане. Он злился на себя за то, что так и не сумел подвести Зазыбу к главному. А главное состояло вот в чем. В Бабиновичах, после того как немцы восстановили волостное правление, комендант гарнизона Адольф Карл Гуфельд, — кстати. сказать, он быстро научил белорусов называть себя Адольфом Карловичем — приказал созвать общий колхозный сход. Полицейские бросились в близлежащие деревни. И в первую очередь отыскивали членов правления, конечно, тех, что остались на территории колхоза. Словом, все было сделано надлежащим образом — и президиум был на собрании, члены правления вроде бы вес имели, и голосование проводилось. И уж просто диву дались люди, когда комендант вдруг объявил, что немецкое командование, если этого пожелают крестьяне, может разрешить им жить и работать в колхозе. Прямо так и объяснил Гуфельд: пусть и дальше все идет в хозяйстве по прежнему. Новая власть также не против коллективного хозяйства в деревне. И вообще, колхозы должны сохраняться пока во всей Бабиновичской волости… Собственно, с этими вот вестями и пришел сегодня Парфен Вершков к Зазыбе. Но разговор между ними почти с первых слов будто забуксовал — Зазыба противился и слушать не хотел ничего, что касалось дальнейшей судьбы колхоза, особенно раздела земли и имущества. Поужинав, Марыля поблагодарила хозяев и, не задерживаясь в передней, пошла к себе, набрав изкорзины на прислоненную к груди руку краснобоких яблок. На пороге оглянулась, чтобы улыбнуться Вершкову. Марфа тем временем стала креститься, глядя на икону. Мужчины немного помолчали для приличия, потом Парфен Вершков снова заговорил. Но теперь Зазыбу будто кто подменил. Он ни единым словом не прервал гостя. И тот в основном пересказал все, что и как было в Бабиновичах. Казалось, Зазыба сперва не поверил ему, вскинул в удивлении голову и долго глядел прищуренными глазами, будто к чему-то примериваясь. Затем на его лице появилась растерянная улыбка, которая сменилась тревогой. Она была вызвана, видимо, смятением чувств, ибо то, о чем поведал Вершков, не укладывалось в привычный порядок вещей. Даже из газет — а на протяжении почти двух месяцев, пока катился до Беседа фронт, люди имели возможность читать газеты каждый день — всем было известно, что оккупанты намеревались, распускать колхозы на захваченной территории. Но вот в Бабиновичах они вдруг повели себя иначе. А, может, напрасно писали? — Так вот, чтобы ты знал, Евменович, — с нескрываемым злорадством сказал Парфен Вершков. — Не один ты теперь стоишь за колхоз. Ну, почему ты за колхоз, это ясно. А вот почему немецкий комендант в Бабиновичах тоже защищает колхоз, так это уже даже странно. И очень странно. Уж так странно, что дальше и некуда. — Действительно, — глядя куда-то в пространство, покачал головой Зазыба. — Большего дива, пожалуй, и не дождешься. — Что б это значило? — Это уж ты у коменданта спроси, — развел руками Парфен Вершков. — Но тебе, Евменович, как заместителю, есть над чем подумать. — Так… — А как на мой разум, то по теперешнему времени ничего умнее не придумаешь, как поделить все по дворам. Не может того быть, чтобы Адольф Карлович также без хитрости за колхоз стоял… Тут что-то есть такое, о чем мы пока еще не догадываемся. И потому не треба думать, что мы что-то плохое сделаем… В конце концов, ведь не лиходеи же мы! Вершков продолжал рассуждать, а Зазыба уже не мог заставить себя с должным вниманием слушать его» вдруг словно в прострацию впал: только потирал рукой кончик носа да тупо смотрел то на гостя, то на Марфу, прибиравшую после ужина со стола. …В тот вечер спать в Зазыбовой хате укладывались рано, Зазыба только проводил за ворота Парфена Вершкова, сказав напоследок ему примирительно: — Еще посоветуемся, Парфен, посмотрим… — Из головы не выходило услышанное от Вершкова про бабиновичские дела. Важно было уяснить, что произошло в местечке и чем руководствовался комендант Гуфельд, когда подал голос за колхоз. Зазыба прикинул в голове все возможные варианты, которые хотя бы в какой-то мере проливали свет на это, и пришел к странной, но утешительной мысли, которая казалась ему приемлемой, может, потому, что была… наивной по своей сути. Но обусловлена она была подсознательным желанием — хотелось, чтобы действительно было так. Вдруг Зазыбе подумалось, что бабиновичский комендант Гуфельд может оказаться немецким коммунистом. Исходил он в своих соображениях из того, что в Германии когда-то было много коммунистов и гитлеровцы вряд ли смогли всех пересажать в концлагеря…
V
Проснулся Чубарь от непонятного звука. Было утро, но он еще какое-то время с недоумением оглядывался вокруг, приучая глаза к свету, который казался неестественным после ночи. Лес, где заночевал Чубарь, был редким — большие ели, в два-три обхвата, среди которых попадались комлистые березы, стояли одна от другой сравнительно на большом расстоянии. На голых местах, напоминавших обыкновенные поляны, росли в папоротнике рябины, красневшие еще не совсем спелыми гроздьями. Что-то трещало вверху — тр-р-р, тр-р-р, тр-р-р. Именно этот звук и разбудил Чубаря. Небо сплошь было покрыто тучами. Недалеко от места, ночевки Чубарь увидел широкий, с большим подрезом пень. Вокруг него лежали выщипанные перья пеночек, зябликов, чижей… Было также несколько хвостов соек. Но больше всего рыжевато-серого оперенья перепелок. А сам пень оставался совершенно чистым. Не иначе, это была «столовка» ястреба-перепелятника. Тот выслеживал свои жертвы где-то в поле, бросался на них с высоты и приносил сюда. Чубарь при виде ястребиной «столовки» припомнил такой случай. В том году, когда он приехал в Веремейки, Зазыба как-то повез его оглядывать колхозные владения. Была середина лета, и вороной жеребец, которого купили на Гомельском конезаводе, до полудня успел провезти их чуть ли не по всей территории колхоза. На Халахоновом дворище — некогда жил там своим хутором богатый и нелюдимый мужик Халахон — Зазыба решил дать коню отдых, так как не было спасения от слепней. Новый председатель колхоза и его заместитель, точнее, заведующий хозяйством, вдвоем натерли коня болотным перцем, поставили прямо в оглоблях в тень, ослабив чересседельник, а сами сперва прошлись по лугу — в то лето овсяница вымахала чуть ли не по локоть, залив все вокруг фиолетовым цветом, — затем направились смотреть овес и гречиху, посеянные на новых делянках. Не успели они выйти на край нивы, как увидели серого ястреба-перепелятника. Сложив короткие крылья, тот падал камнем на землю. В овсе сперва послышался тревожный писк, потом началась возня. А через мгновение перепелятник взмыл вверх, В когтях он крепко держал свою жертву. Но с ней хищник не мог подняться высоко и потому летел над землей. Зазыбу с Чубарем он долго не видел. И то, что они вдруг оказались на его пути, было неожиданностью. Ястреб растерялся, и его добыча выпала из когтей. Это была куцехвостая перепелка. Хищник не успел убить ее, но сильно раздавил грудь. Птица имела беспомощный вид. Казалось, она уже не стронется с места. Но вот полежала на земле, словно ожидая, затем оперлась на крылья, встала на ломкие ножки и, выдыхая с болью «хва-ва, хва-ва», заковыляла в густые заросли овса. Тому ястребу не удалось полакомиться перепелиным мясом. Помешали Зазыба с Чубарем. А этот, очевидно, все лето безнаказанно носил добычу к пню. Чубарь разворошил носком сапога птичьи перья, постоял немного над ними, как в забытьи, а потом принялся стягивать с себя заскорузлую и грязную шинель. Впереди был целый день, и Чубарь крепко надеялся попасть за этот день в Журиничи — незнакомая деревня Стала для него своего рода заветным местом, куда еще имело смысл стремиться. В лесу стоял тяжелый грибной дух. В молодом ельнике блестел посеребренный дождевыми каплями шелковистый змеевник. Посреди мха росла так называемая грибная лапша — булавница, но почему-то не желтая, как обычно, а красноватая, даже оранжевая. Казалось, наступи на нее, и мох вокруг мгновенно о кровенится. Издали сквозь деревья виднелось картофельное Поле, по которому пришлось вчера ползти. Чубарь Нышел на опушку, стал на бровку межевой канавы и обвел глазами горизонт. По правую сторону мешали видеть окрестность кусты, те самые, что попались ему вчера в темноте. Чтобы миновать их, Чубарь пошел дальше по канаве и увидел километрах в двух от себя небольшую деревню. Возле этой деревни фашисты, наверное, и напугали вчера его автоматными очередями. Но сегодня ничто не говорило об их присутствии. Тихо, никаких примет войны: и по ту сторону оборонительного рубежа, и по эту все тонуло в привычном покое. Чубарь дошел до последнего межевого столба и увидел дорогу, идущую вдоль деревни, в полукилометре от крайних дворов. То была обычная грунтовая дорога. По ней двигались крытые грузовики. Сквозь утреннюю дымку, висевшую над землей, они казались отсюда огромными фургонами. Идти по открытому полю было небезопасно, и Чубарь рассудил, что лучше дождаться на опушке кого-нибудь из местных, чтобы расспросить дорогу и выведать все остальное. Как только мысль эта утвердилась в сознании, Чубарь стал прикидывать, что ему следует сделать теперь. Во-первых, хотелось есть. Но вопрос с едой можно было разрешить легко — спички у Чубаря были с собой, а картошка росла рядом. Куда сложнее было встретить человека. И потому Чубарь сразу занялся тем, что зависело от него, — направился в поле копать картошку. Костер он разложил подальше от того места, где провел ночь, чтобы никто не заметил его с опушки. Часа через два под еловой корягой нагорела куча углей, и Чубарь высыпал на них картошку. Этого ему с лихвой могло хватить на завтрак и обед. Но как только Чубарь утолил голод, неожиданно началась пальба. Над лесом сперва прогудели самолеты с черно-желтыми, будто фосфорическими, крестами, сбросили бомбы на оборонительный рубеж. Потом там стали стрелять зенитки, и, наконец, через некоторое время началось такое, что под Чубарем закачалась земля. Казалось, обрушилось само небо со всеми его громами и молниями. Сидеть даже за несколько километров от места боя было страшно, хотя лес этот оставался, пожалуй, одним из немногих незатронутых островков в бушующем море огня и металла… Орудия стреляли не далее как из деревни, которую видел Чубарь, когда выходил на окраину леса. Вскоре Чубарь не выдержал и двинулся потихоньку от костра, чтобы еще раз выйти на опушку и посмотреть из-за деревьев в сторону села. Такое чувство страха и бессознательное любопытство обычно выводят к опасному месту зверя. То, что вдруг увидел Чубарь за межевой канавой, заставило его содрогнуться и застыть — вдоль канавы, уставившись на картофельное поле жерлами орудий, стояли немецкие танки. Откуда они взялись тут, Чубарь не мог даже себе представить: может, в самый последний момент, под грохот боя? Вид вражеских танков нагнал на него почти животный страх. Чубарь бросился бежать в глубь леса. Во рту стало горько, будто наелся мха, росшего на деревьях. И все же к Чубарю довольно скоро вернулась способность рассуждать, потому что лес вдруг кончился и Чубарь оказался на краю ржаного поля — дальше бежать было опасно. Тем временем дождь, который затих под утро, начался снова. Но теперь он шел с перерывами: польет как из ведра с полчаса и перестанет. Чубарь выждал, пока новая стена дождя скроет его от недоброго глаза, и прямо по ржи побежал к перелеску, что был впереди. Почему-то подумалось, что лучше пока не иметь никакого отношения, пусть даже косвенного, к военным… И он бросил шинель, подаренную ему в Пеклине Шпакевичем, наземь, хотя и понимал, что пожалеет об этом в первую же ночь, которую придется провести под открытым небом. Чубарь удалялся от оборонительного рубежа, на котором уже несколько раз вспыхивал и затихал бой. Под вечер дождь снова перестал, и тогда Чубарь увидел на лужайке посреди вспаханного поля коня. Тот стоял неподвижно, свесив голову. Чубарь сразу, как увидел безнадзорного коня, повеселел. Он лишь из предосторожности оглянулся вокруг и зашагал по вязкой пахоте напрямик, волнуясь от неожиданного и еще тайного своего желания. Конь тоже обратил внимание на человека, спешащего к нему, и настороженно ждал встречи с ним. Но Чубарь знал повадки лошадей: еще издали начал ублажать его, тихо приговаривая: — Кось-кось-кось… Конь как бы поверил человеку и, расслабленно ступая передними ногами, пошевелил одним ухом, будто этим самым давал разрешение подойти, взять себя за мокрую, но теплую гриву. Он, очевидно, забрел сюда из какой-то недалекой деревни, и хотя ее не было видно, однако каждую минуту за ним могли прийти. И Чубарь не стал ждать. Оперся расставленными — почти во всю ширину — руками на лошадиный круп, подскочил и повис животом на остром хребте, а затем крутнулся и, закинув правую ногу, выпрямился. Можно было ехать. Но конь вдруг еще ниже опустил голову, будто собираясь пощипать траву. Тогда Чубарь ударил каблуками сапог по ребрам, потянул едва ли не у самой головы за гриву, стараясь заставить коня выпрямить шею. Но конь был норовистый, не хотел слушаться, только чесал о выставленную вперед ногу побелевшую, как кожа на Чубаревых сапогах, морду. — Но-о! — начал погонять Чубарь. Конь не поддавался ни толчкам, ни крику. — Вот упрямец, — сказал злобно Чубарь и соскочил на траву. Решил для надежности сперва вывести коня на дорогу. Набрякшая влагой лужайка неприятно зачавкала под сапогами. Но обильно смазанная кожа, несмотря на то, что почти не просыхала уже несколько дней, еще не пропускала к портянкам воду. Уговаривая коня, Чубарь мягко похлопал рукой по его широкому лбу, еще раз «покоськал». Потом снял со штанов ремень и накинул его коню на шею, зажав в руке оба конца. — Идем, — сказал он, словно они уже договорились, и подергал за ремень. Конь, видимо, почувствовал над собой силу, перестал упрямиться. — Давно бы так!.. — сказал Чубарь и тихо засмеялся. На дороге Чубарь в отчаянье подумал, что без уздечки конь непременно свернет не в ту сторону. Но этого не произошло. Тот больше не показывал норова, как прогнулся под тяжестью седока, так сразу и потрусил по дороге. Хоть ехать Чубарю было и неудобно, однако правду говорят остроумные люди, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Чубарь считал, что со случайным конем ему повезло, и даже очень. Этой мысли было почти довольно, чтобы вскоре позабыть, что конь может и в самом деле попутать знакомые ему дороги и провозить седока до самого утра вокруг одного и того же места. Конечно, конь был ворованный. Но на этот счет Чубарь был спокоен, он понимал дело так, что если конь даже колхозный, то по теперешнему времени, считай, ничейный. Как и в прошлый вечер, когда Чубарь шел в Журиничи, начало темнеть, кажется, с самого раннего послеобеденного часа. Над землей висел туманный полумрак. Но вчера Чубарь был полон надежд — это же не шутка, вышли они сюда, считай, из самого немецкого тыла! Вчера все складывалось как нельзя лучше, одно к одному. А сегодня то же самое как начало прокручиваться в обратном направлении. Второй раз за последние дни — первый раз в Веремейках, да и в Белой Глине, когда он очутился в пугающей неизвестности, а второй раз вот теперь — перед ним вставала задача со многими неизвестными, которую нужно было решать. Но тогда на пути у него оказались Шпакевич с Холодиловым… Теперь же снова все получалось как до встречи с Холодиловым и Шпакевичем. Чубарь должен был сам беспокоиться обо всем. Но один он уже не мог ничего придумать, не хватало не только сообразительности, но, кажется, даже сил. Понимая это, Чубарь постепенно терял прежнюю уверенность и прежнее желание, в нем брало верх что-то похожее на безразличие ко всему, что могло иметь значение в его положении. Конем Чубарь не правил, этого не требовала сама дорога, пока единственная здесь. Вскоре начался лес. Чубарь знал уже, что здешние леса небольшие, скорее, обычные перелески, потому он и подумал, что и этот тоже должен скоро кончиться. Дорога быстро привела к развилке, отсюда брали начало еще две дороги: одна, торная, была, собственно, продолжением прежней, по которой ехал Чубарь, а вторая, заросшая травой и усеянная опавшей листвой, ответвлялась в сторону. Такие дороги, как эта, обычно никуда из леса не выводят, они упираются чаще всего в журавлиное болото, где крестьяне окрестных деревень заготовляют мох для разных построек, жилых или хозяйственных. И потому Чубарь пустил коня по торной дороге. Сквозь густую морось, которая в лесу смахивала уже на обычные сумерки, Чубарь увидел человека. Странно, но Чубарь не очень-то обрадовался предстоящей встрече. По дороге шел мужчина. Это чувствовалось по походке. И чем быстрее они приближались друг к другу, тем очевиднее было, что это крестьянин — был он очень подвижен и одет в суконный армяк с накинутым на голову башлыком. — Эй, ты ненароком телки чалой не приметил? — Крикнул незнакомец первым, когда между Чубарем и ним оставалось не более десяти шагов. Но Чубарь не отвечал до тех пор, пока не поравнялись. — Нет, не видел, — пристально вглядываясь в человека, помотал он головой. Человек был рыжий, небритый (правда, теперь мало кто из крестьян брался за бритву — по случаю войны лучше было казаться старше годами) и смотрел на всадника с явной опаской, сильно щуря, видно, подслеповатые глаза. То ли сама сбежала, то ли увел кто, — с нескрываемым сожалением сказал он. — Утром не закрыли в сарае, а теперь вот целый день по дорогам бегаю. — А она, может, на лугу пасется в это время, — усмехнулся Чубарь. — Кабы знать… — Ты сам откуда? — спросил Чубарь. — А ты? — Да я оттуда, — махнул Чубарь рукой через плечо. Человек осмелел, подступил ближе. — Что-то я не знаю тебя, — сказал он. — Да и я тебя, — будто играя словами, не переставал усмехаться Чубарь. — Должно, нездешний? — Почему так думаешь? — Так своих же я знаю, — улыбнулся крестьянин. — А сам из какой деревни? — вновь спросил Чубарь. — Из Ширяевки. — Где это? — Выедешь вот из лесу, и деревня наша тут сразу. — У тебя с собой поесть не найдется? — Нету. Бегаю возле дома, так зачем мне? — И то правда, — будто теперь только понял это Чубарь. — А конь у тебя ничего, — Похвалил крестьянин. — Добрый конь. — Не иначе, краденый? — Почему так думаешь? — искренне удивился Чубарь. Человек хитро посмотрел на него и сказал: — На своем коне даже цыган не ездит без уздечки. — Цыган и на чужого без узды не сядет, — отшутился Чубарь. Разговор о коне не предвещал ничего хорошего, и потому Чубарь спросил о другом: — Немцев в деревне нет? — Вчера были на мотоциклах, а сегодня еще не наведывались. — Ну и что? Как они? — Рогов под касками не видно, а там кто их разберет, — пожал плечами крестьянин. — Покатались на мотоциклах по деревне, похватали на улице гусей, а плохого вроде ничего не сделали. — Может, спешили куда? — Кто их знает. Чубарю надобно было иметь какое-то представление о местности, и он стал расспрашивать про ближние деревни. — Значит, Ширяевка ваша недалеко? — Сразу за лесом. — А как туда ехать? — Прямо по дороге, по дороге… — А за вашей деревней какая следующая? — Так это куда ехать будешь, — рассудительно сказал крестьянин. — Если туда, — он показал на север, — то на Овчинкино выедешь, а если сюда, — и он показал рукой в другую сторону, левее, — то на Папоротню попадешь. — Журиничи отсюда далеко? — спросил Чубарь. — Журиничи… Журиничи… — крестьянин сдвинул лохматые брови. — Журиничи… — Вблизи там еще одна деревня есть, Пеклино, — подсказал Чубарь. Тогда человек улыбнулся. — Гм, про эту я слышал. Про нее меня уже спрашивали. Но Пеклино теперь где-то за линией фронта. — Там вот и Журиничи, — сказал Чубарь. — А тебе в Журиничи надо? Тогда не в ту сторону едешь. — И крестьянин начал объяснять незнакомому человеку: — Надо повернуть назад и подаваться на Петрополье, потом на Медведи, на Жанвиль, а за ними и Журиничи где-то. Это уже не нашего района. Это другого, соседнего района. — А Ширяевка ваша какого? спросил Чубарь. — Гордеевского, — с каким-то особым вызовом ответил человек, будто про Гордеевку известно было во всем свете. — А на Гордеевку как ехать? — Это уж через Папоротник.. — Ну вот и поговорили! — Чубарь сделал вид, что намеревается тронуть коня. Но крестьянин пожал плечами. — Что-то я не разберусь, тутошний ты или еще откуда, военный или нет… — А сам почему не в армии? — спросил тогда Чубарь. — Билет имею. — Ужели белый? — Конечно, не красный! — Что ж у тебя? — А меня как несли в церковь крестить, так в холодной воде искупали, — поблескивая глазами, ответил крестьянин. — Кум из рук выронил. — Ну и что? Потом, когда вырос, кума хоть тряхнул разок-другой? — За что? С белым билетом тоже можно прожить. — Особенно теперь? — сощурил глаза Чубарь. — Я по закону, — взъерепенился человек. — А ты вот тоже… почему не воюешь? Чубарь упрямо помолчал. — А кто у тебя еще спрашивал про Пеклино? — Разве вас теперь угадаешь? — сказал с усмешкой крестьянин. — Кто встретит по дороге, тот почему-то про это Пеклино и спрашивает. — Ну, а все-таки? — Вышли какие-то двое в военном на дорогу и спрашивали. «Наверное, окруженцы», — подумал Чубарь и спросил: — Где это было? — Там, — махнул крестьянин рукой назад на дорогу. — А давно? — И все тебе, как я погляжу, хочется знать! — вдруг заупрямился встречный. — А может, я слово дал! — Ладно, — буркнул недовольно Чубарь, — держи при себе свое слово. А про немцев ты правду сказал? — Какую ты хотел правду? — Ну, что в деревне их нет! — Так я же сказал, что не было. — Хорошо, проверим, — с нарочитой угрозой заявил Чубарь. — Им ведь на машинах ничего не стоит теперь, — будто оправдываясь, стал заискивать крестьянин. Чубарь тронул коня. И уже отъехав, крикнул вдогонку: — Может, купил бы коня, а? Пригодится в хозяйстве! Крикнул просто так, из одного озорства. Крестьянин обернулся, укоризненно покачал головой. — Езжай уж, езжай, пока не попался с этим конем! У нас один продавал уже так вот, а назавтра выяснилось, что конь из соседнего колхоза. Краденый, значит!.. Так что, езжай себе! — Мой не краденый! — засмеялся Чубарь. — Ладно, езжай уж, езжай!.. Конь между тем шагал не спеша, шлепая копытами по колдобинам, в которых стояла вода. Над дорогой с обеих сторон, чуть ли не сплетаясь, нависали еловые лапы, поэтому небо проглядывало только узкой полосой, которая изгибалась вместе с дорогой. Чубарь не догадывался, что впереди по дороге был красноармейский пост, его действительно с приближением вечера поставили окруженцы. В деревне окруженцы ночевать не решились, только попросили у жителей хлеба. Мясо, конину они несли с собой, а картошки можно было накопать на колхозном поле. Теперь так делали все, кто, сторонясь больших селений, двигался к откатывавшемуся в глубь страны фронту. Чубаря окликнули сразу, как только он поравнялся с постом. Близ дороги меж двух берез, что выделялись своей берестой среди хвойных деревьев, стояли красноармейцы с винтовками. Один, с нахмуренным лицом, в очках, выступил на дорогу, перехватил всадника. — Кто такой? Странно, но Чубарь не сразу нашелся что ответить. Действительно, кто он? Тогда, возле Белой Глины, Чубарь не терялся, так как знал, что говорить о себе красноармейцам. Там он был почти дома. В конце концов, для Шпакевича и Холодилова все равно, что Белая Глина, а что Веремейки. Главное, Чубарь — председатель здешнего колхоза. А теперь, в этой незнакомой местности, он был ни больше ни меньше как обычный бродяга. И те, кому он должен был говорить о себе, могли отнестись к его словам по разному, либо принимая их на веру, либо отвергая. Красноармеец между тем ждал ответа. Наскоро, чтобы не злоупотреблять терпением, Чубарь стал рассказывать про свое путешествие от Беседа до оборонительного рубежа И потом вот обратно сюда… Красноармеец слушал молча, но как только уяснил, что человек на коне не здешний, а так же, как и они, очутился в этом лесу в связи с войной, зачислил его в разряд подозрительных и решил задержать. — Хватит, — перебил он Чубаря, — остальное расскажете где следует. Мимо второго красноармейца, который в это время оставался под березами, они двинулись в лес. Чубарь на коне, а его конвоир шел рядом. — Только не вздумайте выкинуть какую-нибудь штуку, — предупредил Чубаря конвоир. — Удрать все равно не удастся. Посты кругом. — Я не вооружен, — желая успокоить красноармейца, сказал Чубарь. Но сам тем временем посматривал вокруг беспокойными глазами — хотя и был уверен в том, что встретились свои и нечего особенно опасаться, однако какой-то чуть ли не звериный инстинкт самосохранения заставлял внутренне напрягаться и быть, как говорится, настороже. Конь вдруг остановился, расставил ноги и, прогибаясь, начал мочиться. Это обстоятельство почему-то разозлило красноармейца. Он начал торопить: — Поживей, а то надумали тут!.. — Пускай облегчится, — сказал, улыбаясь, Чубарь и соскочил на мох. — Куда вы меня, в самом деле? — поинтересовался он, разминая ноги. Красноармеец не ответил. Вскоре открылся среди деревьев лагерь. Людей в лагере было немного. Горел костер. Вокруг него сидело несколько красноармейцев. Поодаль от костра стояли три шалаша, сооруженные из еловых лап. При входе в ближайший к костру шалаш лежало разостланное одеяло. На нем, прислонившись спиной к невысокому пню, сидел с забинтованной до колена ногой грузный командир с красной звездой на рукаве. На петлицах у него было по четыре шпалы. В левой руке он держал солдатский котелок и ел из него алюминиевой ложкой. Из шалаша на четвереньках вылез другой командир. Он встал сразу же, увидев коня и незнакомого человека в сопровождении красноармейца. Вышел навстречу. Конвоир доложил: — Товарищ капитан, на дороге задержан… — и так далее и так далее. Капитан, высокий, со впалыми щеками блондин, выслушав красноармейца, смерил Чубаря недружелюбным взглядом. — Мне надо поговорить с вами, — первым сказал, волнуясь, Чубарь. Капитан кивнул головой и молча отошел к шалашу Там он переговорил о чем-то с полковым комиссаром, махнул Чубарю рукой. Полковой комиссар перестал есть, но котелок не поставил. — Говорите. Кто вы? — спросил комиссар. Чубарь ответил. Комиссар улыбнулся и с любопытством оглядел его. — Однако и фамилия у вас!.. Чубарь тоже усмехнулся. — Недоразумений не бывает? Чубарь пожал плечами. Комиссар понял это как — случается… Был он с большой лысиной, которая почти на клин сходила на самой макушке. Несмотря на то что комиссару, наверное, нередко приходилось стоять без фуражки и под солнцем, и под дождем, лысина была совершенно белая. Волосы на висках и на затылке поседели до самых корней. Но широкое лицо было загорелым и не отекшим. Глаза, то ли карие, то ли черные, смотрели пытливо, однако не жестко, скорее даже немного насмешливо. По звездочке на рукаве Чубарь догадывался, что перед ним сидел комиссар, но в высоких воинских званиях, особенно политсостава, он не очень-то разбирался. Правда, теперь это не имело значения, довольно уже того, что на рукаве военного была комиссарская звезда. И тем не менее комиссар сказал: — Представляться не буду. Мое все на мне. — Он показал глазами на звезду, затем, уже рукой, на шпалы. Усмехнулся: — Под гимнастеркой тоже свое, отечественное… Фашистского ничего нет. Чубарю еще не приходилось слышать, что немцы порой переодеваются в красноармейскую форму — для провокации, и потому последние слова комиссара показались ему излишними, даже неподходящими для человека такого высокого воинского звания. — А вот про вас, — продолжал полковой комиссар, — хотелось бы узнать подробнее. Документы пожалуйте. Чубарь пошарил в кармане, подал комиссару все, какие имел при себе, бумаги. Полковой комиссар поставил сбоку котелок, собираясь проверять документы Чубаря. Но спохватился, кивнул на потолок. — Если хотите и не брезгуете, можете доесть. Чубарь смутился. Но по глазам его комиссар дога — дался, что человек голоден. — Да вы не стесняйтесь, — сказал он. — Кушайте запросто. Правда, кухни настоящей у нас нет. Харчей тоже небогато. — И засмеялся: — Считайте, что вам в какой-то степени все равно повезло. Я вот зазевался, так теперь придется поделиться с вами. Садитесь. Полковой комиссар подал Чубарю котелок. Тот еще больше покраснел — было неловко отбирать ужин у человека, который тоже хотел есть. В котелке был картофельный суп с крупой, густой, ели повернешь ложкой. Пахло мясом. Однако Чубарь есть не спешил. Капитан сходил к костру, принес краюху деревенского хлеба. — Ешьте, — сказал он Чубарю. — Мы-то знаем, что значит голодать!.. Полковой комиссар между тем занялся документами. — Ну, исповедуйтесь, — сказал он после того, как Чубарь подчистил остатки в котелке, и подвинул руками немного в сторону раненую ногу. Чубарь поблагодарил за еду и начал рассказывать о своих скитаниях. Когда дошел до того места, как они со Шпакевичем и Холодиловым оказались в Пекли — не, комиссар бросил молчаливому капитану, стоявшему в двух шагах от него: — Карту! Тот быстро достал из перекинутой через плечо планшетки топографическую карту, положил комиссару на колени, а сам опустился на корточки рядом. — Мы примерно так и полагали, — посмотрел комиссар на молчаливого исполнительного капитана. Капитан изобразил на лице что-то похожее на усмешку, кивнул головой. — Н-да, — в раздумье промолвил полковой комиссар, — по сегодняшней канонаде можно было судить… Оба — и полковой комиссар, и капитан — некоторое время не отводили глаз от развернутой карты. — Значит, в Пеклине наши? — уточнил комиссар. — Были наши, — ответил Чубарь. Полковой комиссар протянул руку. Капитан вынул из планшетки металлическую линейку. Комиссар измерил ею что-то на карте, задумался. — Ну что ж, — посмотрел он на Чубаря, — если ваши сведения точны, то мы уже почти у цели! — Вы заходили в деревни? — спросил у Чубаря капитан. — Он ведь верхом ехал! — пошутил комиссар. — Нет, больше пришлось на своих двоих, — серьезно ответил Чубарь. — А конь? — Это так… — замялся Чубарь. — А мы с тобой, капитан, сколько топаем, а вот не додумались, — снова с усмешкой сказал полковой комиссар. — Я хочу уточнить, — посмотрел на Чубаря капитан, — вы когда шли через деревни, немцев там не видели? — Я обходил деревни. И потому точно не знаю. — Вот что, капитан, — распорядился через некоторое время полковой комиссар, — пусть бойцы отдыхают. Завтра выступим на рассвете. И вам, товарищ Чубарь, тоже надо отдохнуть. — И уж совсем непонятно почему добавил: — Вы это заслужили. Капитан отошел к костру отдавать соответствующие распоряжения. А полковой комиссар поморгал усталыми глазами, устроил поудобнее раненую ногу и снова сказал Чубарю: — Вы присоединяйтесь пока к моим бойцам и отдыхайте. Думаю, они примут вас. А еще лучше, полезайте в мой шалаш. Берите вон одеяло и накрывайтесь. Будете как у Христа за пазухой. А мы с капитаном посидим. Надо разработать на завтра маршрут. — И добавил: — С вами мы потом тоже еще поговорим. Вы не против? — Нет, — сказал Чубарь. Бойцы разбросали ногами костер и разошлись по шалашам. Случайной опасности не ждали — с четырех сторон вокруг лагеря стояли посты. Чубарь тоже не заставил уговаривать себя, полез на четвереньках в шалаш. Снаружи было слышно, как разговаривали полковой комиссар и капитан. Слов их нельзя было разобрать. Да Чубарь и не старался этого делать. Он лежал и не знал, засыпать ему или дожидаться комиссара. Но неожиданно появилась новая забота — непривязанный конь мог уйти куда-нибудь ночью. Хотя Чубарь и не знал, нужен ли будет ему завтра этот конь, однако ломал теперь голову над тем, как его привязать. Не хватало простой вещи — веревки или даже обычной бечевки. Тем не менее пришлось вылезти из шалаша. — Коня посмотрю, — сказал он капитану, который настороженно поглядел на него. Конь в каком-то беспокойстве разрыл копытом перед собой плотный лесной мох, но стоял на том месте, где оставил его Чубарь. Действительно, положение было незавидное — привязать коня нечем. Тогда Чубарь подвел его к шалашу и чуть не ткнул его мордой в еловые ветки. — Стой тут, — приказал он. Когда Чубарь снова забрался в шалаш, там уже был полковой комиссар. — А что вы вообще намерены делать? — спросил у Чубаря комиссар. — Пойду с вами, — ответил Чубарь. — Там, в Журиничах, собирают ополченцев. Полковой комиссар долго молчал. — А вы считаете, что бить фашистов можно только в ополчении? — наконец нарушил он тишину. — Почему же, — не понял Чубарь, — в армии тоже… Там, наверное, еще лучше. Но тогда, в Пеклине, меня почему-то не взяли в армию, направили в Журиничи, в ополчение. — Я не о том, — сказал полковой комиссар. — Вы про партизан слышали? — Читал в газетах, кажется, в «Правде», а может, в «Известиях», двух наших полещуков-белорусов недавно наградили. Героев Советского Союза дали. Но фамилий я не запомнил. Полковой комиссар расстегнул карман гимнастерки, достал двумя пальцами сложенную бумагу и подал в темноте Чубарю. — Это сокращенный текст речи товарища Сталина, которую он произнес третьего июля, — объяснил комиссар. — Тут про все сказано. Про партизан тоже. И вас, как немобилизованного коммуниста, это касается больше всего. Чубарь слушал. — Знаете, что я сделал бы теперь на вашем месте? — продолжал полковой комиссар. — Вернулся бы в свой колхоз. Там вас хорошо знают… — Но именно то, что меня хорошо знают, может… Кто — нибудь возьмет да и выдаст немцам. — Все будет зависеть от вас. — Но там, очевидно, оставили нужных людей? — выставил тогда самый важный аргумент Чубарь. — Если бы я тоже был нужен, то… Комиссар ответил не сразу. — Мне трудно судить, — наконец начал он, — что у вас там, в районе, произошло. Но я уверен, что в вашей местности действительно кто-то оставлен для организации партизанского движения. Вы же сами понимаете, район ваш расположен на самом юго-востоке. Пока фашисты захватили его, сколько времени прошло. Теперь август, а война началась в июне. Это не то что на границе или поблизости от границы. Там могли и не успеть создать партизанские группы. А у вас тут дело другое. Вашему руководству времени хватало, чтобы выполнить директивы партии и правительства. А директивы были определенные. — Комиссар помолчал, а потом усмехнулся в темноте и с восхищением в голосе проговорил: — А с партизанами мы с капитаном встречались не один раз. Особенно за Днепром. Они там постреливают уже немцев! Слова полкового комиссара, казалось, не произвели на Чубаря надлежащего впечатления. Он воспринимал их как что-то мало касающееся его лично. И без всякого умысла поинтересовался: — А вы? Вы ведь тоже могли остаться на оккупированной территории. Почему вы не хотите партизанить? Комиссар ответил: — Я, товарищ Чубарь, старый партизан. Помните? — И он тихо пропел: — «Партизанские отряды занимали города…» Так это про нас, дальневосточников. Мы там с Флегонтовым били и японцев, и беляков. Так что мне партизанская жизнь хорошо знакома! Вернулся капитан — ходил проверять посты. Он постоял немного возле входа в шалаш, присел на корточки и окликнул: — Где вы там, товарищ полковой комиссар? — Да вот лежу. — Как бы вас не задеть? — Не бойся, лезь, я команды подавать буду — правей, левей. Но команды не потребовалось. Капитан осторожно залез в шалаш и лег справа от полкового комиссара. — Все нормально? — Порядок, — словно похвалился капитан. — Как думаешь, завтра дождь будет? — Для нас, может, и лучше было бы, если бы он завтра не переставал. Маскировка. В сильный дождь можно незаметно пройти через любые посты. — Какие они тогда посты!.. — Так я же про немецкие! — с деланной обидой воскликнул капитан. — Ну-ну, спи! Через несколько минут полковой комиссар снова обратился к Чубарю: — Так вот. Я старый приверженец партизанской тактики, чтобы вы знали, товарищ Чубарь. Даже специально доклад посылал когда-то в Реввоенсовет. Но мне там один умник, наверное, военспец, я даже не поинтересовался, кто именно, сочинил ответ: мол, гражданская война была преимущественно партизанская, потому нецелесообразно заниматься отдельно вопросами тактики партизанских действий в таком плане, как это делаете вы. Словом, отказ был решительный. После такого отказа я, естественно, положил свои конспекты на полку. Вспомнил о них лет через десять. Нет, даже больше. Да, больше. Собрался было послать… И полковой комиссар назвал, одну, очень известную в стране, но запрещенную фамилию, а потом, будто чувствуя в темноте удивление Чубаря, сказал более сурово: — Да, да, не удивляйтесь, именно товарищу Якиру. Бог не выдаст, свинья не съест, а мы с капитаном одной пулей ранены. Только он легко отделался, а я вот все еще не могу стать на ногу. — Полковой комиссар затих, потом снова глухо продолжал: — Но если по-настоящему подойти к делу, то надо целую партизанскую науку разрабатывать. Нельзя было всецело исходить из того, что воевать придется на чужой территории. Война ведь показала обратное. По крайней мере, в планах необходимо предусмотреть все. А партизанская война отличается от военных действий регулярных частей, свои законы имеет. Но задача одна — бить врага. Кстати сказать, это еще Денис Давыдов знал. И нападал на французов повсюду, где только можно. У нас же пока выходит иначе. В окружении оказались целые части. И все почему-то стремятся выйти за линию фронта. Командиры ведут бойцов из глубокого тыла, даже в бой избегают вступать. Некоторые группы идут от самой границы. Еще и теперь где-то блуждают по белорусским лесам. В июне месяце, например, в группе было сто человек, а в июле, да и в августе хорошо если пятнадцать осталось. Одни погибли, другие, к сожалению, просто отстали. И это тогда, когда не остерегаться надо, а бить фашистскую сволочь! Где стоишь, там и бей! Что держишь в руках, из того и стреляй! Чем больше перебьем мы их, тем меньше останется. В конце концов, фашистам счет есть. И если каждый из нас убьет по одному немцу, то они переведутся совсем. — Последние слова полковой комиссар произнес громче обычного, будто убеждал не столько Чубаря, сколько кого-то еще. — Правда, вы можете упрекнуть в этом и нас, нашу группу, — сказал он уже тише. — Мы тоже, как и другие, рвемся к фронту, но поверьте, товарищ Чубарь, у нас на то особая причина. Полковой комиссар, конечно, не выдал Чубарю тайны. Причина и в самом деле была. Группа выносила из окружения документы — партийные и штабные — стрелковой дивизии, разбитой в боях между Березиной и Днепром на территории Могилевской области. Сам полковой комиссар не принадлежал к командному составу этой дивизии. Он прибыл после Того, как в штабе армии стало известно, что командир дивизии погиб на командном пункте от фашистской бомбы и что управление полками нарушено. Командарм надеялся, что полковой комиссар наладит работу штаба дивизии и до назначения нового командира сделает все необходимое, чтобы не пропустить на восток танковую колонну. Но было поздно — дивизия как боеспособная войсковая единица уже почти не существовала, и его приезд, по существу, ничего не решал. В тот день вражеские танки прорвали оборону полка, стоявшего на центральном участке, и в образовавшийся коридор двинулись моторизованные части, отрезая путь к отступлению. Несколько дней вконец поредевшие полки дивизии под командованием полкового комиссара еще вели бои в окружении. Но наступило время, когда и штаб дивизии — собственно, полковой комиссар не успел создать его заново, и штабом называлась группа командиров, уцелевших после той бомбежки, — оказался в критическом положении. Во-первых, была окончательно потеряна связь с полками, а во вторых, прямо на штаб дивизии повел наступление батальон гитлеровцев. Рота охраны, которая уже до этого понесла немалые потери» обороняла штаб стойко и мужественно, но силы были неравные. Бойцы гибли при каждой новой атаке, не хватало командиров, чтобы руководить боем, и тогда полковой комиссар сам лег в цепь красноармейцев, приказав начальнику особого отдела позаботиться о документах. Фашисты, очевидно, догадывались, а может, и знали, что атакуют штаб крупного соединения, и потому атаки не прекращались и с наступлением вечера. Оценивая мысленно ход боя, полковой комиссар понимал, что дальше держаться рота не способна — вместе с ним, полковым комиссаром, которому пуля раздробила правую ногу, и капитаном особого отдела, тоже раненым, в конце второго дня оборону занимало всего человек двадцать. Дождавшись вечера, полковой комиссар отдал приказ: сниматься с позиции. Была надежда присоединиться к какому-нибудь полку диви — зии, но тщетно; сколько ни пытались бойцы наладить связь с другими подразделениями, им это не удавалось. Полкового комиссара пришлось нести на носилках. Это, конечно, сильно мешало группе. Было решено ввиду секретности выполняемого задания так называемых чужаков в группу не принимать и в бои не вступать. Делом всей группы теперь стало вынести из окружения документы дивизии. И вот, высылая передовые и боковые дозоры, а на привалах ставя усиленные посты, обособленная и небольшая группа бойцов во главе с раненым полковым комиссаром приближалась уже к линии фронта. Пеклино, о котором рассказывал Чубарь, находилось километрах в двадцати… Капитан, который не принял участия в разговоре полкового комиссара с Чубарем, вскоре уснул и захрапел на весь шалаш. Видно, сильно утомился за день. Полковой комиссар сказал с восхищением: — Настоящий солдат… — И добавил: — Пора и нам спать, товарищ Чубарь. Если чего не договорили, то завтра договорим перед расставанием. Чубарь согласился. Но с затаенной обидой подумал: полковой комиссар уже сегодня отказывает ему в том, чтобы вместе идти за линию фронта… Казалось, сон придет быстро, стоит только закрыть глаза, но не тут-то было. Чубарю долго не спалось — одолевали заботы и сомнения; к тому же не хотелось потерять коня, который стоял возле шалаша. Чубарь лежал на еловых лапах, думал и одновременно ловил ухом каждое движение лошади. В конце концов усталость одолела. Первый сон, который длился не более двух часов, был особенно крепким, и, может, потому остаток ночи Чубарь часто подхватывался, возвращаясь к ясному осознанию всего происходящего, и озабоченно настораживался: на месте ли конь? Странное дело, но и конь не хотел покидать нового хозяина. За все время, пока Чубарь находился в шалаше, он не сделал даже попытки стронуться с места, стоял и, прислушиваясь к людскому дыханию, сам забывался в коротком сне. Так они и дождались рассвета. Утро, несмотря чуть ли не на осеннюю пору, занималось быстро, и, когда зашевелился лагерь — красноармейцы первыми выбрались из своих шалашей, — в лесу уже просматривались поляны. Вверху, в кронах деревьев, пищала какая-то пичужка, будто ее живьемподжаривал кто на огне. Чубарь сбросил с себя одеяло, обвел шалаш глазами. Капитана не было. Только полковой комиссар сидя растирал выше колена раненую ногу. Чубарь передернул плечами от озноба, молча выполз из шалаша. Капитана он увидел шагах в четырех от того пня, где сидел вчера на одеяле полковой комиссар, — стоял и что — то говорил Чубареву конвоиру Красноармеец и сегодня был хмур, слушал капитана, как и тогда Чубаря, с опущенной головой, то и дело поправляя на переносице очки. Пока полковой комиссар находился в шалаше, Чубарь чувствовал себя одиноко. Наблюдая за тем, как группа готовится к походу, он как бы вновь переживал все происходящее. Было даже стыдно за свою непричастность ко всему этому. Тогда он подошел к остывшему за ночь коню и со всей благодарностью, на которую был способен, провел правой рукой по его груди. Ему захотелось ткнуться лицом в просохшую за ночь лошадиную гриву. Почувствовав человеческую ласку, конь повернул голову. В левом глазу его Чубарь неожиданно для самого себя увидел свою ссутуленную фигуру, словно в это время на него давил своей тяжестью весь белый свет, который он был уже не в силах удержать. Красноармейцы вынули — именно вынули — из шалаша полкового комиссара и осторожно, чтобы не задеть раненой ноги, усадили на пень. К комиссару сразу же подбежал капитан и отрапортовал: — Товарищ полковой комиссар, группа заканчивает сборы к выходу. Передовой дозор выслан в направлении деревни Петрополье. — Бойцы отдохнули? — Так точно. — Задание получили? — Так точно. — Хорошо, капитан. Полковой комиссар поискал глазами Чубаря и, увидев его, позвал к себе. — Мы по утрам особо не роскошествуем с харчами, надеемся обычно на ужин, — сдержанно усмехнулся он. — Так что извините, товарищ Чубарь, что не до конца гостеприимны. Чубарь ждал, что еще скажет полковой комиссар после такого начала. А полковой комиссар взял у капитана карту, развернул ее перед собой и обратился к Чубарю с вопросом: — Откуда вы? Где ваш колхоз? Чубарь в эту еще сумеречную пору с трудом отыскал на карте Крутогорье, потом извилистую Беседь и на небольшом расстоянии ют нее Веремейки. — Здесь, — показал юн. — Взгляни, капитан, — обрадовался полковой комиссар, — там же у них сплошь леса! Даже деревня посреди леса! Нет, товарищ Чубарь, грех вам искать где-то на чужой стороне то, что можно найти дома. Чубарь, конечно, не в восторге был от этих слов, ему вовсе не хотелось возвращаться в Веремейки, и он стоял перед полковым комиссаром с молчаливой обидой, чувствуя, как сохнет у него все внутри. Но ни возразить, ни попроситься идти вместе с красноармейцами он не отваживался, так как считал, что основные доводы в пользу этого высказал еще вчера. — Многим помочь теперь не могу, — даже не ожидая, что подобное возражение! или просьба могут последовать, сказал полковой комиссар, — но патронов и винтовку дам. А там добывайте оружие сами. И, ей-богу же, не плутайте по незнакомым местам. Подавайтесь в свои леса. Там почувствуете себя совсем другим человеком. Обстоятельства подскажут, что делать. Вас там знают, и вы тоже всех знаете. Бояться не надо. Все будет хорошо. Когда-нибудь еще спасибо скажете, что послушались меня. Для ясности скажу, что вы не первый, кого мне довелось вот так переубеждать. И еще… тоже для ясности… К нашей группе пробовали пристать многие. Но мы отказывали. Правда, не всем. С нами, например, идут два летчика и один танкист. Им ведь в тылу у немцев делать нечего. Их оружие — самолет, танк. Особенно если учесть, что легче построить самолет или танк, чем научить человека воевать на них, потому мы таким товарищам и не отказывали. А остальным отказывали. И я считаю, правильно делали. И не только потому, что я не способен по-настоящему командовать из-за ранения. Нет. Теперь эти люди уже, должно быть, где-то бьют фашистов, поднимая народ на борьбу с врагом. Вы тоже должны это делать. — Он снова показал на карту. — Смотрите. Мы находимся вот тут. Видите? Сразу за этим лесом деревня Ширяевка. А там и ваши Веремейки. Двигаться отсюда надо почти все время на север. Берите карту и, пока мы здесь, изучайте по ней свой будущий маршрут. Чубарь некоторое время смотрел на карту просто так, ничего не видя от стыда и нанесенной ему обиды. Потом начал различать на карте знакомые названия селений, набранные мелким шрифтом, и тогда произошло нечто неожиданное — топографические обозначения вдруг ожили перед глазами, и он стал с любопытством искать нужные дороги, речушки, деревеньки, все больше увлекаясь этим. Карта как будто перенесла его в Забеседье, и он будто заново с неподдельным интересом узнавал все. Полковой комиссар тем временем приказал капитану, чтобы Чубарю дали оружие. Сосредоточенный и серьезный капитан сам отсыпал из какого-то деревянного ящика в противогазную сумку патронов, взял у красноармейца, стоявшего возле шалаша, совсем новую трехлинейку и привычно щелкнул, проверяя затвор. — Это вам, — сказал полковой комиссар Чубарю, когда тот перестал изучать карту. — Будем считать, товарищ Чубарь, что мы с вами договорились. — И тепло улыбнулся. — Фамилию вашу я запомню, это, оказывается, нетрудно. И надеюсь, что услышу ее в сводках Совинформбюро. Чубарь не ответил. Опустив глаза, он старательно повесил на плечо сумку с патронами, затем взял из рук капитана винтовку — она вдруг будто обожгла руки. Полковой комиссар весело спросил: — Стрелять умеете? — Умею, — ответил Чубарь, по-прежнему пряча остановившийся взгляд. Ему тяжело и неловко было разговаривать с полковым комиссаром. — Тогда будем прощаться. Двое красноармейцев вытащили из командирского шалаша самодельные носилки, и полковой комиссар с помощью капитана вполз на них. — Это мой конь, — невесело сказал Чубарю, словно оправдывая свою физическую немощь. Тогда Чубарь, желая как-то задобрить полкового комиссара, предложил: — Берите моего, — и показал на коня. — И не жалко? — Вам он больше нужен. — Нет, я уж до конца поеду на своем, — не задумываясь, ответил полковой комиссар. — Так в моем положении надежнее.VI
Солнце пробилось сквозь тучи только на четвертый день. На востоке почти над самой землей вдруг образовался разрыв в тучах, и ослепительный шар медленно поплыл по очищенной синеве неба. В Веремейках солнце это видели считанные минуты, точно из-под полы, но надежда на перемену погоды уже была, как и всегда с наступлением новолуния. Говорят, придет Илья — натворит гнилья. Но не каждый год случалось, чтобы почти все спасы на дворе стояло болото. Зазыбова Марфа закрыла вьюшку — угли уже покрылись белым пеплом, — постояла в хате, принюхиваясь, не запахнет ли угаром. Нынче она хорошо натопила печь, так как Денис пожаловался ночью, что стынут ноги, и она подумала тогда: в эти дождливые дни не следует жалеть дров — и самим будет хорошо, и хата не станет сыреть зря. А еще Марфа слышала, как глухо, будто жалуясь, кашляла на той половине Марыля. Как-то незаметно, но быстро привязалась Марфа к этой неразговорчивой девушке, которую почему-то надо было выдавать за племянницу из Латоки. Эта таинственность пробуждала жалость к девушке и повелевала ни на минуту не забывать о ней, будто шевелилась внутри больная совесть, или какая-то подсознательная боязнь была за судьбу Марыли. Однако за время, пока девушка жила у них, Марфа лишь раза два попробовала поговорить с ней. И каждый раз Марыля начинала вспоминать свою мать, которая тоже жила где-то на этой земле… Угара не чувствовалось. Успокоенная Марфа вышла в сенцы, на ощупь отыскала в темном углу корзину, сплетенную из молодых сосновых корней, и вытряхнула из нее на пол остатки вялой свекольной ботвы, которую забыла скормить корове. Пока не лило с неба, можно было сходить на огород, и, очистив корзину, Марфа направилась к тыну, где между хатой’ и хлевом была калитка. Зазыба стучал топором под поветью, с самой зимы там стояла деревянная мялка, которую привозили к Зазыбовой бане, когда сушили лен, и он теперь достругивал новый осиновый шпунт, что держит в желобе мяло, а из головы у него не выходил недавний разговор с Парфеном Вершковым. Все же загадочный казался ему бабиновичский комендант. Уже из-за одного этого имело смысл наведаться в местечко, чтобы посмотреть на все, что происходило там, своими глазами, тем более что Бабиновичи и Веремейки снова, как и давным-давно, стали одной волостью. К тому же Зазыба беспокоился о том, чтобы отвезти в Бабиновичи Марылю — как было задумано — к портному Шарейке. Марфа прошла через двор, звякнула щеколдой калитки и остановилась сразу за ней. Там была дернистая площадка-лужок, которая никогда не распахивалась. Огород — большая часть их усадьбы — поник под тяжестью дождя: подсолнухи, росшие по картофельным бороздам, согнули свои шеи и уставились в землю, словно ждали, что солнце вынырнет на этот раз не за деревней, а тут, меж гряд; кияхи — местный, может даже веремейковский, сорт кукурузы, которую выращивали по всему Забеседью. с незапамятных времен, — несмело высовывали из-под широкого и настывшего, потому хрупкого листа черно-рыжие махры своих коротких, но плотных початков; возле самого плетня, отделявшего Зазыбов огород от усадьбы Евхима Касперука, точно свинцовыми слезами, плакал после дождя разбухший домашний мак. Казалось, ступишь по такому огороду шаг — и вымокнешь по уши. Но Марфа не побоялась сырости. Подоткнула подол широкой юбки и похлюпала в резиновых сапогах по скользкой стежке. В глухом углу огорода недалеко от плетня был у нее рассадник, защищенный порванным бреднем, и Марфа свернула туда, чтобы посмотреть саженцы. На соседнем, Касперуковом огороде тоже кто-то копался на грядах. Сперва Марфа подумала, что это Касперукова молодица, Варька, но Касперучиха была женщиной маленькой, а эта копной возвышалась на грядах. На ней был накинут от дождя мешок, углом на голову, и он скрывал лицо. К тому же женщина не разгибалась» Какое-то время щипала лук, потом, также не распрямляя спину, начала ломать укроп. Но вот женщина наконец подняла голову, и Марфа узнала в ней Драницеву Аксюту. У Драницы, можно считать, не было своего огорода. Кажется, и земля одинаковая, такая же, как и у соседей, и сотки каждый год засажены огурцами, свеклой, а на грядах ничего не росло, и Аксюта обычно побиралась: то сама напрашивалась поработать к кому-нибудь на огород, чтобы было что сварить летом, то люди приглашали ее, так как в хозяйстве не всегда. использовали все, что вырастало в огороде. Видимо, так вот Аксюта оказалась и на Касперуковом огороде, благо было недалеко — Драницы жили за выгоном, почти рядом с Парфеном Вершковым. В Веремейках шутили над Драницами, мужем и женой, говорили, что нечистый, наверное, не одну пару лаптей стоптал, пока свел их: Микита был низкий, вертлявый, будто чертом с ног подшитый, мог целый день без устали бегать по деревне и лишь к вечеру начинал немного кособочиться и опускать левое плечо; Аксюта, наоборот, была дородной, с заплывшим лицом и совиными глазами. Взял ее Драница чуть ли не от живого мужа — еще не минуло и шести недель после смерти того, как посватался Никита. Аксюта довольно быстро — видимо, ей не привыкать было — взяла Микиту в руки и хотя настоящего хозяина из него не сделала, чтобы барыней себя чувствовать, зато командовать им могла свободно и сколько захочет. Аксюта словно поджидала Марфу на чужом огороде, а как увидела, заспешила, топча гряды к плетню. — Что-то вас с Денисом нигде не видно? — начала сразу она. Марфа усмехнулась, сказала: — Так… дожди ж… — А мы с Микитой подумали… может, боитесь чего? Все же новая власть… — Как-нибудь проживем и при новой власти, — с явным безразличием в голосе сказала Марфа. — А мой говорит, что вас с Денисом могут еще и не затронуть. — Аксюта, как и прежде, смотрела на бывшую председательшу, почему-то заискивая, — Может, когда германец заберет все под себя, так Масей ваш, если живой да придет, даже начальником станет. Не зря же пострадал. А немцы, должно быть, распустят остроги советские. Надысь у нас собирались мужики, Браво-Животовский, Ми кита мой, так тоже говорили, сама слышала. — Дай бог, — вздохнула Марфа. — А Вершкова Кулина говорила, что у вас теперь племянница живет? — не переставала сыпать Аксюта. — Живет. — Так чья ж это? — Наша. — Я не про это. Раз у вас, значит, ваша. Я спрашиваю, чья она, по Денису приходится вам или твоя. У Дениса ж, сдается, не было в Латоке никого. — Моего двоюродного дочка. Идет из Могилева. Училась. Так от Велынковичей со станции к нам ближе ведь, чем до Латоки. Вот и осталась, пока на дорогах неспокойно. Нехай переждет. — Так разве места кто пожалеет, — сочувственно кивнула головой Аксюта и выдала самую последнюю деревенскую новость: — Говорят, Сахвея Мелешонкова родила. — Гляди ты, а я и не слышала! — удивилась Марфа. — Неужто ей время подошло? Она уже натягивала бредень на рассадник, привязывала покрепче к колышкам и разговаривала, не глядя на Аксюту, а та, словно огромная птица, держалась черными от земли руками за прутья, раздвинула их, чтобы припасть лицом. Понемногу будто распогоживалось, уже не такими темными были тучи, и хоть плыли еще по небу сплошь, но невидимое солнце пробивало их толщу. Кругом посветлело. Откуда-то прилетела на огород мухоловка-белошейка, села на маковинку. Та закачалась под ней, и мухоловка, чтобы удержаться, то опускала пестренькие крылья, а хвост, короткий и тоже пестренький, задирала вверх, то все делала наоборот. На огород она прилетела с надеждой — почуяла, что становится суше, и устремилась сюда ловить пчел, которые обычно падки на поздний огуречный цвет. Но пчел еще не было видно, они прятались в ульях… Мухоловка покачалась на маковинке и словно от нечего делать запела, сперва несмело: «Пик, пик», потом более протяжно: «Пи-и-к, пи-и-к…» Марфа, услышав это неожиданное пение, выпрямилась и поискала глазами птицу. Аксюта Драница между тем продолжала начатый разговор. — А как раз на спаса и должна была родить, — сказала она про Мелешонкову Сахвею. — Так без хозяина теперь попробуй выходи одна. Это ж когда спать с бабой, так и Мелешонок тут, а вот когда работать треба — так нема его! — Что ты говоришь, Аксюта! Ведь человек не собакам сено косит, а воюет! — Так… Вон Роман Семочкин тоже воевал, да не сплоховал. Зато дома теперь. А Мелешонок, может, голову положил где. И кости дождь этот полощет, если не присыпал землей кто… — Оно так, — сказала Марфа неопределенно, то ли соглашаясь с Аксютой, то ли думая о чем-то своем. Рассадник наконец был поправлен, и Марфа отошла от него, начала ломать на грядке свекольную ботву. Когда корзина наполнилась, она бросила на ядреную ботву два огурца-семенника, лежавшие до сих пор, как опаленные поросята, на черноземе, и той же стежкой вернулась во двор. Зазыба уже не мастерил. Под поветью у них был отгорожен высокий закуток, где обычно Масей, когда приезжал домой и лепил фигуры, складывал разный инструмент, материалы, а больше глиняные или гипсовые заготовки, и Зазыба теперь что-то искал там. Некогда Зазыбы, жившие в Веремейках, очень удивились, что один из их рода проявил склонность к явно непривычному в крестьянстве делу. А началось как бы с забавы. В двадцатом году в хату к Евмену Зазыбе попал на постой чех из интеротряда, который направлялся на польский фронт, и маленький Масей увидел, как тот из глины и воска лепил человеческие фигурки. Вылепил чех и голову хозяина дома. Но деду не понравилось — мол, нечистая сила все это! Пришлось смущенному чеху переделать человеческую голову на… дыню. Чех тот пожил в Веремейках, кажется, с неделю, пока стоял весь отряд, но Масею хватило этого. Вскоре он начал брать тишком с божницы бабкины свечи и лепить из них всякую всячину, а как подошло лето, принялся таскать во двор глину. В погожие дни обычно все на Зазыбовом дворе — и завалинка под окнами, и крыльцо — было заставлено Масеевыми «изделиями». Дед Евмен ходил довольный: «Вот и мастер, гляди? Может, гончаром станет, так!.. — Тогда считалось, что даже плохой гончар не хуже среднего хозяина. — Теперь, — твердил он сыну своему Денису, — надо подождать, пока хлопец немного подрастет. А там купим гончарный круг, глина-то вон за хатой, только и расходов потом, что на свинец, чтоб кувшины да горшки обливные получались». Но радовался Евмен Зазыба до тех пор, пока все, что лепил из глины Масей, было похоже на горшки, а как только на завалинке под окнами увидел человеческую голову, похожую на чеха из интеротряда, то разочарованно махнул рукой: и этого сатана совратил! Потом дед смирился с «чудачеством» внука. Но не дождался, пока тот выучился. И все же Масей вылепил скульптурный портрет деда Евмена. По памяти. Теперь портрет который год стоит в хате, накрытый, словно от мух, черной шалью… Марфа зашла под поветь сказала: — Вон Аксюта Дранинева говорит, что немцы будут распускать наши остроги, так, может, и Масей тогда?.. Зазыба высунул из закутка голову. — Откуда она это знает? — Так люди ж что-то знают! — с непонятной злостью сказала Марфа. Тогда Зазыба свел брови и вскипел: — И ты тоже… такая же дура, как и Драницева Аксюта! Мелешь языком невесть что! От его крика Марфа вздрогнула, залилась слезами. Некоторое время взбешенный Зазыба тупо смотрел на нее, не понимая, откуда взялось все это у жены, потом смягчился. Что-то жалостливое шевельнулось в нем при виде слез, он смущенно оглянулся вокруг и, широко размахнувшись с досады, вогнал топор острием в стену.В деревне на родины ходят охотно — бабы утром пекут оладьи, яичницу, завертывают в наметку[5] и несут потом все это в хату к роженице. У Марфы печь сегодня уже была вытоплена, и ничего особенного, с чем можно идти на родины она не готовила. Просто принесла из чуланчика сырые яйца, положила, пересчитав, в берестовый кузовок, похожий на польскую конфедератку. Но этого было мало. Тогда она открыла в сенях кадку, оттуда пахнуло старым салом. На дне в несколько слоев лежали пожелтевшие куски еще рождественского. Кабанчика Денис заколол ладного, и хотя было всего двое едоков, но к жатве оставалось от того кабанчика не так и много — в чуланчике на жерди висел завернутый в тряпицу окорок да вот эти восковые куски в кадке. Зазыбы, как это бывает обычно в деревне, давали в долг Касперучихе, тем же Прибытковым, и на скорую отдачу теперь рассчитывать не приходилось. Марфа взяла из кадки кусок фунта на четыре, стряхнула с него соль. Подумала отрезать от него малость, но не стала этого делать — понесет целый. Берестовый кузовок сразу же потяжелел и Марфа накрыла его наметкой. — Вы тут поедите без меня, — сказала она Зазыбе, который, придя со двора, прилег на топчан: хотя и короткая, но неожиданная ссора с женой под поветью расстроила его, пожалуй, больше, чем недавняя стычка на конюшне с Романом Семочкиным. Зазыба хорошо понимал, что злиться, а тем более повышать так голос на Марфу не стоило; та будто заново в эти дни переживала за сына и потому легко принимала к сердцу все, даже неразумное и злое, что ей говорили, лишь бы что-то услышать о Масее, обрести хоть какую надежду на его возвращение. И ему теперь было стыдно и неприятно оттого, что, накричав на Марфу, он тем самым, считай, накричал и на себя — вот уже много лет, как жена стала его молчаливой тенью, казалось, она никогда и не догадывалась, что можно жить и вести себя иначе, что можно в чем-то отличаться от мужа. К тому же Зазыба считал, что Марфе и вообще не слишком повезло в их доме: рано, чуть ли не у самого алтаря, пришлось браться ей за всю женскую работу в хозяйстве, так как свекровь, Денисова мать, хворала, доживая последний год на этом свете, а Денисова сестра Устинья собиралась ехать со своей семьей в Сибирь — у Зазыб, чтобы им отделиться, не хватало земли, в то время как где — то в далекой Сибири ее в избытке, и Устиньин муж, как и многие в Забеседье, наслышавшись разного про «сибирское Эльдорадо», не удержался от искушения, тоже захотел податься туда, да и зажить наконец самостоятельно. Правда, им пришлось делать несколько попыток, чтобы выехать. Возы со скарбом то и дело перехватывались стражниками на белынковичском большаке, который вел на Рославль, — когда отъезд на новые земли среди здешних людей стал массовым, или, как писали в своих бумагах тогдашние чиновники, «неплановым и повальным», был отдан приказ задерживать переселенцев и возвращать в деревни. Кажется, только на третий раз мужикам удалось обойти стражников, которые Скрип колес слышали издалека, будто журавлиный крик. На этот раз веремейковцы уже ехали хоть и кружно, однако по другой дороге — сперва через лес на Держинье, потом на Мошевую, возле имения Шкорняка, и уже оттуда двинулись на Клинцы. После отъезда золовки Марфа стала единственной хозяйкой в доме, но, как говорится, с того дня и вовсе света белого не видела — трудилась денно и нощно. — Ладно, — отозвался Зазыба. На голоса вышла со своей половины и Марыля. — Куда это вы, Марфа Давыдовна? — спросила она хозяйку. — К роженице, — ответила Марфа, по-крестьянски ласково улыбнувшись девушке. — Родила у нас тут одна, так… Не знаю, хлопца аль девку. Схожу вот, проведаю. Она взяла накрытый наметкой кузовок со стола и вышла. Мелешонкова хата стояла почти у леса, в так называемых веремейковских Подлипках. По ту сторону селились позже всего, когда в деревне стало не хватать ни земли для новых хозяйств, ни места для подворий. Мужики, как деды их, корчевали там делянки, мотыжили и пахали, и немало на это было затрачено времени, немало пролито пота, но пуща постепенно отступала перед человеком. Мелешонковы подались в Подлипки после других, и потому хата их была крайней. В Веремейках говорили, что в окна к Мелешонковым в лютые зимы заглядывают даже изголодавшиеся волки. Теперь в Подлипках жило несколько семей — одной небольшой улицей, — и за каждым двором там были сады с разросшимися, еще по-лесному крепкими деревьями, с буйным цветом весной и гулким ночным яблокопадом осенью. В Подлипки от Зазыбовой хаты можно идти по деревне, главной улицей, в конце лишь повернуть придется направо. Однако то была дальняя дорога. И Марфа, закрыв за собой калитку в переулок, поспешила напрямик — за нижними огородами вела в Подлипки стежка, надо только удержаться на узенькой гати, соединявшей травянистые пригорки. После затяжного и почти непрестанного дождя гать совсем расползлась, поэтому Марфа подобрала возле стежки ольховый хлыст и несмело ступила на порыжевшие^ давно слежавшиеся под болотной грязью еловые ветки. Но все обошлось. Гать выдержала, и Марфа со своим кузовком очутилась вскоре на травянистом пригорке» откуда так хорошо видны и хаты в Подлипках, и озеро за ними: Над деревней еще висела мельчайшая сетка, сотканная из дождя, но на крыше Мелешонковой хаты уже поблескивало в скупом свете дня какое то стекло. Марфа увидела с пригорка деревню и неожиданно обрадовалась, ведь в последнее время она никуда не выходила далеко, все горевала да пыталась приглушить в себе тот холодный страх, в котором жили теперь все деревенские; там, возле своей хаты, она все это время чувствовала гнет неизвестного, того, что предстояло испытать, а здесь, на этом травянистом пригорке, всего в полукилометре от дома, ничего похожего не ощутила. Достаточно было увидеть ей, что все в деревне оставалось нерушимым и что ничего плохого пока ни с кем не случилось. Более того, Сахвея Мелешонкова даже родила ребенка!.. Марфа озабоченно глянула на свои парусиновые туфли, выпачканные болотной тиной, поставила возле себя берестовый кузовок и, подобрав юбку, принялась вытирать мокрой травой кожаные носки. У роженицы, когда Марфа пришла туда, уже сидели Кулина Вершкова, Галка Симукова, жившая неподалеку, в тех же Подлипках, а также Ганнуся Падерина, а из молодиц — солдатки Дуня Прокопкина, Роза Самусева и Гэля Шараховская. Эти трое были подругами Сахвеи еще с девической поры. На столе почти под самой божницей, откуда меланхолично созерцал хату ‘раззолоченный Николай-угодник, стояла пузатая бутыль с брагой. Наверное, женщины уже пригубили этой браги и теперь сидели все, и старшие и младшие, на одной лавке, вели шумный разговор. Бабкой-повитухой у Сахвеи была Титчиха, старая Рипина. Она в Веремейках приняла на свет не одного человека, и ее охотно звали. А у Сахвеи она принимала второй раз. Теперь Титчиха хозяйничала — шустрая, как молодица, она быстро, как в своей хате, находила нужную вещь, встречала женщин, приходивших проведать роженицу, угощала брагой и не забывала о Сахвее, которая лежала на топчане, обессиленная, но довольная собой и тем, что происходило в ее хате, благо была возможность сегодня спокойно полежать. Рядом с роженицей стояло корытце, в котором спал в чистых пеленках родившийся человек. Марфа поставила кузовок на стол, повернулась лицом к Николаю-угоднику, перекрестилась и потом только подошла к топчану. Осторожно, чтобы не потревожить младенца, отвернула рукой легкое покрывало, глянула на красноватое личико. — Спасибо, Давыдовна, что пришла, — сказала Сахвея. — Кого же ты теперь, дочку или сына? — спросила Марфа. — Дочку, Давыдовна! — Так хорошо… — А что сыны! — отозвалась с лавки Гапка Симукова. — Не успеешь вырастить, как их уже забирают от тебя! — Правду, тетечка, говоришь, — поддержала ее Ганнуся Падерина. — Вон у Крутилихи их пятеро, а где они теперь? Ни слуху ни духу. А мать сиди плачь да жди. — Правда, правда… — покачала головой и Вершкова Кулина, хотя у самой сыновей не было. — А хлопчик твой где? — спросила тем временем Сахвею Марфа Зазыбова. — Где-то гуляе-е-т, — ответила улыбаясь роженица. — Может, у соседей. — Ну, а ты как себя чувствуешь? — А-а-а, дело привычное! Дитя в корыто, а сама уже было за ухват да к печи. Так бабы вот подошли. На топчан загнали. — Ничего, полежи, — сказала Марфа. — Есть кому помочь. — Так и я обрадовалась, — улыбнулась Сахвея, — разлеглась вот. Только как мне теперь с ними одной? — и стала тереть кулаком сухие глаза. — Тебе нельзя волноваться, — пожурила ее бабка-повитуха, — а то молоко перегорит. Чем дитя будешь кормить? А мужик, бог даст, вернется. Все вернутся, кому богом суждено, и твой придет. — Иди-ка, Зазыбова, — позвала Ганнуся Падерина, — иди-ка выпей с нами. Сахвея браги наварила, так… Повитуха заглянула под наметку в Марфин кузовок, переставила его со стола на окно, где уже стояли кошелки и кувшины, и тоже начала приглашать: — Давай, Давыдовна, и взаправду пригуби чуточку. Она налила в корец браги. Марфа подняла тяжелый корец, сказала: — Ну, за твое здоровье, Сахвейка! — выпила брагу и села с бабами на лавку. — Мы это, Давыдовна, про войну тут без тебя говорили, — сказала Кулина Вершкова. — А я их ругаю, — перебила Кулину громким голосом Рипина Титкова. — Песни пойте, зачем про войну! И вдруг Дуня Прокопкина действительно запела:

Наконец вернулась в хату Рипина Титкова, посмотрела на раздурившихся молодиц и сказала, словно радуясь: — Ну и понапивались же бабы! Вот тебе, Сахвейка, и брага. — Она подошла к столу и охотно выпила еще корец браги, вытерла беззубый рот, повинилась перед Марфой: — Прости, что задержалась! — Не беда, — махнула рукой увлеченная Марфа. — А я полежу, пока вы тут… — сказала Рипина и полезла, нарочно кряхтя, на топчан, свернула там большой, с прожженной полою армяк, в котором Мелешонок водил коней в ночное, и положила себе под голову. На улице между тем смеркалось. Наступал вечер. Где-то еще гулял по деревне Сахвеин сынишка, и Марфа пошла искать его. Нашелся мальчик у Антона Жмейды, что жил возле кузницы, и пока Марфа вела его оттуда в Подлипки, завечерело по-настоящему. Танцев в Мелешонковой хате уже не было. Сахвея на топчане давала грудь своей дочке. А вокруг прибранного от посуды и застланного белой скатертью стола сгрудились подруги. Дуня Прокопкина направляла пальцами зажженную восковую свечу, которая никак не прилипала к дощатой подставке, аГэля Шараховская нетерпеливо держала в руке белое, выкованное из серебряной монеты, кольцо. Посреди стола стоял стакан чистой воды — женщины собирались начать гаданье… Сперва бросали кольцо, загадывая на Ивана Саму-ся, но Роза напрасно ждала — в стакане не возникло даже тени. — Теперь на Мелешонка надо загадать, — предложила Ганна Карпилова, которой вовсе не на кого было гадать. Гэля Шараховская подержала над стаканом кольцо и бросила его в воду. Кольцо опустилось на дно. Потревоженная вода в стакане через некоторое время отстоялась, и четыре женские головы склонились над столом. С ребенком на руках, несмело подошла хозяйка. Она стала впритык к столу, вытянула шею и, краснея от волнения, тоже уставилась на стакан. В хате было тихо. Только шумно дышала на топча не Титчиха. Прошла минута, вторая, и Ганна Карпилова, вздохнув с облегчением воскликнула: — Живой твой Мелешонок, живой!. — Правда, Сахвея, живой он! — сказала и Роза Са-мусева. Но сама Сахвея пока ничего не видела в стакане. Кольцо по-прежнему лежало на дне, и в нем не появлялось никакой тени. Тогда Сахвея осторожно обошла стол, припала жадными глазами к стакану с той стороны, где сидела Ганна Карпилова. И правда, теперь в серебряном кружке под водой померещилось ей что-то похожее на человеческое отражение. Сахвея убедилась в этом и сразу точно обомлела от неожиданной радости, кажется, впервые за весь трудный день почувствовала свою слабость, закрыла глаза и покачнулась, как в обмороке, так что Марфе пришлось поддержать ее за плечи. — Живой! — вздохнула Сахвея. Она прижала к себе дочку и прошлась с ней по хате. — Слышишь, живой наш тата! — радостно сказала она и мальчику, который посматривал на все это с печи. Попросила погадать Дуня Прокопкина. И на ее мужа кольцо в стакан опускала Гэля Шараховская. Женщины опять склонили головы над столом. В серебряном ободке на этот раз возникла едва заметная тень, которая чем-то напоминала сундук. — Глянь, гроб, — шепнула Ганна Карпилова. Дуня при этом вздрогнула, крикнула сдавленным голосом: — Так это ж я на поминках его плясала!..
VII
Чубарь садился на своего коня уже не так, как в первый раз, — теперь подвел его к вывороченному пню, оставшемуся после бури, ступил на него и, занеся правую ногу, почти сверху ловко опустился на податливую спину. Конь, не ожидая лишнего понукания, отыскал во мху глубокие вмятины от вчерашних следов и повез седока к дороге. Откуда-то из-за деревьев выскочил большой, весь в желтых подпалинах кот, изогнулся, будто разминаясь, и сел шагах в восьми. «Перебежит или не перебежит дорогу?» — загадал наудачу Чубарь. Но кот не пытался трогаться с места. Тогда Чубарь громко, по-мальчишески, свистнул, и кот испуганно прыгнул в сторону, скрываясь в пожухлом папоротнике. «Значит, повезет!» — решил Чубарь. А везенье состояло пока лишь в том, чтобы выехать на нужную дорогу. В Чубаре опять ожило беспокойство человека, которому предстояло немаловажное дело. Хотя он еще и не принимал того, что должен ехать в Забеседье, как разумный и единственно нужный в его положении исход, но ослушаться полкового комиссара уже не мог. Во-первых, полковой комиссар в сравнении с ним был старшим и по возрасту и по партийному положению, а во-вторых, в доводах полкового комиссара была обоснованная убедительность. Действительно, кому, если не таким коммунистам, как Чубарь, прежде всего надо было оставаться на месте, чтобы налаживать борьбу в тылу вражеских войск? Правда, Чубарь особенно не обманывался на сей счет: Зазыба был прав, когда укорял при их последней встрече, что за время председательства он так и не сошелся по-настоящему с веремейковцами. Теперь Чубарь даже представить себе не мог, на кого в деревне можно будет рассчитывать, когда дойдет до настоящего дела. Сколько он ни перебирал по памяти мужчин, которые по разным причинам, а более всего по непригодности к военной службе остались в Веремейках, логика рассуждений приводила к печальным выводам — кроме Дениса Зазыбы да, может, Микиты Драницы, особенно надеяться было не на кого. Конечно, белобилетники не шли в счет. Утро постепенно наступало, и по тому, какое высокое над лесом небо, можно было предполагать, что дождя сегодня не предвидится, по крайней мере, в начале дня. Конь вышел на знакомую дорогу, стал поперек, будто решил подождать, чего захочет хозяин. Тогда Чубарь похлопал его левой рукой по мускулистой шее, и тот послушно повернул направо. Не проехал Чубарь и полкилометра, как в просветах между деревьями выступили хаты небольшой деревни. Они начинались почти от самого леса. И вообще деревня стояла как в лесном тупике, только по левую сторону, если смотреть с дороги, открывалось глазам поле, на котором в суслоны были составлены какие-то снопы. Деревня — то была Ширяевка — показалась Чубарю тихой. По самой опушке шныряли, взрывая дерн, крестьянские свиньи. Под окнами крайней хаты стояли и разговаривали люди, одни мужчины. Если бы в деревне были немцы, рассудил Чубарь, то вряд ли стояли бы крестьяне так открыто. На всякий случай он щелкнул затвором и, взяв в руки винтовку, как берут обычно ружье охотники, въехал из-за деревьев прямо на деревенскую улицу. Всадника заметили сразу. Особенно не сводил с него взгляда крестьянин, стоявший в центре круга. В глазах его были одновременно и удивление, и неожиданная радость. Подъезжая, Чубарь даже улыбаться начал, было такое впечатление, словно они узнавали друг друга. Но крестьянин вдруг вышел из круга и кинулся к всаднику, хватаясь обеими руками за гриву коня. — Отдай, — прохрипел он, едва не захлебываясь от злости. Лицо у крестьянина, должно быть от внутренней натуги, было багрово синим. Даже для деревни одежда его была не совсем обычной: на кудлатой голове кошкой сидела потертая солдатская шапка, а на ногах были пеньковые лапти, надетые на войлочные голенища, что-то наподобие самодельных, хоть и не по сезону, сапог; и вообще, кроме солдатской шапки, все остальное также было на нем самодельное, например, короткая суконная куртка, покрашенная в черный цвет, успевшая полинять, и такие же штаны-галифе… Сухими цепкими глазами крестьянин прямо-таки пронизывал Чубаря. Во всей встопорщенной фигуре его появилась какая-то кабанья решимость. Казалось, вот-вот нападет он на самого всадника. Но, очевидно, вооруженный вид того сдерживал крестьянина, и он только твердил, напрягая на шее толстые жилы: — Отдай! Тем не менее Чубарь, тоже на всякий случай, подвигал винтовкой и приподнял правую ногу, словно примериваясь, как бы при необходимости оттолкнуть человека. А между тем это был настоящий хозяин коня. Если оы встретились они раньше, да один на одни, можно было надеяться, что между ними ничего не про — изошло бы. Скорее всего Чубарь слез бы тогда с коня и, не переча, отдал его хозяину. Но встреча произошла посреди улицы, на глазах у незнакомых людей, которые неизвестно как могли отнестись ко всему. Чубарь обычно вспыхивал быстро. Но на этот раз злость в нем будто уснула. И тем не менее настал момент, когда он уже был готов повысить голос на крестьянина. Тогда вперед выступил другой мужик и сказал, обращаясь к Чубарю: — Слушай, отдал бы ты и впрямь коня, а? Это его конь. Не надо обижать человека. Отдай!.. В неожиданном заступнике Чубарь узнал ширяевского мужика, с которым они вчера поговорили на до роге в лесу. Теперь тот стоял без армяка, в фуфайке, застегнутой на все пуговицы. — Отдай!.. Чубарь обвел взглядом остальных мужиков. Тут были преимущественно старики. Только трех или четырех можно было посчитать пожилыми. — Это петропольский единоличник, — кивая на отыскавшегося хозяина коня, начал объяснять Чубарю знакомый крестьянин. — Отдай ему коня. Без коня ему нельзя. У него детей полна печь. Почувствовав, что наступил подходящий момент, Чубарь перекинул в левую руку винтовку и ловко, несмотря на свой немалый вес, соскочил на землю. — Раз твой, бери, — сказал он хозяину коня, но таким голосом, будто не имел к этой истории никакого отношения. Дрожащими руками, словно еще не веря в свою удачу, единоличник начал взнуздывать коня, за которым ему пришлось-таки побегать этой ночью. Его поспешность даже рассмешила ширяевских мужиков. А Чубарь, видя, что все окончательно и по-доброму улаживается, бросил с независимым видом одуревшему от счастья человеку: — Тоже мне хозяин! Бросил где попало коня, а теперь сопли распустил! — А помнишь, что я тебе говорил про этого коня? — насмешливо посмотрел на Чубаря вчерашний знакомый. Чубарь не ответил. — Немцев нет в деревне? — спросил он, давая понять, что его интересует сейчас совсем другое. — Ну да, при немцах вы бы так из-за коня петушились! — засмеялся крестьянин и оглянулся на односельчан: мол, чудак приехал. Чубарь тоже начал улыбаться, но его улыбка была вынужденной и потому даже глуповатой. — Я гляжу, ты сегодня даже с винтовкой! — продолжал крестьянин с насмешливым восхищением. — А вчера, кажется, не было? — Это ты не заметил, — не желая вдаваться в подробности, сказал Чубарь. — А я все спрашивал у своих, не проезжал ли через деревню верхом на коне человек? Такой и такой, мол. А они вот говорят, не видели, не проезжал. — Нашел свою телку? Крестьянин встрепенулся и пристально, будто пронизывая насквозь, посмотрел на Чубаря. — Теперь-то я догадываюсь, — сказал он отчужденным голосом. — Ты, видать, заночевал с теми. Помнишь, я говорил? Тогда признайся, они мою телку сцапали? Чубарь отрицательно мотнул головой. — То были настоящие красноармейцы! — А что настоящие не хотят вкусно поесть? — Не говори глупостей, — уже явно со злостью посмотрел на вчерашнего знакомого Чубарь, не хотелось, чтобы возводилась напраслина на группу полкового комиссара. — Красноармейцы воровать не станут. Головой ручаюсь — ни одного мосла не найдешь возле шалашей! Иди посмотри! — Мало ж ты голову свою ценишь! Мослы и закопать можно, — не отступал недоверчивый крестьянин. — Ну, не знаю, — не находя более веских аргументов, сказал Чубарь. — Но это точно, красноармейцы как пришли откуда-то почти голодные, так и дальше пошли. — А не те ли это, что у нас, в Ширяевке, вчера были? — подсказал кто-то из мужиков. Тогда заступился за Комиссаровых красноармейцев самый старый среди ширяевских мужиков, с виду неказистый, зато необыкновенно живой дедок. — Ты, Егор, и правда, зря это, — начал усовещивать он односельчанина. — Я сам видел их начальника. Крупный такой, со звездой на рукаве. Вряд ли позволит он своевольничать. Хоть и на носилках, а не позволит. Не может быть, чтобы такой большой начальник да позволил. Нет, эти не трогали твоей телки. — А мне будто не все равно, эти или другие! Главное, коровы, считай, нет во дворе! — Ну, до коровы ей, положим, еще далеко, — спокойно возразил дедок. — Может, найдется твоя телка, — посочувствовали Егору остальные мужики. — Ладно! — махнул рукой раздосадованный Егор. Ему не хотелось смотреть не только на Чубаря, но и на своих. Чубарь спросил, ни к кому прямо не обращаясь: — Значит, немцев у вас нет? Мужики заулыбались. — Да вот, — сказал один, — сами стоим, будто ждем. Коров давно угнали в лес, а свиней возле деревни держим. Как только нагрянут немцы, так и погоним тоже в лес. — А я говорю, пустяками занимаетесь, — не утерпел Егор. — Это еще кто знает, как оно лучше. Я вон если бы из пуни не выпускал свою, так, наверное, теперь цела была бы. — Но почему ты считаешь, что твою телушку обязательно красноармейцы зарезали? — попытался еще раз убедить Егора Чубарь. — А я не говорю, что красноармейцы, — уже огрызнулся Егор. — Теперь хватает… и красноармейцев и не красноармейцев. Один коня уведет, другой телку. — А немцев ты даже в расчет не берешь? — Охота немцам телкой заниматься! Им пока гусей да кур хватает. Да и красть они не будут. Придут во двор и заберут что захотят. — Егор правду говорит, — становясь на сторону односельчанина, сказал дедсгк. — Ага, — подтвердили, кивая головами, мужики. — Позавчера они тут показали себя, — снова сказал старик. — А сами кто будете? — спросил он Чубаря. — Партизан. — Чубарю захотелось сразу показать ширяевским мужикам, что перед ними не простой прохожий. — Во-во! — почему-то воскликнул при этом Егор. — Да, партизан, — будто наперекор кому-то, повторил Чубарь и почувствовал, как в этот момент в сознании его произошло самое важное: он уже спокойно называл себя в новом качестве, на которое пока, как ему казалось, не имел и оснований. Хотя ширяевские мужики и до этого видели, что Чубарь не простой бродяга, а вооруженный человек, значит, имеет если не власть, то отношение к чему-то очень важному, но ответ его удивил их. Слово «партизан» для здешних крестьян было пока не только непривычным на слух, но и не вполне понятным. Конечно, они слышали про партизан еще с гражданской войны, но тогда в этой местности партизаны не действовали, и потому представление о них складывалось преимущественно по слухам. — Так как это теперь будет? — спросил разговорчивый дедок. — Здоровых мужиков забрали в армию. Значит, воюют на фронте. А в партизаны, должно быть, будут набирать тех, кто не подпал под мобилизацию. Таких вот, как Корней, — и он показал глазами на плечистого, но уже действительно не призывного возраста человека, — или Влас, — и снова дедок перевел прищуренный, как для прицела, взгляд на второго мужика, будто этим выдавал односельчан Чубарю, — Евтих вот… Стоявшие поблизости поглядывали на него и Чубаря со снисходительными улыбками — явно дедок был известным деревенским шутником. — Ты, дед, тоже пойдешь в партизаны, — догадываясь об этом, сказал Чубарь голосом, в котором слышались и шутливая угроза, и достойное уважение к старику. — А что? — выпятил грудь тот. — Так вот и записывайся первым, — будто обрадовался притихший Егор. — А ты? — А у меня билет. Я по закону. — Так это еще неизвестно, какой закон на билеты выйдет, когда в партизаны набирать станут. А у меня, правда, глаза слабы. Даже из такой вот не попаду, — старик кивнул на Чубареву винтовку. — А что за стрелок, если немец удрать может из-под ружья? Ничего, мы для тебя привяжем немца к забору, — загомонили мужики, — попадешь куда след. — В ж… — Хо-хо-хо… Чтобы еще больше оправдать в глазах мужиков свое появление в деревне, Чубарь спросил: — Где же ваше начальство? — Какое? — Ну, председатель колхоза. — Ищи ветра в поле, — поспешил свистнуть Егор. — Да, наверное, подался с обозом куда-нибудь, — уточнил мужик, которого дедок назвал Корнеем. — А он вовсе и не в нашей деревне жил, — подсказал другой крестьянин, кажется, Влас. — Мы объединены были с Гореличами, — начал объяснять Корней. — В Гореличах и колхозная контора, и председатель там жил. А у нас тут полеводческая бригада, третья. Между тем дедок был настороже — продолжал свою тему. — Интересно, а сами вы партизан или уполномоченный по партизанам? — перебивая односельчан, спросил он Чубаря. — Все вместе — и партизан, и уполномоченный, — ответил, усмехаясь, Чубарь. — И документы имеешь? — Есть и документы. А зачем они тебе? — Да так. — Он у нас дюже грамотный, — сказал, осклабясь, Егор. — Всем интересуется. Мужики захохотали. — Вам лишь бы!.. — осердился старик. — А я хотел спросить, как думает человек. Он же, должно быть, начальник, раз в партизаны пошел. Вот я и хочу спросить. Наши скоро вернутся? — А ты как думаешь? Дедок пожал плечами. — Забрал же вон сколько… — Что забрал, то и отдаст, — веско сказал Чубарь. — Да это так, — вздохнул старик. — Чужое не свое. Чужое отдай. — Я ведь тоже толкую мужикам, — снова встрял в разговор Корней, — на нонешний год даже знак господний таков, что все за нас. Война началась в святой день. В году есть один такой день, когда наша православная церковь отмечает память всех святых русской земли. И вот этот день пришелся нынче как раз на двадцать второе июня. Люди, знающие святое писание, говорят, что такое совпадение не случайно. Это не иначе знак милости святых к нам, грешным. — А ты что, тоже из святых? — внимательно посмотрел на Корнея Чубарь, словно хотел отыскать в его облике какие-то скрытые черты. — Он у нас когда-то на попа учился, — поспешил подсказать дедок, — да архиерею не приглянулся. Видимо, про Корнея и архиерея разговор среди ширяевцев начинался уже не в первый раз, и мужики дружно захохотали. Старик между тем разъяснил Чубарю: — Корней у нас видишь какой? И ростом, и лицом. Что богатырь из сказки. А жена у архиерея тоже писаная красавица. Так архиерей и побоялся держать нашего Корнея близ себя. Мужики снова захохотали, может, даже не задумываясь над тем, бывает ли вообще у архиерея жена. Сам Корней к этой болтовне относился с крестьянской снисходительностью — только посмеивался, и на лице у него не было и тени обиды, а тем более неудовольствия. Спустя некоторое время дедок опять спросил Чубаря: — Где же остальные твои партизаны? — В лесу. — Ясно, — кивнул старик, будто наконец уяснил для себя что-то. — Да, лес теперь домом стал для многих, — философски заметил Корней, которому явно не хотелось, чтоб весь разговор с незнакомым человеком вел Пшекин — так звали в деревне старика. — Только у нас тут… так себе лес. От злого глаза лишь спрятаться за кустом. А ежели вздумает кто поискать кого по-настоящему, то и найти нетрудно будет. Словом, нашего леса хватает только на дрова. А вот туда, под Брянск, там настоящие леса. Потом на Мглин, на Клетню. Тоже дай бог какие леса. Да и сюда, — он показал рукой вдоль деревенской улицы. — Но там уже Белоруссия начинается. Вот как за Ипуть, так и в Белоруссию сразу попадешь. Чубарь спросил: — А до Ипути лесов не будет? — Да, считай, наш последний. До Ипути уже одно поле пойдет. Пока происходил весь этот разговор, петропольский единоличник незаметно, по крайней мере для Чубаря, сел на своего коня и, втянув голову в плечи, потрусил в лес по той дороге, откуда приехал в деревню Чубарь. Из Ширяевки в ту сторону она вела одна. Деревня стояла, видимо, на отшибе от района, прикрытая с северо-востока хвойным лесом. Точнее говоря, даже больше, чем только с северо-востока, ибо въезд в деревню и выезд из нее шли по лесу. Но леса этого хватало только на то, чтобы выпустить из объятий дорогу через деревню и проглотить ее на другом конце. Линия так называемого среза проходила как раз по южной окраине деревни. Удивительно, но в самой Ширяевке и по обе стороны от нее все делалось будто по строгим правилам геометрии. Особенно этому отвечали выкорчеванный поперек неполного прямоугольника лес, где уютно, точно закладка какая, разместилась деревня, и ровная, как по линейке проложенная, улица, к слову сказать, единственная здесь. Хаты — самой нехитрой крестьянской архитектуры — стояли на одинаковом расстоянии между собой и почти все без исключения были крыты гонтом. Над чьей-то крышей посреди деревни торчала журавлем радиоантенна — довольно редкая пока примета двадцатого столетия Строилась Ширяевка не сразу, во всяком случае, не за год и не за два, так как в этом конце было несколько совсем иных дворов, может, позапрошлогодних, на которых еще не успели почернеть бревна, но даже постороннему глазу было видно, что принадлежала она к тем поселениям, которые основывались уже если не при колхозном строе, то незадолго до начала коллективизации. С того момента, как Чубарь приехал в Ширяевку, прошло не более получаса. Солнце заметно поднялось над лесом На востоке дождевых туч не было. Зато с западной стороны небо еще будто клубилось. А ветер то и дело сносил всклокоченные тучи на южную сторону, словно и впрямь не давал снова заслонить солнце. — Как же теперь будет? — спросил Корней Чубаря. — Что — как? — Ну, раз руководителей наших нет… Мы так понимаем, что без председателя сельсовета или же председателя колхоза и решать нечего. — Как-нибудь обойдемся без них, — улыбнулся Чубарь. — Тем более что вашу Ширяевку стороной не объедешь. К тому же знакомые… — И, чтобы не оставлять крестьян, особенно старика Пшекина, который уже, наверное, снова изнывал от любопытства, в неведении, объяснил полушутя: — Мы ведь с Егором вашим давние знакомые? — Как же, виделись вчера, — подтвердил Егор и, будто оправдываясь, добавил: — Когда искал телку. — Вот и я подумал, спрошу, где тут Егорова хата… — А что там, в хате, делать теперь? — пожал плечами Егор и даже не посмотрел на Чубаря. — Как что? — укоризненно покачал головой старик Пшекин. — Ясное дело, встретить человека надо, угостить. А то, может, у него еще и крошки во рту не было сегодня. — Ты прав, дед, — признался Чубарь, но не потому только, что был голоден, хотелось также посмотреть, что будет дальше из этого разговора. — Живот давно подвело. — Вот, слышишь, Егор? — Если ты такой скорый да богатый, то и угощай, — бросил старику недовольный Егор. — Я тебе не запрещаю. — Сам же слышал, человек к тебе хочет. Знакомый. — Такой, как и твой. А мне за стол сажать его не к чему. Телку вон… — Ты из-за телки теперь!.. — А Егор обычно дружит до первого страха, — поддел Корней. — Ну, а ты до которого? — скосил глаза в Корнееву сторону Егор. Чубарь, неловко улыбаясь, сказал: — Что ж, дед, придется напроситься к тебе в гости, раз Егор отказывает. — Ко мне? — будто удивился старик и, скрывая свою растерянность, вдруг начал сильно и долго чесать пятерней под картузом голову. Тогда Чубарь обвел взглядом остальных примолкших мужиков. Те стыдливо опустили глаза. Пораженный этим, Чубарь поймал себя на мысли, что на улице с его участием происходило что-то наподобие нелепого театрального представления. Себя Чубарь склонен был видеть в нем не более и не менее как обязательным, даже неотъемлемым, но, по существу, никому не нужным атрибутом, который участники представления открыто перекидывали друг другу. Сперва ему подумалось, что виноват был Егор, который все еще злился из-за пропавшей телушки, но это было не так. Собственно, все эти мужики стоили друг друга, и, наверное, никто не перетянул бы на чаше весов, если бы пришлось взвесить их на предмет- обычной настороженности, а еще более сметливого крестьянского здравомыслия. Просто никому не хотелось вести в хату вооруженного человека. И Чубарь понимал это. Но он понимал и то, что в других условиях, например, если бы он зашел к кому-нибудь из них без свидетелей, не было бы отказа ни в гостеприимстве, ни в приюте. Многое для понимания этого давал случай, который произошел в Белой Глине, когда старый Якушок просил Чубаря, чтобы тот вел его через деревню под винтовкой. Более того, Чубарь мог уже предполагать, что и впредь придется встречаться с чем-то похожим и что так или почти так будет по крайней мере до того времени, пока сами события не утратят нынешнюю неопределенность. Наконец настал момент, когда и Чубарь, и ширяевские мужики начали осознавать нелепость этого положения: и одна, и другая стороны нетерпеливо ждали чего-то друг от друга. На что уж Пшекин был несдержан на язык и въедлив, но и тот, казалось, потерял интерес к Чубарю. Глаза его, по-стариковски воспаленные и по-мальчишески хитровато дурашливые, утонули под бровями, а фигура, которая до этого, будто у молодого непоседы, вся ходуном ходила, сделалась еще более костлявой и, как тень, косой. Явно не хватало внутреннего толчка, который бы внес разрядку в натянутые отношения. Странно, чтобы создались такие натянутые отношения, хватило самой малости, а. вот чтобы нарушить их, нужна была, казалось, целая буря. И эта буря, как говорится, грянула. Вдруг из распахнутого окна хаты, напротив которой толпились вокруг Чубаря ширяевские крестьяне, послышался женский голос: — И не стыдно вам, мужики? Все повернули головы. В окне стояла молодая женщина. Это была хозяйка хаты, Шунякова Палата. Сам хозяин уже который год сильно болел и не вставал с постели. Не иначе Палата стояла незамеченной у окна давно и слышала, о чем шел разговор, ибо недаром сразу начала срамить мужиков. Голос ее звучал укоряюще, но на лице почему-то играла озорная усмешка. Это Чубарь отметил прежде всего, как только увидел женщину. И Палата во все глаза смотрела на него. Ей чем-то — просто, может, как женщине — приглянулся незнакомый и видный из себя человек, приехавший в деревню, как выяснилось, на краденом коне. Она случайно подошла к окну как раз в тот момент, когда петропольский единоличник налетел коршуном на всадника. Показалось, что на улице прямо-таки началась драка, и она сперва ужаснулась, однако дело было довольно быстро улажено благодаря вмешательству Егора Пищикова. Но еще больше удивилась Палата, когда выяснилось, что приезжий и Егор Пищиков знакомы между собой. И, может, потому не отошла сразу от окна, постояла некоторое время, послушала, о чем пойдет разговор. Признаться, разговор, начавшийся затем под окнами ее хаты, не заинтересовал ее. Ей показалось, что в нем не было того ладу, который должен был установиться даже между незнакомыми людьми при первой встрече. Особенно когда в разговор встревал дед Пшекин. Тот обладал довольно редкой способностью незаметно превращать все в пустую забаву. В деревне над этим потешались, но не обходилось и без того, чтобы кто-нибудь надолго не затаивал на него обиду. Один раз, например, он подзадорил мужиков, мол, покупайте в Гореличах водку да приходите на зайчатину. Все знали, что Пшекин изредка бегал с ружьем вокруг Ширяевки, случалось дичь приносил домой, и особого подвоха с этой стороны от него не ждали. Ясное дело, в Гореличи был сразу направлен по снежной целине посланец. И вот под вечер с бутылками в карманах ширяевские мужики гурьбой ввалились к Пшекину в хату. А тот себе спокойно спал на печи. Конечно, стесняться никто не стал, тут же растолкали хозяина. Пшекин проснулся, захлопал глазами, потом сморщился — не могли подождать, пока он досмотрит до конца сон! — и начал не спеша одеваться. Степенные мужики топали настывшей обувью по полу, ничего не подозревая. И только потом, когда хозяин наконец потянул с вешалки полушубок, у мужиков раскрылись глаза. «Куда ты?» — спросили его. «Как куда? — притворно удивился Пшекин. — Зайцев пойду настреляю. Как раз пороша выпала. Может, подниму русака». Выходило, что он пригласил на зайчатину, которая еще бегала за деревней. Конечно, мужики принялись ругать Пшекина. Но что поделаешь? Сами виноваты, если так легко поверили. Но самую злую шутку сотворил Пшекин, будучи еще подростком, над родным дядькой. Приходит как-то в хату к дядьке, а тот и говорит ему: «Ну, племянничек, соври что-нибудь». Племянничек сразу же обиделся: «Некогда, дядь, батя сказал, чтобы в баню вы шли к нам». Ну, дядька, конечно, поспешил на чердак, да за веник березовый. Приходит к брату. Открывает баню, а там хоть волков гоняй, никто и не собирался в тот раз топить ее… Но сегодня Пшекин почему-то не очень был склонен шутить. Даже Палаге из окна казалось, что он все время будто спохватывался, не давая воли языку, хоть и донимал расспросами незнакомого человека, и потому разговор шел, можно сказать, вполне пристойно. И вот под конец, когда человек стал напрашиваться в гости, а деревенские мужики будто растерялись, чуть не свару затеяли между собой, Палата не утерпела. За первыми словами, которые прозвучали насмешливо, последовали еще: — Человека покормить жалеете! — И обратилась к Чубарю: — А вы зря кланяетесь столько! Заходите к нам! Она подалась вперед. Теперь ее можно было разглядеть. У Пал аги были совсем рыжие, словно медные волосы. В темных глазах затаилась улыбка, проникавшая какими-то своими путями и в уголки резко очерченного рта. Оголенные по плечи руки были по-крестьянски загорелы и красивы; сложенные накрест, они спокойно лежали на подоконнике, подпирая высокую грудь, скрытую под тесноватой, а может, нарочно сшитой без запаса голубой блузкой. Чубарю пришла в голову неспокойная мысль, что это, наверное, какая-то соломенная вдова или просто деревенская молодуха, которой ничего не стоит зама — нить с дороги в хату любого приглянувшегося мужчину, но по тому, как восприняли ширяевские мужики сделанное ею приглашение — серьезно, без хитроватого любопытства, — можно было подумать и иначе. Правда, Палага своим неожиданным приглашением спасла положение. Такое обстоятельство, конечно, могло повлиять на поведение людей. Ширяевские мужики одобрительно закивали Чубарю головами, то ли подзадоривая его зайти в хату, то ли просто прощаясь; по крайней мере, расходились они с видом, исполненным достоинства, который обычно бывает после свершения чего-то очень стоящего, даже позабыв при этом, что на опушке по-прежнему метались, будто покусанные кем, свиньи… Чубарь толкнул от себя калитку, сбитую из березовых колышков, скрепленных наискось горбылем, взошел на подворье. На высоком прясле, что отделяло огород от деревенской улицы, стоял на крепких шишковатых ногах красавец петух, сизо-красный, с длинными золотистыми полосами на шее. Увидев во дворе незнакомого человека, он не на шутку забеспокоился, переступил по верхней жерди, а потом вдруг захлопал крыльями и громко, с хрипотцой в голосе прокричал несколько раз подряд, как бы выговаривая: «Вот тебе и на! Вот и гость к нам!» Прямо на крыльце, при входе в сени, лежала черная собака. Но она даже не подняла головы на Чубаря. Хата, в которую Чубарь должен был зайти, состояла из трех частей: первой, собственно самой хаты, имевшей аршин около девяти в длину, затем так называемой пристройки, служившей второй половиной хаты и строившейся отдельно, уже, наверное, после того, как хозяева жили в первой половине, и, наконец, сеней. Хозяйка, увидев через окно Чубаря, входившего во двор, сама поспешила на крыльцо. Собака и при ее появлении не шевельнулась. Тогда хозяйка толкнула ее носком высокого зашнурованного ботинка, и та, лениво растягивая ребра, словно обручи в верше, соскочила с крыльца, но не отбежала, а осталась стоять, будто ожидая, пока пройдет человек в избу, чтобы потом занять прежнее место. — Заходите, пожалуйста, — сказала хозяйка Чубарю. Следом за ней Чубарь пошел в пристройку и сразу растерялся. На деревянной кровати, стоявшей в небольшом простенке за печью, лежал накрытый полосатым одеялом человек. Он не повернул головы на стук шагов, но Чубарь увидел заросшую щетиной левую щеку, сжатые губы и заостренный, с горбинкой нос. Глаза его время от времени моргали. В затененной хате стояла затхлость, пахло человеческой мочой. В душе у Чубаря шевельнулось недоброе чувство к женщине: должно быть, в самом деле вертихвостка, а больной муж лежит неухоженный. Чубарь от этого даже замешкался у порога. Но хозяйка уже открывала широкую, почти квадратную, дверь в другую половину хаты, и ему ничего не оставалось, как пройти дальше. Там было все по-другому, не так, как в пристройке, пол из сосновых досок чисто выскоблен, точно нижняя корка ржаной буханки; на стенах вышитые, видно, еще из девичьего приданого рушники; богатая деревенская постель могла вызвать у каждого зависть — пуховые подушки в белых миткалевых наволочках, самотканое одеяло, похожее на фабричный ковер, простыни из отбеленного тонкого полотна. Должно быть, женщина немало потрудилась, собираясь замуж, но почему-то ей не повезло. Несмотря на опрятность и свежий воздух, который наполнял хату через распахнутое окно, Чубарю еще некоторое время казалось, что из пристройки и сюда проникает запах мочи и больного человеческого тела. — Вот тут посидите, — сказала хозяйка, показывая на табуретку возле стола, — а я сейчас поищу, чем накормить вас, раз уж пригласила. Она вовсе не суетилась, движения ее были неторопливые, может, даже несколько медлительные; во всей фигуре ее чувствовалась та еще девическая нерастраченность, что бывает и у замужних женщин, еще ни разу не рожавших. Перед тем как выйти, она сказала: — Это муж мой. Болеет. — Что с ним? — Да все… — она вздохнула. — И позвоночник, и… как это, мочевой пузырь. Точно не знаю, как называется болезнь. В бумажке вон, что в больнице давали, написано все. Лежит бедняга который год и пошевелиться не может, не то что на ноги встать. — В аварию попал? — спросил Чубарь. — Нет, само приключилось. — А доктора что говорят? — Какие теперь доктора! — Как же так? — растерянно посмотрел на нее Чубарь. Женщина покачала головой. — В мирное время мы с братом возили его в Гордеевку. Полежит немного в больнице, а врачи потом и говорят, чтобы забирали. Теперь вот насовсем привезли. И как назло, ни докторов, ни лекарств. Да ему, наверное, доктора и не нужны уже. Позвала я недавно к нему красноармейского доктора, когда проходила тут какая-то часть, тот тоже развел руками. Она, видимо, давно свыклась со своим положением и потому после нескрываемой скорби вдруг улыбнулась Чубарю, спрашивая: — А ружье ваше не выстрелит? — Нет, — успокоил ее Чубарь, но спохватился, так как затвор винтовки все еще не был поставлен на предохранитель. Он потянул на себя шляпку ударника, повернул направо, потом приставил винтовку стволом к подоконнику. — Теперь уж наверняка не выстрелит, — усмехнулся он. Хозяйка кивнула головой, мол, так спокойней, и вышла. Чубарь пробежал глазами по хате. Его заинтересовало бревно в стене, выходившей на улицу. Почерневшая, будто отполированная или же навощенная поверхность его сплошь была разрисована различными знаками, смысл которых трудно было определить: какие-то маленькие крестики, звездочки, квадратики, треугольники, кружки, даже рисунки. Словом, це — лая система знаков. Когда хозяйка вернулась, неся в руках большую миску под деревянной крышкой, Чубарь не удержался, спросил: — Что это за рисование такое? — показал он на стену. — А-а-а, — улыбнулась Палата, — это, как вам сказать, численник такой, или, как по-нонешнему, календарь. Его нам дал дед мой, когда мы строились с мужем. Сказал, что бревно это досталось ему тоже от деда. А мы как память, семейную и в свою хату положили его. Но читать не можем, ничего не понимаем. Дед мой тоже не все мог тут прочитать, а мы и подавно. Правда, я немного научилась. Зимой как-то, от нечего делать, когда жив еще был дед. Вот эти рисунки показывают дни, месяцы. Например, вон тот, двадцать третье марта. Видите? Зарубка, потом конь. Значит, уже настало время выезжать в поле. А лучистый диск на тонком стебельке означает, что начались дни солнцеворота… — А почему вы запомнили именно это число? Палата улыбнулась. — Это день моего рождения. Объясняла она значение рисунков почти по памяти, так как была занята у стола, на который выкладывала из миски принесенные из погреба сало, кружок серой колбасы, залитой белым жиром. Потом резала ломтями хлеб. Отвечала она на вопросы просто и толково. Наконец на стол было выставлено все, чем хозяйка наскоро могла накормить постороннего человека, и Чубарь начал неторопливо есть. Почему-то не хотелось показать перед этой женщиной, что он сильно голоден^ Ему нравилась хозяйка, в ней было что-то такое, отчего можно, как говорится, потерять голову, но сознание то и дело возвращало его к больному мужу ее, который одиноко и беспомощно лежал на кровати за дверью. Это влияло и на разговор между Ними, так как Чубарь часто ловил себя на том, что и он сам, и тем более хозяйка позволяли себе что-то непристойное по отношению к человеку, который уже не мог надеяться ни на что на свете. Но и без разговора было не обойтись в их положении, и они все время говорили. — А я гляжу, — вспоминала она недавнее, — кто-то сидит под окном на коне. Потом подскочил тот мужик, что коня у вас забрал. Кто это был? — Говорят, единоличник какой-то. — Значит, из Петрополья. Там, кажется, не вступали в колхоз Ниточкины. Да, припоминаю. Есть там один такой дяденька, похожий на этого. Ну, а конь? Почему он забрал коня? — Конь, видать, его был. Палага сделала удивленные глаза, но расспрашивать не стала. Она сидела по другую сторону стола, почти напротив гостя, но сама ни к чему не притрагивалась. Ей, видимо, нравилось, как чужой человек завтракает у нее в хате, и она ничего не жалела, чтобы накормить его. Мысли у нее были какие-то странные, отрывистые и путаные. Очевидно, по этой причине и разговор велся непоследовательный, путаный. То она спрашивала, как его зовут и куда он едет, то вдруг вспоминала девичьи годы, как гуляла с парнями и как ее засватали, как отец напился тогда на помолвке и выбил в хате окно… За дверью вдруг замяукал кот, начал скрести по доскам. Она встала из-за стола, впустила кота. Чубарь проводил ее пристальным взглядом до дверей, а когда она вернулась и снова села, неожиданно спросил: — И не боишься? — Чего? — Да вот немцы пришли, а ты такая красивая, статная… — Мне за красоту мою бояться уже нечего, — ответила она спокойно, рассудительно. — Все равно ведь. Словом, стоит ли говорить, сам видишь. — Вслед за ним и она перешла в разговоре на «ты». — А если признаться, то я не думала еще об этом. А может, если б и подумала, то тоже не стала б пугаться. Жизнь у меня теперь такая, что каждый день не дает, а забирает что-то. Чубарь смотрел на нее, видел задумчивое лицо, которое становилось, кажется, еще более привлекательным, и вдруг почувствовал, что ему жалко эту женщину… Но он вскоре поборол в себе это чувство. — Пойдем со мной? — вдруг неожиданно для самого себя предложил он. — Куда? — ничуть не удивилась она. — А куда я, туда и ты. — Нет, мне так нельзя, — сказала она просто, как это умеют делать натуры чистые и непосредственные, — я за него отвечаю и перед богом, и перед людьми… Без присмотра он не может. При нем всегда кто-то должен быть. Вот я и сторожу. Чубарь давно — с того самого момента, как вошел в хату, — заметил, что о муже, который стал не только большим несчастьем для нее, но и непомерным бременем, она говорила без явно выраженного сожаления и без тени раздражения в голосе; чувствовалось — то, что случилось с ним, самым непосредственным образом касалось и ее. Она воспринимала его немощность как какую-то неизбежность и понимала свой долг перед ним. Чубарь даже пожалел, что не подумал об этом, прежде чем сделать неуместное приглашение. Но хозяйка неожиданно сама продолжила начатый им разговор. — Лучше уж ты оставайся тут, — сказала она без стыдливой условности. — Нет, я должен идти. Она задумалась. — А куда теперь идти? — Дорог всегда много, — сказал Чубарь. — Но на тех дорогах теперь беспокойно. — В том-то и закавыка. — А не лучше ли выждать, пока уляжется все? Не хочешь оставаться в хате, можно найти уютное место в лесу. А я к тебе приходить буду. Да и тут можно переждать. Видишь, лес сразу за хатой… Убежать успеешь, если немцы вдруг явятся. — Нет, не в том дело. — У меня на чердаке сено свежее есть, если в хате не хочешь, — не теряла она надежды уговорить Чубаря. — Я и в самом деле не о том… С ней легко было говорить, казалось, о самых сложных вещах. Главное, не надо было ничего долго объяснять. — Убьют тебя одного, — вздохнула женщина. — Почему ты думаешь, что я один? — Меня не обманешь! Они помолчали. — Видишь, — сказала она через некоторое время опять, — я даже не таюсь от тебя. Говорю все, как есть. Сегодня на меня будто нашло что. Я ведь никогда не была такой… Наконец Чубарь вытер чистым полотенцем руки, поблагодарил за завтрак. Надо идти, — сказал он. Ему вдруг стало невыносимо оставаться в хате. — Уже? — словно не своим голосом спросила она, вскинув голову. — Да. Приблизившись к окну, Чубарь выглянул на улицу. Там было пусто. — Значит, не останешься? — Нет. Он взял винтовку, пошел, не оглядываясь, к двери. И она пошла вслед за ним. В сенях Чубарь остановился. — А может, побудешь хоть до вечера? — не хотела расставаться она со своею мыслью. — Я подвезу потом тебя куда надо. Схожу в Гореличи к брату, он у меня бригадиром там. Запрягу колхозного коня и отвезу, раз не можешь остаться. Чубарь прислонился плечом к лестнице, что стояла у стены, взял Палагу за руку. Подавшись вперед, та встрепенулась от горячей волны, которая окатила все ее тело изнутри, и Чубарь с мучительной ясностью на миг представил себе, как вот-вот почувствует на своем лице ее затаенное, но тревожное дыхание.VIII
Отыскивая щеколду, кто-то долго шаркал за дверью, так что даже звенели в сенях ведра, стоявшие на лавке вдоль стены. Зазыба вышел навстречу, открыл дверь и, не ожидая, пока человек переступит порог, вернулся в хату. Вошел Микита Драница. Он был под хмельком и потому пытался напустить на себя важность, но это ему не удавалось: во-первых, фигурой он для важности не вышел, а во-вторых, глаза у него были слишком уж беспокойными и бегали так, будто с утра они как с цепи сорвались и к вечеру никак не могли попасть на прежнее место. Широкое, точно сплюснутое, лицо Микиты лоснилось. Из правого уха его торчали закрученные в кольцо рыжеватые волосинки. Микита, как некогда и его отец, был туговат на правое ухо, может, потому и выбивались оттуда волосы, но в отличие от отца сын долго не признавался в своей глухоте, хотя люди все равно догадывались: при разговоре Микита всегда понижал голос и, приноравливаясь к собеседнику, подставлял здоровое ухо. Но надо отдать ему должное, в смешные истории, как это часто случается с глуховатыми, Микита не попадал, ловчил и изворачивался, будто имел тройное чутье. — Я к тебе по делу, — сказал Микита. — Вижу. Стоя спиной к Дранице, Зазыба подкручивал фитиль в лампе, обжигаясь, снимал нагар пальцами левой руки. — Так по делу я к тебе, — топтался у порога Микита. — А кто теперь без дела ходит? Наконец побелевшее пламя перестало колебаться, изломанная тень Зазыбы переметнулась с потолкана стену. — Так… — Драница уже вышел на середину хаты; но в горле у него будто что-то застряло. Зазыбе от такой нерешительности Микиты стало смешно, он сказал: — Ты или говори уж сразу, что тебе надо, или садись, — и показал на лавку подле стены с окнами. Драница по привычке осторожно глянул себе под ноги — не принес ли в избу грязи, — послушно сел. Одет он был в длинную, сшитую у бабиновичского Шарейки фуфайку защитного цвета, как у военных, с матерчатыми ушками для пояса по бокам. Такие фуфайки-бушлаты бабиновичский портной шил многим, и мужики с обеих сторон Беседа охотно щеголяли в них. На Шарейковы фуфайки и в местечке, и в деревнях была мода. Но на Дранице эта отменно сшитая одежина мешком висела: Микита был не только ростом мал, но и в плечах неширок, потому все мастерство портного пропало даром. Зазыба окинул Драницу насмешливым взглядом, вспомнил, что говорил о нем Парфен Вершков. Парфен недаром толковал о Мешкове, районном уполномоченном по Веремейковскому сельсовету. Действительно, Мешков был тем человеком, который поплатился за дружбу с Драницей. Вызывали как-то в Бабиновичи все веремейковское начальство — конечные же уполномоченного, председателя сельсовета Пилипчикова и всех председателей колхозов — на кустовое совещание. Но так уж повелось — где начальство, там и Драница. И в тот раз он тоже нашел себе дело в местечке: прошел слух, что веремейковский завмаг Данила Боц (это по-уличному) умышленно налил в соль воды, мол, еще тяжелее станет, и Микита долго высказывал свое возмущение жене, пока та не разрешила сходить за солью в Бабиновичи. И вот Микита насыпал полную, еле поднять, торбу, принес и закопал поглубже в сено на санях уполномоченного Мешкова. Мерзнуть в местечке ему в тот раз пришлось до самого вечера, когда после совещания председатели сельсоветов и колхозов собрались в магазине, так как на улице стояли рождественские морозы, которые к ночи особенно донимали в дороге. Зазыба с председателем сельсовета Пилипчиковым уехали из местечка сразу, постояв лишь немного со знакомыми на базарной площади перед церковью. Зазыба вообще смолоду не пристрастился к выпивке, а Пилипчиков почему-то спешил домой. Дольше всех в местечке задержался Мешков. К нему и присоединился Микита Драница. Видно, они по-настоящему старались пере стоять друг друга у прилавка, но коня потом все же сумели направить из местечка и пустить по наезженной дороге в Веремейки. Конь у Мешкова был приучен к бабиновичской дороге — уполномоченный часто ездил из деревни в местечко, там жила вдова его брата. Поэтому ездоки и очутились вскоре в Веремейках возле пожарной, где в пристройке была сельсоветская конюшня. Оба, и Мешков и Драница, были вдребезги пьяны и лежали, обнявшись, в холодном сене. Вожжи были стянуты петлей на Микитовой ноге. Когда старый Титок увидел их возле пожарной, на дворе уже был глубокий вечер. На всем — на спящих мужиках, на коне, доставившем пьяных в деревню, — лежал иней. Титок сперва испугался — такой мороз, все могло случиться! — но услышал, что люди дышат, засуетился возле саней. Прежде всего он отвез уполномоченного. Тот квартировал у Силки Хрупчика, и Титок вместе с Силкой внесли неподвижного Мешкова в хату, не раздевая, положили на кровать. С Микитой было легче. Аксюта Драницева будто предчувствовала что-то и выбежала за ворота сразу, как только заскрипели под окнами полозья. «У-у-у, налил зенки!» — толкнула она мужа, а затем, как волчица ягненка, вскинула его себе на плечи и потащила в хату. Довольный, что развез людей по домам, Титок поехал распрягать коня. И только на второй день услышал, что Микита Драница по дороге из местечка едва не откусил уполномоченному Мешкову ухо. Микита всегда, когда напивался, скрежетал зубами, стискивал так, что невозможно было разжать. Об этом в Веремейках знали и остерегались: кому это хотелось подставляться Миките. Не уберегся один Мешков. Когда они лежали на возу, Драница дотянулся до его уха и начал жевать. Спасло Мешкова то, что ухо выскользнуло из вялого Драницева рта. На другой день Мешкову пришлось ехать в больницу. А веремейковцы подняли Драницу на смех: мол, позарился на чужое ухо, ибо своим недослышит. Смех, конечно, возымел свое положительное действие, и Мешкова из-за этого нелепого случая вскоре отозвали в Крутогорье — уполномоченный явно скомпрометировал себя. Дело это было давнее, и о нем вспоминали теперь без прежней досады. Однако Зазыба и тогда, и теперь мог засвидетельствовать, что рад был отъезду Мешкова из Веремеек и тому, что колхозы Веремейковского сельсовета лишились такого уполномоченного. К уполномоченным (а их в деревне величали начальниками) в Забеседье привыкли, как и повсюду. Немало их перебывало в Веремейках за эти годы. Но Зазыба с некоторого времени стал замечать, что между теми уполномоченными, которые приезжали в деревню до колхозов, и теми, которых направляли сюда после, была известная разница. Так называемые до колхозные уполномоченные почти все без исключения не плохо знали деревню, людей, а главное, имели либо агротехническое, либо ветеринарное образование. Среди же так называемых колхозных уполномоченных встречались порой люди другого толка. Именно тогда и начала гулять по деревням известная басня про уполномоченного, который не мог отличить гречихи от люпина… Мешков принадлежал ко второму типу. А Зазыба считал, что неплохо бы, если бы такие уполномоченные подальше держались от колхозов, так как в отличие от первых, которые не только выступали на собраниях, но давали крестьянам и дельные советы, учили мужиков, как вести хозяйство по пути «интенсификации сельскохозяйственного производства», эти предпочитали больше командовать. И командовали. Потому Зазыба и не пожалел, когда из Веремеек отбыл Мешков… Вспоминая об этом, Зазыба подумал и еще об одном — о способности Микиты сходиться с новыми людьми, которым много или мало приходилось жить в Веремейках, особенно с теми, которые имели кое-какое касательство к власти. Удавалось ему «заводить дружбу» именно потому, что кроме самоотверженной готовности к услугам — принести, подать — Микита обладал чутьем того непреодолимого расстояния в положении, которое многим нравится и за которое порой многое прощается. Все знали Микиту, его неразборчивость, переметность, и никто вместе с тем не брезговал им. Пока хозяином в Веремейках был Чубарь, Микита «водил дружбу» с ним. Не стало Чубаря, Микита выбрал себе Браво Животовского, который добровольно стал в Веремейках полицейским. Зазыба видел Драницу насквозь. Он догадывался, что тот неспроста пришел сегодня к нему, что скорее всего его послал зачем-то Браво Животов-с кий. А Драница и вправду имел определенное задание от Браво-Животовского. Тот подбил его пойти к Зазыбе и отнять орден Красного Знамени: мол, хватит, пофорсил Зазыба с красивой бляшкой. Даже Драницу это предложение повергло в уныние. — А если Зазыба не захочет отдать орден? — Тогда пригрози ему, — поучал Браво-Животовский. — Так ты ж полицейский, а не я, мне он не отдаст орден, — пытался выкрутиться Драница. Ему и в самом деле не хотелось идти к Зазыбе с таким необычным поручением. — Мне это и не по коню и не по оглоблям, — доказывал он. — Треба по справедливости, ведь орден же заработал на войне Зазыба, а не мы с тобой. — Дурак, — стоял на своем Браво-Животовский, — немцы нам что-нибудь подкинут за такой орден. Это же тебе не абы что. Когда-то первый орден у Советской власти был. Мало ли на что он немцам может понадобиться? Это как документ — паспорт или партийный билет. — Гм, а то они сами партийных билетов наделать не могут! Что у них — казенной бумаги нет? Да и орден тоже нетрудно сделать. Для этого же треба только формочку иметь. — Могут, но настоящие документы или ордена им тоже нужны. Тут важно номер точно знать. Тогда нигде не засыплешься. Словом, Микита, шуруй к Зазыбе, требуй орден. И не пугайся, если что. А я уж с Адольфом поговорю, когда в Бабиновичах буду. Они тебе медаль дадут за это. И вот Микита сидел в Зазыбовой хате и злился на самого себя — ему бы начать разговор про орден сразу, как только переступил порог, а он расселся, будто в гостях… Было даже трудно дышать. Наконец Микита собрался с духом, крутнул головой. — Так это я по делу! Зазыба ободрил его: — Говори, какое у тебя дело. — Орден твой забрать пришел! Зазыба, услышав такое, вздрогнул. — Кому это он понадобился? — чужим голосом спросил он. — Германцам. — Германцам? Неужто они с тобой говорили про мой орден? — Говорили! — Микита уже обретал внутреннюю уверенность, ведь Зазыба не закричал на него и не выгнал из хаты. — Не ври. Тогда Микита признался: — Это Браво-Животовский сказал… — А ты и послушался? Сам по себе разговор об ордене для Зазыбы не был неожиданностью. Он знал, что когда нибудь, рано или поздно, разговор этот должен состояться. — Так нет у меня уже ордена! — сделал глуповатое лицо Зазыба. Драница удивленно поднял глаза. — Нет! — повторил Зазыба. Драница хлопал глазами и тупо смотрел на заместителя председателя колхоза. — Сдал я свой орден в военкомат, Микитка, — пояснил Зазыба и выставил руки ладонями вверх, мол, гляди, пусто. — Брал же я его с собой, когда угонял колхозных коров. Носил на груди. Что ни говори, а человеку с орденом доверия больше. А в Хатыничах, когда узнали, что я вертаюсь в Веремейки, позвали в военкомат. Самого вот отпустили, а орден приказали сдать. Ну, я и сдал. Так что поздно твой Браво-Животовский спохватился. Были бы тут Микола Рацеев йли Иван Хохол, так и они бы подтвердили, что орден я в Хатыничах сдал. Известное дело, сохранится лучше. Да и… Зазыба говорил с деланным сожалением в голосе, а по лицу Микиты тем временем блуждала снисходительная улыбка, мол, ты, конечно, говори что хочешь, а мы тоже не лыком шиты! Но вот Микита вскочил со скамьи, прошелся по хате. — Ты это, Евменович, хорошо придумал, — заговорщически усмехнулся он, — что сдал там свой орден. — Микита уже понимал, что такой ответ Зазыбы спасал их обоих. — И сам теперь неприятностей иметь не будешь, и меня от греха избавил. — Он остановился напротив Зазыбы, который стоял, прислонившись к стене, и плаксивым голосом начал доказывать: — Думаешь, мне очень хотелось с этим идти к тебе? Да еще пугать. Это все Браво Животовский! Он и теперь, может, слушает, как мы тут… — Нехай слушает, — громко сказал Зазыба. Микита и в самом деле бросил опасливый взгляд за окно. — Так я передам германцам, — еще громче, чем Зазыба, произнес Драница, — что ты орден сдал! — Так и передай! Пожалуй, разговор между ними на этом мог бы и закончиться, но Микита вдруг почему-то почувствовал себя виноватым перед Зазыбой, и это обстоятельство удерживало его в хате, он не спешил уходить. По-настоящему, Зазыбе все же стоило вытурить Драницу, однако он не делал этого. С одной стороны, не хотел восстанавливать против себя этого непутевого человека, который мог при случае больно укусить, а с другой — просто не хотелось оставаться одному весь вечер, так как Марфа еще не вернулась от Сахвеи Мелешонковой. К тому же особого презрения или брезгливости к Ми ките Зазыба сегодня не чувствовал, может, потому, что знал наперед, на что способен этот человек. Так почти все в Веремейках вели себя по отношению к Ми ките. — Не спеши, — сказал Зазыба. — Еще не поздно. Даже бабы моей нет. — А что мне у тебя делать? — снова будто почувствовал свое преимущество Микита и принялся важничать. — Я свое дело сделал, теперь могу идти. — Подожди, поговорим, — удерживал. Зазыба. — Теперь же у вас все новости. — У кого это у вас? — Ну, у тебя вот да еще у Браво-Животовского. — Почему вдруг у нас? — Так… — Ты, Зазыба, не путай. Я сам по себе, а Браво-Животовский сам по себе. Я же не полицейский. — А я и не сказал, что ты полицейский. Однако, говорят люди, вы даже вместе ходили в местечко. — Когда? — Ну, когда Браво Животовского ставили полицейским. — А-а-а, тогда ходили. — Рассказал бы, как оно там. — Что рассказывать? Я же не сам ходил. Это меня Животовщик брал туда. Языка ихнего не знает, так меня брал. — А-а-а, вон оно что-о-о! — усмехнулся Зазыба. — Да ты садись снова, чего стоять. — Не уговаривай, мне надо идти… — Успеешь. Никуда не денется твой Браво-Живо-товский. Даже если и под окном стоит. — А почему это мой? — Чей же тогда? Это теперь всем известно. А ты вот открещиваешься от него, будто боишься чего. — У меня твой Животовщик знаешь где! — Ладно, Микита, не серчай. Я это так… коли уж у нас разговор такой. А вот, вижу, самому тебе будто ничего в местечке не перепало? — Так теперь сельповские магазины не торгуют. — А наши мужики надеялись, что асессором вернешься из Бабиновичей! — Зачем мне асессор ваш, — как о чем-то уже навсегда решенном для себя, сказал Драница и пожал плечами. — Говорю, брал меня Животовщик, чтобы помог ему разговаривать с немцами! Зазыба снова усмехнулся. — Ишь ты!.. А Браво Животовский вот… — Я за него не ответчик. Мне самому треба глядеть, как жить, — возмутился Драница. Зазыба захохотал. — Все понимаешь, оказывается!.. — Так тут нечего понимать! Голова ведь на плечах! — Ты так думаешь? — подморгнул Зазыба и вдруг зло ошарашил Микиту: — А торбу не хватило головы припрятать получше! — Какую торбу? — глянул посоловелыми глазами Микита. — А то ты не знаешь! У Драницы еще быстрее забегали глаза. — Какую торбу? — уже вовсе по-собачьи вякнул он. — Подумай, вспомнишь. — А-а-а, вон про что ты, — наконец притворно спокойно сказал Драница. — Так то… — Я не виню тебя, — сказал Зазыба, — что ты заставил сына писать под диктовку доносы на односельчан, это дело твоей совести, хотя, конечно, никто не подозревал, что ты способен на такое, но где твоя голова была, мать твою так, когда ты прятал ту торбу среди бела дня в огороде? Драница по-прежнему таращился, но уже, очевидно, ловил момент, чтобы как-то остановить Зазыбу. Наконец не вытерпел, возмутился: — А кто это разрешил? — он только теперь понял, что его тайник найден. — Ноги перебью, если узнаю кто. Привыкли по чужим огородам шляться! — Ее могли даже свиньи выкопать. — Я вот только узнаю! — не переставал кричать Драница. Во-первых, он и впрямь был сильно рас — сержен тем, что кто-то выкопал торбу с бумагами, а во-вторых, криком он хотел заставить Зазыбу перестать срамить его. — Где она? Зазыба удивился, что Драница бывает такой лютый в приливе злости. Сказал: — В озере детвора затопила. Драница недоверчиво посмотрел на Зазыбу и, нагнув голову, вслух подумал: — Не дай бог, дознается Щемелев, — надул он толстые губы. — Попадет вам от него на орехи. Пересажает всех. — Думаешь, Щемелев еще вернется? — Все может быть. — Вот, вот, — подхватил Зазыба, — а ты уже зарекаться стал! Новую дружбу завел! — Ты меня не учи, Зазыба, — качнул головой Драница. — Лучше о себе подумай. — Он взял шапку с лавки, направился к порогу, но обернулся, спросил: — Так что передать про орден? — То и передай, что слышал. — Значит, ты сдал орден? — будто для себя уточнил Драница. — Сдал. — Где это? — В Хатыничах. — Где это Хатыничи? — За Карачевом. — Значит, за Карачевом? — За Карачевом. — А далеко это? — Верст двести. — Ясно… А расписку имеешь, что сдал орден? — Вот расписки так и нет. Не подумали как-то. — Ну, гляди сам. Драница еще постоял у порога, будто припоминая, как рачительный хозяин перед большой дорогой, все ли необходимое захватил с собой, потом досадливо махнул рукой и, не попрощавшись с Зазыбой, подался из хаты. Зазыба послушал, пока затихли под окном Микитовы шаги, сердито зашаркал по хате и будто только сейчас всерьез возмутился: — Тьфу, поганцы, ордена им захотелось! А этого вот не желаете? — и сложил из трех пальцев известную комбинацию. С каким-то совсем новым и жгучим чувством начал припоминать то, что, казалось, уже становилось историей и для него самого. Орден Красного Знамени Зазыба получил из рук Буденного в январе двадцать первого года. Тогда конная армия располагалась недалеко от тех мест, где буйствовали махновцы. До этого Зазыба уже повоевал в дивизии. Щорса, точнее, в бригаде батьки Боженко. Был он и в числе тех немногих, кто сопровождал отравленного, но еще живого комбрига по железной дороге. За трехосным салон-вагоном двигались две теплушки с полуротой вооруженных пулеметами красноармейцев Таращанского полка, преимущественно ветераны бригады. Вместе с ветеранами нес и Зазыба последний караул на площадках вагона, в котором везли Боженко. На станции Бердичев из Житомира была получена телеграмма такого содержания: «Киеву угрожает опасность наступления Деникина Точка Везите Беженку Житомир ко мне Точка Щорс». Когда в Житомире в салон-вагон к Боженко пришел Щорс, тот только сказал: «Микола, мне плохо. Отравила меня контрреволюция». И поник, опустив голову на плечо молодого начдива. Все знали, что Боженко жить оставалось немного — врачи, собравшиеся на консилиум, пришли к авторитетному заключению: «Тяжелый случай отравления, положение безнадежное, помощь опоздала…» Зазыба вспомнил, что тогда Боженко было почти столько лет, сколько теперь ему… Тело Боженко везли по зеленому житомирскому бульвару на артиллерийском лафете, а за городом слышался гул канонады. Потом рассказывали, что петлюровцы, ворвавшись в Житомир на следующий день, мерзко надругались над могилой преданного большевика и прославленного командира… Дивизия между тем начала отступать по всему фронту. Богунцы, таращанцы и новгород-северцы не могли сдержать вражеского натиска: от Луцка и Радзивиллова наступали части белопольского корпуса генерала Галлера, с юго-запада — петлюровцы, а на Киев стремительно двигались войска генерала Бредова. Недалеко от Полонного, что за Шепетовкой-Подольской, Денис Зазыба был ранен — осколок снаряда разорвал ему правое бедро. Раненого Зазыбу друзья отвезли на броневике в Чудново и положили там в госпиталь. Рана долго гноилась, мышцы плохо срастались, но постепенно жизнь взяла верх над недугами, дело пошло на поправку, и Зазыба начал ходить. Но к таращанцам уже не вернулся. Его направили в Первую Конную пулеметчиком на тачанку. И вот однажды махновцы атаковали буденновский разъезд. Несколько красных кавалеристов было убито в перестрелке. А Зазыбу махновцы взяли живым. На второй день конвойный гнал пленного перед собой в штаб. Зазыба мысленно прощался с жизнью. Но неожиданно им повстречалась на дороге махновская тачанка, и конвойный заговорился с дружками, забыв на какое-то время о пленном. Тогда Зазыба в мгновение ока выхватил у конвойного саблю и начал сплеча рубить ею. Через несколько дней командарм прикрепил к груди Зазыбы орден и зачитал перед строем кавалеристов такое постановление Реввоенсовета: «От имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казацких депутатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Революционный Военный Совет Первой Конной Армии на заседании 22 января 1921 года постановил: наградить орденом Красного Знамени красноармейца 4-го полка Особой, кавалерийской бригады, — и назвал соответственно фамилию, имя, отчество, — за то, что будучи захваченным белобандитами в плен, он уничтожил пятерых махновцев, убежал от них и захватил тачанку с пулеметом». О многом, об очень многом мог вспомнить сегодня Зазыба… Он открыл дверь во вторую половину хаты, где за столом сидела Марыля и читала книжку, держа ее обеими руками. — Мы тебе не помешали своим криком? — тихо спросил он. Марыля повернула голову на его голос, улыбнулась. — А не пора ли нам, девка, подаваться в местечко? — сказал степенно Зазыба. — Я же обещал твоим… Стало немного спокойнее, кажись. Может, поедем, а? Зазыбе при этом показалось, что Марыля встрепенулась, улыбку на ее красивом лице вдруг погасило пугливое удивление. Был поздний вечер. В окно, словно чужая, тихо стучалась из палисадника ветка садовой сливы, похожая на неведомое живое существо. Ветер, который сперва разредил, а затем вконец разметал по небу уже отодвинутые одна от другой тучи, отрясал со всего, что клонилось, припадая к земле, дождевые капли. Подсыхала, отвердевала настывшая земля. А в горькой Польши за двором Зазыбы догорало потревоженное лето. Ночью за веремейковским озером на мшистом болоте нежданно негаданно затрубил лось, взрывая копытами примолкшую землю. То был первый изгнанный войной лось, который прибился сюда, в Забеседье, из далекой пущи. — У-е-е-е-о-о… Много лет лоси считались истинными хозяевами среди зверей и здесь, в забеседских лесах. Могучие, они бродили в своем величавом молчании по привычным, лишь им принадлежащим стежкам, обгладывали на молодых деревьях кору, а когда наставало время осеннего гона, шалели от любовного беспокойства. Сохатые тогда выходили из чащобы и подавались ближе к вырубкам да полянам в поисках покорных лосих, которые также изнемогали от любовной страсти, при этом они становились еще более могучими, опасными и в то же время глухими к опасностям. Лосям жилось привольно в древней пуще. Иногда они переплывали реку, и тогда их можно было видеть близ деревень вместе с домашней скотиной: особенно влекло сохатых к человеческому жилью весной, когда начинались так называемые кочевья. Но наступали, как говорится, худые времена. Б Северную войну обе армии — и шведская и русская, которые осенью маневрировали в дальних и ближних окрестностях Могилева, а также в междуречье Днепра, Сожа и Беседи, — в большом количестве использовали в пищу лосиное мясо. Естественно, и забеседские леса не досчитались тогда много сохатых. Войсковые команды, созданные для заготовки провизии, охотились на лосей повсеместно, добывая дешевое мясо, за которое не надо было платить ни крейцера, ни рубля. Спустя каких-нибудь тридцать с лишним лет, во время восстания Вашилы, тоже немало погибло этих обитателей пущи. Радзивилловы уланы гонялись за лосями так же, как и за повстанцами. В те годы в европейских странах пошла мода на лосины — кожаные рейтузы. Хорошие лосины стоили дорого, и уланы, выискивая в пуще повстанцев (за каждого пойманного или убитого мужика князь платил по отдельности), не забывали про лосиные стойбища. Для них все это было промыслом: и охота на повстанцев, и охота на сохатых. Но, пожалуй, более всего погибло лосей позже, как раз в те времена, когда в Забеседье распродавались коронные земли. Новые владельцы этих земель — бабиновичские и белоглиновские паны, а также те, что имели поместья вдалеке от реки, — заманивали сюда заграничных купцов и перепродавали им (самим же достались почти даром) высоченные, почти корабельные сосны и толстенные, в несколько обхватов, дубы, под которыми, может, пировали еще радимичи. Пути сообщения отсюда были удобными: по Беседи связанный в плоты лес выносило полой водой в Сож, а оттуда по Днепру в Припять. Купцы рубили под корень забеседскую пущу не один и не два года, пока не выбрали все лучшее, что было пригодно для промышленного употребления. А по так называемым вырубкам начали строиться крестьяне, сперва беглые крепостные бабиновичских и белоглиновских панов, особенно после восстания в Кричевском старостве, когда многие спасались от радзивилловых уланов; затем настало время, что сами паны принудительно принялись переселять за Беседь мужиков, чтобы тем самым расширять обжитые владения. Таким образом, человек постепенно становился хозяином в пуще. Уцелевшие лоси, спасаясь от него, подавались на болотные острова. Благодаря длинным ногам, раздвоенным копытам они могли легко держаться на кочках, а там, где была трясина, пробираться ползком. Но и на болотных островах недавние хозяева пущи ненадолго нашли себе покой… Случилось так, что менее чем за два столетия сохатые перевелись в Забеседье совершенно. Позарастали их потаенные стежки, и больше уж никто не находил на вырубках после осеннего гона тяжелых лосиных рогов. Казалось, никогда сохатые не вернутся за Беседь. И вот в августовскую ночь сорок первого года снова затрубил неподалеку от Веремеек лось. — У-е-е-е-е… Ослабленный расстоянием лосиный рев был похож на глухой стон. Лоси начинают трубить обычно в конце сентября. Именно в это время у них начинается осенний гон. И первой подает голос лосиха: — У-е-е-е-е… Но это была не лосиха. Трубил лось. Огромный и горбоносый, он стоял на мшистом болоте и в темноте ночи раскачивал широкими, с семью наростами (по одному в год), рогами; на короткой мускулистой шее тряслись длинные клочья шерсти. Рядом семенил ножками лосенок, молчаливый и настороженный. Лось подавал голос не часто, будто слушал и ждал, что кто-то непременно отзовется. Чтобы попасть сюда, на это болото, он прошел длинную и опасную дорогу. Произошло все неожиданно. Среди жаркого дня, когда вовсю светило июльское солнце и не было спасения от слепней даже в пуще, сохатый направился к реке. Река была широкая, с большими, как озера, затоками, по берегам которых в осоке рос недолговечный дягиль. На воде почти целое лето сушились белые и желтые кувшинки, при виде которых сохатому всегда почему-то чудился запах протухшей рыбы. Кувшинки были неистребимы — не успевали отцвести и осыпаться на дно одни, как распускались новые. И каждый раз в затоках сохатый видел рядом с красивыми кувшинками на круглых листьях зеленых с вытаращенными глазами лягушек. Стоило лишь подойти к воде, как лягушки испуганно бултыхались в воду, словно кто бросал с берега камни. Сохатый родился в этой пуще. Исходил ее всю. Отлично знал и затоки на лугу. В одной, например, всегда росла водяная картошка, и он лакомился ею, хотя для этого приходилось нырять на самое дно. Сегодня сохатый также собирался попробовать картошки, к тому же в затоке можно было спастись от назойливых слепней. Он обогнул поляну, поросшую жимолостью, и по дороге — по двум едва заметным в траве колеям — прошел с опущенной головой до поворота, который вел через луг к высокому мосту на реке. Вскоре сохатый почуял впереди незнакомый запах. Точнее, то был запах человека, зверь угадывал его за целую версту, но сегодня к этому запаху примешивалась гарь и еще что-то непривычное. Сохатый постоял на затененной деревьями дороге, понюхал воздух и двинулся дальше, пренебрегая опасностью. Людей он увидел на другой поляне, неподалеку от моста. По краю поляны стояли грузовики, прикрытые привядшими ветками, они тоже будто прятались от слепней. Посреди поляны устремились жерлами в небо пушки. Люди переговаривались между собой, что-то делали возле грузовиков и пушек и не замечали лося, который остановился на открытом месте и с наивным, почти человеческим удивлением наблюдал за тем, что происходит на поляне. Но вот откуда-то сверху, выше деревьев, послышалось басовитое гудение. Люди сразу бросились к пушкам. Не успел сохатый задрать голову, как в той стороне, где над рекой висел мост, сильно громыхнуло > пуща содрогнулась на много километров. Потом ударили одна за другой пушки на поляне. Лось от неожиданности присел на задние ноги и спустя мгновение прыгнул вперед, устремляясь меж пушек, выбрасывавших из жерл огонь с дымом, от которого стало нечем дышать. Все это напоминало страшную грозу в конце лета, но в грозу, кажется, было спокойнее, не вздрагивали одновременно земля и небо. Ломая густые заросли, сохатый ринулся напрямик. Хотя и бежал он стремглав, но на лугу очутился уже тогда, когда немецкие бомбардировщики, разделившись на две группы, делали последний заход. Одна группа, самолетов шесть, еще пыталась сбросить бомбы на уцелевший мост, а другая, числом побольше, прорвалась к поляне, откуда палили пушки. За рекой было продолжение пущи, собственно, вторая ее половина, и сохатый со страху бросился в воду, переплыл, утопая по самые рога, стремнину и выскочил на другой берег. По эту сторону реки был уже как бы другой мир, во всяком случае, тут не рвались, сотрясая землю, бомбы и не громыхали орудия. А вскоре и вообще сделалось тихо. Только где-то в стороне запоздало и совсем не страшно палила в небо скорострельная пушка. Можно было возвращаться за реку, на знакомые стежки, но сохатый не спешил. После пережитого страха он будто утратил звериную способность реагировать на внешние явления. Перед закатом солнца еще два раза прилетали самолеты, и столько же раз обрушивалось на землю и на воду возле моста адское пламя. Это отпугивало сохатого от реки. Наконец у него и вовсе отпало желание возвращаться домой. Заночевал лось в незнакомом, зато спокойном месте — на круглом растеребе, где стояла нетронутая трава. Не посмел сохатый переплыть реку и на другой день, так как снова прилетали самолеты, а когда надумал попытать счастья в третий раз, было поздно — шагах в полутораста от берега, должно быть, за одну ночь (днем их действительно не было) появились окопы; Как и на поляне, что за рекой, снова было полно людей. Но теперь сохатый не подходил к ним близко, страх удерживал его на расстояний. На пятый день сохатый неожиданно встретил лосиху с лосенком. Те тоже сбежали сюда в тот день, когда налетели на мост самолеты. Рядом с их стоянкой в болоте разорвалась бомба, и осколками был убит старый, но еще сильный лось, который неотступно ходил за лосихой с самой осени, когда отвоевал ее в борьбе с еще двумя сохатыми, — то была его последняя битва за право владеть самкой.
У нашего сохатого пока не пробудилось чувство стадности, но одиночество в этой суматохе сделало зверя податливым, и он сразу присоединился к лосихе с малышом, более того, взялся опекать их. Первое, что сделал сохатый после встречи, — отвел лосиху с малышом подальше от опасного места, на вереск, куда, казалось, не должны были проникнуть люди со своим громом и огнем. Но тщетно. Найти убежище не удалось. Как только начались бои, снаряды стали залетать и сюда. После этого сохатый решил насовсем покинуть пущу. Почти без отдыха шли они два дня, перешли в конце второго дня шоссе, но грохот, который начался у реки, не стихал, будто гнался за ними. И каждый раз, как заново всходило солнце, они видели его слева от себя. Наконец настало время, когда показалось, что самое страшное позади. Вокруг неожиданно сделалось тихо, и только в небе изредка пролетали самолеты» но теперь они гудели высоко. Несчастье случилось на лесной дороге… Как и всегда, первым на нее ступил сохатый. Он уже был на середине, когда увидел человека. Человек тоже заметил лосей и на какой-то миг даже растерялся от неожиданности, но тут же спохватился и стал целиться из автомата. Тогда сохатый напрягся и перескочил через канаву на другую сторону дороги. За ним последовала лосиха. Но отбежать от дороги ей помешал лосенок. Тот вдруг замешкался. Лосиха почувствовала его замешательство, остановилась. В это время и послышалась трескучая очередь. Почти все пули, выпущенные из автомата, попали в цель. Сгоряча лосиха еще сделала несколько больших прыжков, но не удержалась на ногах и повалилась на боровой песок в молодом сосняке, который затенял дорогу. Сохатый тут же повернул к дороге и принялся искать лосиху. Но лосиха была уже неживая. В раскрытых глазах ее стремительно застывала пугающая пустота. Над убитой стоял лосенок. Он, может, и не понимал даже, что произошло. И вот сохатый привел лосенка сюда, за Беседь…
IX
Зазыбова Марфа настежь отворила ворота, приняла с земли лежавшую поперек доску, откинула ее на завалинку, чтобы можно было проехать на телеге, и поспешила в хату закрыть полукруглую, с загнутыми краями, заслонку в печи. Зазыба все-таки решил ехать в местечко. Был великий спас — девятнадцатое августа по гражданскому календарю. При немцах в бабиновичской церкви уже вовсю шла служба, и сегодня в местечко из Веремеек направлялся не один Зазыба: набожные деревенские бабы были где-то за Беседью с полными кошелками — шли святить яблоки. Впервые за столько лет было слышно в Веремейках, как звонили колокола бабиновичской церкви. И слушать их вышли многие в деревне. Сперва веремейковцы подумали, что это из-за Беседа долетал какой-то другой звон, скорее всего тоже вызванный войной, так непривычно был о слушать бомканье колоколов, люда совсем отвыкли от него, но потом бабы и старики решили все же, что звонят в местечке к заутрене. Разные по тону колокола, будто перекликаясь между собой и догоняя друг друга, сливались в ровный гул, хоть и не очень стройный, но музыкальный. Только один колокол на низкой ноте почему-то все время запаздывал, и звон его выделялся среди других своей неожиданностью и какой-то скорбью. Зазыба с детства любил слушать долетавший из Бабиновичей благовест. В нем всегда улавливалось что-то живое. То ли это случалось под вечер в великий пост, когда и небо, и снег становились почти одинакового цвета, то ли начиналось рано рано, в канун шумной весны, когда выходила из берегов и широко разливалась Беседь, но всякий раз, как только раздавался перезвон колоколов, все его существо заполняло какое-то новое чувство, отодвигавшее прочь будничные заботы и все остальное, чем жил он в тот момент. Сегодня Зазыба вместе с другими веремейковцами также слышал далекую разноголосую перекличку колоколов и как-то невольно силился разгадать ее; ему почему-то казалось, что это и прошлое, потревоженное ими, и будущее, о котором нельзя было пока узнать, одновременно напоминали о себе… Посреди Зазыбова двора стоял запряженный в повозку на железном ходу буланый конь, из тех, что артиллеристы оставили колхозу взамен при отступлении. Конь был раскован и не хромал. Он стриг ушами, с удивлением и недоверием поглядывал на свое отражение в запотевшем окне хаты. Марылины вещи лежали на возу, прикрытые свежескошенной травой, а сама девушка перед дорогой была полна внутреннего беспокойства, которое она пыталась скрыть, хватаясь почти за все — то хотела помочь стряпать хозяйке, которая также затужила перед расставанием, то напрашивалась выгнать в стадо корову… Но Зазыба по-отцовски пожурил ее: — Ты лучше за своими вещами пригляди, чтобы все в порядке было. Не забудь чего… После этого Марыля немного унялась, но волнение не проходило. Теперь оно целиком сосредоточилось в ее глазах. Для Марыли Бабиновичи были незнакомым местечком, которое она видела всего лишь на карте. Местечко стояло на бойкой дороге, которая в войну стала стратегической, и ей, армейской разведчице, надо было теперь не только жить в этом местечке, но и выполнять ответственные задания командования. Пока фронт стоял недалеко, километров за шестьдесят, а местами и ближе, это имело особое значение, так как через Бабиновичи двигались те моторизованные части, которые вместе с танковой группой были повернуты за Кричевом на южное направление. Для разведки, по мнению армейского командования, Марыля имела два преимущества — красоту, которая могла благоприятствовать в опасной работе, и знание немецкого языка. Это и решило выбор, когда в штабе 13-й армии обсуждался вопрос, кого оставить в Бабиновичах. Действовать Марыля должна была одна (группу в небольшом местечке не решились оставлять) и под своей настоящей фамилией. Ей почти ничего не надо было придумывать — она действительно родилась в большом рабочем поселке, училась в институте; когда начались массовые налеты немецкой авиации на приднепровский город, девушка вместе с другими беженцами подалась на восток. Но не успела далеко отойти, так как нагнал фронт. За исключением вот этого «не успела», все соответствовало живой биографии. И тем не менее опыта разведчицы Марыля не имела: только что закончила краткосрочные курсы радистов при штабе да познакомилась в общих чертах с принципами ведения армейской разведки. Сперва, когда недалеко от Крутогорья, в Климови — чекой Родне, еще стоял штаб 13 и армии, было намечено направить Марылю прямо в местечко. Но кто — то из политуправления армии, может, сам бригадный комиссар Крайнов, посоветовал разведотделу связаться с Крутогорским райкомом партии, и Прокоп Маштаков предложил тогда поступить иначе. Устроить Марылю в местечке должны были посторонние люди — либо кулигаевский Сидор Ровнягин, либо веремейковский заместитель председателя колхоза Денис Зазыба. Военные неожиданно остановили свой выбор на последнем. Тогда и позвали Зазыбу в Кулигаевку к Сидору Ровнягину. Зазыба брался за поручение с полным сознанием опасности дела, он, конечно, еще в тот день, когда ходил в Кулигаевку и разговаривал с Прокопом Маштаковым, сообразил, что даже за одно знакомство с Марылей можно поплатиться жизнью. Но понимал он и то, что теперь от каждого, кто был честен и сознавал свою ответственность перед страной, требовалось не только напряжение физических и духовных сил, — пожалуй, важнее всего было подготовить себя к самопожертвованию. С одним Зазыба никак не мог согласиться — почему вдруг первой в жертву должна была приносить себя Марыля! Даже обидно было за девушку — в Веремейках который день свободно жили мужчины-дезертиры, тот же Роман Семочкин, Браво-Животовский, а она вынуждена уезжать из деревни, и, конечно, не ради сегодняшнего праздника спаса. Обида эта имела под собой и другую причину, которая также была объяснима. Касалось это уже лично Зазыбы, точнее говоря, не самого Зазыбы, а его жены Марфы. В отличие от мужа Марфа по-прежнему ничего не знала о Марыле и тем более не догадывалась, потому ей и невдомек было, почему девушка должна где-то искать себе пристанище, если можно пожить в Веремейках. Сегодня Марфа даже не выдержала, сказала об этом мужу, когда тот на рассвете пошел накосить травы в дорогу. Однако Зазыба не поддержал разговора. И вот теперь замечал, как тосковала Марфа. Марыле тоже было будто не по себе, чем-то, может, настороженным беспокойством, она напоминала птицу, которая каждую минуту готова была улететь со двора. Вместе с тем Марыля не забыла и принарядиться в дорогу — на платье натянула темно зеленую кофточку, в которой, казалось, более заметной стала ее девичья грудь. Зазыба осмотрел готовую в путь повозку, сказал неторопливо: — Ну что ж, пора нам… Марфа, точно ждала этих слов, мелко переступая, подошла к Марыле, прижала на какое-то время к себе, а потом принялась крестить, благословляя. Марыля стояла притихшая, принимала чужую ласку и чужое волнение, как подобает человеку, ставшему в этом доме почти родным, Но не успела Марфа по привычке спрятать под фартук свои натруженные руки, как Марыля ке выдержала и сама кинулась обнимать ее. Зазыба поглядел на растрогавшихся женщин и по-мужски спокойно и строго буркнул: — Хватит вам. — И Марыле отдельно: — Садись уж! Марыля оторвалась от Марфы, занесла ногу, которой не помешало широкое платье, на деревянную подножку телеги и села, подвигаясь к середине, на мягкую траву, застланную полинялой дерюжкой. Марфа напутствовала: — С богом! — и перекрестила отъезжающих. Зазыба взял за узду коня, вывел за ворота. — Запирайся тут, — бросил он жене. Окованные колеса покатились по утрамбованной стежке, грохоча едва не на весь переулок. Зазыба прошел шагов двадцать рядом, потом ухватился руками за боковую грядку и, молодцевато подпрыгнув, сел на телегу. Немного погодя Марыля оглянулась на Зазыбов двор. Все там — и хата под трехскатной крышей, и ворота, украшенные сверху наличниками с замысловатой резьбой, — показалось ей одновременно знакомым и незнакомым. Было такое впечатление, будто она теперь узнавала давно забытое. Взгляд надолго задержался на прясельном шесте, возвышавшемся, словно вешка, над плоским коньком овчарни, потом перескочил на открытое с обеих сторон крыльцо, дощатый навес которого опирался на тесовые, с точеными выпуклостями столбики-балясины. И только потом, когда в поле зрения попал раскидистый вяз, стоявший под окнами хаты, захолонуло сердце — вяз этот она все дни видела в окно во время своего затворничества. Только однажды пришла к ней деревенская девушка, наверное, в таких же годах, как и Марыля. Назвалась Настей. Уже потом, когда она ушла, Марфа Давыдовна сказала своей мнимой племяннице, что это была Настя Симоненкова, заведовавшая в деревне избой-читальней. Сама Настя об этом почему-то не вспомнила при разговоре, может, потому, что была очень взволнована, даже напугана. То ли Марыля сразу внушила доверие, то ли ей просто надо было с кем-то поговорить, чтобы излить душу, но Настя вдруг начала с того, что заплакала, затем вытерла по-детски кулаками слезы. Она состояла в комсомоле и боялась, что немцы убьют ее за это. Не так она боялась, как ее мать, женщина со странностями, которые граничили иногда с религиозным изуверством. Теперь, в ожидании немцев, мать требовала от дочери комсомолки, чтобы та при людях сожгла свой билет, дав таким образом понять всем, что в их доме с прошлым покончено. Марыле пришлось долго успокаивать девушку и подбадривать, но ушла Настя домой, кажется, в таком же смятении, как была… На прибитой скотиной, телегами и людьми, а больше всего последними дождями деревенской улице было пусто. Но возле хаты Парфена Вершкова пришлось остановиться, так как Парфен увидел Зазыбу через забор со своего двора и вышел на улицу. — Куда это путь держите? — подошел он к телеге и взялся сзади за грядку. — Да вот едем, — неопределенно ответил Зазыба. — В местечко или дальше? — И в местечко, может, заедем, а не то поедем прямо и Латоку… Надо отвезти ее вот. — Зазыба кивнул головой на Марылю. — Так гляди уж, чтоб Бабиновичей не миновать. — Придется заехать. — Поприглядись там… Зазыба терпеливо слушал. — Погода будто неплохая устанавливается, — не снимал рук с грядки Парфен. — Ага, проясняется, — соглашался Зазыба. Марыля сидела и с неподдельным интересом слушала этот крестьянский разговор. Ейпочему-то было смешно, как переговаривались мужики: кажется, обменивались словами только с одной целью — лишь бы не молчать, а им, Зазыбе и Вершкову, этого было достаточно, чтобы понять друг друга Напоследок Вершков вдруг предложил: — Может, яблок возьмешь на дорогу? — Так это… — Зазыба пожал плечами. — Стоит ли? Тогда Вершков обратился к Марыле: — Их ведь не жалко! Вон аж сучья ломятся! — И опять посмотрел на Зазыбу. — А как по сегодняшней дороге, так с яблоками аккурат хорошо будет. — Спас… — кивнут тот. — Соглашайтесь, Денис Евменович, — растягивая слова, попросила Марыля. — Ну, коли не жалко ему… — усмехнулся в ответ Зазыба. Яблоки у Вершкова стояли по случаю спаса, как у щедрых хозяев, на скамейке посреди двора: две лозовые корзины, одна с рассыпчатыми летними грушами, а вторая с краснобокими титовками. Парфен взял в обе руки по корзине, принес к повозке и высыпал на траву в задок почти поровну и яблок, и груш. — Вот, — сказал он. Зазыба после этого сильно щелкнул по земле кнутом. — Но-о-о! — Так погляди там, — бросил ему Вершков. — Ладно. Зеленое, разводье лесов начиналось сразу за Веремейками. Крайней по эту сторону была хата Ефима Кандрусевича, и стояла она немного на отшибе от деревни, а крыши хозяйственных пристроек скрывались под сенью старых сосен, каким-то чудом уцелевших от неразборчивого топора. Дорога мимо хаты была песчаная, в глубоких колеях, и Зазыба сознательно не погонял коня, тот сам трусил, екая селезенкой. Буланый тащил воз с двумя седоками почти без натуги, и Зазыбу лишь беспокоило, что несколько коротковатыми оказались оглобли, ибо конь порой ударялся ногами о передок. Глухо, не нарушая лесной тишины, шумели вдоль дороги высокие деревья, сплошь хвойные, правда, изредка попадались березы, мелькая своими белыми стволами. Хоть птиц в лесу и прибавилось за лето, однако их пение уже не отличалось тем самозабвением, какое бывает весной, когда кажется, что все льется через край. В лесу было сыро и даже зябко. Солнце, которое косыми лучами уже высветило между деревьями окрестные поляны, заросшие пожелтевшим папоротником и кудрявым, почти полегшим ягодником, сгоняло с комариных моховин серые сумерки недавней ночи. Пахло гнилыми грибами. Бывает, минет лето, осень стоит на дороге, а человек даже не увидит настоящего гриба — все как-то солнце с дождем не попадают в лад. В этом же году получилось наоборот — грибы пошли рано, сперва, конечно, колосовики, но было не до них. Ягод в Веремейках тоже не попробовали вдоволь, если не считать землянику, появившуюся в начале июня. И все же по ягоды деревенские девчата в лес бегали даже в июле, тогда через Веремейки шли маршем от железной дороги отдельные полки кавалерийской группы Городовикова. И день, и два в ер ем ей ко в цы всей деревней от мала до велика стояли на перекрестках дорог, всматриваясь в лица всадников, — вдруг кто свой попадется, а застенчивые девчата, протягивая плетеные кузовки, угощали запыленных бойцов сладкой малиной. Тогда и веремейковцы и кавалеристы, казалось, забыли про войну — все шутили и смеялись так, будто проходили обычные военные маневры. В те дни в Забеседье действительно жили большой надеждой — кавалеристы Городовикова несли с собой одновременно и возбуждение, и успокоение, не верилось, что враг может противостоять такой силе!.. Между тем конницу Городовикова фашистские самолеты начали уничтожать еще на подходе к Сожу, и об этом в Веремейках стало известно незамедлительно, так как слухам недолго было ползти. Потом через Веремейки уже не проходили никакие войска. Вновь Красную Армию увидели тут, когда от Пропойска начали отступать части 13 и армии. Все это — и стремительный марш отдельных полков кавалерийской группы Городовикова, и отступление 13-й армии — происходило в пределах одного календарного месяца, но почему-то казалось, что время тянулось необыкновенно долго, может, потому, что оно вдруг стало восприниматься как что-то почти неуловимое и тем более неопределенное… Вдоль дороги всегда встречаются памятные места, которые с чем-то связаны в жизни человека или просто вызывают интерес своими названиями, большей частью удивительными и непонятными, — можно голову сломать, а до смысла не добраться. Например, за Веремейками, всего в полукилометре от деревни, была Гоголева Нива — даже не урочище, каких много вокруг, и не делянка, где давно вырублен лес. Наоборот, там сплошь росли деревья. Гоголева, да еще Нива. Попробуй догадайся, откуда оно пошло, от залетной птицы или от человека. Правда, в Веремейках нашелся человек, тот же Хомка Берестень, который давал своеобразное топонимическое объяснение этому. Мол, еще в царствование Екатерины довелось проезжать тут царскому поезду из Петербурга в Тав — риду. Екатерина спешила в тот раз к графу Потемкину Однако писаря своего, Гоголя, не могла взять в дорогу, так как тот захворал. Пришлось писарю, когда выздоровел, догонять царицу от самого Петербурга на тройке казенных рысаков. Если верить Хомке, то Гоголь догнал Екатерину за Веремейками, как раз на этой дороге, и они сидели тогда именно тут, под этими высоченными деревьями, и любились. У Зазыбы с Гоголевой Нивой были связаны свои воспоминания: когда-то из местечка по этой дороге ехала-мчалась его с Марфой свадьба, а деревенские парни и молодые мужчины переняли ее тут и взяли выкуп… Дорога за Гоголевой Нивой сворачивала влево и вела по сосновому прясельнику, который кишел настороженными сойками. Возле так называемого Горбатого мостка, что был начисто разрушен еще в довоенные добрые времена, дорога опять выпрямилась Мосток этот возводился когда то на полдороге к Беседи, и в Веремейках расстояние между своей деревней и Бабиновичами делили обычно на четыре отрезка: сперва до моста, потом до Беседи, затем до дубравы, что за рекой: последний промежуток лежал весь на песчаных пригорках, которые и веремейковцы и окрестные селяне называли просто взлобками, дальше уже высились купола поселковой церкви; каждый промежуток растягивался примерно на полтора километра, а всего до Бабиновичей было, по не совсем точным подсчетам, около семи километров. Да, около семи. Прошедшие дожди смыли с дороги человеческие следы. Но широкие, оплывшие колеи еще напоминали о том, что недавно тут шло большое движение. В колдобинах стояла не впитавшаяся в грунт вода. Поблескивала она и на мостке, точнее, на гати, заменявшей бревенчатый настил. Буланый даже не остановился перед мостком, только расплескал копытами рыжую воду, обдав ею колеса. Грязными комочками полетели на телегу брызги, и Зазыбе, а еще больше Марыле пришлось счищать их с себя и с дерюжки, которой была застлана трава. Зазыба ехал почти безучастный ко всему, что попадалось по дороге, мысли ворочались в голове, как ворочаются колеса, когда тонут по самые ступицы в песке. Сперва его занимало не им самим задуманное дело, но из-за которого сегодня ему пришлось выбраться почти вслепую в местечко, а потом почему-то припомнился разговор с Микитой Драницей, приходившим за орденом. Хоть и с опозданием, однако Зазыба поиздевался-таки мысленно над Драницей, который сдуру взялся выполнить поручение Браво-Животовского. Но вот за мостком, может, шагах в полутораста от гати, бросились вдруг в глаза — и надо же было посмотреть в ту сторону — на крупном желтом песке, что был намыт в небольшой впадине, незнакомые следы. Они напоминали коровьи, но были поуже и вытянуты в длину. Зазыба знал всех обитателей здешних лесов, мог различить любые следы, однако такие, кажется, видел впервые. И уж совсем удивился помету, оставшемуся возле дороги, — похож на заячий, но черный и немного Крупнее; кругляки лежали тут не дольше чем с ночи, так как еще лоснились, привлекая больших мух. Было бы это в другой раз или хотя бы не сидела на телеге молодая девушка, Зазыба наверняка бы остановил коня, чтобы подойти и осмотреть незнакомый помет. Марыля между тем даже не догадывалась, что звериные следы на дороге могли так заинтересовать Зазыбу, ей было приятно ехать через лес, слушать шум деревьев и ловить непонятные звуки, долетавшие из чащи И еще ей хотелось поговорить с Зазыбой. Вчера, когда приходил Микита Драница, девушка услышала через тонкую филенчатую дверь разговор, и ее поразило тогда, что хозяин имел правительственный орден. Странно, но именно вчера она почувствовала себя как бы виноватой, ведь она почти ничего не знала про Зазыбу. В Кулигаевке секретарь Крутогорского райкома и майор из разведотдела армии сказали о нем всего несколько слов: человек, мол, надежный, можно полагаться целиком. Когда знакомили их, она немного присмотрелась к Зазыбе, действительно, человек вызывал к себе доверие сразу, хотя и имел немного растерянный вид, и его неразговорчивость (за всю дорогу от Кулигаевки до Веремеек Зазыба, кажется, не проронил ни слова) она объяснила себе тремя обстоятельствами: характером, крестьянским обхождением и войной. Потом, когда они жили, как говорится, под одной крышей, Зазыба также избегал разговоров. Возможно, не желал он разговора и сегодня. И тем не менее Марыля решилась заговорить. Они как раз переехали у Прудковской мельницы Беседь. Буланый, горбясь и часто перебирая ногами, втащил телегу на высокий берег. Глазам открылась новая даль — за рекой утопал в дымке уже тронутый близкой осенью забеседский лес; по правую сторону, между дубравой и рекой, что извилистой блестящей лентой выгибалась в широкой луговой пойме, выступали из-за пригорка дворы небольшой деревни; по левую сторону лежало ровное поле, усеченное березовым большаком — той самой гравийной дорогой, что вела в Бабиновичи из Крутогорья через Белую Глину; и только впереди заслонял небо широкий взлобок, за которым скрывалось местечко. Надо всем — над полем, над лесом, над пригорками — плыло спокойное, но еще по летнему горячее солнце. Марыля нащупала на телеге большое яблоко, взяла его, надкусила красный бок и, втянув шею, зажмурила глаза, будто боялась подавиться. — Денис Евменович, — начала она тихо, по-крестьянски, — что я хочу спросить. За каким это орденом приходил тот человек вчера? — Микита? — не поворачивая головы, переспросил Зазыба. — Наверное. — А-а-а, — усмехнулся Зазыба. — А я и не знала, что у вас орден!.. — Разве я таился со своим орденом! — снова усмехнулся Зазыба, но уже с нескрываемым удовольствием. — Про это все знают. Орден же на груди носят, чтоб виден был. — А я вот не знала. — Не видала, потому и не знала. Все знать не будешь. Да и не надо. Это наши тут, свои, деревенские дела. Марыля еще раз спросила: — А какой орден у вас, Денис Евменович? — Да обыкновенный. Боевой. — Вы воевали? — А теперь так получается, что человеку за свою жизнь приходится несколько раз воевать. Как кто нарочно рассчитывает. Это уже на моем веку которая война. Но тогда мы хоть не отступали так. Случалось, что отступать приходилось, но так не отступали. Марыля не нашлась, что в ответ сказать, словно она больше всех была виновата в том, что армия отступает, и они снова поехали молча. Вскоре дорога начала спускаться в низину. Следовало на всякий случай попридержать буланого, и Зазыба слегка стал натягивать вожжи. Но напрасно беспокоился, конь, видно, немало походивший в артиллерийской упряжке, дело свое знал: колеса попадали как раз в колеи, и телега катилась под гору ровно. Из дубравы почти наперерез им вышла с большой вязанкой дров какая — то женщина. Было ясно, что направлялась она в местечко. Зазыба подстегнул коня. Возле дороги женщина остановилась, видимо надеясь подъехать на подводе. — Клади свои дрова, — сказал ей, улыбаясь, Зазыба. Не раздумывая, женщина втащила перехваченные веревкой сучья на повозку. Была она годами не намного старше Зазыбы. Но выглядела совсем измученной, про таких обычно говорят: забытая людьми и богом. На Марылю она не обращала внимания, заискивающе смотрела на одного Зазыбу. Еще не верила, что тот действительно довезет ее до местечка. Марыля подвинулась, уступая место. Женщина положила дрова как раз на яблоки, а потом села и сама, не выпуская из рук конца веревки. — Вот повезло так повезло, — сказала она, оглядываясь. — И не знаю уж, как благодарить. — А чего же ты на себе тащишь? — спросил Зазыба, кивая на сучья. — Так а на чем? — женщина усмехнулась и бросила с укором: — А вы еще ездите? И кони вот у вас есть! Откуда это вы? Что-то я не знаю вас… — Из Веремеек. — А-а-а, — покачала головой женщина, — так у вас, может, и германцев еще не было? — Не было. — Живете ж там, в лесу! — позавидовала она. — А вы? — Да мы… Правда, германцы пока не трогают. Может, и зря пугали. Говорят же, не так страшен черт, как его малюют. — Черт, он и есть черт, — не согласился Зазыба. — Как красиво ни малюй, все равно на черта похож будет. — Так и правда, — принялась убеждать женщина, будто опасаясь чего, — не трогают людей. Все остается, как и прежде. — Ну-ну… — А все оттого, что комендант, кажется, попался нам толковый, вот что я вам скажу. Намедни даже побил одного полицая. Василия Бутремея. Это ж как было. — И начала с увлечением рассказывать: — Пришел он к одной бабе в Зеленковичи, я говорю про Бутремея, да и забрал мужнины сапоги. Нехай бы какие-нибудь другие, а то хромовые. А баба возьми да и сходи к коменданту. Так Адольф и помог ей. Право слово, помог. Шомполом даже побил Бутремея. Говорит, я из вас русское свинство выбью. Бутремей как отведал шомпола, так сразу принес сапоги назад в хату. Зазыба поглядел на Марылю и подмигнул, мол, слушай, как бывает. — Нет, может, и напрасно еще говорили так про германцев, — продолжала рассуждать женщина, — распутства они не потерпят… И вдруг до Зазыбова плеча дотронулась Марыля: — Денис Евменович, взгляните!.. Зазыба повел глазами вперед. На большаке, который был уже недалеко, стояли между рядами почерневших с комля берез грузовые автомашины с закрытыми кузовами. Колонна, очевидно, остановилась давно, так как немцы похаживали между грузовиками, как на большом привале или при вынужденном отдыхе. Зазыба почувствовал, как задрожали у него руки. Он попытался покрепче сжать ими вожжи, но руки не слушались. — Кхе, кхе, — с трудом выдавил он из себя что-то похожее на кашель. — А бо-о-ожечка! — встревожилась при виде немцев и бабиновичская женщина. Полевая дорога, по которой они ехали среди ржи, пересекала шлях как раз в том месте, где стояли теперь автомашины. Даже сам перекресток был перегорожен. — Ну, что будем делать? — шепнул Марыле Зазыба. — Не знаю. Повозка между тем приближалась к перекрестку. Зазыба глядел на машины, на вооруженных солдат. От волнения впереди все будто расплывалось, как в непроглядном тумане. Наконец буланый дошагал до крайней березы и сам остановился, видя, что дальше путь перекрыт. Немцы также обратили внимание на телегу с тремя седоками. Некоторое время они наблюдали за ними, а потом один, по-козлиному подбрасывая зад, перепрыгнул канаву и направился к повозке. На лице его не было ни особого напряжения, ни тем более улыбки. Просто им владело в этот момент безучастное любопытство, вызываемое обыкновенной ленью, бездеятельностью и чувством своего превосходства. «А ну-ка, посмотрю!» — должно быть, подумал он. Но вдруг увидел на телеге красивую девушку-славянку, и лицо у него сразу словно загорелось. — О! — поднял он вверх палец и, повернув голову к автомашинам, крикнул: — Ком маль шнелер хэр! Прима мэдэль![6] И тогда молодые и здоровые немчики — у некоторых так даже верхняя губа не успела загрубеть, — топая тяжелыми сапогами, ринулись, будто спущенные с цепи, через канаву к повозке. — Шенэс мэдхен! Айн прахтштюк![7] — старались они перекричать один другого. Видя все это, Марыля скрестила руки, уцепившись пальцами за плечи, и сжала их, как в ознобе. Зазыба сидел впереди, ему не было видно, что делалось за спиной. Но казалось, что там прямо-таки гарцевали черти. Стоял шум, сыпались со всех сторон непонятные слова. Марыля, конечно, слышала, что кричали в этом бедламе немецкие солдаты, но она не подавала вида, что знает их язык, старалась побороть в себе взволнованность и пугливую растерянность, так как ей нужно было сохранять самообладание и силу воли, чтобы смотреть на врагов открытыми и наивными глазами. — Нун вас дэн? Грайф цу, Хайнрих, — хриплым голосом говорил один долговязый немчик другому, тому, который первым подошел к телеге, — уйд мах кайне умштэнде. Хает ду дас пюнхен алльс эрстер геншнапт, зо шлепе зи ин айне эке. Дас мэдхен гехерт дир аляйн, ниманд комт дацвишэн. Дбэр этвас вайтер, дас ниманд дих цу бэнайден хат. Ляс зи дих дорт гут гэнисен, дас зи зих даран юбер дас ганце лебенэринэрт[8]. И вдруг немец будто впервые заметил на подводе пожилую и безобразную женщину с вязанкой дров. — Вас глецст ду, альте хэксе? — накинулся он на нее. — Гляубст ду воль аух айнем гут шмэкен? Айнем хунде зер![9] — заорал он и рывком сбросил на землю дрова, а потом под общий хохот толкнул в затылок и женщину. Та испуганно вскрикнула и, словно большая птица, выброшенная из гнезда, закопошилась под колесами, хватая землю растопыренными руками. Наконец дотянулась до дров и, ухватив за конец веревку, поволокла их на карачках по канаве подальше от нечис — того места. — Матка рус! Матка рус! — сыто хохотали вдогонку ей солдаты, расхватывая с воза открывшиеся яблоки. И вдруг все угомонились — к телеге подошел офицер. — Нун, кайне ангст, майн шэцхен, — поднес он к виску на уровень брови два пальца правой руки в тонкой кожаной перчатке желтого цвета. — Ди зол датен дер румрайхен армэе дэе гросен фюрерс…[10] Но закончить напыщенную фразу ему не пришлось. По колонне послышались торопливые команды. Заурчали моторы. Солдаты бросились к грузовикам и, цепляясь за борта, начали подсаживать один другого в кузовы. — Пардон, мадам, — от неожиданности офицер перешел на французский язык и озорно блеснул прищуренными глазами. Грузовики на большаке взревели. «Колонна тронулась. Пока машины одна за другой проезжали перекресток, Зазыба сидел на повозке в мучительном ожидании, ему почему-то казалось, что главное еще не произошло и что-то обязательно должно случиться… Из-под тентов, скаля зубы, выглядывали солдаты. Но вот миновала перекресток последняя крытая автомашина, и тогда Зазыба вдруг нервно засмеялся. — А та, — трогая вожжами коня, сказал он про бабиновичскую женщину, — думала, что один немец похож на всех остальных!..Портной Шарейка по праву считался в Бабиновичах мастером своего дела, мужики шутя говорили, что у этого человека к тому же хватило бы ума одурачить сразу двух евреев, а это уже верх всякой похвалы. Молодым парнем Шарейка поехал на шахты в Юзовку, но денег не заработал — глыбой породы повредило левую ногу. В местечко пришлось возвращаться калекой. А в местечке, как и в деревне, человек без ноги — не человек. Спас Шарейку местечковый портной Гирша. Старому еврею приглянулся парень, и, чтобы тот не пропал из-за своего увечья, он взялся научить его ремеслу. Больше того, Гирша одно время хотел даже женить Шарейку на своей дочке Бейле, но против восстала, пожалуй, вся еврейская половина местечка. «Зачем тебе, — говорили ему, — этот калека, да к тому же гой? Зачем нам нужна чужая кровь?» Гирша смеялся в ответ: мол, еще неизвестно, кто в местечке гой, а кто нет, все они — и дети евреев, и дети белорусов — одинаково катаются на свиньях по выгону. Однако Бейлю отдал за сына местного шорника. А из Шарейки сделал настоящего портного. И когда старый еврей умирал, Шарейка уже имел собственную зингеровскую машину. И вот много лет Шарейка самостоятельно обшивал местечко и окрестные деревни. Каждый считал за честь снести ему купленный или же сотканный материал и сделать заказ. Зазыба также водил дружбу с Шар ей кой, всегда, как приходилось бывать в местечке, искал повод, чтобы навестить портного. Но сегодня Шарейка очень удивился, когда увидел под окнами Зазыбу, его будто какая сила вынесла из хаты на крыльцо, и он, стуча по двору ногой-деревяшкой, кинулся раскрывать ворота. Заезжай, Зазыба, заезжай! — заговорил Шарейка с той поспешностью, какая бывает обычно после длительного и вынужденного ожидания. И потом, когда Зазыба уже ставил коня под поветь, Шарейка тоже почему-то чрезмерно суетился, словно в хате за столом давно сидели гости и задержка была за одним Зазыбой; на своей деревяшке он без толку мерил двор, ковылял из конца в конец и невпопад засыпал приезжего вопросами. Марыля осталась сидеть на телеге — девушка почему-то вдруг почувствовала себя неловко в присутствии портного, к тому же и Зазыба ничего не предпринимал, чтобы обратить на нее внимание хозяина. Зато она успела приглядеться к портному, тот показался ей человеком слишком нервным, а деревянная нога, прикрепленная сыромятными ремнями выше колена, вызывала у нее растерянность: Шарейка напоминал одного из тех старцев-калек, которые собирают повсюду милостыню и про которых в народе рассказывают разные страшные истории. Зазыба между тем вывел коня из оглобель, задал корму — травы с воза — и следом за хозяином пошел на крыльцо, потом в хату: они и впрямь будто оба забыли про Марылю. И двор, и хата у Шарейки были хорошо отстроены. Строился он, когда уже были средства на это. Хату — правда, местечковые люди в отличие от деревенских хаты свои называли домами — ставил на две так называемые каморы, то есть половины, с просторными сенями посередине. В то время Шарейка, видимо, рассчитывал на большую семью. Но семьи такой у него не получилось. И теперь они с Ганной жили одни — сын завел семью рано, чуть ли не в восемнадцать лет, да к тому же ушел за женой к тестю. Сперва Шарейка утешал себя тем, что это у сына просто молодая дурь в голове, которая со временем пройдет, но напрасно — Павел прижился у родителей жены, и постепенно обида позабылась, настало время, когда и сын и отец перестали даже думать о возвращении. Старшему Шарейке только иной раз делалось жалко, что когда-то, строясь, так размахнулся, ибо та камора, что была справа от сеней, стояла пустая. Правда, в местечке всегда находились приезжие, которым можно было сдать ее, но и этого Шарейка не позволял себе — не хотелось мастеровому человеку иметь кого-то постороннего в доме. Пройдя сени, Зазыба окинул глазом жилую половину. Все тут было, как и прежде: от печи до надворной стены шла дощатая перегородка, торцами упиравшаяся в потолок, оклеенный бумагой; за перегородкой, в свою очередь, вся площадь тоже была поделена на две части — таким образом, эта половина Шарейковой хаты состояла из трех комнат, одна из которых была большой и длинной, освещенной большими окнами, а две остальные — просто боковушки. Тут помещалось и все портновское хозяйство, главным в котором была, конечно, швейная машина. — Где же твоя Ганна? — спросил Зазыба, не застав в хате хозяйку. — На село пошла, — ответил Шарейка. — В церковь? — Говорю, на село. — А я все путаю, где у вас само местечко, а где село. — Село за местечком, — усмехнулся Шарейка. — А мы обо всем сразу — местечко да местечко… — Местечко — это вот наша часть, возле церкви, а село за садом начинается. Так моя Ганна, чтоб ты знал, пошла на село. Надо сноху проведать. Ребенок, кажись, прихворнул. А в церковь она уже сходила, к заутрене. — А сын что? — Известно, воюет! На длинном столе меж окон лежало новое шитье: сметанная на живую нитку фуфайка и еще какая-то одежина, уже из немецкого сукна. Зазыба задержал на ней взгляд, и, возможно, потому, что в глазах его отразилось удивление, Шарейка подвинул шитье на край стола. — Ты это не выпускаешь иголки из рук и теперь? — поинтересовался как бы между прочим Зазыба. Портной замялся. — Заказ… Надо спешить, бо человек не наш. Уедет скоро. — Ну, ну… Зазыба подошел к окну. Шарейкова хата стояла так, что поверх крыш была видна церковь — по самые полукруглые окна. — Война войной, а человеку жить чем-то надо, — сказал за спиной Шарейка, явно оправдываясь перед Зазыбой. — Ему не только шамать, но и одеваться надо во что-то, чтоб не светить задом. — Ясное дело… — Я потому и не выпускаю, как ты говоришь, иголки из рук. Были старые заказы, а тут и новый подоспел, да еще из германского сукна, видишь. — Кому это подсудобило разжиться? — Офицер один принес. Кто то посоветовал ему меня. Обещал тоже заплатить. — Шарейка усмехнулся, потом снова начал говорить, но уже будто отвечая на какие-то свои мысли. — Оно конечно, немец — враг, и, как писали в газетах, каждая буханка хлеба должна разорваться в его руках бомбой. Но разве проживешь нынче по писаному? Зазыба выждал конца этого объяснения, потом сказал, не скрывая злости: — Вы тут, я вижу, приспособились уже к немцам. Подвозил сегодня одну бабу, та не могла нахвалиться комендантом, что теперь у вас… Адольфом, или как его? — Он не только у нас. Он и у вас. Веремейки тоже в его подчинение входят. — А не рано ли стали вы его хвалить? — посмотрел испытующе на портного Зазыба. Тот отчужденно усмехнулся. — Главное, чтобы не было поздно. — И взял Зазыбу выше локтя. — Ну, давай рассказывай, что у тебя, а то мы сразу как-то… — Новости ведь все у вас, — уклончиво сказал Зазыба. Шарейка кивнул. — Конечно, — согласился он, — новостей и у нас, в местечке, хоть отбавляй. Но не сравняться с Крутогорьем. Что ни говори, а райцентр… — Я даже не знаю, есть ли теперь вовсе райцентр? Может, уездным стал. Мы же там, в своей глуши, сидим как в полынье — то ли уже высовывать голову, то ли еще подождать. — Райцентр, райцентр, — махнул рукой, будто успокаивая Зазыоу, Шарейка. — А знаешь ли ты, кто начальником полиции в Крутогорье стал? — Кто ж его знает, — пожал плечами Зазыба. — Даже и в голову не придет, если подумать, — усмехнулся Шарейка. — Помнишь Рославцева? — Того, что был директором маслозавода? — Его самого. Николая Ивановича. — Гм… — Так начальником полиции, или, как немцы называют, начальником охраны порядка, он и есть. А мы за него еще в прошлые выборы голосовали в райсовет… — Новости, ничего не скажешь, — захлопал глазами как очумелый Зазыба. — А может, у него от наших задание какое было — стать на высокую должность у немцев, чтоб помогать потом своим? — Кому это своим? — Ну, нам вот… Красной Армии… — Этого я не знаю, но для дела, пожалуй, лучше было бы, если бы Рославцев не становился начальником полиции в Крутогорье. Оно конечно, ты хитер, но и немец тоже не лыком шит. Потому я и говорю. Теперь-то еще ничего, только глаза от удивления у людей лезут на лоб, а если он, то бишь Николай Иванович, вдруг возьмет да осерчает, захочет и немцам послужить? Знаешь, как тогда головы с плеч покатятся? Он же лучше немцев обо всем в районе знает… И активистов, и… — Ты думаешь, он?.. — Ничего я не думаю, — уже со злостью сказал Шарейка. — Я тебе говорю, как оно есть или может быть. Когда-то мой Гирша говорил: не думай, как думаешь, а думай, как придется. Кстати, разумный человек был. Шарейка прошелся в раздумье по хате. — А впрочем, — махнул он рукой, — гори они, и немцы, и начальники полиции ихние, особенно Рославцев! Ты лучше давай уж выкладывай, Денис, начистоту, что принудило тебя приехать к нам в такое время? — Да уж и не знаю, с чего начинать, — замялся Зазыба. — Просто так не поехал бы, — уточнил, подбадривая, Шарейка. — Девку вот привез в местечко, — сказал Зазыба. — А кто она тебе? — спросил Шарейка. — Как тебе сказать… — Зазыба собрал гармошкой лоб. — Просто надо устроить в местечке… Шарейка на это заметил: — Так у вас же там, посреди леса, спокойнее можно прожить. Зазыба отвел глаза. -=- Она так вот, как и ты, тоже хочет поработать на немцев, — глухо и совсем некстати сказал он. Шарейка помолчал в затаенном смущении, а потом сказал вдруг спокойно: — Ну что ж, нехай поработает. Позови ее в хату. — Обойдемся пока без нее, — отозвался Зазыба. Тогда Шарейка посмотрел на него во все глаза, пожал плечами. — Что-то я не понимаю сегодня тебя, Денис. — А тут и понимать нечего, — повысил голос Зазыба. — Девка хочет поселиться на житье в местечке. Ты же сам говорил, война войной, а человеку жить надо. — Так это я сказал… — А она тем более, бо осталась одна. Беженка. Ищет пристанища. — А чем не пристанище в Веремейках? — Она же хочет делать что-то, чтоб еще и кормиться! Шарейка покрутил головой. — А то сам прокормить не в состоянии? У тебя же ртов не богато! — Она ведь сама себе хозяйка. Говорит, свези в Бабиновичи. Шарейка с недоверием сморщился. — Дело ваше, — сказал он. — Вижу, хитришь, не хочешь открыться. Но чего мне все это стоить будет? Ты же, наверное, хочешь, чтобы я пособлял ей устраиваться? И тут Зазыба не нашелся, что ответить, просто не был готов к подобному разговору. Тогда Шарейка потер ладонью небритую щеку и заговорил со злостью, будто хотел запугать Зазыбу: — Тут своих девок хватает. Уже который день по местечку с мокрыми хвостами бегают. Благо, есть куда и откуда. Еврейские дома ведь почти все пустуют. В местечке остался один Во cap, если помнишь, да еще Ицкина женка, того Ицки, что мельником когда-то был в Прудках. Так сам Ицка помер, а баба его хворая. У нее один страх переборол другой. А Восар тоже на ладан дышит. Одним словом, в местечке теперь только два старых еврея. Остальные поперед армии поехали кто куда. Так дома ихние пустуют. Офицеры немецкие пируют там, когда часть какая через местечко идет и останавливается. Завсегда ищут по местечку девок. Учительницы остались, да и в больнице женского персоналу хватает. Ночи напролет граммофоны в еврейских домах надрываются. А теперь вот и твоя беженка туда же. Не зря, с лица ничего, да и все остальное, кажись, в аккурате. Так что… смотри! Но если сама уж больно хочет, то сделаем одолжение, можно отвести хоть сейчас за почту, нехай в Хонином доме селится. Шарейка глянул исподлобья на Зазыбу, будто хотел убедиться, какое впечатление произвели его слова. Но по виду Зазыбы нельзя было угадать его истинного настроения, умел, если это было нужно, не показывать. Но вот Зазыба стремительно отошел от окна, сел на стул, стоявший почти посреди хаты. Не приятно ему было вести с хозяином такой разговор, знал, что портной теперь нехорошо думал о нем. И тем не менее то, что Шарейка каким-то образом мог догадываться о действительном положении вещей, Зазыбе и в голову не приходило. Интерес портного к тому, чем может обернуться для него дело с устройством в местечке Марыли, можно было отнести за счет обыкновенного любопытства. Однако как раз теперь Зазыба по настоящему и почувствовал всю нелепость своей затеи: выходило, что он сознательно втягивал портного в опасное дело и даже не предупреждал его об этом. Совесть требовала рассказать Шарейке обо всем, но Зазыба не имел права раскрывать тайну. Оправдывало его немного то, что он и сам ничего толком не знал. Теперь он сидел перед портным и лишь переводил дыхание. Однако, пожалуй, хуже всего было то, что он вообще неумно повел весь разговор, с порога набросился на человека, которого уважал и в котором теперь особенно нуждался: во всяком случае, лоскут немецкого сукна не стоил того, чтобы портить настроение и самому себе, и хозяину этой хаты, а тем более бросать тень на Марылю. Конечно, можно было еще исправить все, как-то обрести прежнее расположение? которое всегда было между ними, но Зазыба уже был не в состоянии перевести разговор на что-то иное — ощущение стыда и вины сильно угнетало его. Тем временем домой неожиданно вернулась хозяйка, Шарейкова жена, принаряженная, очевидно, по случаю спаса. — А я думаю-гадаю, кто это к нам на коне, — сказала Шарейкова жена грудным голосом, улыбаясь. — Дак что же это вы дивчину одну оставили во дворе? — Ты и в самом деле, Зазыба, позови ее, — почувствовав укор, обратился к Зазыбе хозяин. — А то я не знаю, как звать ее. А Ганна за это время на стол соберет. Обедать, может, и рано, однако же когда-то мой Гирша говорил: обед на обед не то, что палка на палку. — Твой Гирша, вижу, на все случаи жизни науку тебе дал, — усмехнулся Зазыба и вышел на крыльцо, чтобы позвать Марылю. За обедом Шарейка сказал жене: — Может, возьмем к себе жиличку? Ганна, успевшая по-женски быстро окинуть взглядом незнакомую девушку, посмотрела на мужа с насмешливым недоверием. Тогда Зазыба перехватил разговор. — Нехай будет так, как договорились, — сказал он решительно портному. — Тем более что дома в местечке, как ты говоришь, без хозяев остались. Пущай занимает какой-нибудь. — У тебя, Денис, как я погляжу, так все очень просто выходит, — с насмешливым выражением покачал головой Шарейка. — Разве человеку для жизни одного пустого дома хватит? Что-то же еще и есть надо, и спать на чем-то надо? Евреи ведь спои пуховики позабирали! — А у меня деньги есть, вмешалась в разговор Марыля; слова ее прозвучали наивно и как бы невпопад. — Это хорошо, что деньги, — даже не посмотрел на нее хозяин, — но что они теперь будут стоить? — На первое время хватит того, что дала Марфа, — сказал Зазыба, — а там вскорости еще подкинем. — Хозяин — батька, — уступая Зазыбе, сказал Шарейка и спустя полминуты рассудил: — В конце концов, голодной да холодной не будет. Ганна, которая все это время с недоумением посматривала на мужчин, пожала плечами. — Верно, Денис, почему бы ей у нас не остаться? Шарейка крутнул головой. — Нехай делают как знают. Ганна снова обвела пристальным взглядом обоих. — Как там Давыдовна твоя? — спросила она через некоторое время уже о другом. — Живет помаленьку. Как говорится, жизнь на нитке, а думает о прибытке, — ответил с усмешкой Зазыба. — Немцев у вас нема еще? — Пока и взаправду выходит, — сказал Зазыба, — что за лесом нас не видать. — Это они еще не добрались до вас, — заметил Шарейка. — Но полицейского уже имеем. — Зато у нас их целая свора. Шляются по местечку с винтовками, пугают людей. — О господи!.. — вздохнула, подумав о чем-то, Шарейкова жена. Шарейка после этого сказал с усмешкой: — Сегодня в Бабиновичах, должно быть, бабы только и делают, что вспоминают господа бога. Ганна моя вот тоже… — он помолчал и добавил: — Спохватилась вдруг… через столько лет. А уже казалось, что и не потребен вовсе он. — Не потребен, — сверкнула темными галазами Ганна. — Ты бы поглядел сегодня, как ползли наши бабы в церковь, когда открывалась, да как целовали там все, что можно было, вылизывали языками пыль. — Бедняжки! — явно паясничая, произнес Шарейка, но больше не стал злить жену. — Раз уж вспомнили, грешным делом, бога, — обратилась к Зазыбе нахмуренная Ганна, — то сделай милость, Евменович, передай вот это письмо Марфе своей. — Она приподняла скатерть обеденного стола, взяла оттуда свернутую трубочкой бумажку. — Что это? — Так не секрет, можешь посмотреть. Но не успел Зазыба пробежать бумажку глазами, как протянул к ней руку хозяин. — «На поляне, — сильно хмуря лоб, начал читать портной, — стоит два гроба. Один черный, другой красный. Второй гроб, красный, вдруг цветами зацветает…» — Святое письмо, — пояснила Ганна, — передается по золотой цепочке. Шарейка повертел в руках бумажку, подмигнул Зазыбе. — Однако же никакого золота не видать. — Тебе бы все зубы скалить, — как на пропащего, махнула рукой жена. — Это в церкви сегодня раздавали такие вот? — поинтересовался Шарейка. — Не в церкви, а домой принесли. Еще намедни. — Зачем? — Значит, есть зачем. — Так расскажи нам. Но Ганна уже и не смотрела на мужа. Она привычно вытерла полотенцем стол, сказала Зазыбе: — Так ты уж, Евменович, отдай Марфе письмо. — И объяснила: — Ты не думай, тут все хорошо. Написано: два гроба. Так один, надо читать, красный, это наш, советский, а другой, черный — ихний, германский. Германский как стоял вот, так и стоит, а наш цветами расцветает. Значит, нам хорошо будет! — Ну-ну… — Правда, наш еще весь в крови, недаром же красный, но написано, что оживают цветы на нем. Значит, наши одолеют немца. Это святое знамение, чтоб знали. Даже бог теперь за нас. — А что Марфа моя должна делать с письмом? — Так ты вот послушай, Евменович, — утешенная вниманием и, как ей казалось, серьезным отношением, посветлела лицом хозяйка. — Это письмо, как видишь, святое, и должно оно передаваться по цепочке такой, от одного человека к другому. И главное, чтобы никто не оборвал цепочку, а то ничего тогда не сбудется. Значит, каждый, к кому попадет письмо, должен переписать его и передать другому. Потому и цепочкой зовется. — Да еще золотой, — снова попытался встрять в разговор Шарейка. — А что, мужчины тоже должны переписывать? пряча усмешку, спросил Зазыба. — Ну, от вас-то уже не дождутся этого ни бог, ни люди. Хотя что я говорю, ты, видно, так еще… А мой вот только зубы скалит, как жених на свадьбе. У него ни бога за душой, ни черта… Как Гирша когда-то совратил молодого, так безбожником и живет теперь. Люди вот сегодня в церковь, едва рассвело, ведь столько времени голоса батюшки не слышали, а мой — за стол да машинку крутить. Немца, видишь, испугался. Заказ треба скорее исполнить. А божья кара ему нипочем! Теперь вот за письмо цепляется. И оно ему не по нутру. А того не знает, что каждый, кто этот лист читает или даже слушает, а еще лучше переписывает, так уже точно божьей милости сподобится. И в котором доме этот лист, там ни огонь, ни бомба… ничто не сможет натворить беды. — Скажи, Зазыба, — вздохнул Шарейка, — твоя Марфа тоже такая вот… Зазыба в ответ лишь улыбнулся. Тогда Шарейка покивал головой. — Теперь я понимаю, почему мы с тобой такие затурканные. — Затуркаешь вас! Зазыба взял в руки «святое письмо», сунул в карман. — Так ты уж передай там, Евменович, Марфе своей, — в который раз принялась упрашивать Ганна. — Нехай она в Веремейках первая начнет золотую цепь. Это не важно, что грамоты маловато. Можно попросить кого пограмотнее, перепишет. — Ладно, — кивнул Зазыба. — Не знаю, что из этого выйдет, а передать передам. — Да, кроме пользы, ничего не будет, — уверенно сказала Шарейкова жена. — Треба ж и нам, бабам, помогать Красной Армии, чтоб германца вытурить скорей, — при этом Ганна посмотрела на Марылю, будто искала поддержки. — Ну-ну, давайте помогайте, — не меняя насмешливого тона, произнес Шарейка и покрутил головой. — Однако кто-то дюже хитрый выдумывает все это! — Уж не дурак, — с достоинством ответила ему жена. — Можешь не сомневаться, немцы против себя выдумывать такого не станут. — Да уж конечно, — согласился с хозяйкой Зазыба и взглянул на Шарейку — пора было перевести этот застольный разговор на. что-то другое. — У вас, говорят, новая власть даже колхоза не тронула? — спросил он спустя некоторое время. — Это еще что! — воскликнул, словно обрадовавшись, Шарейка. — И председатель прежний остался! Так что готовься и ты, если Чубаря нет в Веремейках. Тоже поставят председателем. — А вы ешьте, ешьте, — отстраняясь от мужчин, подвинула хозяйка ближе к Марыле сковородку с драниками. — А то, может, никогда и не пробовали таких? — Мне Марфа Давыдовна пекла, — застенчиво улыбнулась девушка. — Ну, так покушайте и наших… — Недаром говорят, пути господни неисповедимы, — продолжая мужской разговор, почесал, затылок Зазыба. — Однако и задача!.. — Тут, пожалуй, особенно ломать голову не стоит, — прищурил левый глаз Шарейка. — В этой задаче, кажись, все понятно. — Так… Говорили же, что немцы против колхозов будут, а теперь выходит… — Значит, колхоз немцам не мешает, — сказал портной и откинулся на спинку стула. — Я тоже на их месте не разгонял бы колхозов. А то что же получается? Еще совсем близко фронт стоит и неизвестно, куда завтра качнется, а тут хлеб в поле осыпается. Немцы, они хоть и на машинах, а тоже твари живые, без харча и им нельзя. А из Германии сюда не навозишься. Вот и надумали нашим воспользоваться. — Ну-ну, продолжай… — Допустим, немцы разгонят колхозы. Кстати сказать, наши мужики тоже ничего не имели против, чтобы перемерить поле снова на полосы. Но комендант отговорил их. Что ему полосы наши? Мужики соберут урожай, да и спрячут. Попробуй тогда отбери у них хлеб. Конечно, можно и отобрать, на то у немцев теперь и сила. Но сколько на это ее потребуется? Особенно в такое время, когда все шиворот-навыворот. Ведь наша местность находится в прифронтовой полосе. Даже слышно, как стреляют, может, за Поповой горой, не далее. Того и гляди, Красная Армия вот-вот вернется. Не все же ей отступать. Потому немцы и рассчитали правильно. Пущай мужики жнут и молотят, как и раньше, а когда зерно в амбары свезут, можно распорядиться им по-своему. Тогда не надо будет ни по чуланам лазить, ни оружия применять. Одним словом, как для меня то с колхозом дело ясное. Неужто же немец упустит свою выгоду? Нет, колхоза они не тронут. Заменят только название. Кажись, сельской общиной будет называться теперь. Это чтоб колхозом не называть наперед. Оно ж и волость так — и область есть, и район остался, а вот заместо Совета сделали волость. И тоже абы не называть Советом, то есть чтобы подальше от Советской власти, чтобы и запаха не задержалось близко. Шарейка сцепил на животе руки, посидел, раскачиваясь на стуле, и, улыбнувшись самому себе, сказал: — У нас мужики тоже озадачены были. Мол, немцы — и вдруг колхозы? Почему тогда у себя, в Германии, не создают их? Некоторые додумались даже по глупости, будто Адольф, комендант, тайный коммунист. Особенно пошли такие разговоры, когда Адольф полицая одного прибил, заставил вернуть бабе мужнино добро. — Мы как-то у себя тоже разговорзаводили об этом, так выходит… — начал было Зазыба. — То-то, что выходит, — перебил его Шарейка. — Но ведь выходит потому, что нам всем почему-то дюже хочется, чтобы Адольф оказался немецким коммунистом. А все опять же потому, что наслушались в свое время разного… Если помнишь, говорилось и такое: немецкие рабочие не позволят Гитлеру развязать войну с нами, пролетариат, мол, сразу поднимет восстание или перейдет на нашу сторону из окопов. А куда они теперь, говоруны эти, подевались? Думаешь, гитлеровские солдаты, которые пришли сюда, это одни буржуйские сынки? Нет, настоящих буржуев там, в Германии, не так уж и много. Целой армии из них не получится…
Из местечка Зазыба возвращался под вечер. С ним в Веремейки ехал и Браво-Животовский. — А я думал, ты уже из хаты и не вылазишь! — воскликнул Браво-Животовский, увидев Зазыбу с телегой на улице. Новоиспеченный полицейский всем своим видом — и красным, будто налитым лицом с живыми серыми глазами, и плечистой, точно для выставки вылепленной, фигурой — казалось, являл собою образец того, как можно чувствовать себя, если жизнь кругом по душе. Видимо, с того часа, как прорезался во рту последний зуб, человек-этот никогда больше не испытывал боли. Зазыба намеревался проехать мимо, но полицейский двинулся ему наперерез. — Куда ездил? — Племянницу отвозил в Латоку, — ответил хмуро Зазыба. — Теперь повезешь меня! — Что ж, садись. — Зазыба подвинулся на возу. Но Браво-Животовский не спешил ответить на приглашение: ему хотелось показать Зазыбе, что в местечке у него важные дела и что он еще не успел их все справить. — Надо к коменданту заглянуть, — сказал он, явно притворяясь. Пока Браво-Животовский шел, и тоже будто похваляясь, к комендатуре, размещавшейся в бывшем здании сельского Совета (это сразу через базарную площадь, недалеко от больницы), Зазыба тяжелым взглядом смотрел ему в спину. Солнце давно клонилось к закату, и тени, что отбрасывали от себя купола церкви, будто остроконечные пики, касались кончиками крестов, стен одноэтажного здания, в котором до войны была контора сельской потребительской кооперации. «Как бы не наплел там чего про меня коменданту, — подумал Зазыба. — Тогда начнется! Лучше уж в своей деревне отвечать на все и за все». Ему уже не хотелось видеть Гуфельда даже краем глаза: быстро он избавился от иллюзий и крестьянского любопытства, по крайней мере относительно странного коменданта. Мерзко было даже признаться себе, что столько времени самым серьезным образом могла занимать его загадочная персона коменданта. Зазыба посидел немного, ожидая Браво-Животовского, затем привязал вожжами коня к липе, а сам решил заглянуть в церковь — ее еще не закрыли после сегодняшнего богослужения. Над дверьми бросились в глаза почерневшие от давней позолоты цифры — 1842. Подумалось, в следующем году бабиновичской церкви исполнится сто лет. Церковь эта заложена была в ту весну, когда бабиновичские паны праздновали второй век своего (не графского, не княжеского) рода. И хоть большая часть панов из этого рода принадлежала к католикам, в том числе и сам основатель рода, в честь которого и задумывалось строительство, но в Бабиновичах жила как раз та часть рода, которая по причине смешанных браков была обрусевшей и православной, и потому возводить в местечке было решено не костел, а церковь-храм. Строили ее несколько лет. Рабочие руки, тягло, в большинстве своем и строительный материал — все это было местное. Крестьяне ходили и ездили на строительство, как и на другую какую повинность. Пожалуй, в копеечку обошелся панам один главный архитектор, которого пришлось выписывать в Бабиновичи откуда-то издалека. Время не сохранило его фамилии, но церковь была построена в традиционном византийском стиле и пятью своими куполами, или, как их называли в Забеседье, булавами, напоминала издали известный Успенский собор. Служба в бабиновичской церкви правилась без малого восемьдесят лет, пока последний поп, приверженец патриарха Тихона, не был посажен на скамью подсудимых за сопротивление декрету о конфискации церковных ценностей…

Первое, что Зазыба заметил, когда вошел в церковь, была большая чудотворная икона, стоявшая по правую сторону от царских врат. Перед иконой горели тонкие восковые свечи. Несколько женщин стояли на коленях и, крестясь, истово отбивали земные поклоны. Пахло расплавленным воском. Держа шапку в руке, Зазыба подошел ближе к женщинам, поглощенным молит — вой, и остановился напротив чудотворной. Долго не отводил глаз от лица богоматери, кажется, первый раз за свою сознательную жизнь пристально и с неподдельным интересом всматривался в черты святой, будто хотел разгадать тайну той неодолимой силы, которая влекла к себе людей и заставляла их поклоняться. Богородицын лик был непроницаем, не поддавался разгадке. Но стоять перед иконой было интересно, как что-то удерживало возле нее. Помешал этому созерцанию Браво-Животовский. Он уже поискал Зазыбу на площади и вот притащился в церковь, не сняв даже винтовки с плеча. Но не успел полицейский сделать и пяти шагов, как из бокового притвора выскочил церковный староста, который в это время подсчитывал дневную выручку за проданные свечи. — Ты что это, антихрист? — накинулся он на Браво-Животовского. — В божий храм — да с оружием? Сейчас же вон, чтоб и ноги твоей не было тут! Браво-Животовский на какой-то момент опешил, но скоро совладал с собой и е независимым видом отклонил рукой церковного старосту, мол, не мешай. Однако старосту эта независимость Браво-Животовского лишь сильнее возмутила. Зазыба обернулся на шум и увидел, что в церкви назревает скандал — староста досконально знал свою службу и потому кидался коршуном на человека, который посмел с оружием переступить порог храма, а полицейский безрассудно проявлял свою власть и силу, видимо, по-настоящему не осознавая, что делал. Присутствовать при нелепом скандале не только не хотелось, но было и неуместно, потому Зазыба, зная, что полицейский пришел за ним, глазами показал ему на выход. Браво-Животовский понял, начал отступать. — Я вот еще батюшке пожалуюсь, — не переставал угрожать староста, — найду на тебя управу, отыщут и под землей, кто ты такой и откудова. Это тебе не при большевиках! — при этом он чуть не выпихивал Браво-Животовского из церкви. — Какой-то помешанный, — выругался Браво-Животовский, очутившись на церковной паперти, — и откуда его, лешего, принесло? Зазыбу между тем разбирал смех от всей этой истории. Но он подавлял его. Задерживаться на площади было опасно: вдруг скандал привлечет внимание немцев? И потому Зазыба, не долго думая, отвязал коня и вскачь погнал его по местечку. Браво Животовскому пришлось цепляться за телегу уже на ходу. Староста тем временем аж подпрыгивал на гранитной паперти и, довольный, что нагнал на богохульника страху, еще грозился вдогонку кулаком Рядом толпились женщины, что молились в церкви. Как только скрылась за поворотом церковь, Браво-Животовский накинулся на Зазыбу: — А ты почему поперся туда? Ты же коммунист, зачем это тебе было нужно? Все из-за тебя вышло! — Во-первых, я теперь беспартийный, — спокойно возразил Зазыба. Ты передо мной не изворачивайся. Я тебя насквозь вижу. Не впервой ведь встречаемся. Скоро коммунисты, какие есть в волости, будут регистрацию в комендатуре проходить, так тебе тоже не миновать это го, не важно, что билет отобрали. Я сам настою, чтобы взяли тебя на особую отметку. Но пуще всего Браво-Животовский злился на старосту, который просто вытурил его из церкви. — Я его прихвачу где-нибудь, — оставив в покое Зазыбу, начал он за глаза угрожать церковному старосте. — Будет он у меня, как вьюн в корзине, крутиться! Наконец Браво-Животовский начал остывать. Ругань, очевидно, успокоила его, и он взял в руки винтовку, лежавшую на коленях, поклацал, словно для устрашения, затвором. И Зазыба, и Браво-Животовский ехали на одной стороне телеги, сидя спиной к заходящему солнцу, и Зазыба мог наблюдать за полицейским даже по тени, неотлучно ползшей по земле, то выгибаясь на канавах, то снова выпрямляясь на ровном поле. За бабиновичским садом, еще старым, с панских времен, начались колхозные посевы — сперва хилый, как погоревший ячмень, затем, до самой вершины при горка, пошли чуть ли не заросли густого жита. Вырастить вот вырастили урожай, а без хлеба в этом году можем остаться, факт! — сказал вдруг с крестьянской тоской Браво-Животовский. Зазыба в знак полного согласия кивнул головой. А Браво-Животовский, будто спохватившись, тут же переменился в голосе и принялся рассуждать, явно желая произвести впечатление на односельчанина, к тому же заместителя председателя колхоза. — Это коменданта только не было сегодня на месте, — заговорил он, — а то бы можно было все решить. Правда, у нас уже был разговор про Веремейки. Сделана полная разнарядка на всю волость. Вскоре должны приехать из комендатуры и к нам, в Веремейки. У нас тоже, как и в Бабиновичах, колхоз не будут делить. Так что, Зазыба, тебе еще улыбается остаться на своей должности. Даже на повышение можешь рассчитывать. Твои коммунисты сняли тебя с председателей, а немцы могут поставить. Возьмут и поставят. — Теперь, наверное, найдутся охотники и без меня на это место, — усмехнулся Зазыба. — Тот же Микита Драница… — Ну, Микита еще не дорос до председателя, — не поняв иронии Зазыбы, всерьез возразил Браво-Животовский. — Так а ты сам чем не председатель? — Но я считаю, что поставят тебя, — начал настаивать Браво-Животовский. — В Бабиновичах же не тронули Абабурку. Не посмотрели, что и при Советах был. Так что на всякий случай готовься. А мне в председатели не с руки. Мне и так неплохо будет. Наберу вот полицейских, организую отряд в деревне. Комендант ведь ставит теперь эту задачу как самую главную передо мной. Думаю, Роман Семочкин пойдет, может, Силка Хрупчик… — Он же сухорукий! — Ничего, винтовку удержит, — оправдывая свое намерение, кинул Браво-Животовский. — Ты, вижу, считаешь, что, кроме тебя да Чубаря, в Веремейках некому в начальниках походить? Другие тоже не лыком шиты. Только не всем везло. Тебе; например, твой орден помогал, а Чубаря просто откуда-то привезли да и поставили сверху. Даже не спросили у нас. Но я в последние дни все время за ним следил. Хотел на мушку взять. — Ты вот что, — сделав вид, что не обратил внимания на последние слова Браво-Животовского, сказал Зазыба, — ты это напрасно присылаешь ко мне Драницу. Я тебе сам скажу. Орден я сдал в Хатыничах. Так что… — А я Драницу не посылал, — вдруг вызывающе выпятил грудь и начал отказываться Браво-Животовский. — Не поверю же я, что его подбил на это бабиновичский комендант… Браво-Животовский почувствовал, что Зазыба начнет срамить его, как уличного сорванца, потому насторожился. — Только не вздумай угрожать! — сказал он, желая перехватить инициативу в разговоре. — Я тебе не угрожаю, но… — Что — но? Что — но? — заерзал на телеге Браво-Животовский. — Сила теперь не у тебя, а у меня! Власть переменилась! Как говорится, станция Березай! — И надолго? — А навсегда! Зазыба глянул на Браво-Животовского — лицо у того перекосилось от злобы: — Ну вот что, мы тут едем с тобой одни, — сказал тихо, но внятно Зазыба, — и ты с оружием; а я нет. Так… Я вот что должен тебе сказать, раз уж едем мы разом сегодня. Напрасно ты лезешь, так опрометчиво в петлю, да еще по своей охоте. Браво-Животовский метнул взгляд на Зазыбу, но не закричал. А потом и вообще сник — откровенность Зазыбы явно обезоружила его. — Нечего меня жалеть, а тем более грозить, — сказал он вскоре. — Лучше пригрозил бы Рославцеву. — Так и Рославцев; не иначе, своего дождется… — Не-е, тут уже кто кого, — презрительно, усмехнулся и покачал головой Браво-Животовский. — Ну-ну… Некоторое время они ехали молча, а потом Браво-Животовский, наверное, опамятовавшись и, задумав что-то новое, вдруг снова стал пугать: — Ты еще, Зазыба, должен бога молить. Одним словом, если бы ты был Чубарем, то… Пришлось бы тебе уже умыться кровью. — Он посмотрел на Зазыбу и весело усмехнулся: — А знаешь, почему ты держишься еще на поверхности? Тебя топят, давят, а ты все всплываешь? Не знаешь? Нет? Да потому, что ты не был настоящим коммунистом. — Тебя не понять, — пожал плечами Зазыба. — Один раз ты говоришь, что я настоящий коммунист, и не был, а есть, даже угрожаешь на перепись какую-то повести за шиворот, а второй — все наоборот. — Настоящий коммунист — это Чубарь. А ты, Зазыба… — Браво-Животовский, словно во хмелю, покачал пальцем перед Зазыбой; — Э-э, нет, Зазыба, ты не настоящий коммунист. Ты десять раз оглянешься, прежде чем что сделать. — Так ты хвалишь меня или коришь? —несколько озадаченный таким странным объяснением, спросил Зазыба. — Не прикидывайся простачком, — снова покачал пальцем перед Зазыбой Браво-Животовстшй: — Все проще пареной репы. Ты втер очки всем, вот что! Особенно веремейковцам. Как же, герой гражданской войны! С начальством не очень считаешься. С людьми покладистый. Вроде бы жалеешь их. Понимаешь, что мужик — та же яблоня: тряси-тряси, но под корни не заглядывай. Словом, думаешь, я не понимаю, что тебя даже тронуть нельзя? Ого, попробуй только. Наживешь себе врагов, пожалуй в каждой хате. Не только самого сведут со свету, но и третьему колену не простят. Я вас, веремейковцев, изучил. Я на вас за эти годы насмотрелся. Кругом шкура дымилась на людях, а с вас даже волоска, ни одного волоска не упало! И все из-за тебя! Но молитесь богу, что Чубаря поздно прислали. А то бы пошло и в Веремейках все под гребень. Чубарь не то, что ты, баптист. Он бы жалеть каждого не стал… Зазыба не был заинтересован в том, чтобы поддерживать болтовню с полицейским: он вообще не любил, если кто начинал разговор о нем, а тут и вовсе человек нес нелепицу… — А я даже не догадывался, что ты имеешь что-то против Чубаря, — сказал Зазыба. — На кого-кого, а на тебя так и не подумал бы. И вообще… Вот слушал я тебя и ужасался.. — А ты откуда меня знаешь? Может, я и взаправду не тот, за кого выдавал себя? — Ну, коли и выдавал, так ловко. Некоторое время они молчали. Потом Браво-Животовский, взглянув на Зазыбу, сказал, будто вызывая на откровенность: — А ты, Зазыба, зря так про меня. Человек ты, конечно, заслуженный. Правда, я тоже… — И повернул насмешливое лицо к Зазыбе. — Однако про это потом! — нахмурил он лоб. — Об этом поговорим позже. Разговор теперь о тебе. Так я говорю, человек ты заслуженный. Имеешь определенный капитал по части всяких заслуг. И не только в Веремейках. Точнее, имел, так как теперь… — Насколько я уразумел, ты подаешь мне руку на дружбу? — А хотя бы… — Напра-а-асно. — Почему? — Да потому, что мы с тобой и прежде дружбы не водили. Правда, я ценил тебя, работник ты в колхозе был неплохой. Но души твоей никогда не знал. — Людская душа — потемки!.. «Действительно, потемки, — подумал Зазыба. — Разве можно было предположить, что Браво-Животовский дезертирует из армии и подастся в первый же день к немцам на службу?» Появился Браво-Животовский в Веремейках лет восемнадцать назад, точнее, даже не в самих Веремейках, а сперва в небольшом поселке Староселье, что по ту сторону Беседи. В бывшем имении белоглиновских панов возникла коммуна, и Браво-Животовский чуть ли не полтора года жил среди коммунаров. В коммуне он считался красноармейцем, родом из Вилейского уезда, но поскольку местность та отошла к Польше, то ему и пришлось искать пристанище на востоке Белоруссии. А когда коммуна распалась — по той же самой причине, что и большинство других тогдашних сельскохозяйственных объединений, — Браво Животовский подался за Беседь. В Веремейках он пристал к Параске Рыженковой, красноармейской вдове, которая имела хоть и запущенное, но довольно завидное по тем временам хозяйство: целый третьяк, то есть треть волоки[11], сенокосных угодий, разной неудобицы и пахотной земли. Было к чему приложить руки здоровому человеку. А Браво Животовский кроме мужской силы имел еще хорошую крестьянскую смекалку и неплохо знал землю. За несколько лет он привел в порядок шесть Параскиных десятин и в колхоз вступал уже крепким середняком. Жил Браво-Животовский, если говорить по-веремейковски, через три хаты на четвертую это значит, прежде чем выйти на улицу, выглядывал из окна, чтобы все видеть и иметь свое суждение о соседях. Но первый, кто услышал другую историю его жизни, был комендант немецкого гарнизона в Бабиновичах Адольф Карл Гуфельд. Поведал ее сам Браво-Животовский. Что в этой истории имело под собой реальную основу, а что было додумано ради пущей важности, чтобы вырасти в глазах представителей новой власти, сказать трудно. Действительно, происходил Браво-Животовский из той местности, что в двадцать первом году отошла к Польше, но родился и жил он до первой мировой войны под Барановичами. Фамилию Браво в добавление к своей — Животовский — он получил в Гуляй-Поле, когда очутился у батьки Махно. Бывший красноармеец, уснувший на посту и испугавшийся ответственности — ему грозил трибунал, — перебежал сначала в белую армию, а потом к махновцам. Война между тем близилась к концу. Надо было искать спасения. Документы Браво-Животовско го не смущали — у батьки Махно их неплохо фабриковали. Оставалось хорошенько почистить карманы, чтобы избавиться от всего лишнего. И он это сделал. Сначала Браво-Животовский направился в Черниговскую губернию, прибился там к одному монастырю, но вскоре почувствовал, что монахи занимаются опасной деятельностью — монастырь был чуть ли не притоном для разных банд, — и счел за лучшее убраться оттуда. Из Черниговской губернии Браво Животовский переехал в Могилевскую, побродил немного по ней в поисках места, а потом обосновался около Беседа в Старосельской коммуне, благо это было далеко от больших дорог. И уже вовсе успокоился Браво-Животовский, когда оказался в Веремейках. Постепенно он стал во всем похожим на веремейковцев (кроме, может, того, что говорить по-веремейковски не научился, будто остерегался, что от этого неправильным станет язык). Конечно, никому даже и в голову не приходило копнуть его, тем более что сам он никогда не давал повода для этого: в его положении лучше было не вызывать недоброй зависти к себе и своим делам. Между тем как раз Браво-Животовского все время не покидала зависть, ведь с его умом да образованием (Браво Животовский имел не только сельское школьное образование, но и городское, так как учился немного в Барановичах) при новой власти действительно можно было иметь больше того, что он имел, занимаясь хозяйством. На новую войну, тем более с немцами, он не надеялся, так как не верил, что найдется такая армия, которая одолеет Красную. И когда случилось, что немцы вдруг взяли верх с первых дней войны, Браво-Животовский заставил себя посмотреть на вещи иначе. Подумалось, что жизнь наконец может повернуться к нему другой стороной. Призванный в армию по второй местной мобилизации, он выжидал момента, чтобы отстать от воинской части, пересидеть где-нибудь или направиться в Веремейки и там укрыться до прихода немцев. Случай такой вскоре представился — артиллерийский полк, в составе которого он воевал, был разбит недалеко от Бобруйска. В Веремейки добрался Браво-Животовский ночью. И ему довелось ждать уже на чердаке того дня, пока не прошли через деревню последние отставшие красноармейцы. А потом прошел слух, что в Бабиновичи вступили немцы. Тогда Браво-Животовский покинул свое убежище под крышей и утром направился в местечко в надежде, что первому, пока еще тот шапочный разбор будет, больше чего достанется. Теперь Браво-Животовский наведывался в Бабиь-новичи почти каждый день, как говорил сам, ходя на доклады к коменданту Гуфельду. Но деревня пока жила будто в полуобморочном состоянии, и докладывать было не о чем, просто Браво-Животовский не хотел, точнее, боялся жить в неведении. Сегодня он тоже потратил день зря, так как Гуфельд уехал в Крутогорье на совещание: создавался административный округ, в который должно было войти несколько бывших районов, и комендантов гарнизонов начальство вызывало по этому случаю к себе.
Х
Чубарь всей тяжестью уставшего в дороге тела лежал на боровом песке близ желтой ямы, что напоминала воронку от мощной бомбы. Но яма все же была образована не взрывом бомбы, тогда бы непременно были видны на близких деревьях живые отметины от горячих осколков, а на самом деле — кусочки спекшегося металла с характерным нагаром синего цвета. Скорее всего поблизости где-то был смолокуренный завод, на котором гнали обыкновенный деготь и скипидар, и еще не так давно — края ямы не успели ни отвердеть, ни зарасти травой — подрывники с того завода обрабатывали тут аммоналом сосновый пень, который один дал им, наверное, целые горы нужного сырья. Чубарь выбрал это место, ближе к яме, сознательно, чтобы в любую минуту можно было не только спрятаться, но и занять — теперь надлежало думать по-военному — круговую оборону. Место для этого было и впрямь подходящее: высоченный склон, поросший редкими соснами, нависал, как утес, над дорогой и царил чуть ли ни над всей местностью; по крайней мере, отсюда Чубарь видел реку, которая плутала между заросшими ракитником берегами по широкому лугу, и две небольшие деревни — одну по левую сторону от себя, а вторую напротив. Полевая дорога, с которой свернул Чубарь полчаса назад, вела через луг ко второй деревне, находившейся на противоположном берегу реки. Дальше Чубарь тоже намеревался идти по этой дороге, но теперь не хотелось изображать из себя живую мишень. Именно по этой причине он и сделал тут привал. Но ни в укрытии, ни тем более в круговой обороне надобности, кажется, не было. Чубарь не догадывался, что река, петлявшая впереди между ракитовыми кустами, и была как раз долгожданной Беседью. Однако вышел Чубарь к ней далеко от Веремеек. Он ждал сумерек и потому лежал на склоне спокойно, поджав ноги, которые горели в задубевших портянках. Был он в таком состоянии, когда человек наконец доходит во всем, во всяком случае, в главном, что в первую очередь занимает его голову и сердце, до той ясности, которая не оставляет больше никаких сомнений: из всех возможных вариантов вот этот если и не отвечает точно замыслу, то уж наверняка самый целесообразный. Все, что могло выпасть теперь на его долю, он воспринимал спокойно и готов был даже удивляться, что так много потратил времени, казалось, на ненужное, хоть и понимал: ясность эта сложилась у него именно после встречи с полковым комиссаром. После разговора с ним, а еще больше — с ширяевскими мужиками, которым пришлось выдать себя за партизана, он уже по другому и не назывался людям. Но зато начал ловить себя на мысли, что многое делал словно вопреки желанию. Теперь ему даже казалось, что вместо него действует какой-то механизм, вставленный внутрь и подменяющий его. Чубарь все-таки задержался тогда в Ширяевке на несколько часов. Палата так и не отпустила его, правду говорят сведущие люди: с бабой, как и с чертом, лучше не садись на горячую печь… Сперва Чубарь чувствовал досадливую опустошенность от случайной связи с женщиной, но в дороге постепенно эта острота утрачивалась, перегорая и остывая, и теперь обо всем, что произошло в деревенской хате, вспоминалось без сожаления и угрызений совести, как о чем-то далеком и безвозвратном… Солнце чуть сдвинулось с зенита, а далекий запад переливался уже тончайшими оттенками красок. Деревья, стоявшие на склоне, будто утопали в сизоватой дымке. Кажется, впервые за свою сознательную жизнь Чубарь мог подумать о том, кто он, откуда пришел в этот мир и как жил. На второй вопрос ответ был готов давно, собственно, вот уже почти полтора десятка лет, как Чубарь стал взрослым человеком, ответ этот шел следом за ним в разлинованной анкете: родился за восемь лет до революции, рано лишился родителей и попал на «воспитание» к чужим людям… Эти обстоятельства, пожалуй, и стали определяющими в формировании его личности. Однако оценка себя и людей, с которыми пришлось встречаться в жизни, вырабатывалась потом, когда из детской трудовой коммуны он попал сперва по найму к богатому хуторянину, а затем, незадолго до сплошной коллективизации в деревне, поступил в школу землемеров — несколько необычное межевое учебное заведение для сельских детей, которое открылось в имении бывшего царского генерала, ныне служившего в Высшем военном совете молодой Красной Армии. На третий вопрос — как жил — тоже нетрудно было найти ответ. Тем более что он являлся продолжением второго. Например, Чубарь хорошо сознавал, что выбился в люди только благодаря революции, которой вдруг стало дело до всего в стране, в том числе и до таких вшивых беспризорников, каким оказался девятилетний Родька, сын покойных Антона и Федоры, — мать умерла от тифа утром, а отец под вечер того же дня. В человеке всегда живет благодарность к тем, кто когда-то делал ему добро. От Чубаря люди тоже имели основание ждать такой благодарности. Но в его душе она сосредоточилась с какого-то времени на одном, и он жил, преисполненный благодарности к революции, которая не дала ему пропасть в лохмотьях. Может быть, он не всегда ясно представлял себе то, что делал, зато всегда или почти всегда знал, для кого и для чего это делает. Землемерную школу Чубарю не удалось окончить — началась коллективизация, и он, уже двадцатилетний парень, пошел вместе с другими активистами «сбивать» мелкие крестьянские хозяйства в большие, которые обещали преобразовать жизнь в деревне. И все надеялся, что когда-нибудь вернется в школу, доучится, но события закружили его, и через некоторое время он почувствовал, что надо избирать новую линию жизни. На протяжении следующих десяти лет, со времени коллективизации и до войны с немецкими фашистами, Чубарь работал на разных должностях, начиная от секретаря сельского Совета, выкраивая время для ученья. И если кто посторонний попытался бы представить себе Чубаря того времени, он чем-то напомнил бы поднятого из берлоги медведя… Занимаясь теперь сопоставлением фактов, точнее, моментов, из которых складывалась его жизнь, их анализом, Чубарь с трудом мог бы ответить на первый вопрос — кто он? Складывалось впечатление, что сам он вообще не способен рассказывать о себе до конца и нужен кто-то другой, знающий его и действительно взявшийся за это. Все или почти все можно было мысленно предвидеть наперед, а вот то, как сложатся у Чубаря дела, когда он вернется в Забеседье, нельзя было даже вообразить… Чубарь зевнул, его разморило, однако засыпать было опасно: во-первых, земля, несмотря на боровой песок, не избавилась пока от той холодной сырости, которую принесли недавние дожди, к тому же дело вообще было к осени, а во вторых, дорога проходила слишком близко. Чубарь подпер ладонью лицо и увидел в засохшей траве живую тропку, по которой в большой суете спешили во все концы рыжие муравьи. Поблизости должен был находиться муравейник, но сколько ни оглядывался Чубарь, не заметил его. Муравьи же были крупные, будто перевязанные посередине, значит, лесные. Такие не захотят жить ни в источенном пне, ни тем более под землей. Чубарь знал, что муравьи иногда перекочевывают в другие места, особенно если на муравейник нападают дикие свиньи. Наверное, и эти вынуждены были по какой-то причине покинуть свое «налаженное хозяйство», и Чубарь оказался свидетелем их переселения. Странно, но муравьи были так заняты своим делом, что не обращали ни малейшего внимания на человека, лежащего рядом. Наблюдать за муравьями вдруг стало интересно, и Чубарь уперся ступнями в землю, чтобы подвинуться немного вперед, а потом лег прямо на живот и поставил локти циркулем над живой дорогой. Он видел, как два муравья пытались перевалить через сосновый корень, который выпирал наружу, обглоданное туловище луговой стрекозы, но напрасно, у них на это не хватало ни сил, ни ловкости, только труп стрекозы чуть заметно подрагивал. Другие же муравьи тем временем продолжали заниматься своим делом. Но вот Чубарь сломал сухую былинку, стоявшую на расстоянии вытянутой руки, и помог беднягам перекинуть стрекозу через корень. И вообще у Чубаря вдруг появилось желание позабавиться с этими умными и самоотверженными козявками. С какой-то мстительной, мальчишеской злорадностью он положил поперек муравьиной дороги палец и некоторое время наблюдал за внезапной растерянностью насекомых: как наткнулись муравьи с обеих сторон на преграду, заслонившую им путь, как забегали, встревоженные, возле нее, но преодолеть через верх, казалось, не думали. Только один муравей вполз Чубарю на палец, посуетился, будто в еще большей растерянности, да не удержался и полетел кувырком вниз. Между тем основная масса муравьев уже обогнула палец, и живая дорога снова начала действовать. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — вспомнил Чубарь пословицу в связи со своими наблюдениями над муравьями и усмехнулся, как человек, который давно привык к одиночеству; однако он далек был от того, чтобы проводить какие либо аналоги между муравьями и людьми, для этого даже в такое время нужно быть по меньшей мере философом… Чубарь повел глазами по лугу, захватив взглядом расстояние от деревни, что была слева, и до той невыразительной полоски на горизонте, которая не — подвижно стояла уже столько времени, сколько Чубарь лежал на склоне. Из деревни напротив шел к реке человек. Но был он еще далеко. Чубарь не удивился, что увидел вдруг человека, в конце концов, был обычный день, но какое-то время не сводил с него глаз, будто завидуя, что тот идет по лугу во весь рост и, очевидно, без всякой предосторожности, а он вынужден скрываться, ждать темноты. Человек отсюда казался пока движущейся точкой, и разглядеть его было невозможно, хотя воздух над лугом был прозрачен, а предметы сквозь него виделись отчетливо. Точно так бывает и с речной водой, но уже в самую осень — куда-то сплывут остатки летнего цветения и пена, и под толщей воды проглянет усыпанное цветной галькой дно. Чубарю было интересно отгадать заранее, кого это вдруг вывела забота за деревню, но напрасно: теперь, когда все переменилось под божьей стрехой и не поддавалось точному определению, можно было судить и так и этак. Наконец человек перешел реку. В походке его не чувствовалось стремительности, какая бывает у людей, спешащих по делу. Просто он шел с той заданной размеренностью, которой должно было хватить ему если не до конца дня, то хотя бы до следующей деревни. Даже издали бросалось в глаза, что он остерегался наступать всей подошвой правой ноги. Но вот человек миновал по кустарнику последний ручей на лугу, подошел к склону, под самый обрыв, и некоторое время шел внизу, скрываясь с глаз. Наконец голова его вынырнула меж сосен на краю склона, и с этого момента человека можно было видеть всего, целиком. По сторонам он не оглядывался, а смотрел на дорогу, под ноги, будто подсчитывал шаги, которые делал с нарочитым старанием, и Чубарю пора было подумать над тем, чтобы не дать ему пройти мимо. Но Чубарь не стал окликать, просто сел, положив на траву винтовку, а потом стал громко покашливать, не сводя при этом прищуренных глаз с незнакомца. Тот повернул голову на притворный кашель и замедлил шаги, затоптался на месте, однако пока нельзя было отгадать, пойдет он дальше или свернет сюда. — Что это за река там впереди? — спросил наконец Чубарь, да так невнятно, словно говорил в пустоту и не хотел, чтобы человек услышал его. Но тот разобрал и тоже приглушенно сказал: — До сих пор, кажется, помнил, а теперь вот, как на грех, забыл. Но подождите, что-то похожее на Леседь… — Беседь? — Кажется, так. — Неужто Беседь? — не верил Чубарь. А человек сошел с дороги и, уже явно направляясь к Чубарю, добавил: — Кажется, в деревне так говорили. Чубарь был поражен тем, что перед ним вдруг оказалась Беседь. Даже не хотелось верить, так как, по его расчетам, эта река должна быть несколько дальше. — А деревня? Как называется деревня, откуда вы идете? — Антоновка. — Антоновка? — Да, это я точно знаю. «Антоновка», — повторил про себя Чубарь, стараясь вспомнить, слышал ли он о ней раньше. — А та? — показал он на крыши другой деревни, что тоже стояла за рекой, ее хорошо было видно отсюда. Человек остановился, долгим взглядом посмотрел на деревню, но ответить забыл. Тогда Чубарь снова спросил: — А не знаете, это уже Беларусь? — Кажется, еще не Белоруссия. — Значит, еще не Беларусь? — Чубарь не переставал удивляться, ведь тогда, в лесу за Ширяевкой, он старательно изучал по карте полкового комиссара дорогу в Забеседье, и, по его предположениям, она должна была вывести его если не прямо к Веремейкам, то, по крайней мере, с небольшим отклонением от них. Человек между тем подошел к Чубарю вплотную и сел напротив, обхватив для равновесия руками колени. Его фигура при этом сильно ссутулилась, а плечи будто еще больше сузились. Был он в военном — в командирской фуражке с темно-зеленым околышем, почерневшей диагоналевой гимнастерке и таких же галифе, а на ногах — коричневые сапоги с мягкими парусиновыми голенищами, в изгибах которых торчали перетертые нитки. Сперва Чубарь подумал, что это форма пограничника, но пограничники носили более светлые фуражки, к тому же без околышей. Значит, человек принадлежит к какому-то другому роду войск. Знаки различия на петлицах отсутствовали. Даже не заметно было темных пятен, которые оставляют обычно командирские треугольники, кубики, шпалы, ромбы, видимо, они были сняты давно. Посидев некоторое время молча, будто ради приличия, человек снял фуражку, и Чубарь увидел, что голова у него седая, но не сплошь, а прядями. Казалось, по черным волосам, словно солнечные зайчики, перемещались серебряные, полоски. Седина хоть и старила его (без нее можно было дать человеку лет двадцать восемь), но вместе с тем и придавала всему облику какую-то почти неестественную красоту, которая вызывала недоверие. И тем не менее все в нем было натуральное — и проседь, точнее, почти сплошная седина, и красота. А в глазах, цвет которых не поддавался определению, был затаенный страх, который возник, возможно, давно, но до сих пор прятался где-то в глубине. У Чубаря это вызывало странное ощущение, будто глаза у человека не свои, по крайней мере, казалось, что они не принимают никакого участия в том, что делает их хозяин. Чубарь, конечно, не сомневался, что человек видит его, но смотрел тот на все — и на Чубаря, и в пространство перед собой — будто невидящим взглядом. Например, винтовка Чубаря, которая лежала на траве рядом, даже не привлекла его внимания. — Вы командир? — Нет. Я военврач. Гинеколог. Услышав это, Чубарь сдержал непрошеную улыбку, но все же не преминул пошутить: — А что делать в армии гинекологу? На службу ведь пока брали мужчин? — Это я по прежней специальности гинеколог, а так — военврач второго ранга. — Словом, доктор? — Да. Наверное, человеку не в первый раз приходилось вести подобный разговор, и потому отвечал он Чубарю с какой-то почти заученной легкостью. — А теперь что, из окружений выходите? Военврач не ответил. — Тогда почему вот так, — допытывался Чубарь, — открыто? Можно опять к немцам в лапы угодить! — Я из плена иду. — Не рано ли? Обычно из плена возвращаются после войны. — Меня отпустили. Чубарь пожал плечами. — Кто? — Немцы. — И куда вы теперь? — В Свердловск. От удивления Чубарь захлопал глазами. — В Свердловск? — Да. — А как вы туда попадете? Человек, казалось, даже не почувствовал растерянности Чубаря, глаза его были наполнены тем же затаенным страхом, от которого Чубарю все больше становилось не по себе. — Я иду из немецкого плена, — словно окончательно убеждая Чубаря, уточнил через некоторое время военврач. Он вел себя так, как на допросе, который безнадежно затянулся и который в конце концов стал безразличным для него. И Чубарю ничего не оставалось, как продолжать этот допрос: — Где вас взяли в плен? — Около Слонима… — Раненого? — Нет. Разговор все время шел будто по кругам, которые в отличие от тех, что на патефонной пластинке, не имеют перехода от одного к другому. И потому каждый раз Чубарю приходилось начинать чуть ли не сначала. Как бы там ни было, а Чубарь уже смотрел на доктора, как говорится, во все глаза, однако не потому, что почувствовал свое превосходство над ним, скорее наоборот, внешняя отчужденность, которую доктор принес откуда-то, с каждой минутой все больше вызывала у него растерянное недоумение. — И вы серьезно доктор? — спрашивал далее Чубарь. — Военврач второго ранга. — Для большей убедительности человек поднял руки, показав растопыренные ладони. Они были у него действительно докторские, как говорится, выхоленные, отмытые, будто он только что вышел из операционной. Чубарь подался вперед всем телом и доверительно воскликнул: — Это хорошо, что я вас встретил! Счастливое совпадение! — Что, заболели? — Нет, сам я здоров. — А кто болен? — Пока нет больных. Но могут быть. Точнее, раненые. — И тут Чубарь достал из кармана листовку, которую ему дал полковой комиссар, протянул доктору. — Почитайте вот. Тот развернул ее, пробежал глазами: «В занятых врагом районах надо создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны повсеместно и всюду, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной связи, поджигания лесов…» — дочитав до этого места, доктор отвел взгляд в сторону и задумался. Чубарь неопределенно сказал: — Вот видите! — Но я не понимаю, какое отношение… словом, зачем вы мне даете читать это? — Я же вам сказал, нас, видать, свел счастливый случай! Мне вот так доктор нужен! — И Чубарь провел рукой по шее. В глазах доктора шевельнулось нечто похожее на заинтересованность. — В конце концов, кто же вы? — спросил он. — Я уполномочен создать партизанскую группу. А листовка эта — мой мандат. — Вот что… Они помолчали. — Вы здешний? — наконец спросил военврач. — Нет. — Чубарь подумал и добавил: — Но считайте уже, что здешний. Правда, мне казалось, что Беседь еще где-то там, — он махнул рукой вперед. — Но вы вот говорите, что это она… — Я так в деревне слышал! — Я не упрекаю вас, — улыбнулся Чубарь. — Это даже хорошо, что Беседь рядом. Не волнуйтесь. Мы теперь с вами быстро дойдем куда надо. Там у нас леса кругом. — И мы их жечь должны? Наивность доктора показалась Чубарю нарочитой Но Чубарь сдержал злость. Наоборот, притворно захохотал и оросил с чуть заметным укором: — В листовке же не об одном этом сказано. Надо читать до конца. А то вы как-то… — Больше не прочтешь, чем написано, — упрямо сказал военврач. — Однако что попало болтать не следует, — с подчеркнутой угрозой посоветовал ему Чубарь. — Тем более что лично вам ничего не придется жечь. Готовьтесь партизан лечить. Казалось, разговор по этому кругу мог бы и закончиться. Но Чубарь еще спросил: — Так принимаете мое предложение? — Нет. — Почему? — удивился Чубарь. Военврач, не задумываясь, ответил: — Понимаете, я не подойду вам. Чубарь насупился. — Не знаю, как объяснить, — сказал военврач, — но я не подхожу для вашего дела. И вообще… — Доктор, вы клевещете на себя, — улыбнулся Чубарь. — Нет, я говорю правду. Мне пришлось много пережить за последнее время… Об этом долго рассказывать. Но неужели не видно по мне, что я… Чубарь отрицательно покачал толовой — конечно же не видно. — А я уже сколько времени боюсь смотреть на себя не только в зеркало, но и в воду, когда, бывает, наклоняюсь к ней напиться. Больной человек не может лечить других. — Но по тому, как вы рассуждаете, вовсе не чувствуется… — Не деликатничайте, говорите, — на лице доктора появилось что-то похожее на сочувственную улыбку. Чубарь вдруг покраснел и кончил недоговоренную мысль уже со злостью: — Я хотел сказать, что вы не похожи на того, за кого хотите выдать себя. Рассудок ваш в полном порядке. Даже злости у вас хватает, несмотря на то, что внешне… — Это, пожалуй, не злость, это всего лишь беспомощная раздражительность. — Вот видите, зачем тогда говорить ерунду, если понимаете?.. За это… — Вы думаете, что теперь это самое страшное? Чубарь не ответил, пораженный неожиданным открытием — с каждой минутой ему все труднее становилось разговаривать с этим человеком. — Самое страшное, пожалуй, — пояснил вскоре доктор, — это сознание того, что ты уже ни на что не способен. — А вам не кажется, товарищ военврач второго ранга, — прищурил глаза Чубарь, — что все это можно принять за хитрость человека, которому по какой-то причине надобно выдать себя… ну… за сумасшедшего, что ли? — Видите, вы уже называете вещи своими именами, — не меняясь в лице, сказал военврач, но в его голосе послышалось плохо скрытое злорадство, словно человек наконец получил то, чего домогался. Чубарь покрутил головой. — И тем не менее в своем безумии вы меня не убедили, — жестко ответил он. — А я и не стремился к этому, — спокойно возразил доктор. — Просто я хотел сказать, что мне пришлось пережить такое нервное напряжение, которое делает человека в конечном счете если не сумасшедшим, как вы правильно выразились, то не пригодным ни к какому делу уже наверняка. — Но кто же станет отрицать, что серьезное дело возвращает человеку его настоящий облик? — Чубарь некоторое время выжидал, что ответит на это военврач, но тот понурил голову и сидел безучастно. — Хорошо, я обещаю забыть обо всем, — будто спасая положение, сказал Чубарь, — что вы наговорили, но дальше вам идти не советую, надо выбросить из головыглупую, мягко говоря, идею дойти до Сверлловска, это просто смешно!.. — Поверьте, мне вовсе безразлично, забудете вы о нашем разговоре или нет. К тому же ничего особенного, что заслуживало бы порицания, я не наговорил тут. И угрозы ваши… Чубарь не дослушал. — Мне врач нужен, понимаете? — волнуясь, повысил он голос. — Потому я и уговариваю вас. Наконец, потому я и не говорю вам, что недалеко отсюда остановился фронт и что вам недолго осталось идти до него! — Но я не способен на то, чего вы хотите от меня, — упрямо повторил военврач. — А я вам не верю! — сказал, словно подзадоривая, Чубарь. — Тогда послушайте. И военврач начал рассказывать ровным и глухим голосом, но опять будто с заученной легкостью. …В ту ночь, как разразиться войне, военврач поехал в Барановичи на железнодорожную станцию, чтобы встретить брата, который только что окончил школу младших политруков и был направлен в 10-ю армию. Штаб 10-й армии тогда находился недалеко от Белостока, если не в самом Белостоке. Ближе туда было ехать через Брест. Но тем же поездом и из той же школы в Особый Белорусских! военный округ ехал не один брат доктора. Из выпуска сорок первого года сюда направлялось несколько человек: например, пять младших политруков имели направление в политуправление 3-й армии, почти столько же выпускников получили направление в 28-й стрелковый корпус, штаб которого находился в Бресте. Жизнерадостные и еще по студенчески беззаботные, они так и называли друг друга: белостокские, гродненские, брестские. Так вот, белостокские, в том числе и брат доктора, решили ехать до места службы кружной дорогой, через Гродно, благо времени хватало, и они, таким образом, ничуть не запаздывали. В Барановичи пассажирский поезд прибыл по расписанию, но здесь его задержали сверх меры. Причину никто не знал, пассажиры, преимущественно военные, говорили, что пропускают вперед другой состав. А для братьев, которые не виделись много лет, задержка была на руку. Они прохаживались вдоль вагонов с занавешенными окнами, тихо разговаривая, и даже не заметили, что уже на исходе была теплая Ночь и светало. Никто не подозревал, что оставалось совсем немного времени до того, как на советскую землю вместе с утром упадут вражеские бомбы, и мирной жизни больше не будет, и вообще для многих людей она кончится навсегда. Тем не менее даже тогда, когда невдалеке от города послышался гул самолетов, военврач, а вместе с ним и другие люди, которым не пришлось спать, и подумать не смели, что это война, скорее всего, летели свои самолеты, а если даже и немецкие, так тоже не впервой, ибо в конце мая немцы уже совершили такой массовый налет, достигли Барановичей, но повернули назад. И сведущие, и несведущие люди, которым пришлось видеть тот налет, сочли его провокацией, хотя на самом деле это была генеральная репетиция… В эту же ночь, точнее утром 22 июня, в Барановичах все происходило так или же почти так, как и в других более-менее крупных приграничных городах. После внезапной бомбежки поезда, естественно, на запад не пустили. Военные толпами двинулись к коменданту города. Возле комендатуры вскоре собралось немало командиров разных рангов — и те, что возвращались из очередного отпуска, и те, что еще только ехали по направлению. Однако что мог сделать комендант, который то и дело советовал всем как можно скорее добираться в свои части? На младших политруков — их с чемоданчиками зашло в кабинет двенадцать человек — он смотрел не столько с озабоченностью, сколько с недоумением и растерянностью, будто и в самом деле не знал, что с ними делать, вертел в руках их предписания да морщил страдальчески лоб. Хотя комендант и понимал, что крупные штабы уже наверняка перебазировались в новые пункты, но посоветовал младшим политрукам быстрее добираться до места назначения. Правда, он тут же вызвал по телефону какого-то испуганного и заспанного капитана и приказал, выдать со склада каждому по револьверу системы «наган». Пришлось младшим политрукам снова, возвращаться на железнодорожную станцию. Но зря — поезда по-прежнему стояли на путях без движения. Даже военврач не в состоянии был найти выход, хотя ему, казалось, было проще: артиллерийская бригада, где он нес медицинскую службу, стояла на, полпути к Гродно, и туда по железной дороге было рукой подать. Но железная дорога пока не действовала, искать попутных машин тоже было бессмысленно, кроме того, военврач полагал, что бригада по тревоге уже оставила военный городок. И вот военврач, добровольно взяв на себя ответственность за младших политруков, повел их за город на перекресток дорог, так как был уверен, что там скорее встретишь что-либо попутное. Однако за целый день белостокским и гродненским политрукам удалось добраться лишь до Альбертина: почему-то до самого полудня по шоссе, кроме как на Брест, не было никакого движения, вдоль границы уже вовсю грохотала война, а тут, неподалеку от Барановичей, все будто замерло в раздумчивой нерешительности в ожидании чего-то определенного. Из Альбертина — это уже на следующее утро — белостокские и гродненские политруки во главе с военврачом второго ранга двинулись по шоссе дальше, на Волковыск, но за Слонимом начались бомбежки, и вскоре почти нельзя было двигаться вперед. Пришлось свернуть на проселки. Однако и там творилось непонятно что: во всех направлениях двигались войсковые подразделения, отдельные группы бойцов и командиров, и трудно было определить, кто из них спешил к фронту, а кто наоборот. Наконец прошел слух, что скоро все войска, заполнившие лесные и полевые дороги в четырехугольнике Слоним — Волковыск — Порозово — Ружаны, вступят в непосредственное столкновение с противником. И тогда военврач увидел, как ожили его младшие политруки: имея в наганах по одному барабанчику, они жаждали боя с врагом, о котором наслушались разного за последние дни. Но повоевать младшим политрукам не пришлось. Неподалеку от деревни Чемеры вдруг поднялась беспорядочная стрельба, казалось, она доносилась со всех сторон, и тогда в воздухе повисло пугающее слово — «окружение»; поскольку война только начиналась и опыта ведения боев в окружении никакого не было, то это слово в атмосфере неуверенности и тревоги звучало пока так же, как и «плен». Ясное дело, никто из младших политруков в плен к фашистам не собирался попадать: окружение, плен — позор!.. Но вскоре снова послышались крики — и не менее страшные: танки!.. Бойцы и командиры, что двигались по дороге в длинной, едва ли не на два с половиной километра колонне, начали оглядываться вокруг. Действительно, из-за пригорка, что был от дороги метрах в семистах, уже выползали немецкие «панцири», оставляя за собой шлейфы пыли — точно стелющийся по земле дым. Артиллерийская батарея, двигавшаяся по дороге между пехотными подраздел пениями, тут же съехала на обочину, и лошади, словно впервые ощутившие на своих крупах поспешливые удары ездовых, помчали сорокапятимиллиметровые пушки на невысокий пригорок, заслоненный с тыльной стороны молодым сосняком. Было видно, как вслед за пушками бежали на пригорок цепочками артиллеристы. Пехотинцы надеялись, что сейчас между немецкими танками и артиллеристами, по всей вероятности, начнется огневой поединок, но получилось не совсем так. Стреляли из своих пушек лишь одни вражеские танки. Должно быть, немцы приметили артиллерийские упряжки еще тогда, когда те сворачивали с дороги и направлялись на пригорок, откуда можно было стрелять прямой наводкой без помех, ибо сразу несколько танков застыли желто-зелеными кочками на склоне пригорка, стали наводить жерла своих орудий на «сорокапятки». Остальные танки тем временем продолжали подминать все на своем пути тяжелыми гусеницами, прорываясь к дороге, на которой, как бы в ожидании какого-то чуда, остановились красноармейские подразделения. Наконец послышался первый орудийный выстрел: что-то блеснуло, словно молния среди бела дня, на склоне пригорка, и тогда напротив первой артиллерийской упряжки, которая все еще стремительно двигалась вперед, вдруг вырос песчаный куст. После первого взрыва снаряды начали рваться совсем густо, подняв на пригорке целые песчаные заросли, и скоро там не стало видно ни коней, ни артиллеристов. Такой поворот событий вдруг привел в чувство всех на дороге — уже не было надежды, что артиллеристы поставят перед танками заслон, и красноармейцы бросились в поле занимать оборону. Военврач с младшими политруками находился как раз в начале колонны, между двумя небольшими пехотными подразделениями, с которыми они двигались со вчерашнего дня. По этим подразделениям, как по самым ближним, уже строчили из пулеметов вражеские танки. На дороге застонали раненые. Военврач бросился помогать им. Он оказывал помощь раненному в живот незнакомому лейтенанту, как вдруг почувствовал, что танки перестали строчить из пулеметов и вокруг установилась непонятная тишина, будто снова почему-то все насторожились и чего-то ждали. Тогда он посмотрел в ту сторону, откуда двигались танки. Те действительно больше не строчили из пулеметов. Однако за время, пока военврач был занят раненым лейтенантом, некоторые из них успели оказаться на дороге и^ теперь двигались по ней. Но не это вызвало неожиданную тишину. Все увидели, как вдруг навстречу танкам двинулись по дороге во весь рост командиры. Военврач узнал их сразу. То были младшие политруки. И вел «их на танки его брат… Самопожертвование и очевидная нелепость этого героического поступка — броситься на вражеские танки с одними наганами! — должно быть, и привели в смятение всех, кто способен был наблюдать теперь за ними, даже фашистов, которые перестали стрелять из пулеметов. Между передним танком и братом врача оставалось уже несколько метров, с каждым мгновением расстояние все сокращалось. Тогда военврач с ужасом схватился за голову и закричал во весь голос… Когда все было кончено, а на дороге вместо младших политруков, так же как и вместо других бойцов и командиров, что не успели отбежать за придорожную канаву, остались лишь кровавые пятна, военврач, на глазах которого произошло это непоправимое событие, упал комом на землю и судорожно начал рвать руками, будто свою грудь, придорожную траву. Поступок младших политруков подействовал на него так, что седеть он начал, очевидно, уже до того, как исчезли на дороге вражеские танки и утихла вокруг стрельба… — Тогда вот во мне и сломалось что-то, — рассказывал военврач. — Казалось бы, видел немало смертей, ведь такова наша профессия, однако же вот сломалась какая-то пружина, на которой держалось все во мне. Может, потому, что брат… Словом, теперь вы не должны сомневаться. Я действительно ни к чему уже не пригоден!.. Чубарь для приличия помолчал немного после такого трагического рассказа, а потом сказал, желая одновременно и посочувствовать человеку, и поднять в нем дух: — Это вы просто вбили себе в голову. Вам надо отдохнуть перед тем, как… — Вы думаете, я переутомился? — Взгляд доктора был устремлен на Чубаря, но глаза оставались все такими же незрячими. — Не может быть, чтобы то, что случилось с братом И его друзьями, угнетало вас все время! Во всяком Случае, так не должно быть. Вот отдохнете… Но военврач снова перебил Чубаря и, горячась, начал объяснять: — Это только так кажется. А на самом деле время для отдыха уже было. Однако скальпель взять в руки не могу до сих пор. Единственное, на что еще способен как врач, это прописать лекарство. — Значит; не все еще потеряно, — умышленно весело сказал Чубарь. — Но где теперь те лекарства? Теперь деревенский знахарь и тот на большее способен, тот хоть травы разные знает. — Лекарства у нас найдутся, будет чем лечить, — пообещал Чубарь. Однако военврач будто не расслышал. — Я понимаю, — говорил он дальше, — вас смущает несоответствие между тем, как я рассуждаю, точнее, логическая последовательность моих рассуждений, и тем, что говорю я о себе. Но можете поверить — одно другого не исключает. Тогда Чубарь пошутил: — Однако же до сих пор было известно, что… словом, что люди с больным рассудком обычно доказывают, что они самые умные на свете! — Снова речи доктора начали вызывать у Чубаря настороженное чувства, словно в доверительном тоне их явно скрывалось какое-то притворство; Чубарю становилось понятна, что если разговор будет продолжаться и дальше в таком духе, то превосходство, которое он чувствовал до сих пор над своим собеседником, может быть утрачено; между тем Чубарь почему-то самым серьезным образом считал, что для дела, которое он намеревался начать в Забеседье, этот человек потребуется прежде всего; Чубарю казалось также, что военврачу достаточно будет отдохнуть неделю-другую, чтобы прийти в себя и обрести душевное равновесие, и потому он готов был непрестанно твердить ему, что серьезное дело и впрямь возвращает человеку утраченный облик… — Вот я и говорю, — продолжал рассуждать военврач с прежней непроницаемостью на лице, — одно другого не исключает. У человека в голове всегда найдется место и для умных мыслей, и, как вы говорите, для ненормальных. — Чубарь этого еще не говорил, но возражать не стал. — Порой даже трудно провести границу между ними. Особенно когда человек тренирует свой мозг в одном и том же направлении. А у меня для этого, времени хватало. И я успел многое передумать заново, даже переосмыслить. Пусть вас не удивляет, что я хватаюсь сразу за те неточности, за те несоответствия, которые до этого получили в моей голове определенное объяснение. И вообще я… Но нет, об этом лучше не говорить, так как вы собирались уже, кажется, поставить меня к стенке. — Вы преувеличиваете, к стенке ставить вас я не собирался, но решил правильно, — сказал Чубарь. — Вздор молоть не следует. Расскажите, что было с вами потом. — Когда? — Да после того., как схоронили брата и его товарищей. — Попал в плен. — Выходит, окружение?.. — Нет, в тот раз никакого окружения не было. Просто кто-то пустил слух. Может, лазутчики вражеские… — Военврач помолчал. — А в плен взяли через день, — начал он снова. — Недалеко от Слонимы. Немцы выбросили за Щарой десант, и наши части, которые не имели сплошной обороны, были зажаты между этим десантом и главными наступающими силами противника. Таким образом, даже боя настоящего не произошло. Сам я сообразил, что нахожусь в плену, лишь тогда, когда на перекрестке шоссейных дорог увидел немецких мотоциклистов с направленными на нас пулеметами. Я не отстреливался. Но если быть до конца точным, то и никто другой не оказал сопротивления. Вдруг все побросали винтовки и отошли к обочине, стали там напротив мотоциклистов. Это потом уже, когда похлебали грязной жижи в лагере, многие спохватились. Однако поздно — вокруг колючая проволока. Правда, кое-кто все же вынашивал план побега. Да. я не знаю, удалось ли совершить это кому, так как вскоре меня выпустили из лагеря насовсем. — Чем же вы так потрафили фашистам? — И я задавал себе такой вопрос. Но потом рассудил, что ничего удивительного в этом не было. Просто комендант лагеря первый заметил то, чего не хотите видеть, например, вы: я действительно уже ни к чему не пригоден. Когда он прохаживался по лагерю, то каждый раз вызывал меня и расспрашивал обо всем, что касалось моей жизни. Интересовали его также и мои мысли о войне, о немцах. Словом, меня он настойчиво выделял среда других военнопленных. А через две недели вызвал в кабинет, выписал пропуск и приказал солдату, чтобы тот вывел меня за ворота лагеря и отпустил на волю. И вот я уже которую неделю иду по Белоруссии… — И ни разу не случалось по дороге, что фашисты снова пытались забрать вас в какой-нибудь лагерь? — У меня же пропуск от коменданта. — Он расцепил руки на коленях, вытянул правую ногу и достал из кармана галифе картонку, вырезанную прямоугольником. — До войны на таких печатали разные мандаты для конференций. Чубарь взял картонку из рук военврача, осмотрел ее с обеих сторон и принялся читать то, что было написано печатными буквами по-русски и по-немецки. Конечно, Чубарь по-немецки не понимал, поэтому читал русский текст: мол, военнопленному, врачу второго ранга Скворцову Алексею Егоровичу, разрешается следовать по территории, оккупированной германскими войсками, к месту жительства в город Свердловск. И дальше, уже в виде так называемого примечания: остановки на отдых надлежит делать лишь в пределах населенных пунктов, дольше чем на сутки в одном населенном пункте не задерживаться, предъявлять пропуск каждый раз, как того потребуют местные или военные власти… Словом, то была самая настоящая бессрочная подорожная, наподобие тех, что выдавали в царское время отдельным каторжанам, которых выпускали на волю, но где не было обозначено место нового жительства: остаток жизни предстояло провести в дороге… — Можно подумать, что комендант этот большой шутник, — возвращая пропуск, сказал мрачно Чубарь. — Да, чувства юмора он не лишен, — согласился военврач, очевидно, не совсем представляя себе, что имел в виду Чубарь. — Однако понял мое состояние… — Скажите, а вам раньше, до встречи с комендантом, не приходилось думать о себе вот так? — Как? — Ну, так, как говорите о себе теперь? — Нет. — Когда же все это началось? — Возможно, тогда, когда я посмотрел на себя в зеркало. — Где? — В кабинете коменданта. — Тогда скажите, — пронзил военврача взглядом прищуренных глаз Чубарь, — а вам не кажется, что вы стали просто пешкой, которую умно использовал какой-то матерый фашист? — Не понимаю… — Вы же, наверное, показываете пропуск не только фашистам? — Да. — Нашим, советским, людям тоже? — Ну и что? — насторожился военврач. — А то, — уже с возмущением подался вперед Чубарь, — что этим пропуском вы вреда приносите больше, чем… — он едва не задохнулся. — Иногда вы слишком умны, а иногда… Даже странно, откуда это у вас берется. Хотя черт вас знает, может быть, все вы, интеллигенты, такие. Но думать же надо. И не тренировать мозг в одном направлении, а вообще думать. Чтобы никакой фашист не обвел вокруг пальца. Люди же смотрят на этот пропуск и глаза таращат: фашисты если сегодня и не взяли еще Свердловск, то завтра или послезавтра брать его наверняка собираются, так как не зря даже пленных отпускают туда. А Свердловск, — он дальше Москвы. Значит, фашисты уверены, что и Москву заберут, и дальше пойдут. Никто их не может задержать. А вы тащитесь от города до города, от деревни до деревни и, сами того не понимая, подтверждаете эту брехню. Живая реклама фашистских побед! Да если хотите знать, за такое вас даже к стенке мало поставить! Должно быть, на Чубаревом лице отразилась не только угроза, но и решимость привести ее в исполнение, так как военврач, несмотря на внешнее безразличие — казалось, все говорилось не ему! — вдруг вздрогнул. Можно было подумать, что он просто хотел переменить положение, ибо слишком устал от неподвижности своей позы, но взгляд его застывших глаз тоже начал блуждать, будто они смогли наконец двигаться в глазницах, и остановился на винтовке, которая все еще лежала возле Чубаря в траве. Чубарь сразу внутренне насторожился и, чтобы предупредить неожиданность, положил правую руку на приклад винтовки.
Тем не менее Чубарь отнюдь не подозревал военврача в сознательном участии в хитроумном замысле какого-то фашиста — военврач, наверное, в концлагере находился в состоянии сильной душевной депрессии… И вдруг военврача будто что то встряхнуло изнутри. В одно мгновение он откинулся на спину, перекувыркнулся, как медведь, через голову и так же быстро и почти незаметно вскочил на ноги и кинулся бежать по склону меж сосен прочь от Чубаря, который от неожиданности отшатнулся назад и не знал, что делать. — Стой! — наконец крикнул он вдогонку. Но военврач не слушал. Он сильно припадал на правую ногу, однако бежал стремительно. И тогда Чубарь вскинул винтовку и выстрелил в спину беглецу: должно быть, и тут продолжал действовать механизм, который будто с недавнего времени находился внутри Чубаря. Выстрела своего Чубарь не слышал, но хороша видел, как военврач вдруг раскинул руки, точно пытаясь поднять их, и рухнул навзничь.
XI
В этот раз даже ходить под окнами да наряды давать не потребовалось. Народ повалил в Поддубище — урочище возле трех дубов, что сразу за деревней, — чуть ли не с рассветом. Там был основной массив колхозного жита, правда, в этом году сеяли и на бывших прирезках, или же, по здешнему, наддатках, и близ Кулигаевки, но в Поддубище было засеяно примерно около сотни гектаров. Росло жито на склонах веремейковского кургана, на котором стоял деревянный маяк, обычная триангуляционная вышка. Теперь маяка на кургане не было, его спилили еще в начале июля, когда пришел в сельсовет письменный приказ: дескать, по маяку легко ориентироваться вражеским самолетам. Но перед тем как наступить рассвету, почти всю ночь в помещении колхозной конторы заседали веремейковские правленцы, конечно, не в довоенном составе, так как члены правления, подлежащие мобилизации, были теперь на фронте. Зазыба, когда приехал из Бабиновичей, позвал к себе Гоманькова Ивана — недалеко жил — и попросил, чтобы тот привез на буланом из Кулигаевки Сидора Ровнягина. А Марфа тем временем сбегала за Кузьмой Прибытковым и Парфеном Вершковым — Зазыба не хотел решать колхозные дела без них. Хотя Браво-Животовский и предупредил Зазыбу, чтобы в Веремейках ничего не предпринимали относительно общественного хозяйства без распоряжения коменданта, но Зазыба решил по своему. Он хорошо понимал, что теперь, когда в Веремейках не было Чубаря, ответственность за колхозное имущество, за судьбу колхоза вообще снова лежала на нем; именно за ним было последнее слово и именно с него первого могли спросить как свои, так и фашисты. И самое главное, по нынешней ситуации выходило, будто Чубарь имел тогда, в последний свой приход к Зазыбе, полное основание для беспокойства и непреложных доводов, была своя правда в том, чтобы любым способом избавиться в колхозе от всего, что могло попасть к немцам. Оказывается, при таком повороте событий Зазыбе уже признаваться нельзя было, что он тоже был по-своему прав, когда в раз? говоре с председателем колхоза защищал свою позицию… Пока не привезли в Веремейки Сидора Ровнягина, мужики сидели в колхозной конторе и, как водится в таких случаях, языки чесали. Кузьма Прибытков, например, вспомнил, как бились веремейковцы после революции за луг, который до восемнадцатого года принадлежал хотимскому пану Зинкевичу, но находился по эту сторону Беседи; пожалуй, это обстоятельство и явилось причиной, что на луг посягали сразу несколько деревень, и веремейковцам приходилось отстаивать свои права на него силой — устраивали ночью перед покосом засады, нападали на косцов. Окончились эти драки тем, что Пантелей Козел отправил на тот свет мужика из Малого Хотимска. Милиции пришлось долго ездить в Веремейки, чтобы выявить убийцу, но напрасно: никто не выдавал своего человека, хотя все знали, что мужика того Пантелей убил ни за что: бедняга не принимал участия в драке, просто сидел у костра на опушке леса и пек картошку, а Пантелей случайно наскочил на него и ударил колом по голове… Зинкевичев луг веремейковцы отвоевали в девятнадцатом году: из Климовичей и Черикова, тогдашних уездных городов (Малый Хотимск входил в состав Чериковского уезда), были направлены в Забеседье землемеры, и те под охраной милиционеров поставили межевые столбы. Почти все, кто присутствовал в колхозной конторе, знали о тех событиях не хуже Кузьмы Прибыткова, но слушали старика с какой-то новой настроенностью, словно в предчувствии, что все это может повториться. Иван Падерин, который пришел в контору позже всех, сказал: — Так это ж наши выиграли тогда потому, что дали взятку начальнику милиции. А ежели вдруг переиграть теперь захотят и в Малом Хотимске, и в других деревнях, тоже хабар повезут? Власть же переменилась! Власть теперь не та! — Зачем говорить абы что, — досадливо посмотрел на него Парфен Вершков. — Никакого хабара не давали веремейковцы. Само собой получилось так. А скорее потому, что на нашей стороне луг. Не дай бог, если бы он на той стороне Беседа оказался, не видать бы нам сена с Зинкевичева луга, как черту сладких пряников. Нет, взятки мы не давали. Это наговор пустила обиженная сторона, мол, веремейковцы подкупили начальника милиции. — За луг не давали, — согласился с Парфеном Вершковым Кузьма Прибытков, — Это правда, а вот за Пантелея Козла разве не возили кадушку меда? Парфен сморщился. — То-о-же скажешь! Самого ж в Веремейках небось не было в то время? Все шабашничал! — Не знаю, где был я тогда, — возразил Кузьма, — а помнить так еще не забыл, как собирали со всех пасек по пять фунтов меду. Нехай вот Денис скажет. — Так и Зазыба небось не вернулся еще тогда со службы, — по-прежнему не соглашался Парфен Вершков. Но все уже повернули головы к Зазыбе, сидевшему за длинным столом, за которым в обычный рабочий день занимали места счетные работники, а во время общих колхозных собраний — президиум. Зазыба тоже внимательно слушал односельчан, но как бы свысока, снисходительно посмеиваясь. — Вам, как говорится, хоть наперсток, хоть щепотку, — пошевелил он плечами. — И какое это теперь имеет значение? Мужики заулыбались, мол, тут и в самом деле не так все просто… — Это хорошо, что хоть Пантелей успел умереть, — сказал спустя некоторое время Иван Падерин, — а то бы теперь, когда поменялось все, могло еще боком выйти ему. — Не пугай, Иван Хомич, — улыбнувшись, пошутил Зазыба. — Никак крови тебе захотелось повидать? Так мало еще ее льется? — Мы, белорусы, не такие, — пытаясь внести и тут полную ясность, сказал Парфен Вершков. — Это на Кавказе так… А белорусы кровной мести не помнят. — Не по-о-омнят, — недоверчиво произнес Иван Падерин, — а неужто забыл, как Маслюки отомстили леснику из Тончи, что подстрелил их отца? — Маслюки — это особая статья, — не согласился Парфен Вершков. — Они и без кровной мести могли кому хочешь юшку пустить. А у того человека из Малого Хотимска, кажись, никого и не осталось в деревне. Жена до колхозов еще умерла, дети разбрелись кто куда. — Правда, — поддержал Вершкова Кузьма Прибытков, — семья этого человека распалась, нема уже такой семьи в Малом Хотимске. Но вот что интересно, сына его как-то мы видели с Прокопом, когда у Кажлаев доски пилили. Хозяин один там и сказал мне, что его подпасок и есть сын хотимского мужика, которого забили наши веремейковцы. Я так даже заинтересовался. Дюже книжки парнишка читал. Может, выучился на кого? — Оно по-ученому так еще… Но договорить Падерину помешала Ганна Карпилова, которая вдруг подала тоскливый голос: — Отпустили б вы меня, мужики, домой. Когда это Сидор еще приедет? Да и приедет ли он вообще? — Сиди, — строго сказал ей Зазыба. — Малец больной! В жару оставила! Да и делать с вами нечего. В амбарах моих хоть шаром покати. Одна рухлядь — кожи сопревшие да хомуты, в которые давно уже не запрягали коней. — Порядок есть порядок, — отвернулся от кладовщицы недовольный Зазыба, но добавил: — Могла попросить кого-нибудь присмотреть за ребятами на это время. Знала ж, куда идешь и зачем. — Так… — Ганна вздохнула и туже затянула черный платок, который был повязан на голове по-деревенски шалашиком. Мужчины в душе посочувствовали Ганне, но вступиться никто не подумал. Несколько минут все в конторе сидели молча. Среди мужчин курил только Кузьма Прибытков, зато смолил как бы за всех присутствующих, и под потолком, слабо освещенным пузатой лампой на кривых, точно гусиных, ножках, плавал дым. Свет от лампы почти весь падал на Зазыбу, который сидел напротив, да немного на Ивана Падерина, что на правах счетовода пристроился подле, локтя за три от заместителя председателя колхоза; остальные веремейковцы — и члены правления, и рядовые колхозники — сидели в тени на широкой, сколоченной из двух тесаных досок, лавке вдоль стены с окнами, но сидели не плотно, не рядом друг с другом, а поодаль, будто приехали откуда-то враждующей компанией на суд; дальше всех от стола, почти у самого порога, выбрала себе место на лавке Ганна Карпилова. Луна стояла еще невысоко, и ее свет, попадавший через окна в помещение конторы, косо лежал на неплотно пригнанных досках пола, повторяя очертания оконных рам. Луна еще недавно была оранжевая, словно заморский фрукт, и серебриться начала с полчаса назад, так что свет ее не приобрел еще того зачарованного блеска, когда создается впечатление, будто ты находишься в нереальном мире. Полнолуние наступило три дня тому назад, но погода менялась исподволь, незаметно. Минувший день выдался солнечным; к ночи небо также осталось чистым, и теперь вот луна блуждала за деревней, как раз над оврагом с глинищем, заглядывая в темно-красные отверстия круглых печурок. Веремейковские мужики, кажется, переговорили уже обо всем, о чем хотели и о чем не хотели, и в ожидании Сидора Ровнягина постепенно утрачивали интерес и к беседе, и друг к другу. Кузьма Прибытков перестал курить, начал потихоньку дремать на лавке, а Парфен Вершков, уставившись в темную пустоту угла, барабанил пальцами по гладкому подоконнику. Иван Падерин вышел на несколько минут во двор, вернулся оттуда и сказал, поеживаясь: — Ну и вечер сегодня! — Это Чубарь любил за околицу такими вечерами ходить, — лениво усмехнулась Ганна Карпилова. — Вспомнила! — хохотнул Иван Падерин. Ганна неожиданно разозлилась. — Чего ржешь? — с ненавистью посмотрела она на счетовода. Тот будто проглотил смех, но съязвил: — Говорю, вспомнила!.. Достаточно было внести в полусонную компанию веремейковцев малейшее брожение, как снова начался несвязный разговор, поддержанный сперва Парфеном Вершковым, который решился вступиться за женщину. — Приятное всегда хорошо вспомнить, — подал он голос, — но скажу правду, когда я в прошлом году был полевым сторожем, Ганну с Чубарем ни разу не видел, это как на духу. Другие таскались, а ее не видел. — Зачем ей было ходить за деревню, — будто обиженный, не унимался Иван Падерин, — если в ее распоряжении целый амбар! На зерне оно еще хлеще, чем на сене! Да, хлеще! — Это потому так, должно, говоришь, что сам не пробовал на том зерне, — поучительно сказал Ивану Падерину Парфен Вершков — А то бы и другой день из мотни сыпалось. Мужчины захохотали. Но Ганну, казалось, вовсе не трогало это, она лишь страдальчески сморщилась и снова сказала, обращаясь к Зазыбе: — Отпустил бы ты меня, дядька Денис, домой. Христом богом прошу. А то я даже не знаю, как они там теперь, мои малыши. Зазыба в ответ заморгал глазами, будто очнулся или отогнал от себя наваждение, а затем как бы впервые окинул всех испытующим взглядом. — Что-то и в самом деле нет Сидора… — пожаловался он затем. — Так он может и совсем не приехать, — тут же изрек нехитрую мысль Иван Падерин. — Должен приехать, — принялся успокаивать мужиков заместитель председателя колхоза. — Я ж не так, я ему бумагу написал. — А коли ему некогда? А если он баню топит для бабиновичского коменданта? — вмиг прогнав дрему, по-старчески прерывисто засмеялся Кузьма Прибытков. — Они же там, на поселках, привыкли начальство с распаренным веничком да с наливочкой холодненькой встречать. Так, может, и теперь стараются, благо начальство новое. Неожиданная шутка Кузьмы Прибыткова вызвала взрыв смеха, даже Зазыба, до чего уж молчаливый и понурый в последнее время, и тот оттолкнулся от стола руками и, привалившись спиной к оштукатуренной стене, весь затрясся в беззвучном смехе. В Веремейках вообще, и не иначе как от зависти, вошло в привычку подтрунивать над кулигаевскими и мамоновскими мужиками, может, потому, что те богаче жили, даже состоя с веремейковцами в одном колхозе. Насмеявшись вдоволь, Зазыба пальцами левой руки вытер слезы с внутренних уголков глаз и с озорством, точно подыгрывая, переспросил Кузьму Прибыткова: — Говоришь, баню топит для коменданта? Но Кузьма уже будто застеснялся своей шутки и сказал, как бы оправдываясь. — Так я… — А может, начнем без Сидора — предложил Парфен Вершков. — А то ночь на исходе. — Подождем еще малость, — ища поддержки, посмотрел на него Зазыба. — Нехай хоть парень Христинин вернется. Тогда будем наверняка знать. — А знаете, кого я встретил сегодня? — вспомнил вдруг Иван Падерин. Мужики повернули к нему головы. — Кулака из Гончи, его со всей семьей когда-то вывезли… — Это кого ж? — вытянул шею Кузьма Прибытков. — Да, наверное, Шкроба, — подсказал Парфен Вершков. — Точно, — вспомнил Иван Падерин. — Так самого или сына? — спросил Кузьма Прибытков и пояснил: — У Шкроба ж сын семейный был. — Самого, — подтвердил Иван Падерин. — Шел вдоль озера, видать, на Гончу. Как увидел меня, остановился. Говорит, я тебя знаю. Ну, мы и разговорились. Осунувшийся такой, заросший. Спрашивает, давно ли я в Гонче был. Недавно, говорю. А что там нового, спрашивает. Как и везде, говорю. А он мне и говорит: пойду с обидчиками своими расквитаюсь. — Ну и время пошло!.. — покачал, словно в отчаянии, головой Парфен Вершков. — С кулаками этими тоже… — Как раз время! — усмехнулся Зазыба. — Пожалейте кулаков! Кузьма Прибытков тоже вызывающе посмотрел на Парфена Вершкова, сказал: — Это Денису спасибо. Благодаря ему в Веремейках раскулаченных не было. Но Зазыба тут же отверг похвалу Кузьмы. — При чем тут Зазыба? — сдвинул он брови и сказал, будто в расчете на кого то еще, кто незримо присутствовал в конторе: — У нас и в самом деле настоящих кулаков не было! — Не скажи! — как-то неопределенно мотнул головой Прибытков. — Но ежели б в те годы заместо Зазыбы да кто другой председателем был, нашлись бы и у нас кулаки, — заметил Парфен Вершков. — Вон как в Бабиновичах. Там, когда потребовалось, и несговорчивые середняки сошли за кулаков, абы единоличников было меньше. — А как по мне, оно и треба было тогда кое-кого забрать из деревни, — метнул глазом на Зазыбу Кузьма Прибытков, — Теперь спокойней жилось бы. Конечно, все понимали, кого имел в виду Прибытков, — того же Браво-Животовского, может, Романа Семочкина, — однако готовы были отвернуться друг от друга, чтобы не обострять разговора, так как дело касалось односельчан, а в таких случаях веремейковцы обычно пасовали — было в деревне что-то вроде бессознательной круговой поруки. Правда, это могло не касаться Браво-Животовского, ибо тот все же был пришлый, но годы, прожитые им в Веремейках, к тому же характер, который вон как умел выдерживать бывший махновец, сыграли свою роль. Именно по этой причине не воспринялось и новое замечание Ивана Падерина, сделанное в связи в этим: — А вы говорите про кавказцев! И белорусы не прочь, коли… Недаром Шкроб грозился кому-то кровь пустить в Гонче… — Что-то Хомич сегодня кровожадным стал, — отозвалась сонным голосом и Ганна Карпилова. Она было задремала на лавке, но в конторе снова становилось шумно. — А еще Цукор Медо-о-ович! — пошутил Кузьма Прибытков. — Надо еще спросить, досталось ли ему того меду! — подхватил шутку Парфен Вершков. — Наверное, батька весь выбрал. Вот тот так и вправду был и Цук-ром и Медовичем. Глядишь, и правду-матку режет в глаза, а как-то… деликатно все у него выходит, как под тебя перину мягкую стелет при этом, как ангелу тому, что с неба падает. Нет, батька его прозвище это по праву носил, а Иван уже… какой то натопыренный, как шишка сосновая. — Это у него от деда, — добродушно сказал Кузьма Прибытков, — от Хомкова батьки. Тот тоже был, как ты говоришь, будто шишка натопыренная. А отец Иванов — человек ласковый. Падерин, опустив с нетерпеливой усмешкой голову, ждал, пока выговорятся мужики, чтобы начать снова. Почему-то не давала ему сегодня покоя эта кровная месть, словно привязалась. Но вдруг под окном конторы послышались торопливые шаги. Зазыба подвинулся к окну, припал к стеклу и заслонил от себя свет, чтобы вглядеться в улицу. — Наконец таки! — с облегчением воскликнул Парфен Вершков, думая, что идет Сидор Ровнягин. Все зашевелились, будто им надо было на конечной остановке с воза слезать, но вместо Сидора Ровнягина в дверях, которые отворились почти настежь, встала залитая лунным светом нескладная фигура Ми киты Драницы. Микита задержался немного на пороге, ступив на него обеими ногами, потом будто спрыгнул на пол и остановился посреди, конторы, успевая одновременно разглядеть в потемках односельчан. Был он в обычной своей одежде — те же заскорузлые на задниках и союзках сапоги, которых ему хватало не на один год, та же длинная фуфайка, под которой штанов не разглядеть, и вельветовая шапка, точно выжженная лишаем. Но сегодня Микита почему-то не вушакомился — есть такое слово в Веремейках, не задавался, значит, как это умеют делать другие, — зато поглядывал он по сторонам с той нескрываемой обеспокоенностью, когда каждому понятно: человек пришел выведать что-то. — И ты тут? — сказал он Парфену Вершкову. — И я, — ответил тот. — И ты, — назвал дальше Микита Кузьму Прибыткова. — Как видишь, — кивнул головой старик. Все, кого Драница называл, отвечали ему с веселым прищуром в глазах, будто начинали игру и ждали от нее чего-то особенно потешного. Наконец очередь дошла до Зазыбы. Но Микита почему-то не решился обратиться к заместителю председателя колхоза — то ли смутился, вспомнив, как приходил за орденом, то ли застряло что в горле. Тогда Зазыба заговорщицки подмигнул Миките, сказал явно не без умысла: — Мы, видишь, тут, а вы где? — Мы? — оторопел Драница. — У Браво-Животовского? — догадываясь, уточнил Зазыба. — Так… — Кто же там у вас? — Браво-Животовский… — Это мы знаем. Раз в гостях у него, так… — Роман Семочкин… — И про этого мы могли догадаться… — Силка Хрупчик… — А вот это уже что — то новое! — Еще приятель Романов, что в Бабиновичах полицаем теперь. Пришел в гости в деревню. Не забывает. Роман сказал, что к Ганне ночевать поведет его. Ганна, услышав это, не возмутилась, сказала, как о чем-то будничном: — Нехай только детей напугают мне, так!.. — Значит, тебя они подослали сюда? — не сводил между тем с Микиты насмешливых глаз заместитель председателя колхоза. — Почему это они? — взъелся Микита. — Сам шел, так вижу, горит в окнах… — Не хитри, Микита, признавайся, — встрял в разговор Парфен Вершков. Микиту явно припирали к стенке. Он это понимал. Потому произнес громко, даже с неподдельной обидой в голосе: — Ну, как хотите, — и повернулся, чтобы уйти. Но над столом, метнувшись, выросла вдруг огромная тень — встал Зазыба. — Никуда ты не уйдешь, раз пришел! — Он не хотел выпускать Драницу из конторы, чтобы тот не поднял своих собутыльников раньше времени. — Садись вот с мужиками вместе, да поговорим. Ты даже не догадываешься, зачем мы собрались тут? — Так ясно, все правленцы! — И Кузьма? — Так… — А Парфен? — Так… — Садись, садись! — едва не хватая Драницу за полу, сказал Зазыба. — И голос будешь иметь, если что вдруг. Драница мялся, но ослушаться не посмел. — Ну, если треба, — делая вид, что с неохотой поддается уговорам, пожал он плечами. А мужики, наоборот, засмеялись: мол, не шляйся от компании к компании. Затем Парфен Вершков спросил Драницу: — Ты бы рассказал, как там в Бабиновичах вам было с Браво-Животовским? Как немцы? Драница заерзал на лавке. — А никак!.. — Почему же? — Потому! — Ладно, Микита… — Что вы ко мне пристаете? Вот Зазыба тоже ездил в Бабиновичи, так… Нехай он первым расскажет. — Ты опоздал, Зазыба уже рассказывал, — не моргнув глазом, соврал Парфен Вершков. Драница недоверчиво сверкнул глазами, видно, ему не очень-то хотелось рассказывать о своем походе в занятое немцами местечко. Но он хорошо знал веремейковских мужиков: раз берут в переплет, то уже все равно на чем-нибудь отыграются, скажем, на той же торбе, которую откопали деревенские мальчишки в огороде. А именно этого Микита больше всего и боялся. И ему ничего не оставалось, как смириться. — Так мы там каждый сам по себе-е — е, — отмежевываясь от Браво-Животовского, начал Драница. — Он ведь меня за переводчика брал. А там оказалось, что Адольф сам понимает по-нашему. Ну, Браво-Животовский и пошел один к коменданту. Я же остался стоять на крыльце. Сперва боязно было, а вдруг какой герман возьмет да и пальнет из автомата. Думаю, зря увязался за Браво-Животовским. Лучше бы дома сидел. А немцы, оказывается, не обращают внимания на меня. Им хоть бы хны. Сидят себе на траве около забора, бормочут, как бывало евреи, даже мне никак не понять их, да что-то жрут, завернутое в золото. Ну, тут я и осмелел. Ведь голодным побежал из дому. — Неужто попросил у немцев? — выгнул от удивления кадыковатую шею Иван Падерин. — Так они ему и дали! — будто с завистью, вслед за ним произнес Кузьма Прибытков. Но Драница заперечил: — Подходили же местечковые сорванцы, так немцы давали и им всего. — Нет, как пить дать пожалели б тебе, — покивал головой Иван Падерин, — ведь сам говоришь, в золоте! Нет, как пить дать… — Так у них все завернуто в золото, — уверял Микита. Тогда не удержался Парфен Вершков. — А это вовсе не золото, — подал он голос. — Это, должно быть, бумага у них такая. Так в нее они и завертывают… там сыр, масло разное… И не из золота она. — Ну, как на иконах, — уточнил Кузьма Прибытков. — Так черт ее знает! — почесал затылок Драница. — Одним словом, попробовать тебе немецких пряников не довелось? — съязвил Иван Падерин. — Так… — А Браво-Животовскому? Его-то хоть накормили немцы? — Вроде бы нет. Зато дали винтовку бельгийскую с патронами, во такими широкими, и полицаем назначили в Веремейки. Говорит, скороформу получит. — Да-а-а, — мечтательно вздохнул Кузьма Прибытков, и все вдруг засмеялись, так складно у него получилось, будто это говорил сам Драница. На улице снова послышались шаги. На этот раз порог переступил Сидор Ровнягин. — Тебя ждать, — сказал с упреком Зазыба, — так быстрее жабу в Кулигаевку кнутом гнать. — Тут порой и не думаешь, — махнул рукой Сидор, — а забота тебя сама найдет. Это ж моя корова провалилась в трясину у Святого озера, так пока тащили, все веревки порвали в корягах. Выходит, и корить человека не за что было. Сидор подошел к столу, сел так, что заслонил свет от лампы. — Зачем звал? — глянул он в упор на Зазыбу. — Так… — Зазыба тоже не сводил глаз с Ровнягина. — С колхозом треба что то решать, — будто по договоренности с Зазыбой, пояснил Кузьма Прибытков. Но Сидор даже не обратил на него внимания. — Так почему бы тогда не созвать общий сход, раз уж дело дошло до того, чтобы распускать колхоз? — Никто не собирается его распускать, — нахмурился Зазыба. — Вопрос о роспуске мы не должны ставить. Другие пущай делают как знают, а мы у себя не будем распускать. — Он обвел всех тяжелым взглядом, добавил: — Поделим лишь по спискам колхозное имущество. Будет считаться, что раздали его на сохранение до прихода Красной Армии. Все, в том числе и Ганна Карпилова, недоверчиво посмотрели на заместителя председателя колхоза. — Гм, — усмехнулся Кузьма Прибытков. Действительно, мудрее нельзя было придумать. Предложение Зазыбы, по существу, спасало все. Как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы. — А когда придут наши, — продолжал Зазыба, — люди и вернут все. — Так они тебе и понесли! — заерзал на лавке Микита Драница. — Я наших мужиков знаю! Будешь ты, Зазыба, потом по дворам бегать да по веревке опять собирать! Зазыба посмотрел исподлобья на неожиданного колхозного радетеля и словно отрубил: — Я тоже их знаю. Когда в колхоз вступали, ничего не утаивали. — Тогда вот что, — будто подводя итог, положил правую руку ладонью на стол Сидор Ровнягин, — вы нам отдадите то, с чем мы пришли к вам, когда присоединялись к колхозу. И землю, и имущество. А мы там уже сами посудим-порядим, что к чему. Это вызвало у веремейковцев хохот. — Вот куркуль! — покрутил головой Иван Падерин. — Как говорит Животовщик, волчий дух по лесу тянет, — добавил Микита Драница. — Вы со своим Животовщиком уже обделались, — зло ответил Сидор Ровнягин. Тогда возмутился Парфен Вершков: — Поглядим еще, как вы там, на своих поселках, обделаетесь… А предложение твое нам не подходит. — Почему? Зазыба недовольно потер брови сперва над левым глазом, затем над правым. — Ладно, не ссорьтесь, мужики, сегодня еще и черти на кулачках не бились, а вы… — Он посмотрел на Сидора. — Парфен правду говорит. Вместе пахали, вместе сеяли, вместе и жать должны, а там… Словом, завтра перемерим рожь, да и начнем. — Потом перевел взгляд на Ивана Падерина. — Садись вот, Хомич, ближе к лампе, писать будешь. Сперва протокол, а потом список составишь. Счетовод достал из шкафа стопку чистой бумаги. — Как писать? — спросил он. — А так и пиши, — показал пальцем Зазыба на лист бумаги, — мол, правление колхоза на своем заседании от такого-то числа одна тысяча девятьсот сорок первого года постановило раздать крестьянам колхозное имущество, в скобках — на сохранение до прихода Красной Армии. Понял? — А вот этого и не надо писать, — остановил Зазыбу Парфен Вершков. — Почему? — пришел в недоумение Иван Падерин. — Так не хочу, чтоб Зазыба повис на сосне где-нибудь за Кандрусевичевой хатой! Кузьма Прибытков тоже затряс головой. — Парфен правду говорит, — поддержал он Вершкова. — Треба подумать. — Да-а-а, тут и в самделе прикинуть надо, — положил ручку на чернильницу-непроливайку помрачневший Иван Падерин. — А что тут прикидывать! — презрительно посмотрел на веремейковцев Сидор Ровнягин. — Это Денис не подумал, что заставляет писать так. Протокол — такая вещь, в него никому не запретишь заглянуть, скобками не закроешься, всякий сообразит, положим, тот же комендант: значит, Красную Армию ждете? Хлеб и разное прочее для нее запасаете? Зазыба выслушал всех, но мотнул головой и еще раз ткнул пальцем в бумагу. — Пиши, Хомич, пиши, как я тебе велю! Нечего в прятки играть! — Так война ж теперь, — пожал плечами Кузьма Прибытков. — Недаром говорят, в голод люди намрутся, а в войну — налгутся. …Все это происходило ночью, а на следующее утро Зазыба уже собирался идти в Поддубище да делить на полосы колхозное жито. Завтракал он наскоро, только выпил с краюшкой занятого у Прибытковых хлеба корец холодного, прямо из сеней, молока. Марфа еще хотела налить ему, стояла подле с кувшином наготове, но хозяин, опорожнив корец, накрыл его рукой, мол, хватит. Ранний гомон на деревенской улице хотя и очень напоминал прежнюю жизнь — в Веремейках так бывало всегда, когда начиналась жатва, — однако сегодня все это казалось некстати. Людские голоса, беготня просто раздражали Зазыбу; в душе было такое недоброе чувство, будто заместитель председателя колхоза в чем-то обманулся, будто что-то не сбылось, на что он сильно рассчитывал. Зазыба понимал: люди ни в чем не виноваты, они и сегодня собирались делать то, что делали всегда, из года в год, а все же внутри шевелилась какая-то обида на них, словно вовсе не по его распоряжению составлялись вчера имущественные списки. Странно, но Зазыбе даже хотелось, чтобы ни один человек из всех Веремеек и из обоих поселков не показался в поле. Неважно, что переспелое зерно осыпается на нивах… И недоброе чувство, и недоверие, и обида на односельчан возникли, может, потому, что очень много вложил. Зазыба за эти годы и души своей, и сил в колхоз, и сегодня люди намеревались разрушить не только то, что было создано коллективным трудом и единым желанием, но и воплощенную его мечту… Когда Зазыба вышел со двора в переулок, он вспомнил, что Марфа сегодня перед завтраком сказала, будто она слышала, как на рассвете пела по-петушиному курица. Говоря об этом мужу, она не удержалась и заплакала. — Что-то случится, — твердила Марфа. — Раз запела не своим голосом, так случится. Может, с Масеем там… А может, с нами… Или с Марылей… — И спросила мужа: — Как же вы ее устроили? Хоть в хорошем месте поселили, а то давеча я и спросить не успела? — За почтой, в еврейском доме оставил, — неохотно ответил Зазыба. — А почему не у самого Шарейки? — Ну, мы так решили… Марфа недоверчиво посмотрела на мужа и вздохнула. Тогда Зазыба, чтобы как-то успокоить жену, заметил: — Это, может, еще и не наша курица пела? Ты же не видела, чья? — Может, и не наша… Марфа уже и сама не хотела вспоминать об этом. — Так зачем зря душу бередить? — буркнул Зазыба. Но через некоторое время Марфа снова сказала: — Известно, зря, — и махнула рукой. — Они теперь распелись, и петухи, и куры… Кулина Вершкова вон говорила, что и у них пела. — Помолчала и добавила: — Конечно, если б знать, какая пела, так… Можно было б и на порог положить… — А я и не знаю, как это вы, бабы, делаете, — усмехнулся Зазыба. — Слышал, что на порог кладете тех кур, что запевают вдруг не своим голосом. Даже мать моя, покойница, помню, резала. Говорила тогда, что умрет кто-то свой, в нашем доме, а умер брат Кузьмы Прибыткова, через дорогу. Да и то не скоро. — Может, не так сделала, как следовало, — не поверила Марфа и принялась объяснять: —Треба сперва померить самой курицей, как аршином, от красного угла до порога. Тогда станет все ясно. Если на порог ляжет голова, значит, помрет кто-то в хате, а если придется хвост на порог, то в другом доме пропажа… — Ну, а Кулина нынче мерила? — спросил Зазыба. — Так она тоже не знает, какая пела. — Значит, нечего и думать. Вчера вон сорока голову дурила под окнами, а гостя нет! — Так, может, еще будет? А может, весточка какая? Может, про Масея? — Ну вот, ты опять за свое, — махнул рукой Зазыба. — Еще неизвестно, кому перепадет: или ему там, или нам с тобой здесь. Зазыба устыдился — далась же ему эта курица! — и направился по переулку к глинищу, где по высокому берегу над оврагом бежала стежка в Поддубище. Земля за короткое время успела подсохнуть, и даже ночь, казалось, не оставила следов холодной влаги на ней. Идти по стежке было удобно и легко По правую сторону между седой полынью и глинищем росла какая-то ползучая трава, похожая на плющ, и когда Зазыба задевал ее голенищами сапог, то под темно-зеленым покровом слышалось словно змеиное шипенье. Чем дальше отходил от деревни извилистый ров, тем меньше попадалось в нем круглых печурок, вырытых глинокопами. Зато с каждым шагом ров мелел, за дно его уже цеплялись шиповник, ветвистая жимолость и, наконец, луговая калина, а на склонах, которые постепенно становились пологими, еще издали бросался в глаза грязно розовым цветом пос-конник. Никто в Веремейках не знал, какая сила образовала этот овраг, возможно, тут когда-то буйствовал стремительный ручей, но в таком случае где-то поблизости должен был еще и теперь струиться его исток. Между тем ров обрывался, точнее, начинался внезапно, на самом голом месте, где не было ни родника, ни даже небольшого болотца; тем более не могли образовать этот ров талые воды. Очевидно, ручей, если он действительно был, пробился на поверхность земли откуда-то внезапно, совсем не предусмотренный природой, и потому вскоре скрылся, обессилев, под землей, а может, он перебежал в лощину, которая вела через лес к Беседи. В Поддубище уже было полно народу. Зазыба даже удивился: в последнее время, как в осеннее ненастье, все сидели по хатам, и впору было подумать, что деревня опустела вполовину против довоенного. Где-то оно и на самом деле было так, ибо мужчины из деревни почти все ушли по мобилизации, за исключением стариков да белобилетников, но на поле вышли шестнадцатилетние парни-комсомольцы, теперь они становились хозяевами, хотя еще и не чувствовали себя свободно среди взрослых, а стояли, словно привязанные к матерям, приведшим их сюда едва не силой. Удивительно, но и сегодня не обошлось без обрядовой песни. Точно в настоящие зажинки. Рипина Титкова встретила Зазыбу еще на краю поля такими словами:XII
Еще тело доктора не остыло, а Чубарь кинулся в отчаянии, а может, больше со страху, на край склона. Сжимая винтовку и вместе с тем не чувствуя ее в руке, он съехал ногами вперед по обрыву и оказался как раз на той дороге, по какой пришел из-ea Беседа военврач. Потревоженный песок на выветренном склоне посыпался вниз, но Чубарь и шороха не слышал — спешил подальше отбежать от того места, где произошло убийство. О том, хорошо он сделал или дурно, выстрелив в человека, который неожиданно задал стрекача, он не рассуждал, да и можно ли было в таком состоянии рассуждать здраво. Хотя Чубарь и был как в горячке, но дорогу для своего вынужденного бегства выбирал безошибочно, то есть не устремился по лугу к реке, где была Антоновка, а держался того направления, куда падала его тень, которой он, прыгая изо всех сил, чуть не наступал на голову. Впереди видна была небольшая, словно островок, березовая рощица, наверное, одна из тех, что, чудом уберегшись от плуга, порой стоят между сенокосной и пахотной землей. Некоторое время Чубарь бежал, не чувствуя своего тела. В ушах, может от выстрела, стоял колющий и ноющий звон. Казалось, совсем одеревенели ноги. Но постепенно на смену страху, застилавшему глаза, и звону, распиравшему уши, пришла томительная, приторная, неодолимая тошнота, и Чубарь, непроизвольно замедляя бег, вдруг головой вперед полетел в пересохшую бочажину, дно которой было затянуто липкой грязью. Случилось это уже на краю луга, когда до березового островка оставалось не больше сотни метров. Выбрался Чубарь из бочажины бледный и безразличный ко всему от внутренней опустошенности, как зверь после хворобы или залечивания ран. Тяжело переставляя ноги и волоча за ремень винтовку по отаве, он удалялся от злополучного склона туда, где рос молодой березняк. И когда наконец оказался там, то сразу упал грудью на землю, прижавшись правой щекой к мягкой и прохладной мураве. Через несколько минут в голове просветлело и красные бабочки, порхавшие перед глазами, рассеялись. Но по-прежнему стучало, будто деревянным вальком по мокрому белью, взорванное сердце. Солнце еще стояло высоко, и кусты, росшие вокруг березняка, не мешали ему высвечивать ядреные шапки бордовых подосиновиков, которые густо торчали из папоротника, примятого прошлогодним хворостом. Об убитом военвраче еще не думалось, может, потому, что Чубаря истощило нервное потрясение. Он лишь уставился поверх папоротника, не осмеливаясь закрыть глаза, и все, что попадало в поле его зрения, воспринимал как что-то нереальное. Но вот на вывороченный березовый пенек щагах в двух от него вползла серая ящерица, и Чубарю бросилось в глаза, что у нее нет хвоста — где-то лишилась его, убегая от опасности, и теперь стала похожа на жабу-ряпуху: так же хавкала ртом, тряся отвислым подбородком, и бессмысленно таращила глаза. Чубарю стало противно смотреть на нее. Он пошевелился. Но ящерица не испугалась, не убежала. Тогда Чубарь сам отвернулся и уже не мог сдерживаться, чтобы не повести глазами по обе стороны от себя. Тут, на этом березовом островке, оказывается, был свой мир, своя жизнь, и по явление человека вовсе не нарушило ее. И уже второй раз за бесконечно долгий для него сегодняшний день Чубарь начал с любопытством наблюдать за так называемыми низшими существами, жизнь которых, может быть, была не менее загадочна и полна невзгод, чем людская. Но теперь это непроизвольное сравнение приобрело у него почти законченную осмысленность, особенно после того, когда увидел, как по стволу березы ползла вверх рогатая гусеница, которая и не предполагала, что с соседнего дерева за ней жадно следил лесной жаворонок. Чубарь долго лежал в оцепенении. Странно, но все его сильное тело было как парализовано, и он все не решался встать. А когда наконец поднялся, то сразу же от неуверенности прислонился плечом к дереву. Постояв так минуту-другую, он понял, что ноги уже крепко держат его. От реки из-за кустов ракитника тянуло йодистым запахом поднятых из затоки водорослей. Березовый островок, на котором Чубарь нашел приют, лежал между лугом и яровым клином, сразу за крайними деревьями началась заросшая чернобыльем межа. Пожалуй, по ней и надо было поскорей выбираться отсюда, ибо, как Чубарь теперь понял, до Веремеек оставалось километров тридцать. По крайней мере, можно хоть не волноваться, Веремеек в любом случае не минуешь, даже с завязанными глазами, надо только идти вдоль реки. К тому же необходимости сразу идти непременно в Веремейки не было, сперва можно зайти в Мамоновку к Аграфене Азаровой, а это сократит дорогу еще километров на семь. Может, из-за того, что довольно часто приходилось переезжать по работе с одного места на другое, связи с женщинами были у Чубаря случайные и не оставляли глубокого следа в душе, не говоря уже о высоких чувствах. Правда, и он пережил настоящую любовь, не без того, и ему встретился человек, который покорил его. Было это в первый год учебы на совпарткурсах. Звали девушку Фаиной. Работала она в политотделе машинно-тракторной станции в Оршанском районе. Но любовь была недолгой: Фаина поехала навестить родителей в городской поселок и попала на железнодорожном переезде под товарный поезд… Последней из женщин была у него мамоновская Аграфена. Сильного чувства и к ней Чубарь не питал. Но теперь, за время своего бродяжничества, он вдруг почувствовал совершенно новое влечение к Аграфене. Он уже не раз представлял себе, как придет наконец в Мамоновку и обрадованная Аграфена засуетится, забегает и первым делом истопит баню, а затем поведет его туда и станет, нагая, махать над ним распаренным веником. Склон, на котором совсем недавно разыгралась трагедия, возвышался справа, стоило лишь повернуть голову, чтобы увидеть знакомые сосны на нем, но у Чубаря не хватало на это решимости… После выстрела в патроннике еще оставалась гильза, и Чубарь машинально передернул затвором. Блеснув, гильза брызнула вверх, отлетела в сторону. Пороховой дымок, который не успел весь выдохнуться, запутался маленьким желтым облачком в зеленой траве. Пора было выбираться отсюда. Чубарь оттолкнулся от березы, ступил на межу и, не оборачиваясь, зашагал по чернобылью. Вскоре межа расширилась и почти незаметно перешла в обычный лог с высохшим белым клевером. Лог был покрыт с той стороны, что от Беседа, разросшимися за лето кустами, и человека нельзя было увидеть из ближних деревень. Но по эту сторону реки тоже могли встретиться деревни!.. Шатание по чужим околицам многому научило Чубаря. И кто-кто, а он-то уж мог поделиться опытом, как надо приходить в незнакомые деревни, чтобы избежать опасности. Сам Чубарь делал это обычно под вечер, когда в селении наступало наконец усталое затишье. Но перед тем еще долго следил за улицей, за крестьянскими дворами из какого нибудь укрытия. Казалось бы, вовсе нехитрая наука, однако Чубарь постигал ее в результате ежеминутной, почти инстинктивной настороженности. Правда, имели значение и личные качества Чубаря. Но уж теперь, вопреки прежним привычкам, он остерегался просить приюта или куска хлеба в так называемых бедных или богатых дворах. Куда надежнее было заходить в те дома, которые не выделялись внешне, не бросались в глаза. Хозяева там обычно принимали без особых колебаний — не жаловались на нехватку харчей в доме и не смотрели искоса, раздумывая и загадывая наперед. И, пожалуй, самое поучительное для себя открытие сделал Чубарь тогда, когда убедился, что в тех населенных пунктах, где немцы успели создать новую администрацию, окруженцев и разных бродяг посылали если не прямо к бургомистру или старосте, то уж непременно к бывшей председательше с кучей детей. Что касается старосты или бургомистра — тут дело понятное, срабатывала давняя привычка деревенских людей выбирать правдами и неправдами на разные руководящие должности рассудительных да покладистых мужиков, чтобы не иметь потом лишней грызни между собой, а также неприятностей со стороны (кстати, фашисты тоже сперва поддерживали среди крестьян свободную выборность), а вот почему направляли к председательшам, Чубарь долго не мог понять, пока одна такая женщина не объяснила: — Напуганы люда, боятся, чтобы не приключилось чего с ними, а нас, — она показала на- малолетних детей, — и так, говорят, расстреляют… Мужик мой был начальником, его всякий знал в районе… Вот и говорят, что семьи таких начальников будут расстреливать… Потому люди и направляют всех, кто приходит чужой в деревню, ко мне… Ведь мне все равно и детям моим… нас и так расстреляют… Вот они и показывают всем, кто приходит теперь в деревню, мою хату… Покорность судьбе и почти библейское спокойствие, с которым говорила обо всем эта женщина, привели в замешательство, даже испугали Чубаря. Он возмущался поведением односельчан, которые наперед избрали жертву: мол, она уже обречена и вряд ли спасешь ее, потому пусть берет все на себя… С тех пор сам Чубарь уже не просил ни еды, ни крова у председательш. Были у Чубаря и другие наблюдения над жизнью в условиях недавней оккупации, хотя некоторые из этих наблюдений нуждались в проверке. Во всяком случае, Чубаря уже многое начинало смущать. Например, очень непонятной казалась ему возросшая за это время недоверчивая молчаливость людей, похожая на отчужденность. Чем дальше он отходил от линии фронта и чем больше проходил деревень, занятых оккупантами, тем сильнее чувствовал это. Припоминая теперь свои встречи с людьми, Чубарь не мог забыть одно утро, проведенное в поле со жницами. Женщины заметили человека с винтовкой, разогнули спины и принялись вглядываться из-под руки в него. Первой к Чубарю обратилась подвижная и веселая с виду женщина средних лет. Глаза ее, казалось, никогда не хмурились. — Смотрите, бабы, кто к нам пришел! А мы думали уж, одним, без мужчин, век вековать придется! Женщина улыбалась сама и словно заставляла улыбаться других. Можно было подумать, что в этом бабьем царстве вообще была запрещена скука и все они, будь то молодые или постарше, еще до войны повыгоняли своих мужиков. Моментально Чубарь был и накормлен, и напоен, только спать не уложен. Женщина, которая первой заговорила с ним, была председателем местного колхоза. Хозяйство она приняла недавно, полмесяца назад, а до того была в колхозе активисткой. Чубарь в свое время тоже немало выдвигал одиноких женщин в разные комиссии. В деревнях их обычно называли членками: например, Полька-членка, Лекса-членка и так далее. Когда Чубарь обмолвился, что и он работал председателем колхоза, женщина так и всплеснула руками: — Тогда вас как ветром пригнало к нам. — И начала чуть ли не выговаривать: — Хватит слоняться по кустам! Принимайте наш колхоз. Чубарь в ответ серьезно сказал: — У самой же, по-моему, неплохо получается. Женщина-председатель от неожиданной похвалы будто смутилась, но тут же вздохнула: — Это вам кажется… А на поверку, так… веселю вот, веселю своих баб-солдаток, а самой ревмя реветь хочется. Нет, я всерьез, становись у нас председателем, — ей, видно, легче было обращаться к Чубарю на «ты». — И винтовка вот у тебя… — Она посмотрела на винтовку так, будто действительно придавала этому решающее значение. Чубарь снова попытался отделаться, но теперь уже шуткой, мол, зачем ему другой колхоз, когда он уже удрал от одного. Женщина-председатель повела глазами вокруг и сокрушенно сказала: — А мы вот уже второй день жнем… колхозом… — А немцы? — задал вопрос Чубарь. — Они у нас пока все проездом. Чубарь снова спросил: — Пожнете-помолотите, а они возьмут да заберут зерно у вас. — Конечно, им теперь не запретишь! — Зачем тогда вообще убирать? Женщина-председатель в ответ лишь укоризненно посмотрела на Чубаря. — Так вот, колхозом, все еще и живете? — спросил через некоторое время Чубарь. — А нам иначе нельзя. Мужиков ведь здоровых в деревне совсем не осталось. Так что нам, бабам, после этого делать? Будем жить, как набежит. Разговаривали они долго — Чубарь был доволен, что встретил людей, а женщины, в свою очередь, тоже ничего не имели против с чужим да неплохим человеком душу отвести, да и работа спорилась… Местность вдоль Беседи была неровная — то горбилась холмами, что поросли смешанным мелколесьем, по краям которого виднелись песчаные плешины, как после оползней, то прогибалась вдруг, образуя глубокую расселину, напоминающую высохшую дебру, словно и впрямь в свое время были здесь речные рукава. Из одного такого русла наконец вынырнула утоптанная стежка и повела Чубаря меж кустов по хвойному леску, на краю которого кончился лог. Но в том месте, где по обе стороны стежки стояли на высоту поднятой руки молодые елки, дорогу преградила огромная, будто натянутая из суровых ниток паутина, которая в лесном сумраке блестела серебром. Чубарь заметил ее шагах в двух от себя и с каким-то суеверным страхом остановился вдруг, точно в сказке. Паутина от движения воздуха колыхнулась. Как зачарованный, сделал Чубарь еще шаг вперед. Мастера, которые сплел меж елей этот замысловатый узор, не было дома. Лишь невинные жертвы его — давно высохшие осенние мухи — висели, запутанные в паутине. «Значит, уже несколько дней не проходили тут ни человек, ни скотина, ни зверь», — подумал Чубарь. Он хотел было порвать локтем паутину, чтобы пройти дальше, да спохватился, удерживаемый тем же суеверным страхом. Пришлось отступить в молодой ельник, и, оберегая рукой лицо, он стал продираться сквозь него, стараясь снова выбраться на стежку. Однако легче было порвать на себе одежду, окровенить руки и лицо, чем попасть на нее, слишком плотно стояли тут одна возле другой молодые елки. Потому Чубарь свернул еще вправо, ступил под сень больших деревьев и некоторое время свободно шел между ними. Завидев человека, бросилась от покусанного гриба-боровика длинная, будто надвязанная чем, белка. В стороне мягко долбил дерево дятел. Чубарь заметил вересковую прогалину, пошел туда, надеясь по ней выйти на стежку. И правда, не сделал он и полутораста шагов, как зачернела тропинка. Она уже выпрямилась и спускалась с горки. Там, над неприметной речушкой, которая не далее как в версте отсюда впадала в Беседь, были перекинуты взамен мосточка две отесанные кладки с боковыми перилами из прясельной жерди. Вода в речушке была почему-то темная, будто политая чем, и вряд ли только тень от кустов создавала такое впечатление. Глядя себе под ноги и держась правой рукой за перила, Чубарь осторожно зашагал по кладкам, которые сильно прогнулись под его тяжестью. Густой ельник за речушкой кончался, сразу во всю ширь открывалось поле. Неподалеку прямо в поле стояла чья-то усадьба: старая, с низко посаженными окнами и замшелой крышей хата, амбарчик да хлев, за которым был неогороженный сад. Немного поодаль отбрасывал на землю тени другой сад, однако при нем никаких хозяйственных построек не было. Тут, видимо, еще недавно был небольшой населенный пункт, который то ли начали свозить, да не кончили, то ли просто люди по своему желанию переехали отсюда жить в другое место. Чубарь шел и вглядывался в усадьбу, кажется, опасность не угрожала. На огороде была выкопана картошка, а на голом месте, откуда убрали ботву, лежала большая тыква. Во дворе, открытом со всех сторон, гонялись один за другим молодые петушки с ломкими и оттого неприятными голосами: такие петушки особенно вкусны как жаркое с молодой картошкой, малосольными огурчиками и укропом… Но из-за хаты вдруг вышла сердитая женщина, дородная, с сильной мускулистой шеей и почему-то землистым лицом. Она даже не вгляделась в незнакомого человека, а забубнила сразу, как в трубу, низким голосом: — Проходи, проходи, а то у нас и без тебя уже хватает. И вид, и голос у нее были таковы, что Чубарь не мог ошибиться — его не столько предупреждали о какой-то опасности, которая могла бы случиться, если он и вправду войдет во двор, сколько прогоняла прочь, как коршуна, что начал кружить над двором. Смущенный, Чубарь даже не заводил разговора, молча, точно зверь с поджатым хвостом, обошел стороной усадьбу, чувствуя, как на висках набухают жилы. Женщина между тем спокойно стояла посреди двора, следила исподлобья за каждым его движением. В саду стояли ульи. Возле обвощенных летковых щелей метались пчелы. Яблок на деревьях не было, очевидно, в этом году сад не плодоносил. Лишь побуревшие сливы громоздились на изогнутых сучьях да краснели на меже ржаного поля садовые рябины. Не успел Чубарь пройти вдоль сада — кстати, дворов среди поля он насчитал больше десяти, но те не имели садов, потому и не сразу бросились в глаза, — и подняться на пригорок, начинавшийся чуть ли не за жилой усадьбой, как увидел убитого волка. Тот лежал на колесной дороге, уже почти на самом перекрестке, образованном этой дорогой и большаком, что шел от Беседа. Обойти волка было нельзя, и Чубарь подступил к нему совсем близко. Зверь чем-то, может своей сединой, напомнил вдруг… военврача. От этого воспоминания, а точнее, от этого нелепого сопоставления Чубарь даже закрыл глаза и содрогнулся, а затем перепрыгнул через волка и ринулся сломя голову к большаку. Как и все более-менее пригодные для войны дороги, большак также был сильно наезжен автомашинами. Чубарь, как только выбежал на перекресток, бросил быстрый взгляд в оба конца большака. В той стороне, где должна была протекать Беседь, на обочине, что-то чернело, похожее на обгорелую коробку. Чубарь встал на цыпочки, чтобы получше рассмотреть, однако ничего не угадывал — до непонятного предмета было не менее полукилометра. Напротив, уже по другую сторону большака, над полем возвышался раскидистый, но будто спиленный сверху дуб. В каком-то испуганном оцепенений Чубарь направился к Беседи, и вскоре ему стало видно все, что оставалось до сих пор скрытым от глаз. За рекой на самом дальнем, плане — широкая луговая пойма, за которой синел, словно прорезанный большаком, лес, потом сама река, через которую на другой берег вел по песчаной насыпи деревянный мост, а потом уже и весь этот склон с непонятным предметом. Чем ближе подходил Чубарь, тем отчетливее видел, что это подбитая немецкая бронемашина. Она была наклонена правым боком к придорожной канаве. Видимо, недавно на большаке произошел бой. На самой середине дороги желтели круглые пятна свежей земли, очевидно, кто-то засыпал воронки от взрывов. Справа за канавой торчали деревянные кресты — по три в двух передних рядах, а за ними еще два. На дощечке, против которой остановился Чубарь, было выведено блестящей синей краской: «Werner Holzmacher, Leutnant Kompanienführer des Grenadierregiments»[12]. Даже не зная немецкого языка, Чубарь по написанию латинских букв разобрал: под двумя другими крестами в первом ряду лежали Ганс и Макс. «Кто уложил их тут?» — мстительно и с завистью подумал Чубарь и стал оглядываться, стараясь отыскать еще какие-нибудь следы недавнего боя, а потом направился к дубу, стоявшему наискосок от подбитой бронемашины. Первое, что заметил Чубарь, подходя к дереву, — это большое, с неровными краями отверстие, похожее на дупло, которое обращено было, будто окно в хате, на большак. Через него могла свободно пролететь птица и не задеть крыльями. Чубарь загляделся на дуб и не заметил, как наступил правой ногой на мягкий бугорок земли. Холмик был насыпан недавно во всю длину человеческого роста. Наверное, тут и нашел себе покой тот, кто напал на немцев. Чубарь нагнулся, разровнял свой неосторожный след и на несколько минут застыл над могилой. Хотелось хоть что-нибудь узнать о человеке, который лежал в ней. Но тщетно, вокруг никаких признаков, по которым можно было бы это сделать. И Чубарь подумал, как несправедлива судьба к героям: врагов, которые пришли захватить чужую страну и поработить ее народ, хоронят по-человечески, а люди, которые защищают эту страну и гибнут в жестоких боях, в большинстве своем остаются безымянными, хорошо еще, если сохранятся свидетели или участники этих боев… В дубе действительно было дупло. Но Чубарь обнаружил его только тогда, когда обошел дерево вокруг. Дупло имело необычный вид, будто кто специально выдолбил сердцевину корытом со стороны поля, чтобы там мог свободно стоять человек. Земля под дубом чуть ли не на два вершка была усыпана гильзами, а со стороны большака дерево исклевано пулями. Чубарь некоторое время в нерешительности потоптался на гильзах, потом рассудил: значит, кто то вел огонь по фашистам именно отсюда, и это дупло с неровными краями служило ему амбразурой. Казалось, кроме восьми крестов, кучи стреляных гильз да могильного холмика, ничего уже нельзя было обнаружить тут. Но стоило Чубарю пройти по меже, как в жите он увидел ручной пулемет системы Дегтярева. Прежде чем забросить его сюда, кто — то в злобной ярости бил им по земле и по дереву, так как пулемет лежал погнутый, а некоторых деталей, например диска-магазина, спусковой рамки с ручкой управления, правой сошки, так и вовсе не было. Шагах в пяти от пулемета и также посреди жита, раскинув крылья, как огромная птица, чернело казацкое седло. Чубарь подошел и, став на колени, отстегнул переметную сумку, притороченную к седлу, засунул внутрь руку. В одной из перегородок пальцы нащупали прилипшую к отсыревшей коже бумагу. Осторожно, чтобы не помять и не порвать, Чубарь вынул ее и, пристроив винтовку стволом на согнутый локоть, развернул бумагу. Буквы, написанные химическим карандашом, расплылись, и прочитать можно было только первое предложение, затем почти всю среднюю часть текста и последний абзац. Была тут и подпись. Однако и она расплылась, кроме одной строчки сверху: «Старший политрук…» Пристально всматриваясь, Чубарь принялся разбирать почерк. Это было, очевидно, боевое донесение младшего по званию командира старшему или просто листок из записной книжки. «После того, — напрягал зрение Чубарь, — как, по неподтвержденным данным, дезертировал капитан Ма-нуйло, я принял командование батальоном, который на 10.00 6.8.41 г. занимал оборону… — на этом первое предложение становилось неразборчивым, и Чубарь снова смог читать текст только с середины: —…отличились командиры рот 1, 2, 3 — Соловьев, Зозуля, Рагимов, красноармейцы Приходько, Кожанов, Лев-чик, Боня, Гайдук, Аношкин… — Фамилии перечислялись в нескольких строках. После этого текст снова не прочитывался. Далее шел последний абзац, уже над подписью: — По данным проведенной разведкиможно предполагать: противник завтра с утра начнет наступать в полосе обороны батальона на населенные пункты Чудяны, Вушак, в квадрате 62–35». Чубарь попробовал разобрать и подпись, но не смог. Сложил бумагу, сунул ее в сумку. Еще раз, но уже из чувства долга, Чубарь подошел к холмику, снял с головы мягкий, зеленого сукна картуз и замер над могилой. Может, потому, что уже столько раз думалось об убитых, снова припомнился военврач, словно из тумана выплыла его костлявая фигура. Доктор за это время совершенно поседел. Это было уже просто наваждение. словно Чубаря постепенно одолевал страх перед неминуемой расплатой за недавний выстрел. Он подумал об этом и снова содрогнулся. Медленно накрыл голову картузом и отошел от могилы, направляясь к житу. Шагов через двадцать Чубарь увидел на комковатой земле человеческие следы (кто-то примял жито, оставив чуть приметную тропку), а рядом со следами капли почерневшей крови. Человек, который оставил эти следы, почему-то наступал больше на носки, ковыряя ими, как копытами, песок. Чубарь пошел по следам. Заметил он человека не сразу, пришлось долго вглядываться, к тому же лежал тот в зеленой траве, которая кустилась по самому низу в жите, и одежда его цветом почти не отличалась от этой травы. Там, где лежал убитый — это был красноармеец, — жито было все примято. Наверное, бедняга долго мучился, пока смерть одолевала его. Земля вокруг тоже была залита черной кровью. Лежал красноармеец на боку, подогнув ноги в обмотках. Руки, запачканные кровью, он держал на животе, вцепился ими в окровавленную гимнастерку пониже пояса, а голова с раскрытыми и будто удивленными глазами, в которых застыло, может, еще вчерашнее небо, была выпачкана серым, как ил, песком. Оружия при красноармейце не было. Зато из шине — ли торчали вывернутые карманы, и кровь на них имела еще пугающе свежую красноту. «Значит, старший политрук не один сражался?» — оглянулся Чубарь на дуб и вспомнил о воронках на большаке, что были засыпаны землей. Одному человеку, пожалуй, действительно не по силам выдержать такой бой! Сегодня Чубарь впервые своими глазами увидел войну с ее жертвами, так как до сих пор — и когда началась она, и потом, когда докатилась до Сожа и до Беседа, и, наконец, уже в то время, как он догонял ее, идя со Шпакевичем и Холодиловым к линии фронта, — он смотрел на нее будто издалека. Но немецкое кладбище, выросшее вдруг у большака, чья-то безымянная могила недалеко от дуба и вот этот красноармеец, умерший от ран, полученных в бою, а еще больше, наверное, собственный выстрел на склоне под соснами говорили о том, что Чубарь уже вплотную столкнулся с войной. Теперь она становилась для него и страшной явью, и тягостным воспоминанием.XIII
Собрания так и не созвали. Как только рассерженный Зазыба приказал позвать к межевому столбу народ, что сошелся к тому времени в поле, Роман Семочкин и те из веремейковцев, кто его сознательно или бессознательно поддерживал, спохватились: голоса на собрании, определенно, были бы поданы за правленцев, так как решение, принятое членами правления, соответствовало желанию большинства как в самих Веремейках, так и в поселках. — Тогда как хотите, следовательно, — растерянно пожал плечами Роман Семочкин и, будто наевшись мыльной травы, отошел к Рахиму. Титок тоже чуть не закричал на Зазыбу: — Да не треба никакого сходу! Другое дело Силка Хрупчик. У этого была большая семья, и ему хотелось как-то взбаламутить воду, чтобы выловить в ней если не целую щуку, то уж хоть бы уклейку. Но и Силка довольно быстро сообразил, как может обернуться дело на сходе — меду-то наверняка не накачаешь, а пчел вконец разозлишь, — и, поникнув, он даже изменился в лице, словно начал прислушиваться к чему-то больному внутри. Остальные мужики, в том числе и Микита Драница, который непривычной молчаливостью был сегодня не похож на себя, захохотали: тогда зачем было напрасно на хвост становиться! Но Зазыбе, казалось, этой перемены в настроении веремейковцев уже было мало. «А-аа, нехай хоть бабы позатыкают им уши бранью», — со злорадством подумал он о тех, кто начал сегодня эту свару, и с прежней настойчивостью сказал: — Не-ет, скликайте людей, раз на то пошло! Никто вокруг даже с места не стронулся. Тогда Зазыба, сдвинув недовольно брови, решительно приказал Ивану Падерину: — Позови-ка сюда баб! — И повел во все стороны рукой. — Да и всем скажите, чтоб сюда шли! Видя упрямство Зазыбы, мужики стыдливо захлопали глазами, мол, с этим Романом всегда ни пришить, ни залатать, ни палец обернуть. Микита Драница и тот забеспокоился: — Зачем, Евменович? Роман… — Это он ляпнул, как лаптем по луже, — счел нужным отозваться и Силка Хрупчик. — Ага, мелет, не подсеваючи. Но Зазыба все еще будто не желал вырываться из чертовых зубов: — Не-ет, нехай будет по закону! — ему не то чтобы очень хотелось начинать среда поля сход да чубы вязать у людей, но дурь выгнать с помощью солдаток из таких вот горлопанов, как Роман Семочкин, стоило бы. Тем временем Роман шептался уже о чем-то возле межевого столба с Рахимом, и тот зыркал будто воспаленным взором по веремеиковцам: мол, покажи мне, которого?! Ты только мне покажи его! Неразбериха в поле явно затягивалась, и Парфен Вершков, лениво ворочая скулами, сказал мужикам: — Достоимся тут, пока лихоманка кого не схватит. — Так… Тогда выступил вперед Сидор Ровнягин. Он немного запоздал, а теперь подошел и тихо стал в толпе. — Треба уважить Микиту! — совсем некстати сослался он на Драницу да еще и подмигнул Зазыбе. — Так я что… — Ува-а-ажить!.. — загомонили в один голос мужики. — Конечно, уважить!.. Треба ува-а-ажить!.. Но выходило у них это несерьезно, будто всей деревней у хромого палку отбирали. Кузьма Прибытков даже поморщился. — Вам шуточки все!.. — буркнул он и со злостью ткнул неразлучным посохом, как козел ногой, в песок. — Постойте вот, так дождетесь… — Гы-гы-гы… Между тем женщинам не стоялось одним на гутянской дороге, и они начали сходиться группами, как в ярмарочный день, к межевому столбу. — Что ж это вы думаете себе, мужчины? — с укором заговорила еще издали Сахвея Мелешонкова. После родов солдатка была будто налита новой жизненной силой. — Неужто думаете, что и у нас времени столько? — А куда тебе девать его без Мелешонка? — бросил ей Иван Падерин, который не прочь был побалагурить с женщинами. Но Сахвея нахмурила брови. — Тебе нечего беспокоиться об этом. Без тебя как-нибудь управлюсь. Лучше полосу вот показывай. А то мне еще люльку надо тащить сюда! — Видишь, как ни крути, а попросишь помочь… — Да уж не тебя, — поспешила окончательно отвадить Падерина Сахвея. Вслед за Сахвеей начали возмущаться другие женщины: — А и правда, мужчины, что это вы себе думаете сегодня? Тогда Зазыба сказал: — Мужики вот считают, что сход колхозный надо собрать. — Это зачем? — Не доверяют правлению. — Почему это? — вышла вперед Дуня Прокопкина. Мы же своими ушами слышали, что все правильно сделано. — Правильно! Правильно! — зашумели вокруг женщины. Зазыба подождал, пока они затихнут, и сказал: — Вы считаете, правильно, а Силка не считает, что правильно! — Из всех горлопанов он выбрал почему-то одного Хрупчика. — Этому Силке-мылке, — выкрикнула из толпы Ганнуся Падерина, — хоть урви, да подай! — Они тут восставались, так им конечно! — вскинулись молодые солдатки. — Нечего слушать их! Как решили на правлении, так нехай и будет! — А может?.. — Что — может? — Так… — Ты тоже ихнюю сторону берешь? — Ладно, замолчите, — наконец закрыл от нетерпения глаза и поднял руки Зазыба. Но уже нелегко было унять женщин. — Цыц, бабы! — решил помочь Зазыбе Парфен Вершков. Наконец порядок был установлен, и все — мужики и бабы — стали ждать, что скажет Зазыба. Но перед тем слово молвил Кузьма Прибытков. Оглядывая ржаной клин, старик кашлянул, будто прочищая горло, и произнес: — Пока мы толчем мак, как комары, так жито и сыплется на землю по зернышку. Ветер колышет его, а оно сыплется. И никому не слышно. Это же не звон, чтоб на всю околицу слышно было. — Ей-богу же правда! — подхватили Кузьмовы сетования старые и молодые женщины. Чтоб не дать заново возникнуть словесному пустомолоту, Зазыба поискал глазами Романа Семочкина, который к этому времени снова смешался с толпой, и спросил его, будто Роман и впрямь был самым первым человеком в Веремейках. — Так что будем делать? Со сходом или без схода обойдемся? — А мне, следовательно, все равно, — усмехнулся в ответ Роман. — Я только погляжу, много ли вы мне намерите! — Как и всем. — У меня ж теперь еще человек вот. — Роман показал на неподвижного Рахима, будто нарочно посаженного на межевой столб. — Ничего, он получит пайком у бабиновичского Адольфа, — съязвил Парфен Вершков. От этого остроумного замечания среди мужиков и баб вспыхнул хохот, а Микита Драница неожиданно сказал: — Если уж на Рахима тоже давать, так его полосу треба кладовщице прирезать. Веремейковцы переглянулись. Драница пояснил: — Завтракал же сегодня он у нее! — И многозначительно усмехнулся, тараща глаза. Те, кто присутствовал вчера в колхозной конторе, вспомнили вдруг, как говорил Микита, что Роман собирался отвести Рахима на ночлег к Ганне Карпиловой. Иван Падерин смерил взглядом полицейского. — Такой коротыш да чтоб угодил Ганне? — искренне захохотал он. — Не верится, чтоб Рахим дождался завтрака у Ганны. Не такие в ее хате не задерживались, а этот! — И опять Падерин бросил взгляд на Рахима. — Не-ет, Рахиму с его носом хоть… Женщины, слыша такие речи, начали брезгливо отворачиваться, а Роман Семочкин бросился было защищать полицейского от нападок счетовода. Тогда повысил голос Зазыба. — Ну, вот что, хватит баланду травить! — Он увидел в толпе Розу Самусеву, спросил через головы: — А что это и в самом деле Ганны не видно сегодня? — Не знаю, — пожала плечами солдатка. — А еще соседки, почти рядом живете, — укоризненно сказала ей Рипина Титкова. Веремейковцы начали озираться, чтобы прикинуть, кого еще, кроме кладовщицы, нет среди них. — Вот что, — подумав, сказал Розе Самусевой Зазыба, — пока мы то да се, пока до тебя дойдем по списку, сбегала б в деревню, поглядела б, что там, может… — недоговорив, Зазыба хмуро посмотрел на полицейского. Солнце между тем уже не только высоко поднялось над землей, но и чуть сместилось на юго-восток, чтобы, продолжая свой дневной путь, поплыть по небу над деревней, а вечером скрыться за озером меж верхушек далекого леса. На траве еще блестела ночная влага, а картофель-ник, начинавшийся по ту сторону гутянской дороги, был точно вымытый и зеленел, как весной. Собственно, и ржаной клин, и картофельное поле лежали на самом хребте какой-то местной возвышенности, вряд ли обозначенной на топографической карте. И если Веремейки со своими пахотными землями находились почти на одинаковом уровне с хребтом, то с восточной стороны возвышенность имела крутой склон, который внизу переходил в ровный, будто укатанный, суходол. За суходолом снова простиралось поле, но уже не веремейковское. То поле принадлежало сразу трем небольшим деревенькам — Мяльку, Городку и Держинью. А перед деревеньками тонул в утренней дымке лес, который окаймлял суходол, вдаваясь мысом, словно корабль, в самую его середину.Микита Драница знал, что говорил, и тогда в колхозной конторе, и теперь, в Поддубище: Роман Семочкин действительно водил этой ночью Рахима к Ганне Карпиловой. Рахим притащился в Веремейки задолго до того, как вернулись из Бабиновичей Браво Животовский и Зазыба. И когда перед закатом солнца БравоЖивотовский взошел на свой двор, то Роман Семочкин и Микита Драница уже ждали его на завалинке. С ними был и Рахим. Еще не кончился спас, и веремейковцы были одеты по праздничному: у Микиты из под расстегнутой фуфайки видна была вышитая красным крестом манишка, а Роман располовинил военную форму, в которой удрал из действующей армии, и вместо гимнастерки надел сатиновую рубашку со сто — ячим воротником, подпоясав ее по бедрам крученым поясом. Перед тем Микита Драница сбегал, как на одной ноге, в Держинье к Хведосу Страшевичу, принес оттуда разбавленного спирта. Хведос был давний поставщик Микиты. Но раньше он обеспечивал Драницу преимущественно самогоном, который ему удавалось гнать в кустах украдкой от участкового милиционера. Между тем в Белынковичах всегда работал спиртзавод. На нем делали хоть и не совсем очищенный, но пригодный для употребления спирт: достаточно было разбавить его родниковой водой, как он терял неприятный запах и становился похожим на водку, так что не каждый мог отличить его от «Московской». Конечно, в прежнее время таким, как Микита Драница, доступа на белыйковичский завод не было, и если случалось, что в веремейковском магазине по какой-то причине не хватало водки, то приходилось довольствоваться Хведосовой «кустовкой». Но на прошлой неделе белынковичский завод был разрушен, а спирт, который еще оставался в подвале, было решено выпустить из цистерны. Известное дело, эту операцию следовало провести втайне. Но бухгалтер завода выдал тайну своему шурину, а тот шепнул об этом еще кое-кому из добрых соседей. И вот на территорию завода двинулся народ с баклагами, ведрами, жбанами, кувшинами, банками, кто что смог освободить в хозяйстве для такого случая. Запас в тот день несколько ведер спирта и двоюродный брат Хведоса Страшевича. Вскоре добрая половина того спирта была переправлена в Держинье. А дальше круговая порука — раз что то затеплилось в Держинье у Хведоса Стращевича, значит, будет оно и в Веремейках у Микиты Драницы, так как они, кроме всего прочего, по какой-то дальней линии считались родственниками. Пока мужчины поджидали Браво-Животовского, Микита Драница успел похвалиться, как они выпили еще в Держинье по полному корцу с Хведосом и как он, Микита, уже чуть ли не превосходство свое чувствовал над всеми, что сумел раздобыть столько спиртного: в бутыль вмещалось литра четыре, а Хведос не пожалел наполнить ее по самое горло. Браво-Животовский еще от ворот понял, что мужики ждут его на завалинке неспроста. Но Браво Животовский не спешил заговаривать с ними. Сперва поставил к забору, как это делает после работы рачительный хозяин с сельскохозяйственным или плотничьим инструментом, свою винтовку, потом жадно, словно поддразнивая гостей, напился воды из ведра, стоявшего на скамейке возле крыльца, а уже после догадливыми глазами посмотрел на Драницу. — Ну, что? — Так… — показал Драница на бутыль, которая была зажата у него между ногами. Браво-Животовский радостно потер свои большие руки и незлобиво передразнил Микиту Драницу: — Ради спаса? То ли умышленно, то ли случайно разговаривал Браво-Животовский пока с одним Драницей, и это вызывало в завистливой душе Романа Семочкина неприятное, даже какое-то мстительное чувство, будто хозяин унижал его в глазах Рахима. Но мстительное чувство питал Роман Семочкин, кажется, не столько к Браво-Животовскому, сколько к Миките Дранице. Браво-Животовский позвал с огорода свою хозяйку, Параску. Сказал ей: — Видишь, гости к нам пришли, надо спас отметить. Собери чего-нибудь на стол. Браво-Животовский говорил это голосом, не терпящим возражения, но Параска и сама кинулась выполнить приказ мужа с той торопливостью, какая бывает, когда люди живут в добром согласии или долго не виделись: только на минуту задержалась возле лохани с зеленой сечкой, чтобы вытрясти из фартука лебеду, которую нарвала в огороде. Браво Животовскому тоже не стоялось на месте. Он подался под поветь, где находилась телега с сеном. Косила это сено Параска за Халахоновым хатищем, наверное, недели две назад, когда еще не надеялась на возвращение Браво-Живо — товского с фронта. И вот Браво Животовский подошел к возу, присел на корточки, заглянул под колеса, хватит ли места для сена в простенке, а потом привстал и легко, будто показывая свою силу, толкнул воз правым плечом. Воз от его толчка опрокинулся, и сено, слежавшееся пластами еще в копне, начало медленно, шапка за шапкой, валиться в простенок, освобождая телегу по самые грядки. — Ты не подумал, это, — крикнул хозяину под поветь Микита Драница. — Вынес бы лучше траву на солнце, сырая еще. — Где оно, то солнце! — возразил, дергая щекой, Роман Семочкин, но не потому, чтобы угодить Браво-Животовскому, просто хотелось хоть как-то уязвить Драницу. — Так ночью дождя не предвидится вроде, — не почувствовал Романовой неприязни Драница. Браво-Животовский между тем сделал вид, что не слушает их подсказок. Взявшись за оглобли, он от катил немного в сторону от сваленного сена телегу, затем вышел из-под повети и принял от забора винтовку. Драница, наблюдавший за этим, сказал: — Ты б хоть показал Роману патроны, а то он, может, еще и не видел, какие они, бельгийские. Роман Семочкин только мрачно усмехнулся в ответ: — Они вот и наши, русские, не хуже ваших, следовательно, бельгийских! — и показал кивком головы на трехлинейку, которую держал молчаливый Рахим. — Так, — дернул головой от неожиданного Романова патриотизма Микита Драница и тут же спросила — А куда же ты свою подевал? Наверное, тоже ведь получал? Получал, а? — Почему ты думаешь, что подевал? — возразил Роман и, похваляясь, уточнил: — Может, моя тоже лежит и к боевому делу готова, следовательно. Вытащу из-под стрехи, да и пальну в кого захочу. Браво-Животовский между тем стоял посреди затененного двора и втайне завидовал Рахиму: мол, еще неизвестно, что из человека получится, а в гарнизоне среди немцев уже пользуется большим доверием! И, уже неизвестно почему, вдруг припомнил случай, как в девятнадцатом году за Ростовом деникинцы вешали на вкопанном в землю железнодорожном рельсе большевистского комиссара, татарина. Тот тоже был неразговорчив и только напоследок, почти из петли, крикнул: «Со-о-ба-аки?** Обозники потом рассказывали Браво-Животовскому, что комиссар хотя и был большевиком, но веры мусульманской придерживался строго — не ел сала и не пил водки. «А как этот?» — подумал Браво-Животовский, затаивая любопытство: мол, сядем за стол, узнаем! Пока Параска хлопотала в хате, собирая гостям на стол, а сами гости сидели на завалинке, небо над Веремейками из темно-голубого стало позолоченным, а затем словно вспыхнуло. Это пряталось за лес солнце, которое за один день едва ли не возвратило ту теплоту августовского лета, что была потеряна в непогоду. Над деревней, как раз над мостом, который делил ее на две половины, летели за озеро, тяжело махая крыльями, вороны — птицы тоже не хотели ночевать где придется! Предвещая на завтра хорошую погоду, у ворот «толкли мак» комары. Роман Семочкин, посмотрев на этот живой столб, вдруг сказал: — Гуляем все, следовательно, а о хозяйстве и думать не думаем. — Он часто-часто заморгал глазами и польстил Браво-Животовскому: — Ты ж теперь у нас начальство, следовательно, так треба кому-то команду подавать. А то погода наступила, а мы все Зазыбовых слов ждем, будто, кроме него, и распорядиться в Веремейках некому! Но Браво-Животовский устоял против Романовой лести — закусив в раздумье нижнюю губу, он покачался на каблуках яловых сапог, доставшихся ему при ликвидации воинского склада в Бобруйске, и неопределенно сказал: — Сейчас вот позовет Параска к столу, там и поговорим за чаркой. — И обернулся в Дранице: — Верно, Микита? — Точно! Наконец Параска толкнула во двор форточку, позвала: — Веди, Антон! Браво-Животовский поспешил к высокому крыльцу и остановился на нем, как хороший хозяин, пропуская вперед дорогих гостей, которые заходили через сени в хату один за другим. Первым, конечно, шел неудержимый в присутствии Браво Животовского Микита Драница, обеими руками он накрепко держал под полой фуфайки тяжелую бутыль, за ним Роман Семочкин, потом Рахим. Войдя в хату, Микита Драница распахнул фуфайку и поставил бутыль на стол, почему-то неуверенно посмотрел при этом на хозяйку, точно опасался ее, хотя из всей компании один он пришел в гости не с пустыми руками. Но в этой хате вот уже много лет настоящим хозяином был Браво-Животовский. Тот закрыл за собой дверь и, оглядев заставленный обливными мисками стол и бутыль с разбавленным спиртом, сказал: — Тут у нас столько всего, что вряд ли одолеем мы это одни. — Став полицейским, он вдруг возымел желание видеть в своей хате как можно больше веремейковских мужиков — пора привлекать их на свою сторону. — Может, еще кого покличем, а? — Он рассуждал трезво, так как понимал, что не каждый в Веремейках нынче отзовется на его приглашение. — Может, следовательно, Силку Хрупчика? — подсказал Роман Семочкин. Но его предложение вдруг будто взорвало Ми киту Драницу. — Зачем нам Силка тут? — Микита беспокоился не потому, что Браво-Животовский намеревался угощать Хрупчика его спиртом; Драницу больше всего пугало то, что именно ему придется идти чуть ли в самый конец деревни за Хрупчиком. Браво-Животовский понял Драницу сразу и потому, поддерживая Романа, постарался одновременно успокоить и Микиту: — А почему бы, Микита, и в самом деле не позвать нам Силантия? Параска сходила бы за ним. — И обратился к жене: — Как, Параска? Хозяйка и тут даже бровью не повела, послушно накинула на голову большой платок и, поглядевшись в зеркало, висевшее на оклеенной обоями стене, вышла из хаты. Браво-Животовский показал гостям на табуреты: — Рассаживайтесь! Винтовку он повесил перед тем на гвоздь в простенке между окнами, выходившими во двор. — Что это, «кустовка»? — спросил он Микиту, беря обеими руками пузатую бутыль. — Спирт! — От спирта тут мало чего осталось уже, следовательно, — зло пошутил Роман Семочкин. Браво-Животовский посмотрел на обоих. — Ничего, — подмигнул он Дранице, — булькает, как настоящий. Тогда Микита оскалил зубы, поворачиваясь к Роману Семочкину: — А ты не пей, раз так считаешь! Браво-Животовский еще на дворе почувствовал, что между Драницей и Романом черная кошка пробежала, потому и попытался поймать ее за невидимый хвост. — Что-то вы, как колхозные петухи, — засмеялся он, — лучше давайте выпьем, пока клевать один другого не начали. Он показал руками на полные стаканы, а затем, точно спохватившись, перенес один, четвертый по счету, через весь стол, осторожно, чтобы не пролить, и поставил перед Рахимом. Но тот не принял угощения. Отмахнулся. Глаза его при этом загорелись злостью. Браво-Животовский в растерянности даже вскинул брови. — Ты его. не трогай, — сказал Роман. — У него с этим… — И помахал перед собою рукой. Браво-Животовский взял со стола свой стакан. — Нам больше достанется, — хмуро заметил он. — Гы-гы-гы, — затряс головой Микита Драница. — Ну, выпили, — сказал хозяин. Но Роман Семочкин будто не слышал приглашения. — Ты, ухоед, дюже не строй из себя тут, — пригрозил он Дранице. — Рахим вот не пьет, так не посмотрит, следовательно, что спирт твой. — Видно, дешево он обходится тебе, раз не пьет? — почти в упор, пронизывающим взглядом уставился на Романа Браво-Животовский. — Не столько мне, сколько Адольфу, следовательно, — пошутил тот. — Ну-ну, — кивнул головой Браво Животовский. — Выпили.

Микита Драница не мог простить Семочкину «ухоеда» и потому, легко опорожнив стакан, попрекнул односельчанина: — А ты б не сидел на чердаке да тоже с ведром сбегал бы в Белынковичи. Глядишь, и твоего спирта отведали б теперь. Может, и Рахим твой не утерпел бы тогда. — Что ты мелешь? — с презрительной гримасой произнес Роман Семочкин. — Откуда тебе известно все? Антон вон тоже сидел на чердаке, так и ему скажешь?.. Роман даже предположить не мог, что Браво-Животовскому не понравится его заступничество. Перестав хрустеть огурцом, тот неожиданно принялся втолковывать такому же, как и он сам, дезертиру: — Ты, Роман, говори, да меру знай. Нечего меня ставить на одну доску с собой. И вообще, что у вас сегодня за перебранка? Разве мы не собирались о делах поговорить? — С ним поговоришь, с этим шпиком! — обиженно буркнул Роман Семочкин. Браво-Животовский передернул плечами. — Вот видишь!.. — Так, может, еще и не знаешь тогда? — вскипел Роман. — Чего не знаю? — Да о том, что Микита твой, следовательно, может, и на тебя доносил в район? — Кому? — поморщился Браво Животовский и перевел взгляд на понурившегося Драницу. — Нехай сам скажет! — уже чуть ли не торжествующе закричал Роман Семочкин. — На кого ты писал и кому? — спросил у Микиты Браво-Животовский. Драница беспомощно огрызнулся: — Не бойся, на тебя я никому не писал! — А на кого же? — Браво Животовский напрасно ждал ответа. — Ну, хоро-о-ошо-о, — словно выдохнул он нутряным голосом. — Сейчас вот выпьем еще по одной, а потом уж ты, Микита Лексеевич, все по порядочку и расскажешь! — Вот-вот! — не переставал науськивать Роман Семочкин. Браво Животовский снова взялся наполнить стаканы. Но руки его почему-то теперь были не такие послушные, как раньше, и спирт из широкого горла бутыли выплескивался на скатерть. Драница ловил здоровым ухом бульканье жидкости, а сам мучительно думал, что так некстати затеял спор с болтливым и злым человеком;' сперва они довольствовались одними обоюдными насмешками, а потом дело дошло до явной неприязни, и вот наконец Роман напомнил за столом о торбе с письмами. Недаром в Веремейках говорят, лучше с Мелешон-ком потерять, чем с Романом Семочкиным найти. Но разговора с Браво Животовским Микита не боялся. Перед Браво-Животовским он был не виноват. Микита не писал на него, так как Браво Животовский в Веремейках никогда не привлекал к себе внимания и потому никому не был нужен. Другое дело Зазыба, Чубарь, председатель сельсовета Егор Пилипчиков, директор семилетки Бутрима, даже участковый милиционер Лев шов. А этот!.. И тем не менее Драницу привели в замешательство слова Романа Семочкина про шпика — до смерти не хотелось, чтобы теперь, в присутствии полицейских, начался разговор о торбе и ее содержимом… Ну, пускай бы случился подобный разговор с одним Браво Животовеким, это еще куда ни шло, так как Браво-Животовский, в конце концов, свой, деревенский, человек, поймет. А вот зачем было болтать при этом недотепе Рахиме? Вместе с тем не мог он простить и себе, зачем закопал торбу с письмами в огороде, будто ей и в самом деле не нашлось другого места… Да только напрасно Драница дрожал — разговора про злосчастную торбу между ним и Браво-Животовским не произошло: вдруг скрипнула дверь, и в хату вместе с Параской вошел Силка Хрупчик. Хотя его и ждали тут, однако никто не рассчитывал, что можно так быстро прийти с другого конца деревни. Браво-Животовский даже пошутил: — Ты, Силантий, словно нюхом учуял, что тут!.. — Я, это, в правление хотел, а Параска вот встретила по дороге, да и говорит, что вы тут. Ну, я и решил, дай, думаю, сперва к вам пока зайду. — Неплохо подумал, — усмехнулся Браво-Животовский, который всем видом старался показать, что рад видеть в своей хате нового человека. Однако слова Силки насторожили. — А что там, в правлении? — Зазыба зачем-то собирает в контору правленцев. И мужики наши некоторые подались туда. — Инте-е-ересно! — наливая Хрупчику в стакан спирта из бутыли и не поднимая от нее глаз, промолвил Браво Животовский. Роман Семочкин вдруг вспомнил: — Правда, это ж Зазыба куда-то ездил сегодня! Следовательно, может?.. — Ездать-то ездил, — сказал на это Браво-Животовский, — но он и словом не обмолвился, что думает собирать правление. — Вы что, вместе с ним были? — Я его в Бабиновичах встретил. — Это он племянницу возил в Латоку, — подсказал Микита Драница, который при появлении Силки Хрупчика обрел прежнюю уверенность. — А тебе все известно! — покосился на него Семочкин. — Баба моя говорила. — Ну, если баба, — засмеялся Роман. — У бабы твоей глаза как у совы. Даже ночью видит. Браво-Животовский сидел молча, о чем-то сосредоточенно думал. Но вот он блеснул глазами и нарочито беззаботно махнул рукой: — Ладно, пускай себе правленцы совещаются, а нам спешить нечего, — однако тут же глянул на Ми-киту Драницу. — Хотя что я говорю? Мы же можем сделать по-другому. Пускай и от нас пойдет туда представитель. Ну, хотя бы вот Микита, а? — Только чтоб слушал там в оба, следовательно, — засмеялся довольный решением хозяина Роман Семочкин. Браво-Животовский подмигнул Дранице: — Согласен? Микита не заставил себя упрашивать, опрокинул в рот стакан спирта и, закусывая на ходу, поспешно направился к порогу. Он охотно отказывался от дальнейшей выпивки, чтобы не дать возможности ворошить его старые грехи. Едва ли не под стук дверей проглотил, будто не умеючи, первый стакан Силка Хрупчик. Ему сразу был налит второй. — Угощайся, угощайся, — не жалел дарового Браво-Животовский. Отсутствие Микиты Драницы не отразилось на застолье. Вскоре все опьянели — хотя Хведос Страшевич и разбавлял спирт один к трем, но и в этой пропорции сильно ударяло в голову. Как всегда бывает в подобных случаях, в хате поднялся беспорядочный гомон, который могли слушать всего два человека — Рахим да Параска. Даже Браво-Животовский, который при людях не очень-то был словоохотлив, и тот принялся рассказывать Силке Хрупчику и Роману Семочкину, как ходил в первый раз к немцам в Бабиновичи. Его уже будто черт тянул за язык, и он стал незаметно для самого себя пересказывать почти слово в слово то, что говорил в Бабиновичах коменданту. Увлеченный беседой, Браво-Животовский не видел, как все больше раскрывались от удивления глаза его жены и как она наконец схватилась за голову и, пошатываясь, вышла в сени. Кончилась эта спасовская пьянка тем, что Роман Семочкин каким-то образом почувствовал, что время уже позднее, и потянул Рахима за рукав, ведь обещал отвести его к Ганне Карпиловой. — Ты нам плесни немного в бутылку, — попросил он Браво-Животовского, — а то у нас еще сегодня марьяжные дела с Рахимом. Браво-Животовский, непрестанно зевая, слил в пол-литровую бутылку спирт из недопитых стаканов и сунул Роману в карман.
Ганны Карпиловой не было дома — не вернулась еще из колхозной конторы с заседания правления. И Роману Семочкину с трезвым Рахимом ничего не оставалось, как зажечь в чужой хате лампу и ждать хозяйку. Дети, двое мальчиков, услышав шаги в хате, проснулись за дощатой перегородкой, но вскоре притихли: вотхервых, сразу узнали своего, веремейковского, а во-вторых, им вообще не в новинку было видеть в своей хате знакомых и незнакомых мужчин. Роман вытащил из глубокого кармана поллитровку, хотел поискать в хате, чем закусить, однако вовремя спохватился и с досадой пожал плечами: вряд ли найдешь, ибо, как и почти каждая вдовья хата, эта тоже пугала глаз своими пустыми углами и голыми стенами. Тогда Роман исступленно поболтал перед собой бутылку, словно намеревался увидеть там какой-то скрытый доселе непорядок и, может, даже чудо, затем равнодушно поставил ее на стол. Сидеть и ждать хозяйку просто так, без всякого дела, было муторно, и Роман вскоре стал скучать, жалея, что затеял все это. Чувствуя, что может незаметно заснуть за столом, Роман сказал заплетающимся языком Рахиму: — Так, это, гляди уж, чтоб у нас все… чтоб у нас все в ажуре, следовательно, было. — Моя понимай, — ответил Рахим. На лице его при этом не дрогнул ни один мускул. — Ну-ну, — подбодрил его Роман Семочкин, а сам, обвиснув от пьяного изнеможения, навалился грудью на край стола. Фитиль в лампе горел слабо, но трещал сильно, по-видимому, стал слишком коротким, и хозяйке пришлось долить в лампу воды. За перегородкой, посапывая тонко, спали дети. В том углу, где стояла их кровать, что-то шуршало, очевидно, скреблась мышь, было даже слышно, как она перебегала с одного места на другое. Вскоре Роман начал бормотать во сне. Рахим тоже клевал носом. После вторых или третьих петухов отворилась из сеней дверь, и порог переступила усталая Ганна. Свет в хате она заметила еще с улицы. И подумала: «Приволоклись-таки!» Рахим так и впился в нее глазами. А Ганна прошла за перегородку и даже на него не взглянула. Успокоенная, что дети спят и что с ними все благополучно, она повесила на гвоздик платок и подошла к незваным гостям. Роман Семочкин к тому времени успел проснуться — его растолкал полицейский. — Следовательно, вот, — показал тяжелыми глазами на бутылку Роман, — дала бы что-нибудь закусить… — Где я тебе возьму? — Поищи! — Иди сам на огород, может, какой огурец-семенник и нащупаешь впотьмах. — Как это ты живешь, Ганна, что у тебя и на зуб, следовательно, нечего положить? — притворно удивился Роман. — А ко мне приходят со своей выпивкой и со своей шкваркой, — со злостью ответила Ганна. — Гм… — Вот тебе и «гм»… — Мда… — Вот тебе и «м-да»! — Ладно, тогда подай хоть стакан. Налью и тебе каплю, так и быть, а ты как хочешь. Хочешь закусывай, а не хочешь, следовательно, не треба. А я свою долю домой понесу. С Христиной разом выпьем. — А он? — кивнула Ганна на полицейского, который стоял, словно вытянувшись по команде. — Мусульмаа-анин, — покрутил головой Роман, — следовательно, не пьет! — И коротко добавил: — Но научим! Ганна посмотрела на Рахима: интересно увидеть мужика, который не по болезни, а вообще не берет в рот спиртного! Но смотреть, как ей показалось сразу, было не на что — Романов приятель, нахохленный и будто обгоревший с лица, в блеклом свете лампы был похож на того деревянного истукана, которого когда-то нашли веремейковские школьники в своем лесу и которого потом забрали у них в город в музей. Ганне от неожиданного сравнения стало смешно, однако она, соблюдая приличия, сдержала непрошеный смех и только спросила у Романа: — Что это он у тебя какой-то?.. — А ты не будь дурой, — покачивая головой над столом» начал поучать ее Роман. — Привел тебе человека, так не ерепенься, а то?.. Он, видимо, посчитал уже, что главное сделано, что наконец свел Рахима с Ганной, и начал совать бутылку обратно в карман. Потом оперся ладонями о стол, прсидел так немного, выпрямившись. — Ну» вы тут уж милуйтесь-целуйтесь, следовательно, как и полагается, а я пошел домой… Но Ганна заступила дорогу. — Ты вот что» следовательно, — топнула она, вконец рассердись, — забирай своего полицая, да!.. — Окстись, Ганна! — вытаращил пьяные глаза Роман. — Благодетель нашелся!: — Ну» чистая дура» — хлопнул себя по бедрам Роман. — Это ж тебе не абы кто. Рахим — наипервейший человек теперь в волости. Знаешь Гуфельда? — Сдался мне твой Гуфельд! — Нехорошо так, Ганна! — чуть ли не в отчаяний проговорил Роман. — Перед прежними начальниками» следовательно» так*.. А теперь вот… — Ты мне тут язык не глотай, — не унималась хозяйка, — а забирай своего Рахима и катись!.. — Не шуми» Ганна. Ты, следовательно, еще подумай хорошенько. Он же может тебе какие хочешь по — дарки приносить. Целое богатство соберешь потом. — Где оно теперь, то богатство? — Во! — И Роман распростер перед ней руки, как бы говоря, что теперь весь мир ему с Рахимом подвластен. — Не нужны мне ни ваше богатство, ни его подарки, — успокаиваясь, промолвила Ганна. — Мне отдохнуть треба, замаялась за день. А коли тебе охота пристроить его к кому, так веди к Христине своей. — Ну-у, ты-ты-ы! — Пьяный, пьяный, а понимаешь, — засмеялась Ганна. — А ты думала! Наконец Роман вышел из-за стола и украдкой, будто балуясь, начал обходить хозяйку» чтоб проложить себе путь к двери. Та, конечно, не стала хватать его за шиворот. Лишь скривила, как от боли губы да презрительно, без особой злости посмотрела вслед. На пороге Семочкин остановился» чтоб подмигнуть через плечо полицаю, мол, не зевай тут! Ганна тоже повернулась к Рахиму, крикнула: — Ну, а ты чего зенки вылупил? — и в этот момент услышала, как хлопнула дверь, — уходя из хаты, Роман уже где-то стучал по половицам в сенях. Рахим между тем даже не шелохнулся, было такое впечатление, будто его поставили тут стеречь ее. — Тьфу, не человек, а идол какой-то, — уже тише сказала Ганна. — Ну и стой себе хоть всю ночь! Она зашла за перегородку и склонилась над детской кроватью. Мальчики не проснулись. В хате было тепло, и они пораскрывались. Старший, Петрачок, закинул голую ручку на шею братика, и Ганна приняла ее, положив вдоль худенького тела. Шея у младшего под рукой вспотела, она вытерла ее уголком тряпки. Дети в эту ночь спали на чем попало, так как матрац их был вытрясен и выстиран, чтобы потом, после жатвы, набить его свежей соломой. Младший мальчик иногда еще разводил под собой сырость, и Ганна пощупала под ним рукой. Но подстилка была сухая. Тогда она взяла сына за ножки, приподняла их и вытянула за край длинную рубашонку. Хотя в хате и горела лампа, однако за перегородку свет не доходил, едва просвечивая через домотканое одеяло, которое висело тут в проеме вместо двери, и детские личики, как восковые, желтели в потемках. Ганна очень любила своих хлопчиков. Может, по своему, не так, как другие матери. Но даже и ей иной раз казалось, что она не отдавала им всего своего тепла, на которое они имели право… Раздосадованная, Ганна еще ниже наклонилась над кроватью и, облокотившись, взяла в ладони свое горячее лицо. Вскоре послышались тихие шаги. Ганна встрепенулась, испуганно повернула голову — полицейский стоял в проеме, держа над собой одеяло. «Этого еще не хватало!» — возмутилась Ганна, выпрямилась и, чтобы не потревожить детей, направилась на освещенную половину хаты. Полицейский сперва отступил перед нею, пропуская вперед, но потом неожиданно подскочил и накинулся, лапая руками за грудь. От него резко пахнуло гнилым и вовсе не мужским запахом, будто человека только что выпустили откуда-то из соломорезки. Руки его слепо, судорожно скользили по кофте в поисках застежки. Видимо, полицейский сильно волновался, потому и движения его были неуклюжи, а каждое прикосновение причиняло ей боль. Ганна не ошибалась относительно того, зачем привел Роман к ней этого человека. Но то, что полицейский нападал так, ошеломило ее. Некоторое время она стояла словно оглушенная, оцепенелая, не в силах понять, что от нее нужно и что она должна делать Но постепенно сознание возвращалось к ней, и Ганне стало противно. С мучительным раздражением, отразившимся на лице, она напряглась и толкнула мужика в угол, где у нее прямо на полу стояли чугуны. Толчок получился сильный, полицейский не удержался на волгах и отлетел к самой стене, ударившись там обо что-то спиной. От такой своей решительности Ганна растерялась, но лишь на мгновенье, так как Рахим пружинисто вскочил на ноги и снова кинулся вперед, бешено вращая глазами. Может, от злости, а может, от боли, когда ударился спиной, пальцы его стали теперь более цепкими, они просто впивались в ее тело; разинутый рот тянулся к груди — похоже, укусить… «Боже ты мой, что за напасти сегодня на меня?» — ужаснулась еще больше Ганна и, будто поддаваясь мужской силе, настойчивым домогательствам, начала медленно отступать к неразобранной постели, стоявшей у стены между столом и перегородкой. За перегородкой заплакал ребенок: — Ма-а-ама-а… Рахим вдруг умерил свою прыть, а Ганна, будто вспомнив о чем-то и одновременно ужаснувшись этого, еще раз отчаянно толкнула насильника. Как ни странно, но и на этот раз полицай также отлетел чуть не на середину хаты, поскользнулся там и грохнулся ничком. Младший сынишка еще громче заплакал, проснулся, видно от его плача, и Петрачок. — Мама! — позвал он Ганну и, соскочив с кровати, выбежал из-за перегородки. — Иди, дитятко, ступай, спи, — сказала ему раскрасневшаяся и запыхавшаяся Ганна, а сама не сводила глаз с полицая, который уже вставал на карачки. Ей бы в руки теперь что-нибудь, да поблизости ничего не было. Но вот полицейский стал на ноги и бессмысленно, как оглушенный или пьяный, оглядел хату, затем пошел к скамье, где лежала его винтовка. Видя это, Ганна еще больше ужаснулась, схватила за плечики Петрачка и втолкнула его за перегородку. Но полицейский даже не прикоснулся к винтовке, сел на скамью и настороженно затих, Словно получил разрешение на передышку. Ганна села на край кровати и, отвернувшись от Paхима, беззвучно заплакала, уткнувшись головой в подушку. В горьком и беспомощном отчаянии впервые, кажется, она проклинала свое соломенное вдовство. Судьба почему-то была к ней всегда немилостива. В Веремейках каждый, у кого хватало ума, у кого было не черствое сердце, сочувствовал ей: жизнь у молодой женщины действительно сложилась не по-человечески. Единственное, что ей дал бог, так это самородную красоту, которую редкий глаз мог не отметить, да ласковую душу, будто нарочно воспитанную так, чтобы в ней тонули чужие пороки. Другое дело, что Ганна сама не жаловалась ни на судьбу, ни на жизнь, но в этом и состояло, по-видимому, отличительное свойство ее характера. Отец Ганны, Карпила Самбук, был человек нездешний, то есть не веремейковский, родился он по ту сторону Беседа, где-то за Витунем, а мать Ганны и вовсе происходила от смешанных черниговских хохлов. Посватался к ней Карпила, когда работал на строительстве железной дороги Унеча — Орша, что должна была соединить угольный юг страны со второй столицей. Строительство дороги началось от Унечи. Но до Орши строители смогли довести ее только в советское время. Тогда же, перед войной с кайзером (да и в самую войну), были уложены рельсы до Климовичей. Конечно, как и всюду на таком строительстве, землекопы и возчики стяглом набирались прежде всего из близлежащих деревень — в конце концов, тем, кто нуждался, не надо было ехать далеко на заработки, искать сахарные заводы или шахты, и мужики охотно (пока не началась гужевая повинность) нанимались на разные работы. Подался на строительство железной дороги и Карпила Самбук. Хозяйство у них было небольшое, и отец управлялся один. Сперва артель, к которой десятник пристроил хлопца, вывозила песок к железнодорожной насыпи из — за Белынковичей, потом артельщики переехали на работы к Сурожу, а в пятнадцатом году стали ездить за строительным камнем и смолой почти в Чернигов. Там Карпила Самбук и высмотрел себе жену, привез ее в Сурож, где сам был на сезонном постое. В Суроже в чужом домике на берегу Ипути молодые прожили до конца строительных работ. Но домой, в свою деревню, Карпила не повез беременную жену, счел за лучшее податься на Черниговщину. Там, в большом селе за Сновом, и родилась Ганна. С тех пор до самого тридцать третьего года Карпила Самбук не наведывался на родину… Но случилось так, что Карпилу сняли мертвого с березы, что на Чертовой горе между Крутогорьем и Избужером. Никто не догадывался, отчего повесился человек, кстати, его все называли потом украинцем. Прошел слух, что перед этим его водили в Крутогорье в милицию. Говорили знающие (а такие всегда найдутся), что «украинец» будто что-то украл в Прусинской Буде… Как бы там ни было, а председателю местного Совета пришлось вызывать телеграммой Самбукову жену с Черниговщины. Приехала та с семнадцати — летней дочкой. Мужа к тому времени уже схоронили чужие люди на кладбище за Избужером, и матери с дочерью оставалось только поплакать над могилой. Возвращаться на Черниговщину у них уже не было сил. Тогда и привез Денис Зазыба из Белынковичей в Веремейки двух незнакомых женщин, которых подобрал, обессиленных, в голодном полуобмороке, на железнодорожной станции. Как раз в Веремейках пустовала хата; переехав жить в другое место., хозяева так и не продали ее, и Зазыба под свою ответственность поселил женщин в ту хату…. И уж совсем как в кошмарном сне, вспоминалась Ганне та весенняя ночь, когда она шла в деревню с котомкой картошки на плечах. Тогда еще была жива мать, и дочь спасала ее как могла. Хотя веремейковцы и сочувственно относились к ним, однако мать после смерти отца все время болела, и на Ганне одной лежала забота прокормить две души. Прийти за колхозной картошкой к бурту уговорил ее полевой сторож. И она, глупая, пошла ночью к бурту, так и не догадываясь, чем должна была расплатиться за картошку… Когда Ганна забеременела, сторож, испугавшись, что все может выясниться и вред ли простят тогда ему в деревне насилие над Ганной, завербовался куда-то на шахты и перевез туда семью. Но Ганна и словом никогда не обмолвилась, кто отец ее старшего мальчика, так же как не говорила, от кого у нее потом был и младший сын. …В лампе зря выгорал керосин, и Ганне было жал — ко его, так как в следующий раз уже нечем будет даже посветить детям за ужином, но она не отважилась потушить огонь. Полицай по-прежнему сидел на скамье, как сыч, разве только не кугу кал. Ночь была уже на исходе, а Ганна еще головы не приклонила. Но она была рада, что хоть не заболел младший хлопчик — головенка у того больше не пылала жаром, он днем просто перестоял на солнце. Потом Ганне пришла мысль, что неплохо было бы завтра (вернее, уже сегодня) проснуться пораньше да вместе с другими веремейковцами пойти в поле на перемер… Чем больше ее голову занимали обычные жизненные заботы, тем дальше отодвигали они ее обиду на судьбу, которая минуту назад казалась слишком немилостивой. И вскоре Ганна незаметно забралась с ногами на кровать и заснула, хотя этому и противилось все, что было сознательного в ней. Она не знала, сколько проспала так, но вдруг почувствовала, что на нее кто — то навалился и душит. Ганна открыла глаза. И прямо перед собой увидела лицо Рахима… Все утро потом Ганна ходила по двору как в воду опущенная. Ей никого не хотелось видеть. И даже когда из каждой веремейковской хаты повалили в Поддубище люди, она не пожелала идти вместе с ними. Роза Самусева, которую Зазыба послал из Поддубища в деревню, нашла подругу в хате. Ганна сидела у окна и даже не повернула головы на Розины шаги. Должно быть, не каждый в Веремейках поверил бы этому, но Ганна переживала насилие над собой как чудовищное издевательство… Роза обняла за плечи подругу, спросила: — Ну, что ты? Та передернула плечом, как от холода. — А в Поддубище собираются по дворам жито делить, — сказала Роза. Она почувствовала, что с Ганной что-то случилось… Ганна молчала. — А меня за тобой Зазыба послал, — начала тихонько тормошить Роза подругу за плечи. И тогда наконец Ганна посмотрела на нее покрасневшими от бессонницы глазами, крикнула: — Он бы лучше, Зазыба ваш… — но не кончила и заплакала навзрыд. Роза смущенно постояла, а потом спросила, повысив голос: — Ну, что? Что случилось? Ганна вдруг как бы очнулась, перестала плакать. — Ничего, — ответила грустно. — Может, обидел кто? — Нет. — Чего ж тогда сидишь? Зазыба вон беспокоится, говорит, без кладовщицы ему там как без рук. — Обойдется… — Так… — А я думала, что вы все — и Дуня, и Сахвея, и ты — пошли в Яшницу. Мужиков из лагеря вызволять. — Так забегали ж сегодня с переделом. Постепенно Ганна успокаивалась, и вскоре Роза предложила ей: — Бери серп, пойдем в Поддубище. А то полосу, пожалуй, выделили. — Не пойду я. — Зазыба ж наказывал! — Так и что? — А то, что я тебя никак не пойму сегодня. — Иди, Роза, иди, откуда пришла, — вздохнула Ганна, — а я свою полосу успею сжать. Тогда Роза спросила открыто. — Может, и правда Романов прихвостень что?.. — Откуда это известно? — метнула пугливый взгляд на нее Ганна. — Да… — Тогда не говори абы что! — Ну, и то ладно. Что передать Зазыбе? — Ничего. Скажи, что приду. Напоследок Роза еще сказала: — Может, нужно что? — Иди, Роза, иди уж. — А ребятишки где твои? — Кто их знает. Небось тоже побежали в Поддубище. — Так и тебе нечего сидеть одной тут. — Ладно, иди, Роза… Ганна снова отвернулась лицом к окну, а Роза постояла некоторое время в нерешительности, потом тихо, будто таясь, вышла за порог. За околицей, уже на гутянской дороге, Роза догнала Браво-Животовского. Вскинув винтовку прикладом на плечо, тот шел темнее тучи. Розин муж, Иван Самусь, доводился Параске родней, и потому Роза могла заговорить по-свойски с Браво Животовским даже теперь, когда он стал полицейским. — Что это вы поздно, дядька Антон? — Проспал, — буркнул Браво Животовский. — А ты? — Бегала вот к Ганне Карпиловой. Зазыба посылал. — Ясно. — Почему-то не пошла вот… — А ты не очень хлопочи за Ганну, — поучительно и тоже по-свойски сказал Браво Животовский. — Ей и принесут, если надо будет. — Ну и скажете вы, дядька Антон! — заступилась Роза за подругу. — Много ей нанесли? — А ты будто все знаешь? Браво-Животовский перешел на другую обочину дороги. Некоторое время они шли молча. Тогда Роза сказала, будто хотела похвалиться: — А мы сегодня собирались с бабами идти в Яшницу… Там теперь лагерь военнопленных. Так, может, и наш чей-нибудь там. А Зазыба вдруг поднял людей. — А я вот спал и не знал, что все в Поддубище подались. Но Браво-Животовский говорил неправду. Обо всем он знал. А чтобы не идти утром вместе со всеми в Поддубище, на то у него были причины. Во первых, Браво-Животовский рассчитал: незачем лезть вперед, а вот когда раздел хлеба будет закончен или хотя бы войдет в самый разгар, тогда он и заявится — и перед бабиновичским комендантом оправдание есть, мол, без него сделали все, и веремейковцам пока на мозоль не наступишь. Во вторых, что то непонятное творилось с Параской. Вчера он спьяну разоткровенничался за столом, а сегодня Параска даже глядеть не хотела на него. Заплаканная, она мыкалась из угла в угол и каждый раз принималась голосить, как только Браво Животовский пытался заговорить с ней. Со вчерашнего вечера Параске вдруг почему-то начало казаться, что именно от пули ее теперешнего мужа, который, как выяснилось из его же признаний, служил и у красных, и у белых, и у махновцев, погиб на гражданской войне ее первый муж, Андрей Рыженок. И она уже чувствовала великий грех перед своим первым мужем за то, что жила с человеком, которого не только не знала, но и вправе была теперь подозревать. Когда Браво Животовский и Роза Самусева наконец пришли в Поддубище, мужики, нарезавшие полосы, успели пройти по списку чуть ли не половину деревни. Браво-Животовский сразу же подошел к Зазыбе, хмуро спросил: — Или забыл, о чем вчера говорили с тобой? — Так… — Зазыба взял у Ивана Падерина бумаги и принялся отыскивать пальцем следующую по списку фамилию. — Колхозники ж вроде сами решили, — пояснил он через некоторое время, но головы не поднял, словно вовсе игнорировал Бравр-Животовского. — Что ж, пеняй потом на себя, — тихо сказал ему Браво-Животовский.
XIV
Солнце сияло вовсю, а Чубарю какое-то время казалось, что это оно хотело коснуться земли там, где недавно стояла вышка. И потому будто приостановило свое движение по небу как бы для недолгого равновесия. Ржаной клин на правом склоне кургана был сплошь усеян жнеями — именно отсюда веремейковцы и начинали отмерять полосы. И через суходол Чубарю были видны и снопы в крестцах, и женщины. Наблюдал за ними Чубарь с мыска того леса, что обрамлял суходол с востока и закрывал от веремейковцев сразу три деревеньки. Смотреть против солнца с каждой минутой становилось трудней, горячий блеск слепил глаза, и Чубарь, стоя меж деревьев, прикрытых спереди кустами можжевельника, жалел, что при таком лучистом солнце почти невозможно узнать людей — и тех, что были в Поддубище, и тех, что подходили туда из деревни. Когда Чубарь час назад вышел на мелколесье и глазам его открылся этот выкошенный еще в июне суходол, а за ним знакомый курган с теперешним человеческим муравейником, у него возникло чувство, что он вынырнул на поверхность воды, толщу которой от самого дна пришлось преодолевать без глотка воздуха. Хотя Чубарь и не отваживался пока идти к веремейковцам, однако постепенно уже ощущал то уютное, как сквозь сон, облегчение и то душевное, пусть даже временное, успокоение, которые, несмотря ни на что, приходят в конце долгой дороги. Может, именно потому острого эгоистического ощущения, которое возникает, когда человек, вернувшийся наконец домой, вдруг ясно сознает, что, вопреки его ожиданиям, там все идет как следует, к тому же без его участия, — так вот, такого ощущения в Чубаревом сердце пока не было. Оно зашевелится потом, как только станет до конца понятно все, что в это время происходило в деревнях по обе стороны Беседи. А теперь Чубарь стоял, вглядываясь в желтое пространство пониже солнца, и заново, и заново переживал свою радость, что так счастливо дошагал сюда. Когда же переставал глядеть на ржаное поле и переводил взгляд ближе, чтобы таким образом расслабить глаза, то каждый раз впереди себя видел, как трепетала, хлопая круглой, будто жестяной листвой, молодая осинка, поднявшаяся над стайкой сосенок, еще не успевших оторвать от земли трехпалые кончики своих лапок. Ветра почта не чувствовалось, по крайней мере, тут, в этом затишье, которое создавали и кусты и деревья вместе, однако осинка почему-то никак не могла уняться, словно и в самом деле была живая и потому боялась чего-то. Казалось, на нее дует кто-то невидимый из огромной пасти или, что еще хуже, подпекает огнем или травит ядом ее корни в черной почве. И каждый раз, когда Чубарь видел эту непонятную лихорадку незадачливого дерева, ему становилось не по себе, хотелось подойти к осинке и, жалея, придержать руками, чтобы помочь успокоиться… Уже на исходе был август, ибо несколько дней, остающихся в его календаре, едва ли могли добавить что-нибудь на воображаемые весы, на которых видимо и невидимо силились перетянуть друг друга нынешние лето и осень, но все окрест снова было как летом, и даже там, где не прошлась возле кустов коса, по-прежнему краснели, желтели и синели в высокой траве луговые цветы. Пахло медом, точно поблизости находилась пасека, хотя Чубарь знал, что ни одного улья за полтора километра в любую сторону нет, значит, все еще обильными были медоносы, которые заново начинали благоухать после продолжительной слякоти. Как-то непроизвольно вспомнилось вдруг, что недалеко отсюда, где в прежние времена гнали деготь из бересты, была веремейковская лупильня — станок с зубчатым колесом и небольшая, аршин на пять, хатка. Строили лупильню уже при колхозе, но до Чубаря, когда в Веремейках руководил Зазыба. Тогда как раз вышел запрет палить свиней, чтобы каждый хозяин сдавал свиную шкуру государству. Но разве это сало в деревне без поджаристой шкурки, пахнущей соломенным дымком? И вот вскоре, оглядываясь сосед на соседа, но не выдавая друг друга, вере-мейковцы пренебрегли этим запретом, по крайней мере, за годы, прожитые в Веремейках, Чубарь не помнит, чтобы кто — нибудь из колхозников доброволь — но привозил на лупильню хоть паршивого кабанчика… С тех пор хатка стояла пустой, и в ней, очевидно, можно было переждать до вечера. А вчера еще Чубарь не собирался выходить к Вере — мейкам. Сперва он решил похоронить убитого красноармейца, которого нашел у большака, и направился в деревню — она была тоже по правую сторону от реки, — чтобы попросить там лопату. Но пожилой, с беспокойными глазами крестьянин, которого Чубарь встретил за дворами, не отпустил его назад одного — то ли не поверил, что незнакомой человек вернет лопату, то ли и вправду захотел помочь ему. Чубарь намеревался вырыть могилу рядом с холмиком, под которым, по его мнению, покоилось тело старшего политрука. И он сказал об этом крестьянину. Но тот недобро пошутил, шаря вокруг глазами: — А если немцы поедут вдруг по дороге? Мне-то что. Мне, может, и не попадет от них за это. Что ни говори, а трупы все равно кому-то надо убирать. А вот ты, что тебе они скажут, когда застанут с винтовкой? Чубарь со злостью вырвал из рук крестьянина лопату и молча, сильно нажимая на загнутый край ее, принялся копать землю прямо во ржи, шагах в двух от лежащего навзничь красноармейца. Крестьянин оказался суетливым, не стал ждать, чтобы подменить землекопа, а поспешил к большаку, побегал там, как гончая, по следам, и когда вернулся к Чубарю, то держал в руках казацкое седло. — Вот, нашел, — сказал он, не скрывая удовольствия. Но Чубарь не повернул головы и не посмотрел в его сторону. Тогда крестьянин снова обратился к нему. — Из него подошвы — носить не сносить, — и колупнул черным ногтем крыло. Чубарь почувствовал, что крестьянин будет стоять так над ямой и говорить о седле без конца, и потому выпрямился, показал на лопату: — Ну-ка, покидай и ты… Крестьянин согласно кивнул головой. — Давай. Он тут же занял место Чубаря в яме, но, перед тем как приступить к работе, спросил: — Знаешь его? — Нет. — А ведь тут вчера настоящий бой шел. Не зря вон сколько крестов у дороги. Броневик тоже наши подбили… И он не спеша стал рассказывать, как после боя нагрянули в деревню разъяренные оккупанты и как они угрожали сжечь подряд все хаты, если, не дай бог, найдут у кого спрятанного красноармейца или командира… Странно, но Чубарь слушал крестьянина почти без интереса — так много пришлось ему повидать и пережить в один день, что не все даже воспринималось, как полагалось бы нормальному человеку. Он сидел с опущенными плечами, устремив взгляд на распластанное седло, которое расторопный крестьянин аккуратно положил поодаль, но отчетливо видел на нем только шрамик, сделанный ногтем на коже: кожа свежо желтела, как незагрубевшая кора на сосне. В яме шаркнула лопата по камню, и Чубарь по звуку понял, что крестьянин не перестает копать. — Можешь взять себе, — будто поощряя его, сказал Чубарь, кивая на седло. Крестьянин выпрямился, блеснул глазами. — Спасибо, добрый человек. — Он, чертяка, и до сих пор не сомневался, что седло достанется ему, но^ когда получил от Чубаря разрешение, вовсе несказанно обрадовался. — И сумку тоже бери, — не скупился Чубарь. — Там бумажка одна есть, так не выбрасывай. Посушить надо… И сбереги ее. — Ладно, сбережем, ежели мне испугу никакого не выйдет от нее. — Не выйдет, — успокоил Чубарь и принялся втолковывать крестьянину: — А придут опять наши, отдашь им листок. Там все написано. Да и сам, что видел и что слышал, расскажи. Пусть знают, кого мы хороним. Чубарь выждал несколько минут и заглянул в яму. — Пожалуй, хватит уже… — А и будет, — не заставил уговаривать себя крестьянин. — Тут и земли всего надо, чтобы собаки потом костей не вырыли. Пока он подчищал лопатой дно в яме, Чубарь подошел к умершему от ран красноармейцу с намерением обыскать его — если вдруг при рем окажутся какие документы, то и их можно будет положить в сумку, чтобы потом крестьянин возвратил кому следует. Но в карманах гимнастерки было пусто. Тут же Чубарь вспомнил, что военные обычно прячут самое наиглавнейшее на случай смерти в потайной кармашек на поясе брюк. Откинул край задубевшей гимнастерки и осторожно, будто перед ним был не мертвый, а живой человек, стал вести пальцами, сложенными в щепоть, вдоль брезентового пояска. В потайном кармашке тоже ничего не было. Чубарь повернул мертвого на спину и, преодолевая в себе брезгливость, боясь посмотреть в остекленевшие глаза, начал понемногу очищать карманы. Кровь, натекшая в простреленные карманы, уже собралась в жесткие комочки… Крестьянин, которому и невдомек было, почему это Чубарь шарит по карманам убитого, вдруг подал насмешливый голос: — Что у него могло быть? Видать, солдат же… если, конечно, не нарядился в солдатское… — И посоветовал Чубарю: — Не забудь хоть ботинки снять. Обмотки не надо, а ботинки сними. Его земля и босого примет. — Он вылез из ямы, отряхнул выпачканные в глине штаны, которые пузырились у него на коленях, и тоже подошел к убитому. Чубарь ждал, что крестьянин действительно станет снимать ботинки, и приготовился закричать на него но тот вдруг удивленно ойкнул и сел. — Немцы* — шепнул крестьянин. Чубарь от неожиданности едва не вскочил, однако вовремя сдержал себя и в то же мгновенье бросился на четвереньках к своей винтовке, которую положил, прежде чем взяться за лопату. — Не скачи! — цыкнул на него крестьянин. — Где немцы? — шепотом спросил Чубарь. — Не слышешь, по дороге едут! И правда, на большаке уже взрывался воздух от моторов, даже странно было, что Чубарь не услышал этого раньше… — Как думаешь, увидели они тебя? — опять шепотом спросил Чубарь. Крестьянин в ответ сделал придурковатое лицо, может, от испуга, и пожал плечами. По-пластунски, чтобы не высовываться из жита, Чубарь вернулся на прежнее место и, ложась подле крестьянина, припал левым плечом к земле, точно выполняя на огневом рубеже первую воинскую команду. То ли на его лице была решимость, которая не оставляла сомнения, то ли впечатление произвело, взятое наизготовку оружие, но крестьянин вдруг ухватил Чубаря за штанину и начал тормошить. — Ты что это надумал? Хочешь погубить нас? Не стреляй, говорю! Чубарь резким движением ноги вырвал из чужих рук штанину и, освободившись, переместился чуть дальше. До этого ему и в голову не приходило стрелять отсюда: во-первых, сквозь жито не просматривался большак, на котором гудели машины, а во-вторых, становиться на ноги да высовываться и вовсе было нельзя — не успеешь поднять винтовку, как тебя опередят. Между тем совсем рядом и будто в укор совести лежал мертвый красноармеец, который, видимо, также мог отсидеться в этом жите, если бы только захотел, а все же не стал прятаться… Однако Чубарь уже словно прирос к земле, и у него не хватало решимости выползти на край поля или выпрямиться здесь во весь рост… Крестьянин между тем не переставал хныкать за спиной: — Пожалей хоть меня, раз о себе не думаешь. Что ты один им сделаешь, а себя, да и меня вот погубишь… Может, хочешь лежать, как этот? «Да замолчи ты!» — с отвращением подумал Чубарь, у него вдруг все восстало внутри против этого человека. Было желание ударить кулаком наотмашь или пихнуть ногой, чтоб тот откатился прочь. Но разве это сделаешь? Не хватало начать эту возню!.. И Чубарь нарочно делал вид, что не спешит стрелять только потому, что его просит об этом крестьянин, хотя самому было противно и стыдно за свою нерешительность, точнее, страх, который он мог все же оправдать и объяснить, и за смерть красноармейца, который уже не мог сказать ни слова. Это ощущение не покидало Чубаря потом долго: и после, когда опять стало тихо на большаке и они вдвоем наспех опускали на руках в могилу красноармейца, а затем закидывали по очереди землей, и тогда, когда Чубарь шел один полевой дорогой мимо деревни, надеясь выйти к Беседа в другом, более безопасном месте. Впереди Чубаря ждала еще одна встреча. Уже смеркалось, когда в лесу он увидел знакомого человека, что неожиданно высунулся из-за распряженной телеги. То был бабиновичский еврей Хоня Сыркин. До войны Сыркин работал заготовителем в сельпо, или, как говорили мужики, корявочником, и его хорошо знали во всех деревнях по обе стороны Беседа, так как Хоня не считал для себя большим трудом появляться со своим обшарпанным ящиком, на — пиханным до краев платками-гарусами, разными красителями, пуговицами, гребешками и всякой другой нужной и ненужной мелочью, в самых отдаленных местах, даже за пределами Крутогорского района, в так называемой Кожлайщине. Кроме того, в Бабиновичах, как и в близлежащих селениях, знали Сыркина еще и по другой причине — у него была самая тучная среди местечковых евреек жена. Сам Хоня ни ростом, ни полнотой не удался, а вот жену взял будто на двоих, и когда, бывало, шел с Цилей по местечку, то вызывал у людей улыбки. Правда, знакомые из приличия улыбались за глаза, во всяком случае, разминувшись с заготовителем и его женой. Зато в базарные дни досужие деревенцы ходили за ними чуть ли не толпами. Словом, Сыркин действительно был известен в Забеседье, и Чубарь, встретившись с ним далеко от местечка, не мог не узнать его. В беженцы Сыркин выбрался вместе с другими бабиновичскими евреями, но в дороге случилось несчастье: у жены начался тяжелый сердечный приступ. Доктор, тоже бабиновичский еврей, следовавший вместе с беженцами, отсоветовал везти Цилю дальше — тряская дорога, к тому же особенно опасная, когда налетали немецкие самолеты, могла стоить жизни больной. И вот Сыркин доехал с обозом до первой деревни, которая встретилась на пути, увидел пустовавшую мельницу на отшибе за небольшой речкой и принялся перетаскивать туда скарб с воза, то и дело поторапливая сыновей. Но спасти жену ему не удалось. Та умерла ровно через две недели, когда ехать дальше на восток стало невозможно — немецкие войска выходили уже за Ипуть к Десне. Тогда Сыркин с двумя сыновьями, одному из которых, старшему, исполнилось в начале августа пятнадцать лет, повернул обратно в Забеседье, в Бабиновичи. Чубарю свое решение он объяснил так: — Ты посмотри на меня — мне же никуда не спрятаться. Везде узнают, что я еврей. Так пускай это случится в своем местечке. Бог свидетель, я ничего плохого людям не делал… Убитый горем — померла жена, — неудачами, особенно после того, как уже на обратном пути немецкий летчик прострелил коню голову и воз с домашним скарбом пришлось тянуть на себе, а более всего, наверное, мучительным ожиданием того, что еще могло произойти впереди, Сыркин был в отчаянии, хотя внешне старался казаться спокойным. Но отчаяние его легко угадывалось и по тому, с какой тоской посматривал он на своих молчаливых сыновей, пучеглазых и кучерявых подростков, и по тому, как разговаривал, без нужды унижая себя, видно думая, что угождает этим каждому, кто имеет хоть какое-то превосходство над ним. Пока Чубарь и Сыркин стояли да переговаривались у телеги, в лесу смерклось еще больше, однако не настолько, чтоб не видеть перед собой дорогу. Пора было трогаться в путь. Сыркин по-крестьянски поплевал себе на ладони, потер одной о другую и, как завзятый коренник, занял место в оглоблях. Сыновья стали по обе стороны от него. Втроем они подняли оглобли, к которым была привязана вожжами березовая перекладина. Старший парень вырос с отца, перекладина была ему впору. Хуже приходилось младшему, занимавшему место слева от отца, — перекладина доставала ему до ключиц, и бедняге приходилось либо висеть на ней, либо идти на цыпочках, с поднятыми руками. Чубарь зашел сзади и тоже стал помогать катить воз, берясь попеременно то левой, то правой рукой за грядку и в то же время перехватывая то одной, то другой винтовку. Ему только непонятно было, зачем Сыркину вообще надрываться. Даже подмывало сказать об этом. Но разговор состоялся лишь утром. Сыркин сперва не придавал ему значения, наверное, невдомек было человеку, как это можно бросить на дороге или отдать кому-нибудь то, что наживалось годами!.. Тогда Чубарь более откровенно и уже почти со злостью принялся убеждать, даже насмехаться над Сыркиным. — Ты, Хонон, со своим добром, как тот мужик милославичский: готов кататься от рези в животе, лишь бы дерьмо до своего огорода донести, хоть и в штанах. Казалось, на Сыркина ничто не действовало, он только с тоскливой хитростью усмехался, мол, тебе легко советовать, так как у самого ничего нет за душой. Но вот он перевел взгляд на своих краснолицых ребят и вдруг сник: в глазах сыновей увидел, что те будто стыдятся его, отца, а к разговору между взрослыми прислушиваются с нескрываемой надеждой… Для него это было неожиданностью, сразу что-то оборвалось внутри, даже плечи свело, как в воде при судороге, и он окончательно потерял всякую уверенность. — Вы думаете, что я?.. Вы думаете?., — скороговоркой, вроде оправдываясь, начал он. — Нет, я вам не Гитлер, чтоб так!.. — И вдруг Хоня преобразился, подскочил к возу и, бешено сверкая глазами, выхватил из-под лохмотьев топор с новым, не отполированным топорищем и дважды наотмашь рубанул по верейке, которой накрест было увязано рядно с домашним скарбом. Веревка отскочила, как высушенная и натянутая на колок балалайки жила. Но Сыркин на этом не остановился, еще раз замахнулся топором и швырнул его в огромный воз, напиханный перинами, подушками и всякой всячиной. Топор скользнул острием по засаленному и влажному от холодной ночи рядну, распорол его на три четверти вдоль и засел в середине по самое топорище. Сыркин ухватился руками за распоротые края рядна, изо всех сил рванул их в стороны. И вдруг над возом, над дорогой и над поляной, на краю которой они стояли, взорвалось и полетело вверх ощипанное перье, казалось, здесь кругом рос чертополох, который уже вызрел, и ветер, прорвавшийся откуда-то с поля, начал выдувать из чешуйчатых кувшинчиков белый пух. Между тем Сыркин не переставал беситься, потрошил и раскидывал вокруг воза узлы, котомки, ящики. Со стороны казалось, что делал он это как бы в отместку: раз хотели посмотреть, то получайте!.. Но вот в руках у него очутилась последняя котомка из всего скарба, тяжелая, словно с какими-то ребрами внутри, и тогда Сыркин вдруг опомнился, вновь наконец почувствовал вес и значение всех этих вещей, разбросанных по поляне. Постоял минуту в раздумчивой растерянности и неровным шагом, будто вытаскивая ноги из трясины, обошел воз и уселся спереди на оглоблю. Отходил он от бешенства долго, смотрел в землю, не поднимая глаз. А когда поднял, то сразу прикрикнул на сыновей. — Ну, дэрварт зих дем, шалопаи? — И уже другим, потеплевшим, голосом добавил: — Ану, гиб а кук, вое из дорт айерэ, анит вет дир уйскумей гейн он гейзн…[13] Те послушно, будто наперегонки, бросились выискивать среди разного тряпья свои вещи. Сыркин сморкнулся на траву, глянул прищуренными глазами на Чубаря, который все это время стоял рядом и спокойно, с улыбкой наблюдал за всем происходящим. Сказал: — Можешь и ты себе что-нибудь взять… Чубарь засмеялся. Потом спохватившись, подошел к Сыркину, тронул его за плечо. — Пора идти, Хонон! — И добавил уже весело: — Были бы целы кости, а на них уж что-нибудь да нарастет! Сыркин вздохнул, но не отозвался ни словом) Йосидел, пока Чубарь не снял своей руки с его плеча, потом подхватил котомку, что брал последней с воза, и принялся поторапливать сыновей. Дальше дорогу к Веремейкам показывал уже Сыркин: ездил он в свое время от деревни к деревне не зря. Знакомых у Сыркина тоже хватало повсюду, но надобности в них пока не было, и они — двое взрослых и двое подростков — успели пройти, нигде подолгу не останавливаясь, за первую половину дня почти тридцать километров. Чубарю по душе пришлось, что Сыркин так досконально знает местность, мог пригодиться и в дальнейшем, и Чубарь исподволь начал говорить об этом. Но Сыркин с недоверием стал посматривать на своего спутника, будто опасался, что тот его намеренно испытывает, хотя по винтовке мог бы догадаться, что веремейковский председатель заводит разговор всерьез… Перед самыми Веремейками, уже порядочно надоев друг другу, они расстались и пошли разными дорогами: Чубарь напрямик через лес, чтоб незаметно выйти на гутянскую дорогу, а Сыркин повел своих сыновей в обход леса. Когда вспомнилось, что где-то поблизости есть хатка, считай, готовое пристанище, Чубарю уже не терпелось попасть туда. И все же, пока не сдвинулся с места, он находился словно в раздумье или просто жалел, что не все за это время рассмотрел в Поддубище. И чем дольше он задерживался на месте, чем больше вглядывался в знакомые пейзажи, которые пожалуй, впервые по-настоящему взволновали его, тем быстрей забывалось, что было с ним в дороге с самого первого дня, по крайней мере, оно отдалялось уже на такое расстояние, при котором даже неотступное воспоминание об убийстве военврача не заставляло содрогаться. Небо сегодня было чистое. Это Чубарь заметил еще рано утром, когда стояли в лесу на краю поляны, а Хоня размахивал топором, потрошил свое добро. Но теперь Чубарь удивился, когда поднял голову и увидел над собой измазанную белыми полосами синеву, будто художник положил легкую грунтовку на полотно.
Хоня Сьфкин должен был уже вывести на гутянскую дорогу сыновей, но за лесом пока их не видно было, и Чубарь подумал, что уж непременно уйдет отсюда, как только увидит попутчиков. Но вот что-то хрустнуло за деревьями, и Чубарь круто повернулся в ту сторону. Но ничего подозрительного не приметил. Вскоре совсем близко, может, шагах в пятнадцати, затопали, не иначе шел к суходолу крупный лесной зверь или возвращалась в деревню заблудившаяся корова. Чубарь вытянул шею и, привставая на носки, оторвал каблуки сапог от примятого болотного мха. На суходол выходил рогатый лось. За ним бочком, как против сильного ветра, семенил по мягкой и скользкой отаве лосенок. Несколько дней сохатый водил его за озером, по ту сторону Веремеек, а теперь отыскал дорогу сюда, в этот смешанный лес. Наконец сохатый вышел на стежку, ведущую через суходол к картофельному полю. Там, в неглубокой лощине, била из земли заключенная в дубовую кадушку криница, и лоси, очевидно зная об этом, шли напиться туда. По тому, как спокойно вел сохатый по стежке лосенка, нимало не настораживаясь, можно было судить, что делал он это не первый раз, что они уже бывали здесь. Вскоре лосей заметили и в Поддубище. Чубарю было видно отсюда, как засуетились веремейковцы в жите и начали поворачиваться в сторону суходола, пристально вглядываясь в неизвестных пришельцев, а какой-то человек бросился бежать от гутянской дороги вниз, наперерез лосям. Чубарь пробовал узнать его. Но даже издали можно было определить, что человек не местный. По крайней мере, ни в Веремейках, ни в Мамоновке с Кулигаевкой похожих на него не было. В руке незнакомец — то был Рахим — держал винтовку. Но Чубарь как-то не сразу приметил ее, подумал сперва, что это вроде обыкновенная хворостина. Сообразил он только тогда, когда Рахим вскинул «хворостину» перед собой и выстрелил в сохатого. Выстрел получился неожиданный и сухой, будто сломалось что-то хрупкое от первого же прикосновения, но эхо, перелетевшее через суходол, вдруг больно и тревожно кольнуло Чубаря в сердце. «Ах ты, подлец!» — сжал он пальцы на своей винтовке и поспешил взглянуть в ту сторону, где находились лоси. Пуля угодила точно в цель, и сохатый уже стоял на передних коленях, опустив тяжелую и непослушную голову на тропку, окропленную первыми брызгами крови. «Ну и подлец!» — снова выругался в душе Чубарь и отыскал глазами бегущего человека, который стрелял по сохатому. Но мстить за убитого лося было поздно — из Поддубища к роднику спешили толпами веремейковцы… Теперь Чубарь имел возможность узнавать своих колхозников. Впереди в распахнутой фуфайке бежал словно катился вниз по склону Микита Драница. Его не успевали опередить даже подростки, которые вслед за взрослыми кинулись со всех ног к кринице. Увидел Чубарь и своего счетовода Ивана Падерина. Счетовод тоже спешил посмотреть, какого зверя убил Рахим. Но шагал он в окружении женщин, издали было похоже, что те будто вели его на расправу. А Денис Зазыба направлялся к суходолу рядом с Браво-Животовским. По их неторопливой походке и по тому, как оживленно беседовали они о чем-то, Чубарь мог убедиться, что эти отнюдь не спешили к кринице, очевидно, были уверены, что без них никак не обойтись там. За плечами у Нраво-Животовского торчала винтовка. Чубарь обратил на нее внимание и вдруг вспомнил, что Браво-Животовского еще в начале июля взяли по мобилизации. Между тем вырвавшиеся вперед веремейковцы уже обступили убитого лося. Кто-то из взрослых попробовал приласкать вконец осиротевшего лосенка, который беспокойно крутился здесь же, но тот не дался. Тогда за лосенком погнались подростки. Лосенок отбежал немного в сторону и, словно птица, начал кружить вокруг толпы, посреди которой в луже крови лежал сохатый. И только потом, когда его сильно загоняли, он устремился к лесу — спасаться. Чубарь отступил за кусты можжевельника и, будто боясь проглядеть самое главное, не отрывал взгляда, наблюдая за всем, что происходило у криницы, точнее, еще ждал, что должно было произойти там. Увлеченный этим, он даже не заметил, как на пригорок — и тоже на недавний выстрел — выскочил конный разъезд оккупантов, которые большой колонной вступали в Веремейки.
На исходе был шестидесятый день войны…
ОПРАВДАНИЕ КРОВИ
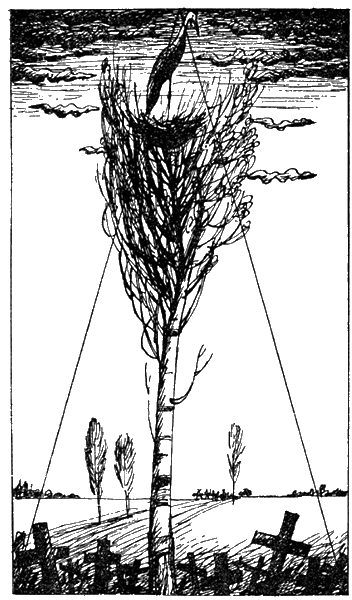
Перевод Инны Сергеевой
I
Маршевая немецкая колонна давно уже прошла мимо Кандрусевичевой хаты в Веремейки, а в деревне мало кто видел ее: почти все взрослое население было в Поддубище. Первой углядела немцев старая аистиха, одиноко и беспомощно, словно подвешенная, маячившая над гнездом возле кладбища. Она была очень голодна, немощна и вообще этот год постоянно недоедала, редко когда снимаясь с березы, чтобы поискать в траве на кладбище или на краю болота пищу, поэтому в голодном забытьи немецкая колонна внизу показалась ей вертлявым ужом.II
— Ну, вот, Зазыба, веремейковцы твои наконец-то понаставили колышков на поле, а скоро, увидишь, и пропашут наново межи, и снова будет, как прежде — каждый своим домком заживет, всяк сам по себе. Одним словом, будто и не было ваших десяти лет счастливой и зажиточной жизни!.. Так говорил Зазыбе — чуть ли не в самое ухо — Браво-Животовский, идя рядом с ним к кринице, где изды хал в кровавой пене на выбитой луговой тропе подстреленный лось. Чубарь из своей засады правильно заметил тогда поверх пышного можжевельника: воистину эти двое не торопились увидеть, что это вдруг случи лось посреди суходола; они не поддались повальному настроению веремейковцев, которые сразу же после Рахимового выстрела сыпанули из Поддубища вниз по склону; Браво-Животовский с Зазыбой шли, что называется, нога за ногу, издалека даже «нетерпеливому Чубарю показалось — после того уже, как Браво-Животовский с Зазыбой свернули с гутянской дороги, — не нарочно ли они удлиняли себе путь, слишком старательно обходя те изрытые участки, где можно по неуклюжести либо споткнуться о сухую, источенную муравьями кочку, либо угодить ногой в заросшую полевой травой выбоину или след копыта. И если Зазыбова мешкотность Чубарю была известна, — в его неспешности была степенная основательность, которая, кстати, всегда почему-то злила Чубаря, но которая все-таки соответствовала и повседневному поведению того, и движениям, и, наконец, самое главное, всей Зазыбовой человеческой сути, — то Браво-Животовского видеть таким было непривычно и, наверное, прежде всего потому, что не было никакого резона и самом его нахождении рядом с Зазыбой, а тем более в (обоюдности, которая будто бы уже налаживалась между ними; во всяком разе, в Чубаревой душе вид этой близости вдруг пробудил неприязнь, которая в свою очередь «вызывала ревнивое и мстительное чувство. — Известно, он и колхоз «неровный «был для всех, — продолжал Браво-Животовский, — как и в жизни что ни возьми: одному — война, другому — мать сродна. Это когда только начинали дело, так во «асе горло орали: настает час всеобщего благоденствия в мужицком раю. Единственно — ломи, крестьянин! И крестьянин, поплакавши малость на своей полоске, с которой приходилось распрощаться, да и не малость, а, пожалуй, хорошенько поплакавши, сначала взялся было за колхозное дело усердно, да, поголодав кряду несколько годов, уразумел: нет, в этом содомском гнезде протянешь ноги, не иначе. Они и большевики твои, у кого мозги есть, потом спохватились. Не «напрасно же вскорости, в тридцать пятом, ввели колхозный нэп. Нарезали приусадебные участки, коров, ярок и все такое прочее позволили держать, чего раньше не снилось. Это не важно, что послабление не называлось колхозным нэпом. Важна суть. А она была в том, что умные люди наконец скумекали — без частного хозяйства все равно не подняться после страшенного голода мужикам, а значит, не подняться и всей стране, поэтому, как и прежде, был введен этот колхозный нэп. Глядишь, мужики снова воспрянули духом немного. А потом опять у кого-то засвербело — как же, чтобы у мужика да кусок хлеба не только на сегодняшний, а и на завтрашний день был! Не помогли на этот раз и заступники. Потому что сами к тому времени уже соболей где-то пасли. И вот в тридцать девятом облагаются и сотки те приусадебные, и на коров налог вводится, и за поросенка надо платить государству: и колхозничкам начали выдавать квитки того же самого цвета, что и единоличникам. Может, мол, откажутся и от соток, и от коровы. Так нет, мужик готов уж был последние портки продать, чтобы заплатить, но не потерять собственного хозяйства, мужик хорошо помнил, каково было и в тридцать первом, и в тридцать втором, и в тридцать третьем, да, считай, и тридцать четвертый почти весь на мякине просидели. Говорил Браво-Животовский, словно искушая попутчика, желая вызвать на взаимную откровенность, чтоб потом заполучить местечко в его душе. Странно, но у Зазыбы эта болтовня совсем не вызывала внутреннего сопротивления, может, даже по той причине, что горечь, травившая душу с самого утра, сменилась во время дележки колхозного клина усталым безразличием от горячего солнца и; гомона людского, а еще, видать, и потому, что Зазыба понимал — опровергать Браво-Животовского один на один, так же как и переубеждать его, было делом зряшным, раз уж. все это выношено в мыслях и выстроена в надлежащую-систему. Ему только как бы чудно было, что односельчанин, хоть и пришлый, но все ж таки односельчанин, этак складно умеет говорить; казалось, Браво-Животовскому никакой трудности не стоило свободное обращение с такими словесными оборотами и мудреными понятиями (один «колхозный нэп» чего стоил!); если же учесть, что ничего подобного Зазыба не читал и не слыхал, для него было в новинку впервые сказанное только что Браво-Животовским, так и совсем можно было позавидовать мужику: неужто хватило на обоснование таких выводов того образования, какое веремейковский примак приобрел когда-то в деревне, а потом в Барановичах? Своими рассуждениями он удивил и насторожил Зазыбу еще тогда, когда они возвращались в одной телеге из Бабиновичей. Тем более неожиданными, даже не столько неожиданными, как; непривычными по своему смыслу были они сегодня. Но> они — мы это уже знаем — не вызывали у Зазыбы должного ответа. Они только сильно угнетали его, падая в душу, в самое сердце какой-то щемящей и неодолимой тяжестью, совсем как. перед опасной болезнью, о которой человек еще не догадывается, но которая уже крепко подточила организм. — Известно, у тебя на душе, Зазыба, кошки скребут, — вел дальше в одиночку Браво-Животовский, машинально или для забавы пропуская между стиснутыми пальцами правой руки — большим и указательным — кожаный, облезлый, с остатками желтой краски ремень «бельгийки», которую он нес на плече вниз коротким стволом. — Как же, принялись вдруг разваливать то, что с твоей помощью строилось вроде как навеки. Не зря же землю даже из государственного пользования не пожалели передать на вечные времена колхозам. А тут вдруг этот Гитлер! Как говорят, черт задумал одно, а сатана взял да вмешался, даже неизвестно, с какой карты ходить, а какую в козырях держать. — Браво-Животовский усмехнулся, в его монологе все ясней звучали глумливые нотки, и голос постепенно становился злобным и нетерпеливым, словно полицейского раздражало Зазыбово молчание или равнодушие; наконец, Браво-Животовский вспомнил, все равно как на, ночь глядя, «черта и сатану», которые путали карты, тогда Зазыба очнулся, будто и вправду только теперь до конца стали понятными разлагольствования спутника, задиристо глянул на веремейковского примака, недавно еще осторожного и рачительного селянина-колхозника, а теперьполицейского-философа, и так же задиристо бросил: — Не говори, Антон! — Оно бы и грех было Зазыбе не уцепиться за последние слова Браво-Животовского, смысл которых прозвучал неуверенно и даже двояко. — Настоящий игрок всегда знает, с какой карты когда ходить. Его ни черт, ни сатана не собьют. Ты же, видать, ни разу и не перекинулся с нашими мужиками в карты? Будто в великом удивлении, Браво-Животовский повернул голову к Зазыбе, испытующе прищурился, даже стало видно, как вокруг глаз собралась мелкими морщинками кожа. — Нет, — тем не менее просто и легко ответил он и еще проще и легче спросил: — А что? — будто не очень догадываясь, почему вдруг Зазыбу, который молчал столько времени и не осмеливался, а может, и не хотел возражать ему, заинтересовала такая несущественная деталь. — А то, что они бы уж тебя наверняка научили, с какой карты ходить, а какую в козырях держать, — ответил Зазыба и тоже испытующе поглядел на полицейского. Тот понял скрытый смысл Зазыбовой речи, на мгновение смутился, видно, жалея, что так неосторожно подставил себя. — Проживем как-нибудь и без ихней науки, — сказал Браво-Животовский и дернул от досады левой щекой. — Ну-ну… Тем временем вокруг убитого лося кипела толпа — сбежались все поглядеть, какого такого зверя подстрелил Рахим, приведенный в деревню Романом Семочкиным. Зазыбе видно было, как чего-то все нырял в толпу и выныривал оттуда, будто вправду доставал дно, Микита Драница, а счетовод Падерин стоял уже против Рахима, доказывал что-то «полевщику», тыкая его в грудь пальцем; чуть поодаль от веремейковцев стоял Силка Хрупчик, — не иначе, этому очень любопытно было, как подростки гонялись по лугу за пугливым лосенком, словно он, опытный ловчий, дожидался той минуты, когда и осиротелый лосенок, и его мучители выбьются из сил, чтобы потом завладеть жертвой самому; даже Кузьма Прибытков с палкой и на больных ногах-раскоряках и тот успел как-то оказаться вместе с другими веремейковцами на суходоле, тоже приковылял, охваченный любопытством. А все это происходило невдалеке, может, шагах в семидесяти от криницы, деревянный ободок которой высунулся над землей своим краем так высоко, что ее хорошо видно было глазу чуть ли не с гутянской дороги. Кругом Веремеек вообще было много криниц — одни выкопаны хозяйственными людьми, которым выпало работать долгое время без воды, другие выбились на поверхность из глубин земли сами. Во всяком случае, куда бы кто ни отправлялся из Веремеек в не слишком далекий путь, он не брал с собою баклажку, потому что всегда мог напиться из придорожного колодца. Эту криницу выкопал захожий солдат, еще когда было в деревне крепостное право, а в армии рекрутчина. Солдат попал в Веремейки по дороге из Унечи — возвращался с царской службы то ли в Маластовку, которая была в тридцати верстах отсюда, то ли даже в Латоку. Прожил он в Веремейках… Но как раз вот этого никто в памяти не сохранил. Известно только, что приглядел солдат себе в деревне вдову, нанялся косить ей пожню, ну, и, как бывает, в ласке да согласии прижил младенца. Но память о себе оставил в Веремейках не тем, а этой вот криницей… Очень пригодилась она веремейковцам, даже стали с той поры заботиться, чтобы не иссяк квелый родничок, вода которого всегда была холодной и вкусной. Пытались также объявить источник святым. Один год даже крест ставили возле него мужики. Но кто-то отговорил деревенских: мол, солдат, который нашел эту воду, был человек грешный, так к чему дело его рук превращать в святое деяние? Крест отнесли обратно в деревню, а криницу вскоре раскопали пошире и окольцевали дубовой кадушкой, чтобы хватило на долгие годы. Таким образом, источник стал похож на обычный колодец, к которому можно было утрами ходить по воду от ближнего конца деревни. Но с ведрами сюда веремейковцы не ходили — не так близко. Из этой криницы пили, когда косили знойным летом суходол. В другое время украдкой от людей пользовались ею звери — обитатели недалекого леса. Сегодня вот утолить жажду шли эти лоси… Зазыба отвел глаза от бурлящей толпы, уставился уже на самое криницу и вспомнил вдруг, как Чубарь приказал позапрошлым летом колхозникам почистить дно. Его, председателя, возмутило, что криница заплыла песком прямо по самую дыру, просверленную для стока лишней воды, к тому же изнутри стенки кадушки поросли травой-липучкой, навроде водорослей или даже обыкновенной тины, где прятались жабы-жерлян-ки. Одним словом, в наличии была, по Чубаревому мнению, безобразная бесхозяйственность, которая характеризовала веремейковцев, самое малое, как весьма неаккуратных людей — где же еще дадут загрязниться колодцу. И новый председатель колхоза не преминул ткнуть Зазыбовых односельчан носом в грязь. Ну, а своеволие хуже неволи. Начали мужики раскапывать криницу, хотя и знали хорошо, что это опасно: стоит потревожить неловко верхний пласт намытого снизу песка, как криница внезапно высыхает, пропадает куда-то тот пульсирующий источник, который гонит из глубины студеную струю, и тогда, сколько ни ищи его, сколько ни ковыряй грунт заступом, все напрасно, пока сам через много времени не выбьется ключ снова на поверхность. Этак случалось с криницей дважды — первый раз, когда ставили дубовую кадушку, криница высохла на другое лето, только осенью неожиданно наполнилась водой, сперва веремейковцам даже подумалось, что налило ее дождем; другой раз, после того, как мужики попробовали почистить ее, кадушка оставалась сухой еще дольше, кажется, не до следующей ли весны. Прошлым летом веремейковцам тоже довелось носить баклажки с водой сюда и в косовицу, и в жнива. Мужики, известно, подсмеивались — и над новым, но весьма прытким председателем, и над собой, а веремейковские бабы кляли, вытирая пот, тех же мужиков, что не отговорили Чубаря… Расстояние до криницы с каждым шагом уменьшалось. Зазыбе с Браво-Животовским оставалось только миновать небольшую бочажину, вроде сажалки или обыкновенного пруда, чтобы попасть на тропу и по ней уже дойти до сельчан, столпившихся вокруг сохатого. Казалось бы, низкое багровое солнце (оно уже чуть ли не катилось по правому боку веремейковского кургана — ближе да ближе к западу), что освещало суходол по всему его неровному, будто содранная звериная шкура, пространству, должно было соответственно окрасить и темно-зеленую отаву, которая не доросла до второго укоса, по крайней мере, в самый привычный глазу, с вечерней прозолотью, колер, но впереди, как раз в промежутке между криницей и лесом, суходол был как бы посеребрен, словно там уже выпала к ночи роса или, наоборот, откуда-то пополз редкий, несмелый туман, который теперь, боясь приподняться и рассеяться в воздухе, изо всей силы цеплялся за острые, как у лесного змеевника, концы жесткой травы. Оглядывая знакомую местность, Зазыба вдруг ощутил щемящее беспокойство, которое оставалось пока что непонятным ему самому, — может, его тронуло все увиденное, сперва совсем незаметно, как бы ласточкиным крылом, коснулось оно его груди, а потом подступило к сердцу беспричинной пронзительной тоской. Перед тем как выйти наконец на торную тропинку, Браво-Животовский вроде бы спохватился, что не успеет сказать всего, и опять заговорил, но даже голосом давал понять, что недавнего Зазыбового намека всерьез не принимает и абсолютно ничего не боится: — Я понимаю, ты злишься, что я говорю так, не возражай, все равно злишься. У тебя сегодня вправду кошки на душе скребут — ведь колхоз рушат! Думаешь, у всех такие кошки в печенках сидят? Ошибаешься. У меня глаз наметанный — рады веремейковцы, что назад берут свое. Сдается, пожили в колхозе, испробовали рая и вот снова в пекло торопятся. Не гляди, что Вершков или другой кто во всем тебе угождает, делает вид, будто об одном с тобой хлопочет, старается. У них в голове свое, Зазыба. Они сегодня, как на той свадьбе, одним оком на жениха глядят, а другим на невесту, одни слова тебе говорят, а другие при себе держат. Об этом шепнула бы тебе даже земля, если бы говорить умела. Эх, сколько она за сегодняшний день увидела радостных глаз! Вон, к примеру, бабы, что, в три погибели согнувшись, полосы жнут, понимаешь, опять свои полосы, так какие у них глаза? Ты бы поинтересовался. А земля все чувствует. Это только мужики да бабы не хотят перед тобой радость показать. Может, даже жалеючи тебя, из уважения, а может, хитрят. Правду вчера ты сказал на правлении… — Откуда тебе известно, что я говорил на правлении? — огрызнулся Зазыба, словно ему и правда невдомек было, что полицейский тогда же успел обо всем выведать у Микиты Драницы. — Чтоб мне да и не дознаться теперь, что в Веремейках делается! — Как бы не так! Это злорадное Зазыбово «как бы не так» неожиданно привело в замешательство полицая и, наверное, чтобы не выдать своего замешательства, он нагнулся и на ходу, почти из-под ног, выхватил пятнистый, похожий на птичье яйцо, камень, отшвырнул прочь, словно тот помешал ему. Зазыба почуял оторопь своего спутника, усмехнулся. Казалось, после этого Браво-Животовский или окончательно обозлится на Зазыбу, или перестанет лезть со своей болтовней в душу. Ничего подобного. Он снова дернул с досады щекой, вытирая тем временем о штанину руку, которой брался за камень, хотя вряд ли на ней было что, кроме сухого песка, и снова завелся: — Понимаешь, ты грозил мне, как ехали из местечка: мол, сам, по своей охоте лезу в петлю. А ты? Думаешь, по тебе осина наперед не плачет, раз такие протоколы смеешь писать? — Значит, обоим нам петли не миновать. — А это еще как получится. Недаром же говорят: бабка надвое ворожила. — На картах? — А что? — А то, что дрянной ты игрок в карты. — Да уж как-нибудь… — Ну-ну… Браво-Животовский затаенно улыбнулся. — Еще посмотрим, что ты ответишь Гуфельду, почему распустил колхоз. — Какому Гуфельду? — Коменданту. — А-а-а… — Я же твердил тебе — не тронь? — Мало ли что можно болтать. А распоряжения от коменданта твоего я не получал. — Зато я тебе говорил. — Разве что. Но ведь можно и так — ничего ты мне не говорил. — Значит, отказываешься? — А и отказываюсь. — Ну что ж, посмотрим. — Не одна же моя воля была распорядиться так колхозом. Собиралось правление, на нем и решали. Так что… Уж долетали из толпы знакомые голоса. Их беседу мог кто-нибудь услышать. Поэтому Браво-Животовский не стал перечить Зазыбе. Микита Драница, известное дело, и тут не мог изменить своей натуре, чтобы первому не перехватить веремейковское начальство. Как только заметил Браво-Животовского с Зазыбой, так и выскочил из толпы пробкой. — Гляньте, как Рахим его, оленя, укокошил! Микита был в восторге, что так ловко подстрелена не виданная до сих пор в Забеседье рогатая дичина, но терялся, не зная, кому из двух — Зазыбе или Браво-Животовскому — отдать предпочтение, поэтому глаза его по-собачьи виновато бегали от одного к другому и жмурились, должно быть, тоже по этой причине. — Не оленя, а вроде лося, — заторопился поправить Микиту Силка Хрупчик, — потому как у оленя… Но Зазыба не стал слушать Силкиного объяснения. Оставляя Браво-Животовского, который задержался возле Микиты, он скоренько прошел по живому коридору, образованному перед ним как раз вдоль тропинки веремейковскими мужиками и бабами. И вправду на тропинке лежал лось. На мгновение Зазыба вспомнил, как возил в Бабиновичи на спасов день по поручению секретаря райкома Маштакова и незнакомого военного Марылю и как по дороге, за Горбатым мостком, приметил круглый помет. «Значит, это лоси забрели к нам откуда-то», — почему-то совсем не жалея загубленного зверя, подумал Зазыба и внимательно, как и полагалось в таком удивительном случае, оглядел сохатого. Его горбоносая голова, в которую попала пуля, беспомощно уткнулась серым храпом в траву, а из ноздрей тонкими нитями стекала, густея, кровь. Куда именно, в какое место на голове угодила пуля, Зазыба не понял, потому что зверь после выстрела повалился на землю простреленной стороной; тусклая, словно запыленная, белая шерсть на могучей груди была измазана кровью, натекшей на тропинку из невидимой раны. Видно, сохатый не бился в предсмертных судорогах, земля вокруг была не взрыта — ни там, где лежали тяжелые рога, которые еще не успели как следует вырасти в этом году, отростки торчали, словно чертовы пальцы, ни под копытами, узкими и раздвоенными, как у обыкновенного быка. Легкая смерть не изуродовала лесного богатыря. И если бы не кровь да не эта бездыханная неподвижность его, можно было подумать, что зверь заигрался тут и заснул, только неудачно место выбрал, а люди, которые столпились вокруг, шли откуда-то да задержались на минутку, чтобы полюбоваться, а любоваться и правда было чем: лось вырос на воле красивый — с тяжелой грудью и легким, будто для полета косо отсеченным задом, с тонкими, точеными ногами, светлая шерсть на которых подымалась выше колен, с подобранным, словно бы вечно несытым, брюхом, вдоль которого чуть ли не от заушья белела широкая полоса… Зазыба медленно, словно в некой задумчивости, обошел кругом сохатого — впервые доводилось видеть так близко, — потом снова вернулся к изголовью. Обходя то место, где лежали, словно поваленный царский трон, раскидистые рога, он неосторожно зацепился левой ногой за крайний отросток, самый длинный из всех, но голова зверя от этого, кажется, даже не ворохнулась, только больно заныла нога, которую Зазыба ушиб. Пока Зазыба с неподдельным интересом осматривал убитое животное, случилось неожиданное — даже не столько неожиданное, сколько непредусмотренное, по крайней мере на сегодня, потому что самые важные происшествия этого дня уже наверняка состоялись: с утра веремейковцы принялись за раздел колхоза (разве не событие?), а теперь вот Рахим застрелил сохатого (тоже мужикам разговоров на целые годы!). Таким образом, день и так уже был полон значительными событиями вроде бы до краев. Какого еще рожна? Но случилось именно то, чего в Веремейках хотя и со страхом, однако ждали. По одному тому, как вдруг затихли голоса, Зазыба мог догадаться, что людей что-то насторожило. Однако он еще потоптался немного, будто только теперь понимая, как несуразно получилось с этим убийством, он уже готов был разнести и самого стрелка, как услышал лихорадочный шепот, не иначе — кто-то твердил молитву, хотя для молитвы в голосе было слишком много тревоги и плаксивости. Между тем разгадывалось все просто — к суходолу мчались верхом, подпрыгивая в седлах, немцы. И все уже, кроме Зазыбы, видели их — и Чубарь, который боялся выйти на луг из-за можжевельника, и те женщины, что не торопились к кринице, а по-прежнему жали в Под-дубище, и, ясное дело, все на суходоле. Зазыба поднял голову на отчетливый уже топот конских копыт. Рассыпавшись полукругом по склону, всадники, тоже слышавшие выстрел, собирались, видно, застать толпу врасплох, чтобы никто не успел убежать в лес, до которого было рукой подать. Кое-кто из веремейковцев, подчиняясь инстинкту самосохранения, незаметно попятился, стараясь встать за спину соседа. Следом за всадниками, покачиваясь на ухабах, выполз из-за пригорка и покатил по обмежку легкий бронеавтомобиль «хорьх». Зазыба второй раз видел немцев — когда возил в местечко Марылю и вот теперь. Но, в отличие от первого раза, — сегодня он даже не испугался, увидев их. Кажется, ни одна жилка не дрогнула в нем. Хладнокровно обвел он взглядом по самый гребень позолоченную на западе гряду холмов и спокойно-заботливо, как опытный пастух с разбродистым стадом, пересчитал конников. Немцев было девять, разумеется, кроме тех, что ехали в бронеавтомобиле. Но через полевые ворота на гутянскую дорогу уже выступала из деревни целая воинская часть… Зазыба ждал, покуда немцы приблизятся, все больше проникаясь тем, что происходило на его глазах; рассудительность, может, даже и вправду спокойствие, с которым он обнаружил для себя близкое присутствие немцев, постепенно покидали его, и он самым обычным образом заволновался: видно, настроение односельчан постепенно передалось и ему. Как перед великим испытанием, Зазыба глянул в необъяснимой надежде по обе стороны от себя. Справа, почти прижавшись к его плечу, стоял и тоже не сводил испуганно-удивленного взгляда с немцев Парфен Вершков. Оттого, что рядом оказался именно этот человек, сделалось хорошо на душе у Зазыбы, конечно, в той степени, какую допускали время и обстоятельства, но Зазыба готов был признаться, что как раз Вершкова и надеялся он увидеть рядом с собой. Приметил Зазыба в толпе и свою Марфу. Это удивило его — не думалось, что и она здесь. Марфа стояла немного наискосок и сзади, но, казалось, совсем не пялилась, как другие, на немцев, которые уже миновали криницу, словно в душе ее перед ними не было страха. Взгляд ее блестящих глаз был направлен на мужа. В нем Зазыба прочитал недоумение, будто Марфа не понимала чего-то и ловила момент, чтобы разузнать об этом у Дениса. И еще Зазыба увидел, и это вызвало улыбку, которая не успела отразиться на лице и, наверное, была бы неуместной: как прячут под себя квочки от спорого дождя или грозного коршуна цыплят, так и веремейковские бабы, истово крестясь, готовы были заслонять теперь своих дочерей, только бы хватило на это панев и юбок… Чуть не смяв толпу, всадники осадили лошадей Восьмеро из них держали наизготовку короткие, словно обрезанные, карабины. Девятый был офицер. Об этом можно было догадаться даже по фуражке с высокой тульей, на околыше которой блестели вокруг красного, будто подожженного изнутри глазка дубовые листья кокарды с шестью маленькими желудями. Выгибая шеи, рысаки с хвостами, закрученными в узел, перебирали ногами, чуть не становясь на дыбы от натянутых поводьев, и сильно секли подковами отаву. Казалось, ослабь кто из всадников повод, и разгоряченный конь рванется с пеной на губах в гущу толпы, втопчет в землю беззащитных людей. И уж не дай бог, если сорвутся все кони разом… Нахмуренные всадники осмотрели сверху толпу и, не найдя в ней ничего стоящего внимания или просто подозрительного (это прежде всего потому, что среди мужиков стояли даже два полицая с повязками на рукавах), начали вдруг пересмеиваться: видно, нелепыми и забавными в своей растерянности показались им крестьяне, стоявшие вокруг убитого лося, но ни один из кавалеристов и не попытался повесить — как же без приказа! — карабин на плечо. Тем не менее эти глуповатые солдатские ухмылки если уж не снимали оцепенение с веремейковцев, то кое-кому позволили разинуть — и, конечно же, по-дурацки, бессознательно — рот, скаля по примеру всадников зубы и переглядываясь. Но безмолвие царило до того самого момента, пока близко не зачихал запыленный «хорьх», пригнавший на вечерний суходол запахи отработанного бензина, дыма и разогретой краски, которая лоснилась, будто вспотевшая, на низкой шестигранной башенке, спереди которой пошевеливался пулемет. Тогда вроде бы осмелел офицер. Он приподнялся на скрипучем желтом седле, ловко перенес через конский круп правую ногу в сплошь глянцевитом кавалерийском сапоге, с каблука которого сверкнула в глаза селянам серебряная звонкая шпора. Когда офицер, уже стоя на земле, отдал коннику, который случился ближе всех к нему, поводья своего мышастого, тяжеловатого с виду скакуна и двинулся к веремейковцам, нарочито похлопывая по левой ладони, будто шпицрутеном, плеткой-волосянкой, все разглядели, что это был человек с коротким туловищем, который начинал толстеть, наверное, как раз на вольных оккупационных харчах, потому что из-под кургузого кавалерийского френча серого цвета как-то по-утиному выпирал живот, самое настоящее рахитичное брюшко; голова офицера была большеухой, с короткой, до самой красной кожи, стрижкой и маленькой, как у подростка, поэтому и угреватое лицо его со стертыми чертами казалось по-детски маленьким и незлобивым; по крайней мере, этот немецкий офицер внешностью своей даже отдаленно не напоминал тот чистопородный тип, который принадлежал по «расовой теории» германской нации. Правда, последнее обстоятельство совсем не касалось веремейковцев. Они не имели возможности заниматься теперь такими высоконаучными наблюдениями, может, за исключением одного Браво-Животовского, который осмысленно относился ко всему им прочитанному и услышанному. Но у Браво-Животовского голова была занята другим. Сообразив, что офицера, конечно, привлек застреленный лось, полицейский в качестве представителя охраны порядка в деревне бросился через толпу торить дорогу, словно не надеялся, что селяне сами догадаются или, еще чище, захотят расступиться перед немцем. Однако напрасно — мужиков этому учить не надо было. Не успел офицер сделать первого шага, а деревенские уже хлопотливо зашевелились. Подталкивая задами друг друга, они отшатнулись в стороны, открывая проход к лосю, да такой широкий, чтобы офицер не только не зацепился ненароком за кого-нибудь, а и не достал плеткой. И, пока он неторопливо, по-аистиному, шагал, чиркая шпорами по траве и не переставая хлопать по ладони распушенной на конце, будто кисточка, плеткой, от его нескладной фигуры не отрывались взгляды, настороженно-недоверчивые и льстивые, испуганные и хитровато-презрительные — это уже целиком зависело от того, кто как понимал свое гражданское достоинство или даже, если хотите, свою воображаемую вину перед оккупантами. В конце концов, не могли же одинаково глядеть на этого офицера, например, Зазыба или беспринципный, переметная сума — и вашим, и нашим — Драница, добровольный полицейский Браво-Животовский или многодетная Гаврилиха… Наконец офицер дошагал до убитого зверя и остановился у его головы. Тогда снова угодливо бросился к нему Браво-Животовский. — Господин офицер, — начал он не своим голосом, чему немало подивились веремейковцы, — это вам… от нас вот… Это презент доблестной германской армии от крестьян… Браво-Животовский искренне думал, что своим подношением вызовет у немецкого офицера благосклонность, как у мифического божества, но не мог предугадать, что у этого тонконогого и угреватого завоевателя кроме презрения и сознания своего превосходства вдруг шевельнется в душе заурядная охотничья зависть, не зря же он был до войны руководителем местного прусского общества любителей природы и охоты… Когда Браво-Животовский заговорил, показывая на застреленного лося, офицер сделал страдальческое лицо, недовольный, что его отрывают от приятного зрелища; глаза его, глубоко сидящие в орбитах, совсем спрятались под водянистыми веками. Офицер явно обозлился, наверное, как и все мужчины маленького роста, он легко приходил в ярость и скор был на расправу. Но Браво-Животовскому пока было это невдомек. Полицейский подумал только, что немец не понимает его, и повернулся к веремейковцам, чтобы отыскать в толпе Микиту Драницу и уже с его помощью доказать офицеру свои добрые намерения. Микита попался на глаза быстро — они с Силкой Хрупчи-ком стояли почти в проходе, будто сохраняли порядок, чтобы никто не загородил дороги назад. — Растолкуй по-ихнему господину офицеру. — Дак что, как там его, толковать надо? — Ну, что я это им… что мы все вот, кто тут есть, этого лося… Может, для того чтобы услышать Браво-Животовского лучше, веремейковцы вдруг задвигались всей массой и снова, как овцы в стаде, начали теснить друг друга, пропуская кого посмелей ближе к разговору. — Вот же народ! — вознегодовал на это любопытство Браво-Животовский, испепеляя взглядом односельчан, чтобы хоть как-то осадить их. А Микита тем временем переминался рядом, как ошпаренный: во-первых, он так и не услышал от Браво-Животовского, что должен был сказать офицеру, во-вторых, вдруг вылетели из головы нужные немецкие слова. Бедняга силился просеять хоть малую толику их сквозь свою память, но напрасно. Все время почему-то в голову лезла одна и та же полузабытая припевка, в которой неизвестно почему появлялось чужое слово «варум»[14]. «Варум ты не пришел?» — спрашивала у парня девушка и слышала в ответ: «Матка лампу погасила, а я лапти не нашел». Внезапное выпадение памяти грозило не только уронить репутацию Микиты Драницы. Не забывчивость была причиной, ибо Микита неспособен был перевести на немецкий язык любое, чего бы ни захотел Браво-Животовский: хоть и нахватался в свое время разных словечек от своего тестя, однако связать одно с другим не умел, просто они запомнились ему без всякой причинной связи. Между тем Браво-Животовский не понимал, почему Драница мнется. Он как-то недоверчиво переводил взгляд с Микиты на офицера и наоборот, от него не могло укрыться, какая тень ложилась на лицо немца, глаза того были уже не только полузакрыты, но и полны бешенства. Полицейский видел: вот-вот может обрушиться — именно на него, а не на кого другого — все это бешенство… Тогда он бросился спасать дело. — Этот человек понимает по-вашему, — объяснял он офицеру, толкая между собой и ним Микиту Драницу и показывая на пальцах нечто, чего, видно, и сам не разумел. — Ну, говори! — пихнул он Микиту. — Дак что? — Ну про то, что мы этого лося убили нарочно, чтобы встретить подарком представителей новой власти, — словом, скажи ему, что это наш презент доблестной германской армии. Драница закивал полицейскому сплюснутой головой, будто испугался, что не все запомнит, и поэтому предупреждает, чтобы тот говорил ему не сразу, а по частям, потом снял шапку и поклонился немцу. На лице его действительно выразилось предупредительное рвение. Но в голове было прежнее отупение, и ничего, кроме нелепой деревенской частушки с немецким словом «варум», не приходило в мысли. — Варум, как там: его, варум, — затвердил наконец Драница. — Вас?[15] — спросил прерывистым и тонким голосом офицер. — Вас, вас, как там его, — перенял сразу Драница и обрадовался: ему позарез надо было в глазах односельчан выдержать роль переводчика — хотя бы видимость беседы, чтобы избавиться на годы вперед от их насмешек, ведь на чужой роток не накинешь платок. Но офицеру только повторения было мало, больше того, в устах деревенского олуха, которого подсунул ему красномордый верзила-полицейский, оно казалось издевательским, и вообще здесь все делалось словно бы нарочно, разыгрывалось в насмешку; можно было возмутиться уже из-за одного этого, а если учесть еще убитого лося, то и совсем мужикам не стоило ждать милости. Так оно и вышло: внезапно офицер почти молниеносным движением хлестнул по загривку Микиту Драницу, а потом наотмашь и так же мгновенно огрел плеткой, целя через лоб, Браво-Животовского, вложив в этот последний удар, пожалуй, больше презрения, чем ненависти. В толпе кто-то взвизгнул, судя по всему, женщина, и влажный холодок вечерним ознобом пополз за шиворот многим веремейковцам: что, если рассвирепевший немец не остановится на Дранице с Браво-Животовским, начнет перебирать плеткой остальных, ребра пересчитывать? Но напрасно мужики беспокоились. Офицеру хватило двух человек, чтобы сорвать злобу. Под хохот конников, которым видно было сверху все, что произошло между их обер-лейтенантом и мужиками, он, как искусанный слепнями кабан, двинулся по живому коридору назад, к лошади, даже не обращая внимания, что коридор за это время стал много шире. Веремейковцы жались друг к другу, бросая испуганные взгляды: каждый ждал еще горшей минуты. Офицер уже готов был вскочить в седло, как увидел лосенка, который приблизился к тому месту, где лежал на тропинке заслоненный толпой сохатый. Наверное, лосенка не покидала надежда, что сохатый как-нибудь встанет на ноги, сумеет вырваться на свободу. Офицер что-то сказал солдатам, показывая плеткой на лосенка. Тогда один из конников закричал молодым, зычным голосом на весь суходол и орал до тех пор, пока вспугнутый, дрожащий лосенок не помчался — глазом не уследить! — к лесу, этой дорогой ему уже приходилось спасаться от деревенских парнишек. Веремейковцев это еще больше испугало — сейчас немцы пустятся вскачь за осиротевшим телком или затеют пальбу из карабинов вдогонку, но ни того, ни другого те почему-то не стали делать, только поулюлюкали в мальчишеском азарте с минуту, словно забавно им было, как убегал по суходолу лосенок, потом повернули лошадей и, тыча в бока им шпорами, направили галопом по обмежку к гутянской дороге, по которой двигалась из Веремеек в конном и пешем строю маршевая колонна. Бронеавтомобиль тоже заурчал, пуская под резиновые колеса синий, словно меховой, дым; пока запыленный «хорьх» стоял и остывай здесь, из него так и не вылез ни один немец. Страх у веремейковцев прошел быстро, конники еще не успели домчаться до дороги и влиться в колонну, может, именно потому, что вообще ничего страшного не случилось в результате этого внезапного наскока немцев — ну, налетели откуда-то, ну, попугали чуток, даже Браво-Животовский с Драницей отведали плетки (в конце концов, так им и надо!), однако ни шума, ни грабежа не учинили. Правда, никто из присутствующих здесь не знал, успели ли оккупанты натворить чего в самой деревне. Но об этом пока не думалось, потому что острым и странным, во всяком случае, неожиданным было впечатление от первой встречи с немцами, и какое-то время, минуты, может, три или четыре, все веремейковцы, что собрались возле криницы, еще не дышали полной грудью и то крестились по старой привычке — слава богу, на горячем не обожглись, — то нарочито громко кашляли, все равно как отхаркивая из глоток дорожную пыль. Первым подал громкий голос Браво-Животовский— отхлестанный полицай вдруг сплюнул и закричал вдогонку всадникам: — Вы еще меня попомните! — При этом он имел в виду одного обер-лейтенанта, который огрел его плеткой. — Вот я доложу коменданту, он и под землей вас всех разыщет. Будете еще ответ держать за самоуправство! Ясное дело, в душе Браво-Животовский не очень-то надеялся, что бабиновичский комендант накажет когда-нибудь офицера — ищи ветра в поле? — и тем самым поможет ему хоть как-то снова подняться в глазах односельчан, потому и кричал от обиды, беспомощной злости, в расчете на мужиков и на баб. Даже Кузьма Прибытков не стерпел, почувствовал фальшивое и вовсе нелепое его возмущение, сказал насмешливо: — Да это, Антон, еще поглядеть надо. Видел, сколько у этого голенастого, что тебя так с Микитой отделал, нашивок золотых да серебряных? Весь блестел, аккурат посудина, которую песком начищают к обеду. — Старик явно перебарщивал— немецкий кавалерийский френч с боковыми карманами (нагрудных совсем не было) шикарно не выглядел и цветных нашивок на нем было не много, если не считать маленьких погон на плечах да темно-зеленых петлиц на отложном воротнике с серебряными галунами, да еще крылатого желтого орла на правой стороне груди, который держал в когтях свастику, да знака принадлежности к роду войск на рукаве в виде падающих серебряных стрел — Дак ты думаешь, он меньше по чину твоего коменданта? Микита Драница тем временем хвалился счетоводу Падерину: — Мне уж, как там его, палки не показывай. Я сразу вижу, что к чему. Говорю это с ним, как там его, по-ихнему, и сразу чую — недоволен немец. Аж прыщи на лице горят. Вот-вот начнет лупцевать. Ну, я и крутанулся. Зато вывернулся. А он трошки по мне, а то все по махновцу этому. — Почему махновцу? — Дак ты, как там его, неужто еще не слыхал? — Нет. — Дак услышишь. Вишь, как там его, вчера хвастал Животовщик, что Махне служил. Миките словно бы легче стало от сознания, что попало не ему одному. К тому же он понимал — его позор сегодня куда меньше, чем Браво-Животовского… Выходит, свой своего не признал! Недаром говорят: на чужом возу едешь — оглядывайся на задние колеса. Бабы, вроде пристыженные тем, что их мужиков немец избил, начали быстренько расходиться от криницы: кто торопился обратно в Поддубище, где еще до сумерек можно было сжать-связать сноп-другой, а большинство подались по тропинке в деревню. Мужики между тем постояли еще немного, как водится, поговорили, чтобы больше не нагонять друг на друга паники. Парфен Вершков, который в толпе все время держался Зазыбы, по-будничному устало спросил: — Да можно ли его хоть есть? — и тю казал на сохатого, о котором веремейковцы забыли. Парфена будто не касалось, что немцы близко, только поверни голову — и вот они, на гутянской дороге. — А почему нет, раз обыкновенная животина, — ответил добродушно Зазыба, нарочно попадая в тон Вершкову. — А вдруг и-зубом не-возьмешь? — Вон ты о чем! Знаешь, как про мед говорят? Будь, медок, ни горек, ни сладок: сладкий-будешь — сожрут, горький — расплюют. Так и лосиное мясо. Батька мой когда-то кабана ухайдакал топором. Шел мимо озера у Затишья, что ли, а тот и кинься на него вдруг. Говорят, ни волк, ни кабан зря не кидаются на человека, а этот… — Дак, может, кто потревожил перед тем? — Может. Но я не об этом. Мать моя, покойница, помню, морщится да чуть не плюется. Говорит, вонять будет, вывернет потом кишки, если съешь хоть шкварку. А батька не послушался, привез тайком кабана на саночках домой, осмолил за сараем — да в кадку. Хватило потом вволю еды на всю зиму, не от самого ли зимнего Миколы угощались. Звали и сватов, и братов, и кумовьев. — Значит, и этого жевать можно? — А чего же нет? — Тогда распоряжайся, сейчас на любую телегу взвалим — да на двор, благо, что лето. — Ат, — махнул рукой, Зазыба, — не мы с тобой убивали лося этого, не нам мясо его пробовать. Жаль вот только малого. Небось ведь один, бедняга, остался. Пришел откуда-то к нам спасаться, а теперь будет тосковать. Пропадет понапрасну. — Пропадет, пропадет! — Это же надо было идти сюда, чтобы попасть на глаза Рахиму… — А с того теперь, как с гуся вода. — Дак горбатого к стене не прислонишь. — Правду говоришь, Денис, — покачал головой Парфен Вершков и как-то светло, как в-самой великой печали, глянул на Зазыбу, а потом ласково подгреб его под свою легкую руку.III
Наконец солнце перестало слепить Чубарю глаза — сделалось как зимнее, как в самые филипповки, и он мог свободно, совсем не жмурясь, глядеть на все, что делалось и посреди суходола у веремейковской криницы, и на ржаном поле, и на дороге, которая вела из Веремеек в Гутку, обыкновенную для Забеседья деревню дворов на пятьдесят; что стояла: при большаке, до сих пор называемом «катерининским». Но Чубарю все-таки не удавалось просмотреть середину человеческой толпы, чтобы понять, что творилось возле убитого лося, потому что веремейковцы заслоняли все своими суетливыми фигурами. Он хорошо видел только, как примчались туда, покачиваясь в седлах, немецкие конники, потом к оторопевшей толпе подъехал бронеавтомобиль, а потом один из конников спрыгнул с седла на землю и двинулся через толпу к убитому лосю… Тем временем гутянская дорога была перед Чубаревыми глазами как на ладони. Огибая по самому склону веремейковский курган, она выпрямлялась на суходоле и вскорости пропадала за ближним пригорком, напоминая там о себе уже только посаженными деревьями. Совсем рядом ответвлялась от нее другая дорога, поуже, с голыми обочинами; по прямой она прорезала насквозь суходол, чуть ли не у самого леса исчезая за клином. Эта вела тоже в недалекую деревню Мелек. Верней, это была даже не деревня, а небольшой поселок, дворов, может, на двадцать, который вместе с двумя такими же поселками — Городком и Грязивцем — создал новое поселение, лет десять назад, уже после образования колхоза, получившее общее название. Где-то из Мелька и должен был выйти на суходол бабиновичский Хоня с сыновьями-подростками. Однако Чубаревы спутники почему-то запаздывали, может, сели передохнуть на травяной пригорок за тем зеленым мысом, а может, повернули, как и он, на другую тайную тропинку. Как раз этого Чубарю теперь и хотелось, ведь тогда бы Хоня наверняка уж не наткнулся на немцев, которые двигались по гутянской дороге. Но вот толпа возле криницы вроде снова зашевелилась, раздалась в стороны. Из середины ее наконец вышел тот конник, который слезал с седла, чтобы поглядеть на убитого лося. Он еще не поставил ногу в стремя, как что-то закричали у криницы остальные немцы, а еще через минуту стало видно, как вспрыгнул и понесся опрометью к опушке осиротевший лосенок. Мчался, бедняга, прямиком, даже не попадая на дорожку, по которой совсем недавно вел его на водопой лось, но все-таки устремлялся к тому месту, откуда выныривала из леса на суходол тропинка — близко, всего шагах в десяти от Чубаря. Волнуясь и желая удачи лосенку, Чубарь в то же время не спускал глаз и с веремейковской толпы, где все еще возвышались на лошадях немцы. Поэтому для Чубаря не могло остаться незамеченным, как кое-кто из немцев вскинул на уровень плеча карабин, беря на мушку лосенка. Это кольнуло Чубаря прямо в сердце, сперва из страха за лосенка, который мог погибнуть под выстрелами, а потом от сознания собственной уязвимости, — ведь стрелять немцы будут оттуда, напротив, и можжевельник, за которым прятался Чубарь, не мог стать преградой, не мог задержать пули. В неизмеримую долю секунды возможность опасности этой сделалась настолько реальной, что Чубарь даже не впал в оцепенение, на некоторое время, пускай самое короткое, обычно затемняющее четкость мысли или движения. Инстинкт самозащиты, который выработался по дороге сюда и который обострил восприятие окружающего, начиная с людей и кончая предметами и вещами, тут же швырнул его ничком, как что-то полуживое и тяжелое, даже дрогнул топкий торфяник. Но ему казалось, что и этого для спасения мало. Ожидая стрельбы, Чубарь ощупью сполз в какую-то яму слева, похожую на небольшое логово. Однако ни одного выстрела не послышалось. А вскоре и крики утихли на суходоле. Выходило, что понапрасну Чубарь падал на землю и лежал в этой ложбине, как распятый. Пристыженный, он словно бы нехотя поднялся из рас-падины, отряхнул колени свободной рукой и уже потом опасливо глянул поверх можжевельника на суходол. Лосенка на лугу не было. Не иначе — успел забежать в лес. Веремейковцы тоже не стояли на месте, понемногу расходились от криницы, направляясь в гору, а всадники — так те уже гарцевали совсем поблизости от большака, намереваясь присоединиться к общей колонне. В арьергарде чадил бронеавтомобиль. Голова немецкой колонны тем временем вползала на пригорок, за которым скрывался большак. Пристально, будто выглядывая знакомых, Чубарь просмотрел колонну из конца в конец. Она состояла из артиллерии, пехоты и конников. Первыми, возглавляя шествие, двигались три легкие пушки, на зарядных ящиках впереди сидели ездовые и понукали вожжами лошадей. Затем шагала пехота, сбивая с дороги на обочины, поросшие цепкой муравой и раскидистым подорожником, пыль. Кавалерия держалась сзади, она почему-то слегка отставала, образуя небольшой просвет в колонне, — возможно, именно потому, что легко могла догнать всех, двигающихся перед нею. В некоем промежутке, если вообще не в конце колонны, должен был занять свое место и бронеавтомобиль. Но этого, судя по всему, не произошло. Внезапно случилась в колонне задержка, что-то обеспокоило немцев. Чубарь заметил, как остановилась вся колонна и несколько конников помчались из? концах в конец ее, то ли отдавая команду, то ли передавая ее. Тогда и Чубарь настороженно бросил взгляд вдоль колонны, обводя глазами и Суходол, насколько можно было отсюда видеть в стороны, и ржаной склон на кургане, и дорогу из Мелька. Казалось, ничего подозрительного, могущего встревожить немцев, даже и близко не было. Между тем это было не так. По дороге из Веремеек вниз уже торопилась лошадь — под седлом, но без седока. По всему было видно, что лошадь догоняла колонну. Можно был® думать, разумеется, по-всякому: и что она, будучи запасной, где-то отвязалась, залезла в хлеба, и что… Хотя, с другой стороны, подобные догадки были неосновательны уже потому, что лошадь все-таки была кавалерийской, значит, приученной к определенному порядку. Да и терять время в таких: раздумьях не стоило, поскольку дальше случилось как раз то, что само уже создавало полную ясность. Конечно, что-то стряслось с седоком. Но где? От колонны отделилась группа всадников, может, целиком какое-то подразделение, и повернула лошадей назад в Веремейки. А еще одна группа, рассыпавшись по полю и суходолу, принялась сгонять к дороге веремейковцев. Чубарю из-за можжевеловых кустов видно было, как метался там. рядом с немцами Браво-Животовский, помогая им. От него, казалось, ни на шаг не отставал и незнакомец, что застрелил сохатого. «Значит, Браво-Животовский стал полицаем!» — наконец смекнул Чубарь, иначе нельзя было объяснить то, что он вытворял теперь, как нельзя было объяснить иначе и то, что Браво-Животовский открыто носил при себе винтовку. «А кто же это?» — терялся в догадках Чубарь, имея в виду Рахима. И напрасно. Человек был вправду ему незнакомый. «Небось притащился откуда-то в Веремейки вместе с Браво-Животовским», — решил про себя Чубарь, ошибаясь только в одном — Рахима привел в деревню не Браво-Животовский, а Роман Семочкин. Если бы открытие это Чубарь сделал в другом случае, а не теперь, то и реагировал бы на такое обстоятельство скорей всего по-другому. Теперь же он только отметил про себя это обстоятельство как факт, который стоит удержать в памяти. Чтобы не пропустить чего, Чубарь становился на цыпочки, высовывая голову из-за можжевельника, не очень заботясь даже, что станет для немцев случайной мишенью. Но вот колонна, которая приостановилась на некоторое время, тронулась с места и двинулась дальше в прежнем направлении. Через несколько минут на гутянской дороге уже столпились чуть ли не все веремейковцы — мужики и бабы, которые оказались поблизости и которых можно было погнать гуртом. Бронеавтомобиль, не успевший присоединиться к основной колонне, тоже повернул от суходола к крестьянам, и, как только проехал через толпу, которая отхлынула на обочины, конвойные — конные немцы и два пеших полицейских — погнали веремейкивцев к воротам. Но что стряслось? Почему вдруг так всполошились немцы, увидев коня под пустым седлом? Неужто нашелся какой-то храбрец в Веремейках да и пристукнул отставшего гитлеровца? Раздумывая над этим, Чубарь даже перебрал в памяти, кто в Веремейках «способен на такой поступок. Но, кажется, все веремейковские мужики, которые оставались в деревне после мобилизации, были в наличии здесь, на суходоле. Хотя, разумеется, могло получиться иначе. С чего-то жеоказался в Веремейках Браво-Животовский!.. Между тем скоро гутянская дорога опустела — немецкая колонна скрылась за пригорком, веремейковская толпа тоже пропала из глаз, не иначе, подходила уже к воротам. И вдруг в той стороне, возле Веремеек, грянул винтовочный выстрел. Хотя особой неожиданности в этом не было — неспроста же немцы погнали людей в деревню, конечно, на это была причина, — однако, услышав его, Чубарь вздрогнул. Но выстрел остался одиночным, будто случайным, и больше не повторялся. И тем не менее у Чубаря после этого пускай даже случайного выстрела появилось такое ощущение, будто он переместился в иную физическую среду, чем до сих пор. На гутянской дороге тем временем оседала пыль, поднятая недавним движением. Солнце, которое слишком долго, даже необычно долго — то ли помогая здешним жителям, то ли предавая их — лежало на правом склоне веремейковското кургана, наконец не удержалось на нем и скатилось по ту сторону, озарив небосклон короткими вспышками, словно по солнцу, по самому его раскаленному ободку, ударил кто-то невиданным молотом. Небо над суходолом потемнело на мгновение. Но этого вполне хватало, чтобы и луг напротив, и холмистое поле с зеленым картофельником вдали за криницей, и ржаной клин на склоне кургана, тоже уставленный сплошь суслонами, охватили сумерки. Потом внезапно снова посветлело. А вокруг белого облака, что высунуло из-за кургана многослойную шапку свою, засияла чуть ли не всеми цветами радуги широкая кайма. Все на той стороне неба стало рельефным, четким, будто только что проявилось под действием химических реактивов. С поля дохнуло на похолодевший и затененный луг теплым воздухом, запахло можжевельником, словно жгли колючие хвоинки его на костре. И почему-то только теперь, под самый вечер, сделался гораздо ощутимей также и привкус знойной горечи, которая висела над всем этим громадным пространством круглый день. Участь веремейковцев, которых окружили немцы и погнали под конвоем в деревню, по-настоящему вдруг ужаснула Чубаря. Однако стоять на месте да ждать неизвестно чего уже не имело никакого смысла. Потому Чубарь и направился в обход суходола. Шел по опушке, прислушивался, а в душе были такая тревога и такая настороженность, будто нес в себе что-то хрупкое и очень непрочное, будто проходил над обрывом по зыбкой кладке. Спустя некоторое время уже ясно стало, что немцы успели прогнать захваченных веремейковцев через деревенские ворота. А это, в свою очередь, означало, что скоро объяснится и то, ради чего задержаны и пригнаны веремейковцы в деревню. Из Веремеек ни выстрелов, ни дыма. Словно бессознательно, словно не по своей воле направлялся теперь Чубарь к избушке, поставленной когда-то колхозом под лупильню, — как подумалось первым делом про нее, когда выбрался он на опушку, так и застряла она в мыслях до того момента, пока поиски пристанища на первую ночь в Забеседье не озаботили Чубаря. Стояла избушка не очень далеко, на сухом взгорке, скрытая от деревни ольховником. Получалось, таким образом, что лучшего места для ночлега и найти невозможно. Понурый Чубарь наконец обошел по краю леса суходол. Дальше путь лежал через небольшое болото, через топь, отрезанную от основного заболоченного пространства глубокой канавой. По этой мочажине к хат-ке-лупильне вела протоптанная тропинка, но не именно туда протоптанная, потому что нужды не было прокладывать ее как раз тут — веремейковцы, когда им случалось, ходили либо ездили на ту гриву прямиком из деревни; тропинку же люди проторили через болото, направляясь с суходола к засевным лугам, где от века у веремейковцев тоже был покос; тем временем прокопанная вручную канава служила одновременно двум немаловажным целям — сушила от ржавой воды с обеих сторон мочажину и отделяла колхозный массив от государственного. Чубарь углубился по тропке в болотные заросли, прошел шагов полтораста, потом свернул направо и, перескочив через дренажную канаву, двинулся вдоль нее, давя сапогами высохшую торфяную крошку. По обе стороны канавы буйствовали заросли малины, ежевики. С весны и до ранней осени здесь обычно обитало птичье племя. Теперь птенцы вывелись уже, покинули гнезда, но все еще не отлетали далеко — где еще в другом месте найдешь столько ягод? Потому довольно было Чубарю затопать громко вблизи, как птичье царство сразу встревожилось, обеспокоилось присутствием человека. Сперва, слетев в кусты ежевики, пронзительно вскрикнула желна — большой черный дятел, а за ней залопотали крыльями и другие большие и малые птахи, и вмиг ожило, забилось, запорхало все в лесной чаще. На том кусте, с которого слетела желна, было видимо-невидимо ежевики, и Чубарь, углядев темно-лиловые ягоды, не утерпел, стал обирать их, осторожно складывая щепотью грубые пальцы и кидая по одной в рот. Ягоды были разом и сладкие, и кислые, даже винные, поэтому скоро утоляли жажду. Но странно — ягоды, к которым так алчно приник Чубарь, разбудили голод. Вдруг он ощутил его остро, почти нестерпимо, и готов был даже пожалеть, что не прошел мимо ежевики. Но не хватало духу и отказаться от неожиданного лакомства и перестать рвать ягоду с куста, будто и вправду упился он ее вяжущим, забродившим соком. Пора уже было идти дальше, потому что на болото из-под навеса ракитовых и ольховых кустов приметно поплыли сумерки. В мыслях уже продолжая путь, Чубарь тщательно вытер пальцы о листву ежевичника, брезгуя оставлять запачканными, потом вдобавок старательно провел ими по мягким полам своей плисовой толстовки, которая давно служила не единственному своему предназначению. Снова вспомнились ему попутчики. То, что Хоня Сыркин с сыновьями не наткнулся пока на немцев, не оставляло сомнений. Чубарь ведь был свидетелем, как колонна прошла дорогу, которая ответвлялась на Мелек. Чубарь наконец понял, как не хватает ему былых спутников, несмотря на то, что Хоня, покуда они добирались сюда, часто вызывал его неприязнь, вызывал даже злобу — своей подавленностью, каким-то откровенным раболепием: скажет словцо, словно бы в угоду, а потом дает понять или выражением лица, или просто движением, что словцо вынужденное, из одной хитрости и сказанное. Зато Чубарь за дорогу полюбил Хониных сыновей, умных и деликатных, которые почему-то больше жались к чужому человеку, чем к отцу. Чубарю даже приходило на ум, что ребята все-таки не простили отцу смерти матери на той незнакомой мельнице, где довелось провести им в ужасном ожидании немало дней и ночей. Как бы там ни было, но Чубарь не стал слишком любопытствовать да расспрашивать, не иначе, жалеючи их — и сыновей, и отца. Помогая себе руками, Чубарь продрался сквозь ежевичные заросли, снова вышел к канаве. Здесь, направо от нее, открылась взгляду большая купина, поросшая светлым мохом, мутовчатым, порыжелым хвощом, лапчатыми петушками с темно-багровыми, как у тетеревов, гребнями и дымчатым, словно туманом повитым, камышом, между метелками которого чернели вылупившиеся пестики. С той же стороны, но у самой канавы, была выкошена изрядная прогалина в осоке, которая так и осталась лежать не сгребенной — то ли рукой махнули, уверившись, что этим летом и без нее незапретной травы будет вдоволь, только успевай косить, то ли, наоборот, человека, который плотно орудовал тут косой, не оказалось теперь в деревне. Говорили, что когда-то вместо этой купины булькало здесь болотным газом так называемое чертово окно, которое образовалось от глубоко, на несколько саженей в глубь выгоревшего торфяного нутра. Правда, свидетелей давнего пожара с тех времен в Веремейках не осталось, поумирали все, однако слухи жили. Рассказывали также, что на купине этой водятся настоящие орлы. Чубарю даже вздумалось как-то летом поинтересоваться ими. Однако напрасно, — придя сюда тайком, он зря потратил время, не увидев ни одной большой птицы, которая хотя бы отдаленно напомнила орла. Разочарованный председатель посмеялся было над этим при Кузьме Прибыткове. Тот усмехнулся в ответ снисходительно — мол, болтают же люди… Но в Веремейках вообще много о чем рассказывали, прямо сказать, слишком всерьез. Например, всерьез утверждали, что отсюда не улетают в теплые края ласточки, словно бы зимующие в каких-то ямках на дне Теменского озера, в версте от деревни… Припоминая теперь это, Чубарь неожиданно понял, что думает о веремейковцах не столько с необидной снисходительностью, сколько с какой-то трогательной привязанностью, — пожалуй, в его практике, в его отношениях с ними это было совсем новое чувство, которого он до сих пор вот так четко еще не изведал. Как же они теперь там, в деревне? Чего от них домогаются немцы? «Конечно, я мог бы тогда оттянуть внимание немцев на себя, просто взять да выстрелить хотя бы по тому броневику, который некоторое время оставался у криницы один. Но помогло бы такое заступничество веремейковцам? Скорей, наоборот. Немцы выделили бы из колонны еще одну группу, которая кинулась бы через суходол прочесывать лес. В итоге — ни ущерба немцам, ни пользы веремейковцам не принес бы своим вмешательством, а шуму напрасно натворил бы. Да хорошо еще, если бы одного шуму!..» Размышляя так, Чубарь вдруг услышал, как кто-то прыгнул совсем рядом. Топот был легкий, как у зайца, когда тот, поднятый с удобного лежбища, пытается незаметно уйти от опасности. Чубарь круто обернулся, верней, ему довольно было повернуть голову. По эту сторону канавы, всего шагах в шести, растопырив по-телячьи передние ноги, застыл лосенок. В темно-вишневых глазах его Чубарь ясно увидел что-то невыразимо трогательное и доверчивое, в грудь даже ударила горячая волна, которая возникает в минуту неожиданной, нежеланной нежности. — Ах ты, бедное!.. — скорей подумал, чем вслух произнес Чубарь, боясь сделать лишнее движение. Лосенок и без того намучился сегодня, Чубарь сам видел это, и даже нечаянно отпугивать его было жалко. И он некоторое время стоял неподвижно, словно оцепенев, пока не затекла шея. Неудобную позу надо было менять, долго так Чубарь не простоял бы, как бы ни хотел. Торчать среди болота и ждать темноты ему тоже никак не улыбалось. Поэтому он остудил в себе горячую волну и отвернулся. Потихоньку, без лишнего шума, Чубарь зашагал вдоль канавы дальше, уверенный, что лосенок тоже поспевает за ним. Один раз ему даже показалось, что тому надоело идти следом. Но, когда оглянулся, чтобы убедиться в этом, лосенок по-прежнему топал близко, шагах в десяти. Наверное, он боялся остаться впервые в одиночестве в темном лесу и в Чубаре инстинктивна почуял спасение для себя, почуял в его взгляде жалость и поверил ей.
Вот и конец болота. За ним начинались засевные луга, где по старицам, которые не каждое лето заполнились водой, рос явор. Веремейковцы почему-то называли луга эти добавками, но Чубарь так и не дознался почему именно, просто не выбрал времени, да и в голову это западало обычно при случае, как что-то вовсе не значительное. В конце концов, оно и вправду так — и мысль, если рассудить серьезно, ничтожная сама по себе, и случай не всякий раз выпадет. Ступив с края болота на луговую кудель, Чубарь долго и увлеченно возил подошвами взад-вперед, очищая сапоги от налипшей болотной грязи, будто собирался заходить через минуту к кому-нибудь в дом. Пока он прошел вдоль канавы по болоту, смерилось. Однако густой темноты на вольном воздухе не было. В небе, повиснув над лесом, который выступал неровным гребнем справа, уже прорезался нечетким, словно еще не совсем проявленным силуэтом месяц. Это он, став на грани между днем и ночью, между светом и темнотой, не давал сгуститься вечеру, освещая вокруг доступные для него уголки на земле. Не только здесь, на засевных лугах, но и повсюду в Забеседье лежала спеленатая тишина. Словно не поверив в нее, Чубарь повернулся лицом в ту сторону, где за холмистым яровым клином были Веремейки. Снова тревогой опекло его. Снова в душе шевельнулась досада, и снова подумалось ему о том, что он все еще не может ничего сделать здесь. Но и оттуда, из Веремеек, не доносилось сюда ни звука. Лосенок стоял почти рядом — и не удалялся и не приближался, как будто хорошо знал то немеряное расстояние, на котором ему надлежало держаться от человека. До избушки-лупильни, где Чубарь намеревался сегодня найти себе пристанище, оставалось миновать засевные луга, потом чуть свернуть к деревне. И Чубарь пошел. Теперь совсем не сомневаясь, что лосенок и дальше побежит за ним. Поэтому даже не прислушивался и не оглядывался. Доверчивость осиротелого животного все время как бы омывала его нежностью и наконец повернула Чубаревы мысли па самого себя, вспомнилось ему вдруг его сиротство. Чубарь даже удивился, что такая мелочь может вызвать неожиданные ассоциации. Это все от одиночества, подумалось Чубарю, будто и вправду надо было что-то объяснять и оправдываться… Чубарь осиротел с девяти лет Родителей его похоронили на деревенском кладбище в один день, потому что померли они тоже в одночасье от тифа — сперва, под утро, мать, за ней отец. Тогда по всем деревням гуляла эта зараза, косила народ. Из-за нее не повезло многим, а девятилетнему Родьке Чубарю так хуже всех пришлось. Житье свое в детской трудовой коммуне он почти не помнил, мало чего сохранилось в памяти и со времен учебы в землемерной школе, зато хутор и его хозяина никогда не забывал, хоть и работал там недолго, всего две зимы, разумеется, с весной, летом и осенью между ними. У хуторянина не было своих детей, и неизвестно, для чего и кому он копил богатство, но из батрака вынимал душу. Батрачили они на хуторе вдвоем — Родька и Тимоха Сачнев, который доводился хозяину чуть ли не двоюродным братом и который лет на пять был старше Чубаря. Но родство не шло в счет, разве что Тимоха был к тому времени в какой-то мере уже взрослым человеком и смел показывать характер, если чересчур наседал хозяин. Чубарь же чувствовал себя совсем беззащитным, потому на нем, как говорится, и ездили все, кому вздумается, включая того же Тимоху. Правда, младшего батрака порой жалела хозяйка, тихая женщина, которой из-за ее бездетности тоже жилось несладко в этом доме. Но сочувствие ее Чубаревому сиротству часто оборачивалось хозяйской лютостью, — углядев, что жена нарочно выгадывает, чтобы младший батрак поспал побольше, муж зверел, орал на весь хутор, грозя выгнать со двора и лодыря, и его заступницу. Его не трогали даже женины слезы: «Побойся бога, он же несчастный, один на всем свете!» «Теперь отбою нет от таких несчастных, — как правило, резонно доказывал хуторянин, чуть не топая со злости ногами. — Неужто я виноватый, что их так много? А может, я сам не рву жилы на этой вашей работе?» Действительно, хозяин так же хватался за цеп или за вилы с самого рассвета и потом не выпускал из рук целый день. Хозяйка, случалось, говорила батраку: «Что ты, дитятко, думаешь себе? Утекай от нас, не на одном же нашем хуторе свет клином сошелся!» Но работы по хозяйству было пропасть, хозяйка постепенно и сама за ней забывала про человеческую жалость. Да и куда было податься Чубарю, который немного чего повидал в жизни? Даже трудовая коммуна и та не научила его тому, чему обычно другие весьма быстро учатся. Правда, здесь при всей Чуоаревой несообразительности причиной, видно, было то обстоятельство, что, несмотря на сиротство, он все-таки не был в полном смысле беспризорником, ибо сразу же из крестьянской хаты попал в детскую трудовую коммуну. Но и понять его тоже было можно — чего-чего, а харчей добрых хуторянин не жалел, чтобы батраки проворней управлялись на гумне или в поле. Чего тогда от добра добра искать? Еда тоже немало значит в жизни, особенно если человек вдоволь наголодался!.. Вышло само собой, что Чубарь покинул хутор. Под самую весну он однажды выпустил из хлева овец, а загнать вовремя обратно забыл. А тем словно снилась всю зиму воля; не успели хозяйские бяшки сбежать с солнечного двора, как на опушке напали на них волки. Ну, и недосчитался вечером хуторянин в стаде двух баранов и одной ярки. Известное дело, отвечать пришлось Чубарю, но он все ж таки как-то крутанулся и выскользнул из цепких хозяйских пальцев. Помогло Чубарю вырваться только то, что хуторянин удерживал его одной рукой, а другой тем временем с потягом охаживал по спине палкой. Кто после такой экзекуции добровольно захочет вернуться назад? Не вернулся и Чубарь. Снова подался в трудовую коммуну, еще не зная, что ее к тому времени успели распустить. Несколько последующих месяцев Чубарю пришлось жить случайными заработками по окрестным деревням, а потом кто-то посоветовал ему поступить в школу землемеров, благо туда набирали учеников чуть ли не так же, как в старые годы в государственные сельскохозяйственные школы. Долго, очень долго просыпался Чубарь по ночам, чувствуя во сне удары палки… Хотя напрямик идти было не так и много, Чубарь добрался до хатки-лупильни, когда месяц на небе уже набрал зрелого блеска. Теперь пригорок, к которому притулилось это неуклюжее строение, похожее на заурядную крестьянскую баню, сплошь был залит сизым лунным светом, а узкая тень падала наискось, достигая готическим верхом самого его подножия. Нынешним летом кто-то разводил тут, на пригорке, костер, может пастухи, и шагах в двадцати от хатки до сих пор еще чернела груда пепла, как от сгоревшего хвороста. Рядом лежала сгнившая березовая колода. Она фосфорически светилась, и издалека казалось, что там дотлевали угли. Дверь в лупильню осталась после кого-то растворенной, значит, наведывались сюда люди и по нынешним временам. В незаконченной пристройке белела на земле порванная бумага. Она лежала, не прибитая дождями, и можно было догадаться сразу, что ее бросил кто-то здесь в один из этих, уже сухих дней. Чубарь взялся за притолоку, собираясь зайти в хату, но что-то живое шевельнулось на пороге, развернулось упругой молнией и шмякнулось вниз по ту сторону. Чубарь вздрогнул от неожиданности, но успел все-таки разглядеть и понять, что потревожил сонного ужа, который заночевал на пороге. Узнал он его по красным щечкам, которые блеснули при свете месяца. Не иначе, ползун выбрал здесь себе постоянное жилье, может, даже вывелся под полом, если, конечно, не приполз откуда-нибудь с болота. Чубарь с детства не мог спокойно смотреть на такие создания природы, как этот уж, они всегда вызывали в нем холодок омерзения, даже страх, однако теперь почему-то он пересилил гадливость и решительно вошел в дом. Через застекленное оконце в боковой стене снаружи проникал свет месяца, падая снопом на дощатый пол. Свалившись с порога, уж куда-то уполз, может быть, в щель между неплотными половицами. Чубарь громко потопал для верности по полу, потом чиркнул о коробок спичкой. Напротив оконца, у другой стены, стоял топчан, вроде полка в деревенской бане: просто кто-то положил на еловые кругляки три широких доски, на которых хватало места человеку улечься во весь рост. Держа спичку в руке, Чубарь сел на топчан, поерзал на нем, как бы испытывая на прочность. Спичка между тем догорела и, обжегши пальцы, погасла. Однако темно в хатке стало только на мгновение, потому что глаза довольно быстро привыкли к тому свету, что проникал через оконце и двери, которые Чубарь тоже оставил открытыми. Чубарь повалился на топчан головой к стене, будто в обмороке, потом повернулся вдоль и положил на доски чуть ли не пудовые ноги. Странное дело — он засыпал теперь быстро, только приваливаясь к чему-нибудь боком, несмотря даже на сырость, а тут долго не мог сомкнуть глаз, как будто что ему мешало. Снаружи было слышно, как топал вокруг хатки неспокойный лосенок. Но чем мог утешить его Чубарь? Между тем на порог вскоре снова вполз уж и лег там кренделем, скрутившись в несколько раз. Близкое присутствие успокоившегося человека, выдающего себя только дыханием, наверное, совсем не пугало его. Чубарь обнаружил ползуна много позже, когда невзначай глянул с топчана через раскрытые двери в пристройку. Но в этот раз он отнесся к его появлению спокойно, без брезгливого содрогания, даже не подумал, что надо бы каким-нибудь образом избавиться на ночь от неприятного соседства. В Веремейках тоже в эту пору еще никто не спал, кроме разве детей. …Зазыба с Парфеном Вершковым не успели отойти тогда от криницы слишком далеко, торопиться уже было некуда на исходе дня: ржаной клин на склоне веремейковского кургана теперь имел вид неряшливо подстриженной овчины; правда, оставалось еще перемерять на полосы и тот клин, что между Мамонов кой и Кулигаевкой, но с жителями обоих поселков, которым он достался, — Сидор Ровнягин все-таки добился своего, отвоевал у веремейковцев, — была договоренность, чтобы перенести остальной раздел на завтра. Это что касалось общественного дела. Но про него вдруг как-то забылось: то, что немец нежданно отхлестал веремейковского полицая, а с ним и его прихвостня, теперь беспрестанно веселило деревенских. Парфен Вершков с Зазыбой тоже все время держали в голове этот странный случай и внутренне прямо ликовали. Правда, жалели и лося, которого застрелил Рахим. Но чаще мыслями цеплялись за одно. — Дак, говоришь, свой своего не признал? — радостно подмигивая, качал головой Парфен Вершков. — Как в том старом анекдоте, — смеялся Зазыба. — Во-во! — А что, будет Антон жаловаться коменданту? — Еще чего! Не такой он дурак! — Дак и я думаю, что не такой. Но теперь-то ему хоть глаза чем заклеивай. Ведь битый полицай — все равно что битый пан. — Прямо настоящее чудо. Такого от немца дак уж никто и не ждал. Не зови черта братом! — Ничего, расторопному мужику тоже наука потребна. — Дак это так, это чья душа что примает. — Словом, недаром говорят — век прожил, а ума не нажил. Так и Микита наш. — Да ведь говорят и по-другому — не торопись учиться. — Ну, а как же! Хорошо учить умного. Экий же шалый этот немец! Откуда наскочил? — Правда, шалый. Га-га-га! Ну да ладно. Нехай теперь Браво-Животовский на свой хвост побрешет. — Нехай. Я не против. Я, Парфен, за то, чтобы дурак с дураком лаялись, а умный с умным потешались. — Хвала всевышнему, что с остальными все обошлось. Кажется, немцев пронесло мимо. Небось в Гут-ке ночевать собираются, если чего другого не задумали. Парфен будто сглазил — немцы на гутянской дороге вдруг забеспокоились: сперва остановилась колонна, а потом во все стороны поскакали конники. — Чего это они? — встрепенулся Зазыба. — Не иначе — передумали, — цокнул языком Парфен Вершков, в голосе его было разочарование. А Зазыбу мгновенно как в жар бросило — что-то стряслось!.. В то время никто и не заметил одинокого коня под пустым седлом, который рысил вниз по гутянской дороге. Вспотевший верховой подлетел по перелогу к Зазыбе с Вершковым, разделил их, оттеснив друг от друга каурым жеребцом. Он что-то залопотал явно угрожающе и стал махать плеткой в сторону гутянской дороги, куда уже гнали со всех сторон остальных веремейковцев, за это время не успевших далеко отойти от криницы. — Что стряслось? — громко крикнул Зазыба, когда они с Парфеном Вершковым наконец оказались среди толпы под конвоем. Ему не ответили: уже ворчал близко знакомый «хорьх», и веремейковцы, пугаясь, отбегали на обочины, освобождая дорогу. Неизвестность точила душу. Странно, но Драница тоже стоял в толпе — уже небось посчитал за лучшее держаться в стороне от Браво-Животовского. Знал ведь, бестия, бьют иной раз за то, что перегнул палку, но может попасть не меньше, если даже не больше, и за то, что не догнул. Как бы и ему заодно не попало. Тем временем Браво-Животовский, хоть и побитый, не затаил обиды на немцев. И выслуживался искренне — то на удивление резво, несмотря на свою грузность, обегал веремейковцев, словно боялся, что те не захотят стоять на месте, то торопился опять к немцам, вроде бы для того, чтобы спросить у них, получить новое задание, и большей частью задерживался все возле одного, который, видно, и был за командира. Немец этот — лицо широкое, с крупным носом, который начинался чуть ли не с середины лба — при своем росте выглядел слишком толстым для ловкого конника. Зазыба слышал, как приглушенно гомонили вокруг веремейковцы, все, конечно, бабы, потому что парни, казалось, стояли в толпе молча, но по всем — и по мужчинам, и по женщинам — было видно, что прежнего страха, прежней растерянности, которые владели крестьянами еще совсем недавно, на суходоле, теперь не ощущалось, по крайней мере, ничего похожего на лицах односельчан Зазыба не приметил, будто после случая у криницы те не верили, что вообще что-то может угрожать им. Надымив, броневик наконец проехал через расколотую на две части толпу и, не останавливаясь, покатился с горки к раскрытым воротам. Оказывается, верховые только и ждали этого. Сразу же запрыгали в седлах, замахали плетками. — Скорей, скорей! — начал подгонять веремейковцев и Браво-Животовский. Уже на подходе к воротам к Зазыбе в толпе протиснулся Драница. — Денис, как там его… — Что? — Дак… — Драница явно искал Зазыбова взгляда. — Что тут стряслось у вас? — спросил Зазыба. — Дак… Конь ихний прибег пустой из деревни. — Ну и что? — Как что? Может, кто наш, как там его, пристукнул… — Глупости, — сказал уверенно Зазыба. — Наши все были здесь. Сам же знаешь. — Дак… — А у тебя небось поджилки дрожат? Ай уж не надеешься на дружка? — На Животовщика, как там его? Да ведь вон как старается! — Ну что ж, — спокойно ответил на это Зазыба, — не хотела собачья лапка лежать на лавке, дак придется упасть под лавку. — Ну да, как там его, — что-то не поверил в Зазыбову аллегорию Драница. — Антон завсегда сухой из воды выйдет. Для него все равно, черное ли, белое ли. — Как бы не так, — насильно усмехнулся Зазыба. — Ты же сам, бывало, в компании любил приговаривать: придет коза до воза, а мы ей кнутик. Помнишь? — Дак, как там его… — Вот видишь, тык-мык — и сказать нечего. А все потому, что учат тебя поздно. Драница мигнул, словно заплакал. — Дак без муки нема и науки. Но что с нами будет? Куды нас ведут? — Сам же видишь, в деревню. А в конце концов, поинтересуйся у своего дружка, тогда и мне подробно расскажешь. — Дак… Зазыба поискал взглядом Парфена Вершкова. — Слыхал, что говорят? — спросил он через головы. — Слыхал, — ответил Вершков, пробираясь ближе. — Я что-то не верю. При чем здесь лошадь? Мы же все были вместе! — Дак и я прикидывал уже. Выходит, так. — А там… Словом, надо, Парфен, глядеть, чтобы не принудили нас латать дырявые портки. Солнце заходило за лес чистым. Зацепившись за макушки деревьев над озером, оно уже ровно догорало там. Внезапно на дорогу, прямо под ноги веремейковцам, выскочила из картофельных борозд собака. Это была Хрупчикова лайка, и ее все узнали — по закрученному бубликом хвосту, по красному языку, который вечно ходуном ходил, даже в лютый мороз. Собака Хрупчикова вообще была безобидным животным, она мало когда пребывала в деревне, все бегала безголосо по округе, гоняла кого-нибудь вдоль и поперек по засеянным полям. Во всяком случае, ни лая, ни злобы ее в Веремейках никто не помнил. А тут тихоня нечаянно вякнула, будто с перепугу, на знакомых людей, отскочила на обочину и кинулась к конвоиру, ехавшему по правой стороне, норовя вцепиться зубами в свешенную ногу в стремени. При этом она громко гавкала, легко, как мячик, подскакивала, даже конь под седоком заволновался не на шутку, пошел боком, спотыкался и пятился. — Силантий, — встревожился кто-то в толпе, — позови ты, ради бога, собаку свою, а то… Но Хрупчик не успел и слова вымолвить — конвоир моментально сорвал карабин, что наискось висел у него за спиной, и, даже не щелкнув затвором, выстрелил в разъяренную собаку, которая сразу же ткнулась мордой в заросшую травой землю, забилась в судорогах, будто глотнула с хлебной приманкой быстро действующей отравы. Веремейковцы, на глазах у которых свершилось это, в ужасе втянули головы, даже сбились с ровного шага. А какая-то женщина запричитала в голос, но тут же испуганно подавила плач. — Ну вот, дожили, — сказал кто-то, — и заступиться некому. — Кто ж это полезет теперь на рожон? — послышался ответ, и Зазыба узнал — голос вроде бы принадлежал Ивану Падерину. — Вон, собака только загавкала, и то… — Жалко собаку… — Что уж тут плакать по шавке, коли день такой — что худо, то и лихо, — сказал Силка Хрупчик, которому, может, пока одному было о чем горевать — за воротами при дороге осталась лежать его собака. — Оно так, — поддержал Хрупчика кто-то из женщин, — только пусти первую слезу — за ней сразу другая потечет, потом и не удержишь. Зазыба ступал по мягкому, будто горячая зола, дорожному песку и, теряясь в догадках, томительно просеивал через свою рассудительную голову все, что приходило на ум, однако дойти до чего-нибудь путного не мог: правда, куда, ну куда и для чего гонят под кок воем веремейковцев? Раскрылась загадка только в деревне. Не сама загадка, а всего только причина, разъярившая немцев. Когда веремейковцев наконец пригнали на майдан против бывшей колхозной конторы, там уже стоял знакомый броневик. Несколько спешившихся всадников, которые успели сюда раньше, похаживали с карабинами вдоль штакетника под окнами. Лица у немцев были напряженные, даже растерянные, во всяком разе, так показалось веремейковцам. С броневика тут же при всех слез рослый, перетянутый в талии офицер с очень спокойными светлыми глазами. На нем ладно сидел зеленый френч — черные отвороты на рукавах и такой же черный воротник с зеленой окантовкой. На груди, продетая в петельку для пуговицы, краснела малиновая лента, а на рукаве с правой стороны блестел значок офицера полевой жандармерии — серебряная стрела на золотом поле. Жандарм приблизился к веремейковцам, которые, оказавшись на майдане, сбились еще тесней, повел по лицам глазами, словно искал среди этих людей кого-то, кто был ему крайне нужен, потом круто, одним коротким движением повернулся спиной и мерно, будто считая шаги, направился к штакетнику. Потом так же снова повернулся к веремейковцам и чуть ли не след в след, не убыстряя и не замедляя хода, вернулся на то место перед толпой, где уже раз останавливался. — В вашей деревне исчез наш солдат, — начал он по-русски чистым, литой меди, голосом, нисколько не повысив его, но так, что слышно было самым задним. — Я предупреждаю: если через десять минут солдата не разыщут, обвинение ляжет на всех вас. Если же солдата найдут убитым, обвинение опять же ляжет на вас. Но в этом случае, чтобы избежать наказания, вы должны будете назвать убийцу. Иначе расстреляем всех. Ни единая капля крови, даром пролитая солдатами великого фюрера, не может остаться без отмщения. Вы все обязаны знать об этом, знать сегодня, завтра, знать всегда. Кто староста? Услышав, что именно ему, а не кому-нибудь другому первым надо откликнуться теперь, чтобы ответить на поставленный вопрос, Зазыба протиснулся вперед, произнес совершенно спокойно и тоже не слишком громко, совсем так, как говорит офицер: — В деревне нету еще старосты. — Почему? Зазыба простовато пожал плечами, склонив голову слегка набок, но вдруг спохватился, что держит руки по швам, и тут же заставил себя согнуть правую в локте, дотянуться ею до носа и щипнуть за самый кончик — это было его излюбленной привычкой в затруднительные моменты. Офицер, видно, тоже понял Зазыбово движение, поэтому особенно пристально вгляделся в его лицо, которое совсем не показалось ему простоватым, слегка прищурился и сказал с явным поощрением: — Отлично. — Но тут же поманил средним пальцем левой руки Браво-Животовского, который стоял наготове неподалеку. — Господин полицейский, кто из ваших людей оставался тут, в деревне? — спросил он, чтобы услышали и остальные. — Не знаю, — ответил Браво-Животовский, сразу принимая виноватый вид, мол, неожиданно это случилось, потому и не мог предусмотреть. — Разузнайте и доложите! — приказал ему офицер. Браво-Животовский подскочил ближе к толпе, крикнул нетвердым голосом: — Кого не было в Поддубище? — Верней, кто был в это время в деревне? — поправил его жандарм* совершенно не выказывая раздражения, которое, конечно, кипело в нем, несмотря на внешнее спокойствие. — Да, кто оставался в деревне? — уже совсем теряясь, крикнул Браво-Животовский. — Дак, сдается, никого, — шевельнулся в толпе Силка Хрупчик, почему-то слегка приседая. — Все ж наши в Поддубище ходили. — Ты сам видел, Антон, — подал голос из-за спин деревенских и Роман Семочкин, который после случая у криницы надолго притих и совсем не обнаруживал своего присутствия — Мужики все были на разделе. Это можно даже теперя перечислить. А бабы… Дак бабы, сам знаешь… — Да не могли наши бабы убить человека, — несмело отозвалась Рипина Титкова. — Это же не петух… Браво-Животовский повернулся к офицеру, вздернул плечи — мол, сами видите. Но тот не принимал никаких оправданий. Согнул руку в локте и глянул на круглые, похожие на компас, желтые часы. — На размышление вам две, нет, даже две с половиной минуты. Если за это время не будет найден наш солдат, обвинение ляжет на вас. Если же… — И он опять почти слово в слово принялся повторять то, что говорил раньше. Странно, но только теперь веремейковцы по-настоящему поняли реальность угрозы. — А, людочки, что ж то будет! — заголосила с краю Ганнуся Падерина, почему-то отталкивая от себя плотно стоявших женщин. Веремейковцам вроде бы только одного ее крика и не хватало. Толпа вдруг пришла в движение, загомонила, насторожились конвойные, задвигали вскинутыми карабинами. Только никто из деревенских не посмел сделать и шага ни вперед, ни назад. Женщины, как самые неустойчивые, эмоциональные натуры, начали проклинать предполагаемого убийцу, из-за которого немцы собирались порешить всех. Зазыба, услышав возмущенные голоса, подумал тревожно: что ж это делается? Сам он страха не ощущал, все равно как назло, наперекор тем, кто поддался панике. Больше всего, кажется, хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого. Но вот кто-то крикнул: — Ведут! Ведут! И правда, по улице к майдану немцы вели, толкая прикладами, какого-то мужика. Оказывается, все это время, пока веремейковцы стояли под охраной, остальные немцы — а их оставалось немало — шныряли по деревне, обыскивая все закутки. Мужик спотыкался от сильных толчков, однако не падал. Вскоре веремейковцы узнали его. Это был придурковатый Тима из Прудков. Его знали все, от мала до велика, и не только в Прудках да Веремейках. Такие люди, как Тима, обычно известны по всей округе, а уж по ближайшим деревням наверняка. Этого человека природа наделила великой силой, но отняла разум. Правда, к нему порой возвращался здравый смысл, и он нормально воспринимал все, что ему говорили и чего от него хотели. Тогда кому хочешь любопытно было побеседовать с Тимой. Как раз поэтому ходили слухи, что болезнь с ним приключилась позже, когда он служил где-то на корабле. Известное дело, в самих Прудках нашлись бы люди, которые могли рассказать про Тиму подробнее, однако почему-то никто уже и не хотел другого толкования: Тима прудковский да Тима. Как всегда бывает в таких случаях, за ним гонялись повсюду ребятишки, дразнили обидными словами, строили рожи да показывали языки. Жил Тима в Прудках одиноко. Была у него еще отцова хата. Но печь топил редко, может, только в лютые морозы, а то все лежал в лохмотьях на печи. Всей живности в хозяйстве была одна корова, которую не всякий раз он вспоминал подоить, хотя весьма аккуратно смотрел за тем, чтобы хватало в хлеву корма, — таскал из колхозных стогов в дырявом пехтере сено, клал сразу же в ясли и успокаивался до следующего раза. Сам он кормился большей частью по людям. Приходил в дом, садился за стол вместе с хозяевами, а если в хате не было хозяев, сам на пороге брался за ухват, доставал горшок с варевом из печи. Делал Тима так и в Прудках, и в Веремейках, даже наведывался в Бабиновичи, — одним словом, чувствовал себя непринужденно всюду, куда бы ни попадал. И вот теперь этого юродивого вели на веремейковский майдан. К жандармскому офицеру подъехал верховой, тот самый, с большим носом, и что-то стал объяснять. Другие немцы, не ожидая команды, подвели к штакетнику Тиму и силой заставили его повернуться к майдану. Даже за те десять или немногим больше шагов, которые отделяли теперь юродивого от веремей-ковцев, можно было понять по его лицу, что бедняга пока ничего не понимал во всем происходящем, только таращил с какой-то нечеловеческой злостью словно невидящие глаза да время от времени хватался корявой ладонью за челюсть, — видно, болела она от удара. Неухоженный, ощетинившийся Тима напоминал скорей не человека, а человекообразное существо, которое как бы заставили подняться на задние лапы. Но вот он вдруг узнал в толпе кого-то из веремейковцев, а может, и всех, и в явной радости разинул улыбающийся рот. Тем временем офицеры — и жандармский, и тот, кавалерийский, — закончили переговоры и оба подошли к юродивому. Казалось, они заговорят с ним. Однако жандарм повернулся к толпе, спросил на расстоянии: — Кто знает этого человека? Но на веремейковцев вдруг тоже будто помрачение нашло. Никто не ответил, люди словно не понимали, чего теперь от них хотел этот немец с голосом то вкрадчивым, то строгим, даже грозным. К тому же никто не верил, что Тима вообще способен на убийство. — Итак, не знаете? — злорадно усмехнулся жандарм. — Тогда я скажу. Это переодетый красноармеец. И это он убил в вашей деревне нашего солдата. По законам военного времени вы также несете ответственность за убийство, потому что свершилось оно в тылу нашей армии — в вашем селе. Вы скрывали у себя этого красноармейца! Ждать дальше уже было нельзя. — Мы знаем этого человека! Из самой середины толпы выбрался на край Парфен Вершков. — Мы знаем его! — зашумели тогда наперебой и другие мужики. Но жандармский офицер смотрел на одного Пар-фена. — Никакой он не красноармеец, — уже почти злобно сказал Парфен. — Это Тима из Прудков. Он не в себе, понимаете, пан офицер? — Что значит не в себе? — будто смутился от Парфеновой напористости жандарм. — А то, что он хворый, — посмотрел прямо в глаза фашисту Вершков. — Чем хворый? — На голову хворый! — Идиот? — Да, дурной. Офицер бросил недоверчивый взгляд на Браво-Животовского. Тот издали покрутил у виска пальцем. Видно, жандарм такого поворота дел совсем не ждал. У него вдруг задрожал подбородок — нет, он не засмеялся, чтобы хоть так выйти из нелепого положения; ему в конце концов изменила его показная невозмутимость. И он закричал на Парфена Вершкова в бешенстве: — Туда! Становись туда! Становись рядом с этим вашим идиотом! Жандарма вывело из равновесия не только то, что человек, которого поймали солдаты в чьем-то дворе, оказался просто-напросто деревенским идиотом. Его взбесило сознательное и спокойное заступничество этого пожилого крестьянина с твердым взглядом, в котором не было не только страха, но даже и признака малейшего угодничества. К тому же на жандарме лежала ответственность — выяснить главное: куда исчез солдат вермахта? Не загостился же он, в конце концов, у хорошенькой крестьянки! Между тем становилось очевидным, что поиски ничего не дают, хотя в деревне уже почти все перевернуто вверх дном. Парфен Вершков не стал ждать, пока его подтолкнут карабином к штакетнику, сам подошел к Тиме и стал по левую руку. Жандарм тоже заставил себя сдвинуться с места, сделать несколько шагов, чтобы успокоиться. Уже на четвертом или пятом шаге в разгоряченную голову его пришла старая поговорка: «Ман шлегт ден зак, ден эзель майнт ман»[16]. Поговорку эту часто повторял один из его коллег, тоже недоучившийся студент (их призвали в полевую жандармерию с юридического факультета), но сам он, если говорить откровенно, до конца не мог ее понять: один раз толковал так, другой — иначе. Только теперь показалось, что смысл наконец дошел до него, по крайней мере в данном случае. Почувствовав, что снова способен владеть собой, жандарм повернулся к осужденным. Один из них, тот, что был пойман в деревне, действительно имел вид идиота, жандарм даже удивился, как не понял этого раньше, с самого начала, хотя бы по взгляду, совсем отсутствующему, 'и по большой, слишком большой для нормального человека голове. А вот другой!.. Этот при иных обстоятельствах не мог бы не вызвать восхищения даже у истинного арийца: поджарая фигура (несмотря на немалые годы), седая голова на крепкой шее, спокойные черты покрасневшего лица и эти чуть-чуть вздернутые брови, из-под которых искоса глядели глубокие темные глаза. Как раз глаза и выдавали в нем человека, сильного духом и умного. Однако жандарм не мог позволить себе восхищаться!.. «Небст гефанген, небст геханген»[17], — решил он. Мгновение — и солдатам была отдана команда стать между толпой и осужденными. Но сегодня словно и въявь над веремейковцами витало милосердие. Вдруг послышался топот, и все увидели, как на майдане осадил каурого коня немецкий кавалерист. Наклонившись с седла, он шепнул что-то жандарму. Тот сразу же вопросительно повернулся к кавалерийскому офицеру, который все это время стоял в нескольких шагах, казалось, безучастный ко всему. Во всяком случае, никакой активности он пока что не проявлял. — Геверер![18] — скомандовал жандармский офицер солдатам, которые нацелили поднятые карабины. Брезгливо сморщившись, он резко шагнул с места и быстро вскочил в «хорьх», затем жестом подозвал к себе Браво-Животовского. Толстяк с большим носом тоже взял у вестового поводья своего скакуна. Со стороны можно было подумать, что произошло некое совсем непредвиденное обстоятельство и уже самим немцам что-то угрожало. Но все оказалось проще. Гитлеровцы наконец обнаружили пропавшего кавалериста. Обнаружили в деревенском колодце напротив Хрупчикового двора и вытащили оттуда неживого. Помог отыскать пропавшего его конь. Кто-то из немцев, шныряющих по. деревне, вдруг обратил внимание, что у колодезного сруба стоит и все не отходит заседланный конь, тот самый, который принадлежал ихисчезнувшему товарищу. При этом конь как-то странно ржал, заглядывая через невысокий сруб в колодец. Его поведение и натолкнуло немцев на мысль, что, возможно, хозяин лошади оказался каким-нибудь образом там. Этот колодец в Веремейках был с журавлем, то есть глубокий. И таил в себе одну опасность: вытягивая бадью с водой, надо было постоянно удерживать руками, притягивая к себе, шест, потому что у самой поверхности, уже у последнего венца на срубе, бадья вдруг сильно, рывком дергалась к противоположной стенке и человек, не знающий об этом, мог не устоять на ногах, легко потерять равновесие и полететь головой вниз. Именно так и случилось с немцем.
IV
Было около пяти утра, и Шпакевич, стоя в глубоком окопе, видел, как справа, на востоке, над самой землей, уже вроде бы светлело, а на небе, словно живое существо, трепетно горела-переливалась большая звезда. Судя по всему, Венера. По расчетам Шпакевича, уже время было появиться тем окруженцам из-за оборонительного рубежа, которые должны были выйти здесь, на этом участке, к своим. Говорили, что оттуда сегодня принесут на носилках какого-то полкового комиссара, раненного в ногу еще далеко за Днепром. Шпакевич уже который день находился в стрелковой роте, но о нем не забывал и старший лейтенант из особого отдела. Тот наведывался сюда, на передний край, считай, каждый день. Собственно, Шпакевич даже не совсем ясно представлял себе, где теперь числится — в роте, которая была сформирована за Пеклином на сборном пункте из числа вышедших за оборонительный рубеж, или в особом отделе, что размещался по-прежнему неподалеку в лесу. В обязанности Шпакевичу вменялось встречать группы, выходящие из окружения. Сопровождали их в лес, на сборный пункт на сеновале, другие, а Шпакевич только встречал. В это понятие «встречал», правда, входило также и многое другое, вплоть до участия во встречных боях. Когда он на второй день своего нахождения на сборном пункте зашел на сеновал, где проходили проверку бывшие окруженцы, и сказал, что служил в Мозыре участковым милиционером, старший лейтенант в коверкотовой гимнастерке, на рукаве которой была нашита эмблема с золотистым щитом и мечом, сразу спросил: — А почему теперь вдруг рядовой? — Сами же знаете, — развел руками Шпакевич, — наши, наркоматскйе звания не отвечают общевойсковым. Мои кубики едва дотягивали до треугольников сержанта. Да и не собирался я долго служить. Призывался же по всеобщей. По указу тридцать девятого. Так что… — Значит, не захотел носить треугольники? Надеялся снова нацепить кубари? — Не так надеялся на милицейские кубари, как не собирался воевать. — Много кто не собирался, — сдвинул черные брови старший лейтенант. — Я вот тоже… даже не успел переодеться. Хожу еще в наркоматском. И действительно, кроме коверкотовой гимнастерки, которая была на нем и свидетельствовала о принадлежности к Комиссариату государственной безопасности, на столе по правую руку от него лежала фуражка с ярко-малиновым околышем и васильковым верхом. — Ладно, давай документы и выкладывай все как есть, — оглядев с ног до головы Шпакевича, сказал после недолгого молчания хозяин фуражки. — Где отстал от своих? По какой причине? Хотя темно-карие глаза его были живыми и зацепистыми — определенно уже соответствовали службе и повседневным занятиям, продолговатое лицо с высоким лбом выглядело усталым, чуть ли не изнуренным. Наверное, мужик не успевал ни поспать как следует, ни поесть. Шпакевич отметил это и вдруг как-то свободней стал чувствовать себя, стоя у стола, по крайней мере уже внутренне переубедил себя самого, что попал сюда совсем не на допрос. Его не пугали больше и плакаты, которые сразу же бросились в глаза, когда он зашел на сеновал. Два из них висели за спиной старшего лейтенанта. На одном была нарисована рука с вытянутым указательным пальцем, от которого по диагонали сверху вниз шли прописные фиолетовые буквы: «Дезертир, трус и паникер — враг советского народа». На другом рисунок отсутствовал, зато посредине в две строки было выведено явно не типографским способом: «Большевистская бдительность — необходимое условие победы над врагом». Неторопливо, даже вяло Шпакевич начал рассказывать, как очутился по ту сторону фронта и как потом выходил вместе с Холодиловым и Чубарем сюда по отрезанной немцами территории. — И все-таки я удивляюсь, — перебил его старший лейтенант, — почему вы до сих пор рядовой? — Я же говорил, не собирался долго служить. — Ну, это в мирное время. А теперь? — Так, кажется, не до званий пока был®. Воюю все время. — Воюешь! — строго произнес старший лейтенант. — А тут командных кадров не хватает. Кому, как не тебе, взводом или даже ротой командовать. Какое образование? — Семь классов. — Ну вот, а у других хорошо, если церковноприходская… Нет, в дезертирах долго ходить мы тебе не позволим. — Какой же я дезертир? Но особист будто не услышал его. — Ну, пусть по всеобщей воинской повинности, там еще куда ни шло. А теперь… Стыдно, товарищ Шпакевич, стыдно! Я вот сейчас бумагу напишу. Сопроводительную. — Он выдрал из толстого блокнота листок, начал быстро набрасывать текст. — Вот, — сложил он листок, — пойдешь в Овчинец, это близко отсюда, километра полтора, доложишься, как положено. Гуда недавно ушла сформированная нами рота… из таких вот, вроде тебя. Там как раз и понадобишься. Учти, командир роты — мой хороший знакомый. Так что посылаю тебя почти по его просьбе. А в дальнейшем, если ничего не случится, имей в виду, у нас тут, в отделе, тоже работенки хватает. — Но мне же надо свой полк искать, — взмолился Шпакевич. — Обязан доложить, что задание мы с Холодиловым выполнили. — Делай, как приказано! — не стал слушать старший лейтенант. — Где твой Холодилов? — Ждет, чтобы войти сюда. — Конечно, его тут только и не хватало. Нет, товарищ Шпакевич, бери своего подчиненного и топай в роту к Зимовому. В конце концов сам отвечай за своего Холодилова. А то и правда, кубики спрятал в карман и притворяется. — Да не прятал я их! Просто… — Ясно, что просто. Но не успел Шпакевич оказаться у ворот, как сверху на сеновал спикировал немецкий самолет. Чуднд, но до той минуты, пока не заревел он над головами, никто не услышал даже гула, как будто фашист подкрался внезапно. Самолет не дал очереди из пулемета, не стрелял из пушки. Он только сбросил на сеновал бомбу. Одну-единственную. Но она не попала в сеновал. Разорвалась метрах в двадцати, расколов пополам толстенную сосну, одиноко стоявшую на бывшей вырубке. Казалось, кроме расколотой сосны, сброшенная бомба никого не зацепила, не нашла себе другой жертвы. Больше того, было похоже, что она не успела испугать красноармейцев, которые еще с ночи стояли и сидели вокруг сеновала. Во всяком случае, так думал Шпакевич, когда после взрыва выскочил за ворота. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его содрогнуться. Холодилов, его Холодилов лежал у ворот на боку, и по виску его, пробитому осколком, лилась кровь. Говорят, на войне гибнут самые лучшие люди! Неизвестно, лучшим ли человеком из всех добрых людей был Холодилов или нет, однако смерть его переживал Шпакевич сильно. Кажется, большей потери даже и представить нельзя было в жизни. Встретил он Холодилова в начале июля, когда 55-я стрелковая дивизия после боев в районе Слуцка наконец стала на доукомплектование. Б лесном лагере в шести километрах от Чечерска полки 55-й пополнялись сразу и за счет войскового резерва, и за счет мобилизованных через местные военкоматы, и за счет красноармейцев и командиров, которые отстали от своих частей. Для этого представители разных служб дивизии колесили по округе, направляя в лагерь тех, кто попадался по пути и кого можно было завернуть с дороги. Собственно, там, в Чечерском лесу, происходило почти то же, что наблюдалось теперь на этом оборонительном рубеже, может, только с той небольшой разницей, что тогда делом этим с начала до конца занимались войсковые штабы… В один из таких суматошных дней Шпакевич вернулся в лесной лагерь к позднему обеду — его брал с собой в поездку в качестве бойца-охранника офицер из штаба артиллерии и они добрались на грузовой машине до самого Довска. Искали пропавший артдивизион своей дивизии. Дорога выпала тяжелая, вообще во фронтовых условиях дороги всегда нелегкие, особенно во время отступления. Артдивизион они не нашли, может, тот отходил на восток по какой-нибудь другой дороге. Зато привели в лагерь чужую батарею 76-миллиметровых пушек. Командир этой батареи довольно быстро, почти без уговоров, дал согласие «пополнить» артиллерийский парк дивизии. Тем более что в снарядных ящиках у него не было ни одного снаряда. Хорошо или худо, но начальник штаба артиллерии 55-й весьма доволен был таким пополнением.
Пообедав сухим пайком, Шпакевич двинулся на поиски штабной батареи, где служил пулеметчиком. Сказали, что батарея выехала на полевые занятия. Действительно, батарею свою Шпакевич увидел на большой поляне, километрах в двух от штаба. Сперва на поляну выскочил из леса верхом на лошади командир батареи, младший лейтенант Макаров, а уже за ним вынеслись артиллерийские упряжки. Командир махнул саблей, и батарея, сделав вольт направо, почти не сбавляя аллюра, развернулась посреди поляны фронтом на запад. Ездовые тут же отцепили постромки от станин, погнали лошадей обратно в лес, а расчеты тем временем кинулись готовить орудия к бою, торопливо забивая сошники в землю и вынимая из зарядных ящиков на передках лотки со снарядами. — Коме-е-едь! — вдруг послышалось чуть ли не над ухом Шпакевича — рядом стоял молодой усмешливый солдат и крутил от удивления головой. Шпакевича это укололо. Он смерил взглядом красноармейца — это и был Холодилов, — верней, обжег его взглядом, потом назидательно сказал: — Суворов говорил — тяжело в ученье, зато легко в бою! — Но ведь Суворов и про другое говорил, — возразил красноармеец, продолжая так же усмешливо наблюдать, как по команде командира батареи артиллеристы имитировали прицельный огонь из всех орудий: — Солдат ученье любит, был бы с него толк. — При этом и он поглядел на Шпакевича, на мгновение вытаращив светлые глаза. Шпакевич после этих слов даже вскинул брови, удивленный больше всего тем, как просто, с какой несолдатской свободой рассуждал незнакомый красноармеец. — Значит, они это делают без толку? — словно бы заступаясь за артиллеристов, ревниво спросил Шпакевич. — Гм, толк… — отвел от Шпакевича взгляд Холодилов. — Толк может быть. Когда на передовую подвезут достаточно снарядов. За всю войну еще не приходилось слышать, чтобы артиллерия наша плохо стреляла потому, что расчеты не умеют наводить орудия. Наоборот, не хватает снарядов. А то и совсем, случается, не бывает их на батареях. Потому я и говорю — зачем напрасно клацать затворами? Работают же артиллеристы и так, словно автоматы, хоть каждому глаза завязывай. «Умный какой! — раздраженно подумал Шпакевич. — Нет на тебя!..» Но разговор продолжить им не дали — Шпакевичу вдруг нашлось срочное дело на батарее. Между тем запомнить Холодилова с одного раза даже в условиях войны не составляло труда. Скоро полки 55-й заняли оборону на восточном берегу Сожа. Как раз основные бои с немцами шли тогда в окрестностях Могилева. Дивизия получила там новое задание — совершить тридцатикилометровый марш и сосредоточиться в лесах на юге от Черикова. Пока она перемещалась с одного места на другое, немцы перешли Днепр и заняли Пропойск, что в устье Прони. Дальше на их пути лежал Чериков. Дивизию снова бросили назад к Сожу. Словом, театр военных действий ожил повсюду, и солдату стало не до личных знакомств, не до воспоминаний: только смотри-поглядывай по сторонам да берегись, чтобы не переехали колесами или гусеницами где-нибудь сонного. И тем не менее Шпакевич встретился с Холодиловым. Как раз шел бой с немецкими танками на юго-восточной окраине Черикова. Сюда первым был брошен с левого берега 111-й стрелковый полк. Шпакевич тоже находился на танкоопасном направлении, как это принято говорить, охранял с ручным пулеметом наблюдательный пункт помначштаба артиллерии, который был вынесен за реку и размещался за каким-то амбаром. Но артиллерия стреляла далеко за Сожем, поэтому неприцельный огонь, несмотря на все умение помощника начальника штаба, мало помогал батальонам. Для создания же сплошного заградительного огня в дивизии не хватало снарядов. Тем временем немецкие танки, не переставая стрелять на ходу, все ближе подходили к районному центру. Среди пехоты были большие потери. На наблюдательном пункте помощника начальника штаба артиллерии погибли телефонист и разведчик-вычислитель. И, когда за амбаром появился боец с небольшим ящиком в брезентовом чехле, Шпакевич подумал, что из-за реки наконец прислали телефониста. Однако это был не телефонист, а сапер. — Приказано взорвать мост, — доложил он помощнику начальника штаба артиллерии. — Когда? — отнял от уха телефонную трубку почерневший артиллерист. — Как только приблизятся танки. Приказано не пустить их на ту сторону. — Ну что ж, — невесело усмехнулся помощник начальника штаба, — действуй. Раз мы своими средствами не можем удержать танки, действуй ты. — Подполковник Тер-Гаспарян приказал… Но рядом взорвался снаряд, и Шпакевич, который лежал за пулеметом, не услышал из-за грохота дальнейших слов. Тем временем сапер переговорил обо всем с помначштаба артиллерии и, садясь, прислонился спиной к стене амбара, как раз наискось от Шпакевича. — Глянь, знакомый! — узнал Шпакевич Холодилова и как-то даже обрадовался, наверное, потому, что человек не отирается по тылам за рекой, а тоже сунулся в пекло… Холодилов в ответ только заговорщицки подмигнул. — Что это у тебя, патефон? — кивнул на ящик в брезентовом чехле Шпакевич. — Угадал — патефон. — Небось в гарнизонном клубе прихватил? — Тоже угадал. — А чего без оружия? — К чему оно мне? Я все больше под чужим крылышком. Увижу, где пулемет стоит, и шасть туда. Авось не пропаду: есть кому и прикрыть, и заслонить. — Много ты понимаешь! Да я только выстрелю из своего пулемета, как тут же снаряды перепашут все вокруг. Пулемет — первая мишень для врага. Артиллеристы только и охотятся за ними. — Что же, ты артиллерист, тебе и видней, — махнул рукой сапер, склонный к шутливому разговору, в котором трудно было отличить серьезное от несерьезного. Снова разорвался поблизости снаряд, и, покосившись, вроде начала сползать крыша с амбара. Хотя Шпакевич пока и был не у дел, получив приказ всего только охранять наблюдательный пункт и открывать огонь из пулемета, когда будет грозить непосредственная опасность, но беседу с Холодиловым больше не возобновлял. К вечеру того дня наблюдательный пункт помощника начальника штаба артиллерии был перенесен ближе к реке, а к утру следующего дня и совсем стал не нужен: Чериков заняли немцы. Между тем Шпакевич нечаянно стал сапером. Приняв участие во взрыве моста через Сож, он так и отправился с Холодилоым в саперную роту — кто-то сказал ему, что штабная батарея лейтенанта Макарова тоже перестала существовать. Вместе с Холодиловым в конце июля и в начале августа Шпакевич взрывал мосты и на Сене, что недалеко от Пильни, и на Лабжанке в Климовичском районе, возле Лозовицы, и на Сурове, что по ту сторону Забелышина. Последний мост они ликвидировали на Деряжне, откуда и добрались по немецким тылам сюда, на этот оборонительный рубеж… Взрывая мосты на реках и подолгу бывая вместе, они успели много о чем переговорить. Шпакевич все знал про Холодилова, а Холодилов про Шпакевича. Хотя Шпакевич по годам и был старше, разница в возрасте не чувствовалась… «Эх, Холодилов, Холодилов!» — горевал теперь Шпакевич, будто тот виноват был в своей смерти. Невероятно, но Холодилов сам считал, что ему суждено погибнуть. И не потому, что написано было на роду. Даже в последнюю ночь, которую они провели вместе, уже здесь, в лесу, возле сеновала, Холодилов тоже заговорил об этом. Как и многие другие красноармейцы, попавшие на сборный пункт, они ночевали под еловыми ветками, улегшись прямо на землю и накрывшись одной шинелью, потому что Шпакевич в Пеклине отдал свою Чубарю. Хотя оба. и были утомлены переходом, но сон к ним не шел долго. Совсем близко, шагах в четырех от них, кто-то бубнил в темноте молитву «Отче наш». Странно было слышать ее здесь, среди людей, которые за два месяца отступления позабыли даже, что рядом с чистилищем существует рай. Не иначе — молился какой-то набожный крестьянин, которого война оторвала от семьи и дома. От молитвы вдруг сделалось почему-то жутко обоим — и Шпакевичу, и Холодилову. Но вот наконец человек вымолвил последнее перед «аминем»: «Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя во веки веков», — и тогда Холодилов как-то злорадно заметил: — Вот ведь молится. Небось надеется, что всевышний его изберет, ему явит свою милость. — Полежал немного и добавил, но уже без ожесточения в голосе, задумчиво: — Говорят, на войне гибнут самые лучшие люди. А я живу еще. Значит, не лучший!.. Шпакевич улыбнулся в темноте. — Жалеешь, что цел? — Нет, это я к слову. Но из такой войны мало шансов выйти живым. Судить о нас, мертвых, будут потом те, кто уцелеет. — Еще что скажешь. — Так оно по логике выходит. Если действительно на войне гибнут самые лучшие, значит, судить о нас будут… — Худшие? — подхватил Шпакевич. — Выходит, так. — Глупости! Ишь чего вбил в голову. Рано еще хоронить себя. Вот скоро отвоюемся, домой придем! — Во-первых, отвоюемся не так скоро, как всем нам этого хочется. Не те масштабы. Не та война. Эта молотьба надолго затеяна. Ты не гляди, что немцы одним махом доперли сюда. Вон уж и Орел не очень далеко. А там по прямой и Тамбов, и Саратов… Они-то вправду одним махом явились, а выгонять их придется канительно. Всегда так, только пусти нечистую силу в дом, после мороки не оберешься, покуда прогонишь. Даже попа с кадилом и того призовешь. — Ты, вижу, тоже суеверный. Нечистую силу поминаешь. — Это я так. Для вящей убедительности. — Ну, а если все-таки, чертям назло, останешься жить, а? — Тоже радости мало. Среди нормальных людей да быть ненормальным — незавидная доля. Нет, для большинства из нас место будет или в инвалидных домах, или в психобольницах. Потому что к тому времени, как вытурим за свои границы немцев, чуть ли не каждого дважды по ошибке похоронят, дважды — и тоже, может, по ошибке — к стенке поставят, неважно, свои или чужие, дважды… Словом, не будет конца этим «дважды». Где уж тут, в такой сутолоке, сохранить себя нормальным человеком? — Ничего. Не журись. Победим фашистов, памятников нам наставят — живым и мертвым, лучшим и худшим. — Даже тем, кто иной раз и слова доброго не заслужил. — Из песни слова не выкинешь. — Подумаешь, облегчение для души. — А я вот слушаю тебя и думаю — беспощадный ты все-таки… и к себе, и к другим. — Наоборот, — улыбнулся Холодилов, — последнее время я как-то подобрел. Раньше, в начале войны, совсем был бешеный. А теперь, как насмотрелся разного за эти месяцы, так душу и отпустило. Почувствовал, что легче даже стало жить. Оказывается, великое дело — понять вдруг, что хуже смерти для человека ничего нет и не будет. И вот уже которую неделю и по земле я хожу легко и смело, и делаю почти все в охотку, и размышляю обо всем без лишней опаски. Так что прости, если надоел.
V
Кто-то открыл с огорода калитку, осторожно ступил на Зазыбов двор. Зазыба услышал — сон сегодня был некрепкий, неровный, даже казалось ему, будто и совсем не спал, а с вечера как лег поперек топчана, головой к стенке, так и утонул в какой-то густой, вроде патоки, воде, то выныривая на короткое время оглушенной, но пока еще живой рыбиной на поверхность, то снова погружаясь на дно. Услышал и догадался: вошел во двор человек свой, а если и не свой, то, по крайности, не чужой, потому что неплохо знал дорогу; и правда, был бы кто чужой, вряд ли умудрился бы пройти через огород да еще в калитку, которую с той стороны без сноровки и не нащупаешь в потемках в сплошной стене пристроек; значит, явился свой. Может, потому Зазыба и проснулся в ту же минуту, но не насторожился, как полагалось бы, не заинтересовался и не почувствовал тревоги; он еще дал себе полежать, не торопясь бороть дремоту, словно надеялся, что в доме есть кому обо всем позаботиться. Однако, кроме Марфы, никого в доме не было. Так не Марфе же бежать, глядеть через потайное сенное оконце во двор!.. Наконец Зазыба сознательно сбросил с себя, как рядно, плывучую дрему, заворочался на жестком топчане и вскорости сел, слушая все время, не обнаружит ли человек во дворе какие-нибудь другие знаки своего присутствия. Тихо было там теперь. Ведь глухая стена и для человеческого уха преграда — если не брЯкнет железная щеколда, так и не услышишь ничего в доме. Зазыба повел острым взглядом по окнам. Судя по всему, времени было уже много, хоть луна, которая чуть ли не в последний раз сегодня вышла полной, светила во всю мочь. «Вот солнце цыганское!» — подосадовал Зазыба, будто собрался воровать, а не проверять, кто по двору шастает. И сразу же почему-то подумалось, не иначе, юродивый Тима забрел откуда-то, благо после того раза, как его волокли по деревне немцы, он и не показывался в Веремейках. Однако, припомнив все, что случилось на деревенском майдане, Зазыба разозлился еще больше — и носит этого Тиму нелегкая!.. Конечно, пришло в голову и другое. Например, как хвалился потом целый вечер Браво-Животовский, что это он отвел беду от веремейковцев, доказав немцам, что солдат ихний сам свалился в колодец; по словам Браво-Животовского выходило, что ему несколько раз для этого довелось браться за шест да доказывать, как оно все могло случиться, даже жандармскому офицеру и тому пришлось поверить. Солдата-утопленника закопали под забором Силки Хрупчика сами немцы, шагах в двадцати от колодца, без воинских почестей, крадучись, вроде стыдясь чего-то, а колодец приказали крестьянам завалить, чтобы не повторился такой случай. Известно, веремейковцы не стали тянуть: во-первых, приказ надо выполнять, а во-вторых, в здешних деревнях и без того издавна засыпали колодцы, в которые попадала какая-нибудь живность, пусть даже и кошка. Во всяком случае, воды из такого колодца по своей охоте уже никто бы не стал брать. Поэтому Зазыба первый оторвал руками доску, на которую обыкновенно ставилась бадья, и с досадой бросил ее в середину сруба, в воду, которая так некстати была испоганена немцем. Веремейковцы тогда расходились по хатам взволнованные. Ясное дело, и разговоров было много, каждый старался припомнить что-нибудь такое, чего не углядел другой. Словом, настроение у веремейковцев было как нельзя лучше — все вышло, словно в той пословице: и волки разбежались прочь сытые, и овцы остались в стаде целые. Натурально, и Браво-Животовский снова в центре внимания оказался, чуть ли не героем, а ему это «геройство» после лупцовки на суходоле как раз кстати пришлось. Тем временем про Парфена Вершкова, который кинулся выручать придурковатого Тиму, мало кто вспомнил, во всяком случае геройства в его поступке веремейковцы не видели, деревенских хватило только на то, чтобы посочувствовать Парфену: мол, из-за этого придурка чуть с тобой беды не случилось!.. Нынешняя Зазыбова злоба на Тиму тоже была зряшной, Зазыба и сам это понимал. Но объяснению злоба не поддавалась, может, потому, что была вызвана страшными обстоятельствами, неважно, кто оказался виноватым в них. К тому же теперь была ночь, и раздумывать о чьей-то случайной неприкаянности не очень-то хотелось даже Зазыбе. В то же время не выйти в сенцы да не припасть глазом к окошку не пристало хозяину, который должен заботиться о своем доме. Поэтому Зазыба наконец принудил себя натянуть на босу ногу яловые сапоги и нашарил в изголовье стеганку. Лунный свет позволял пройти небольшой отрезок от топчана до порога не вслепую, но Зазыба из-за этого вдруг встревожился: не мешало бы заглянуть и в заулок перед домом. Так он и сделал — повернулся к окнам. — Денис, это ты? — окликнула Марфа. — Пить хочу, — сказал Зазыба. — А я подумала… — Спи. Я напьюсь и тоже лягу. Тогда Марфа снова спросила, но уже зевая: — А поздно ли? — Вторые петухи петь будут. — Дак не очень и поздно, — словно бы удивилась Марфа. — Сколько той ночи прошло, а я успела сон увидеть. Чего ты оделся? Вода же и в хате есть. Ведро вон на скамейке. Зазыба крякнул от жениной несообразительности, буркнул: — Сдается, на двор к нам кто-то зашел. — Дак, может, корова из пуни вышла? Может, я забыла затворить? Во, память старая! — Может, и корова, — совсем неохотно отозвался Зазыба. Стеганка была накинута на плечи, теперь он надел ее в рукава, пошевелил плечами, будто надевал новую, первый раз примеряя. — Нет, корова вроде не могла выйти, — все еще рассуждала вслух Марфа. — Сама же запирала ворота. Проверив, насколько хватало глаз, освещенный луной заулок, Зазыба вышел за порог. На дворе ничего не было слышно, и он с досадой подумал, что напрасно беспокоился, никто не открывал с огорода калитку. Тем не менее он вытянул в темноте руки, шагнул по сенцам дальше к чулану, где в стене, выходящей во двор, светлело узенькое, в пол-ладони оконце, которого хватало только чтобы приложиться глазом. Часть двора, та, что от заулка, тонула в тени, потому что луна стояла напротив и уже низковато, во всяком случае, ворота не давали ей освещать весь двор, из конца в конец; зато остальная часть двора просматривалась хорошо. Бросив мгновенный взгляд в оконце, Зазыба, кажется, никого не заметил. Однако в следующий момент почувствовал, что кто-то шевельнулся на крыльце, нечаянно выдавая хозяину свое присутствие. Значит, Зазыба все-таки не зря проснулся от звяканья щеколды, а еще правильней сделал, заставив себя переступить порог в сенцы. Вот только свет слабый из этого потаенного оконца! Тогда Зазыба догадался подняться немного выше, для чего тихо нащупал ногой плинтус, прибитый внизу, и, упираясь локтем правой руки в чуланную дверцу, стал на плинтус носками сапог. Продержался он в таком положении только полминуты, но этого хватило, чтобы окинуть взглядом двор до самых сенцев, увидеть на крыльце человека. Уже по силуэту можно было понять, что напрасно грешил он на юродивого Тиму. Это был кто-то другой. Сидел он на крыльце спиной к дверям, а подбородок поддерживал сложенными ладонями, облокотившись на колени. Сбоку Зазыбе была видна ссутуленная спина да понурая голова без шапки. Видно, человек даже не догадывался, что за ним уже наблюдает сторонний глаз. И вообще внешностью своей, тем, как сидел на крыльце, поставив на деревянную ступеньку ноги, он напоминал спокойного и даже равнодушного путника, будто вернулся откуда-то с дальней дороги, а хозяев дома не застал, вот и ждет, отдыхая на крыльце. Больше того, ему хорошо сидеть в одиночестве, думать… Зазыба и сам порой горбился вот так на ступени — выйдет во двор усталый, весь разбитый, с головой, распухшей от разных легких и нелегких мыслей, и рад без памяти, что попал наконец домой, и садится сразу же на крыльцо, охватывая руками голову, чтобы не раскололась от боли, и до ужина, который готовит в хате Марфа, просеивает помаленьку все, что насобирал за целый день. Для него такие минуты всегда были временем своеобразного, как бы молитвенного раздумья и успокоения. Не удивительно поэтому, что в человеке, которого он заметил теперь через маленькое оконце в сенях, Зазыба узнал вдруг самого себя, пусть со стороны, но такого же, каким бывал сам, то есть в знакомом ему душевном и физическом состоянии. Зазыбе опять захотелось глянуть через оконце во двор, и он снова принял ту неловкую, почти висячую, как у летучей мыши, позу — носками сапог на плинтус, а локтем руки в чулан. Однако и на этот раз пришельца не узнал. Подумал, что стоит позвать его в хату, если уж случилось так, что тот оказался во дворе. Оторвался от стены, повернулся на каблуках, будто не было места стать на всю стопу, шагнул к дверям. Теперь Зазыба не сдерживался, поэтому человек, который сидел там, на крыльце, мог легко услышать его шаги. Привычным движением, давно уже наизусть известным, Зазыба отодвинул засов, потянул на себя дверь, которая вдруг почему-то громко заскрипела, точно рассохшиеся ворота. Сидящий при этом от неожиданности даже втянул в плечи голову, будто испугался — вот упадет что-то сверху. Но не вскочил, И даже не попытался сделать этого. Только сразу быстрым движением бросил на колени руки и, горбясь, повернулся вполоборота. Зазыба увидел его лицо и почувствовал, что кровь в этот момент словно застыла в жилах. Это был сын, Масей! Зазыба не поверил бы никогда, что можно потерять вдруг ощущение своего тела, своей телесной тяжести, а тут будто кто взял да и вынул из него всю подоплеку, все ощущение окружающего мира. Даже кожа, особенно на лице, словно покрылась струпьями или замерзла. Один мозг воспринимал все и способен был реагировать. Зазыба наконец совершенно отчетливо понял, что домой вернулся сын, единственный их с Марфой сын, которого он и не мечтал дождаться, несмотря даже на войну, на военную пору, которая обычно сопровождается необъяснимыми событиями, невероятными случайностями и самыми, как утверждают, великими неожиданностями. Масей тоже узнал отца, приподнялся. И тогда Зазыба внутренним усилием, неведомо откуда взявшимся, стряхнул с себя оцепенение, бросился, нет, повалился, будто ему ноги перебили, всем телом на Масея, цепляясь руками за его шею. Сын стоял в той же неловкой позе, вполоборота и чуть подавшись вперед, и Зазыба скоро спохватился, что тот может и не удержаться на ногах от этой неустойчивости, но сил не было разомкнуть руки, оторваться от сына и самому устойчиво утвердиться на крыльце. Лица их были притиснуты щекой к щеке. Они не целовались и не разговаривали ни шепотом, ни в полный голос, только молча покачивались, словно в отчаянии, из стороны в сторону, чувствуя на губах общие слезы. Ох и солоны эти мужские слезы!.. Наконец Зазыба собрался с духом и отпустил сына, помял большим и указательным пальцами левой руки свои зажмуренные мокрые веки, видно думая этим остановить слезы, потом шагнул на нижнюю ступеньку крыльца. — Садись, сын, — хрипло вымолвил он, совсем забыв, что того надо первым делом вести в хату. Масей послушно присел рядом… — Чего ж до сих пор не постучался? — Боялся будить вас. Как мама? — Ничего. Жива. И ведать не ведает еще, что это ты. — Зазыба стиснул в неуемной радости голову. — А я слышу, будто зашел кто во двор с огорода. Дай, думаю, гляну. Откуда же ты, сынка? — Потом, батька, потом. — Ну, и то правда, погодим, — согласился Зазыба, поняв, что сыну также нелегко далась встреча. — А как вы тут? — Сам увидишь, раз уж пришел. Война вот! — Да, война. — Да что я тебя держу на крыльце? Идем, сынка, в хату, идем к матери. Зазыба почувствовал наконец, что к нему постепенно вернулось прежнее самообладание. Вместе с тем он понял вдруг и то, что незаметно, но неотвратимо берет свое возраст. Конечно, теперешнюю свою слабость он мог еще истолковать, например, болезнью, которую подхватил, возвращаясь с Орловщины, и которая потом изнурила его совсем. Однако… Зазыба попытался шагнуть на верхнюю ступеньку и не сразу одолел ее — под коленками предательски тряслось, ноги не желали выпрямляться, будто их схватила судорога и все не отпускала. Тогда Зазыба опять сел на крыльцо. Масей, видно, понял отцову беспомощность, сказал мечтательно: — Посидим, батька, еще немного! Хорошо у вас тут! — Мать-то ждет… — Не спит разве? — Проснулась, как я выходил. — Тогда пойдем, тата. — Ага, сынка… Они обнялись за плечи и так, бережно поддерживая один другого, начали подниматься. Марфа сразу услышала, что возвращается хозяин в хату не один. Но внезапное появление сына она приняла куда спокойнее, чем Денис. Только болезненно ойкнула, угадав голос Масея, а потом быстренько, будто с горки, скользнула с печи на топчан и оказалась в Масеевых объятиях — он не дал ей даже стать ногами на пол, подхватил на краю топчана. Пока Зазыба копался да зажигал фитиль в лампе, мать с сыном сидели вдвоем на топчане и не сводили друг с друга счастливых глаз. «Чисто дети!» — радостно подумал Зазыба. Он вдруг увидел, что у них одинаковые глаза, и у матери, и у сына — темные, словно вишневые; и брови имели один и тот же излом. Это открытие почему-то вдруг удивило Зазыбу, до сих пор он считал, что Масей всем удался в него, что в его лице даже и намека не было на материнское. Выходило же наоборот. Теперь Зазыба видел в лице сына почему-то больше материнского, чем своего, как будто Масей все время рос и воспитывался далеко от дома и Зазыба, не видя его давно, еще с малых лет, пропустил эту перемену в сходстве. — А дитя-я-ятко мое-е, — запричитала наконец Марфа, — отку-у-уль же ты взя-ялся? Как сне-е-ег на голову свали-и-ился! А я же тебя тоЛько что во сне-е-е ви-и-идела!.. — Замолкни-ка на минутку, — попросил ее Зазыба и обратился к Масею: — Ты вот что скажи мне, сынка, будем твой приход скрывать от людей или нет? Может, окна надо завесить? Может, не каждому надо знать, что ты вернулся? — Чего уж прятаться?.. — даже не повернул головы от матери Масей. — Да и до каких пор прятаться? Все равно долго не напрячешься! При этом казалось, что Масей отвечал слишком равнодушно, в голосе даже слышалась досада, будто недоволен был отцовским вопросом. — Ну, гляди, сын!.. Пока сын с отцом переговаривались, Марфа прямо затаила дыхание, и вид у нее от этого стал какой-то надутый, нахохленный. Но только Зазыба вымолвил последние слова, она сразу же ожила, заговорила снова, по-прежнему обращаясь только к сыну. Было в ее восхищении, в ее материнской повадке что-то совсем беспомощное, детское, — и правда подумаешь, что встретились после долгой разлуки не мать с сыном, а младшая сестра с братом. — Дак я отцу вот хотела рассказать про сон, а теперь и ты тут, — ласково толкнула она Масея. — Расскажу зараз тебе. — Она больше не растягивала слов, говорила, как обычно, только временами сбивалась, словно все еще от той радости, какая жила в ней. — Дак вижу я… Зазыба снисходительно усмехнулся: вот привязалась старая со своим сном!.. А в душе его между тем украдкой ворохнулось что-то похожее на зависть, будто он стал вдруг лишним в хате, будто это уже не общая их радость, что сын вернулся, а только материнская… — Матка наша теперь самая отгадчица снов, — не меняясь в лице, сказал сыну Зазыба, явно дразня жену. — Даже никуда не ходит. Сама разгадывает. Один раз голову и мне было задурила — кричала какая-то курица петухом, да и все тут!.. — Дак то же не сон был, а примета, — не дала рассказать ему дальше Марфа. — И не к тому тогда курица пела. Я говорила, что будет… — Но спохватилась, не стала передавать давнего разговора между ними, чтобы не испортить сыну настроения. — А сон дак и взаправду вещий! Пришел вот Масей. Значит, сон правильный был, раз все сбылось. Масей перевел взгляд на отца, потом снова на мать — детством вдруг дохнуло, далеким детством: и тогда вот так же отец с матерью ревновали его друг к другу, благо единственный сын на двоих, одно дитятко. Мальцом Масей умел даже выгадывать на их наивной ревности, на их смешной игре — «Мой Масейка!..» — «Нет, мой!» — а теперь ему почему-то жалко стало и мать и отца, может, стыдно от взрослой своей проницательности. Отец, нечаянно угадав Масееву жалость, посуровел моментально и велел, как хозяин, которому наконец пришла пора распорядиться: — Ты бы лучше собрала, старая, на стол. А то мы сына все байками кормим, как того соловья. Мать виновато всплеснула ладонями, очумело забегала по хате, тыкаясь из угла в угол. — А дитя-я-ятко ж мое-е-е! — снова запричитала она чуть ли не в голос. — Может, ты и правда голо-о-одный пришел, может, и е-есточки хочешь, а я все голову тебе дурю-ю-ю!.. Но Масей принялся успокаивать их: — Не надо, не надо! Я сыт. — И, когда мать уставилась на него, затряс головой и замигал, чтобы его словам было больше веры. — Дак… — Марфа растерянно застыла возле шкапчика, висящего в простенке между порогом и крайним окном, потом бросила недоверчивый взгляд на Дениса, который все еще стоял посреди хаты с того самого момента, как привел сына. Муж промолчал, вроде его не касалось, что сын отказывался от ужина, хотя какой в эту пору ужин!.. Сын тем временем, не вставая со скамьи, всем обеспокоенным видом, жестами показывал, что он вправду есть не хочет, как не хочет, чтобы мать вообще из-за него хлопотала… А та взяла да не поверила, махнула на обоих рукой, мол, а ну вас! Растворила шкапчик, принялась вынимать посуду. — Я правду говорю! — уже почти взмолился Масей, обращаясь теперь к отцу: надо было все-таки растолковать, почему он отказывается от ужина, ведь деревенские даже чужого человека, в какую бы пору, позднюю ли, раннюю ли, ни попросился тот в хату, не уложат спать некормленым, а тут сын! — Меня в Белой Глине тетка одна накормила, — объяснил он. — Хлеба вынесла. Большую краюху. Ну, я и умял всю, потому что день целый перед этим пролежал в лесу. Так что есть я правда не хочу. Разве что напиться дайте. — Он устало сгорбился, упираясь локтями в колени. — Дак, может, молочка тогда? — птицей встрепенулась мать. — Давай молочка, — ласково улыбнулся сын. — А то хлеб какой-то непропеченный у белоглиновской был, аж нутро жжет. И воду, кажется, пил из Беседи, а все жжет. — Это не хлеб виноватый, — выслушав сына, сказал Зазыба. — Живот твой виноватый. Что-то в желудке порушено. Здоровый желудок и сырой хлеб одолеет. У здорового человека желудок как жернова. Ему только подавай. — Может, и так, — согласился умиротворенный Масей. — Не на курорте же столько лет был. — И глянул испытующе на отца, тот даже голову вдруг опустил, будто тоже был виноват, и спрятал глаза. Обхватив бережно обеими руками, мать внесла из сенцев черный, с высоким горлышком гладыш молока вечернего удоя — она всегда на ночь оставляла молоко в чулане, чтобы не прокисло. Масей пересел с лавки к столу, втиснулся на ту скамейку, что стояла между внутренней дощатой перегородкой и столом. Покуда он шел от лавки, отец успел оглядеть его, как говорится, с ног до головы, потому что до этих пор — и тогда, на крыльце, и теперь на лавке — сын все время сидел. Кажется, и рост у сына был прежний, и фигура такая же, но в лице явственно замечалось новое, и не столько потому, что сын отощал (в конце концов, невелика хитрость отощать человеку в такой дороге), сколько потому и, может, скорей всего потому, что лицо его стало как бы прозрачным. Зазыба отметил и ту мелочь, что для такого радостного случая сын улыбается маловато, все больше говорит с матерью, будто озабочен или болит у него что и боль ни на минуту не проходит. И еще Зазыбу удивило — сын так и не разделся в отцовской хате, не снял заношенного пиджака, похожего чем-то на старую куртку, словно рассчитывая на временный приют. «Нелегко, ох, нелегко нам будет друг с другом…» — вдруг подумал Зазыба. Между тем Марфа сполоснула чистой водой медный ковш, который сняла с гвоздика на стене, поднесла его к самому краю гладыша, чтобы не пролить сливок, схваченных желтоватой пленкой, и уже потом полегоньку наклонила гладыш. Белая струя проворно зажурчала в литровом ковше. Отец сказал, явно подбадривая сына: — Вот поживешь с нами, матка и отпоит тебя молоком. Пройдет тогда и изжога твоя, и всякая лихоманка пройдет, если завелась где. Наконец Марфа поставила перед сыном ковш с молоком, сама стала напротив, шагах в двух от стола. Сын сразу же схватился за ручку, начал жадно пить, чувствуя почему-то неловкость оттого, что на него пристально глядят и мать, и отец. Отпив полковша, Масей оторвался, чтобы передохнуть, минуту, может, даже больше сидел неподвижно. Потом снова взялся за ковш. А как выпил до дна, засмеялся тихо, каким-то совсем иным смехом, будто до сих пор был не уверен, что вправду опростает знакомый с детства ковш, давнюю свою мерку. От этого нечаянного его смеха родители, казалось, повеселели. — Ну вот, — воскликнула мать, — напился молочка, а теперь спать ложись, раз есть не хочешь. Зараз тебе постельку соберу. Выспишься, а там бог и раницу даст. Масей упрямо покачал головой: — И спать мне не хочется!.. — А дитя-я-ятко мое-е-е, дак ночь жа вон еще в окнах стоит! — Я целый день спал, мама. И так сколько времени: день лежишь, спрятавшись в кусты подальше от дороги, а ночью шагаешь. По этому разговору Зазыба понял, что материнская власть над сыном кончается. — Ну что ж, пополуночничаем, — сказал он беззаботно. — Оно и правда, какой теперь сон!.. Ну, разве еще тебе, Масей… А нам с маткой уже сна немного и надо. Порой схватишь одним плазом час-другой, и довольно. Стареем мы с маткой, сын, стареем! — Это ваши-то поды — старость? — Стареем, стареем… — не принял Масеевой деликатности Зазыба. — Но может, и правда завесить одеялами окна? — Дак…, — Марфа непонятливо всполошилась: мол, за чем же задержка? — Как хотите, — ответил сын, поняв, что отцова настойчивость не случайна. — В конце концов, светомаскировка не помешает. — И спросил: — Немцы в деревне есть? — Нету, — ответил отец. — Но я это к тому говорю, не занавеситься ли, мол, что мы так привыкли. — И стал объяснять дальше: — Обычно мы света не зажигаем. Ну, а если случается, то окна занавешиваем. А немцев в деревне нету. Так что не бойся. — Ты, мама, тоже садись, — спохватился Масей, видя, что мать до сих пор на ногах. — И ты, батька, зря не стой. А то вы что-то сегодня как с чужим со мной. — Да и ты бы скинул эту одежину, вольней бы почувствовал себя дома, — посоветовал отец. А мать спросила: — Может, ты бы, Масейка, молочка еще выпил, а? — Нет, мама, нет. — А то ведь корова дает. Зазыба не стал занавешивать окон. Присел наскамью. — Откуда же ты шел этак долго? — Из-под Минска. — Из-под самого? — Чуть не от самого. От Смолевич. Как раз там один добрый человек и отпустил меня. — И ни разу после не подъехал? — повернула на себя разговор Марфа. Масей улыбнулся — ему все время хотелось улыбаться матери, словно бы задолжал ей в этом. — Случалось, что и подъезжал, — уточнил он. — Даже немцы один раз на машине километров тридцать провезли. Но больше добирался на своих двоих. — Скажи ты, даже немцы! — Тыловики. Уже как фронт далеко отошел. Им только сунь что-нибудь. Ну, а у меня как раз был кусок сала. Дед один после ночлега в дорогу дал. Я этот кусок и показал немцам. — Скажи ты!.. — снова изумилась Марфа. — А что это за человек был, что отпустил тебя, как ты говоришь? — через некоторое время спросил Зазыба. — Конвойный. — Значит, ты не по чистой пришел? — Нет. Сильно пораженный, Зазыба опустил голову. Почувствовав внезапное отцово смущение, Масей даже подвигал с досады кожей на лбу, чтобы разогнать морщины. Он понял, что беседа перешла ту границу, за которой уже нечто в их представлении могло истолковываться совсем по-разному. Может, от этой мысли, а может, и еще от чего-то, пока не осознанного, его вдруг охватила сильная и неодолимая, невыносимая тоска, налетавшая только прежде, когда он начинал рассуждать сам с собой обо всем, ведь своим нелепым заключением не мог даже похвалиться; в любом, самом счастливом варианте оно выглядело как нечто невероятно кошмарное и позорное. А война еще больше перепутала его судьбу. Масей иной раз готов был поверить, что из-за него вот уже который год черт спорит с богом. Про свое нечаянное освобождение он хоть и рассказывал спокойно, но разумом понимал, что это тоже один из тех узелочков, что хитрым манером завязывал на его судьбе черт, ведь в теперешних условиях, даже оказавшись счастливо дома, навряд ли повезет ему совсем развязать этот узелок. Во всяком случае, Масей покуда не видел такой возможности. Видно, поэтому и отец сидит перед ним на лавке и не может поднять головы, будто с похмелья, будто виноват перед хозяевами, у которых вчера буйно гулял. То ли от тоски, охватившей душу, то ли просто от грязи, от которой заскорузло тело, Масей, не замечая того, привычным движением сунул руку под одежду и неистово стал расчесывать ребра. Мать настороженно, даже с болью в душе ждавшая, когда наконец снова заговорят в прежнем радостном тоне ее мужики, увидев это, сказала торопливо: — Ничего, сынок, зараз день настанет, истопим баньку тебе, попаришься… — А нашто дня ждать? — будто проснулся Зазыба, обрадованный, что нашлось дело не в хате и что не надо будет понуро сидеть на лавке. — Теперь вот и займусь баней. Все равно же не спим. Где это мои онучи, мать? Подай-ка, обуюсь да пойду. И правда, чего нам дня ждать?Через несколько минут Зазыба уже стоял под навесом высокого крыльца, пристроенного к сенцам со стороны заулка, вдыхая ночной воздух. Из дома сюда не доносилось ни звука, и поэтому он не слышал, как Марфа говорила сыну: — Ты, сынок, отцу тоже посочувствуй. Ему нелегко теперь, ой, нелегко! Сдается, дак раньше и не очень приставало все к нему. Но эти годы, как не было тебя, самые горькие. Мы ведь даже не знали, где ты и что с тобой. Сказали ему в районе, что засудили тебя, ну, мы и поникли сразу. Это ж надо, чтобы у такого заслуженного отца да такой сын вырос, не каждому верилось, что мог ты что-нибудь супротив власти сделать. Но скажу тебе… Ну, что я сама думала, это дело десятое. У матки завсегда свое в голове и в душе. Ее никто не переубедит, раз она сама не верит. Дак я говорю, батька твой… Он так же само не поверил, чтоб ты где-то что-то такое супротив власти… — И правильно делал, что не верил, — твердо, будто даже с упреком ответил на это Масей. — Правда, он все молчал, — кивнула мать, — но ведь от меня не сховаешься. Я в глаза погляжу и все уже буду знать. Дак, бывало, придет домой он, сядет где ни на есть и думает. А тут вскорости еще и с председателей сняли. Тоже, говорили, из-за тебя. Нет, сынок, нелегко ему было. Но теперя, кажись, дак и вовсе тяжело стало. Война эта, скажу тебе, тоже великой тяготой легла на него. Все он душой болеет, горюет да тревожится. Иной раз глядишь на него, глядишь и подумаешь: ну разве ты виноват, чего же убиваешься? Разве же ты виноват, что германец наступает? С тех пор как Зазыба увидел во дворе сына, прошло не очень много времени, но луна успела зайти и деревня была уже окутана темнотой. Правда, на небе по-прежнему блестели звезды. Их даже теперь вроде прибавилось, по крайней мере, горели они ярче и, кажется, уже не чужим, неподвижным отражением, а своим, трепетным и живым сиянием. Это сияние не давало совсем сгуститься ночной темноте, о какой говорят обычно — хоть глаз выколи. Зазыба наверняка заметил бы в теперешнем полумраке человека в своем заулке, если бы тот вдруг стоял где или зашевелился. Свет горел только в Зазыбовой хате. Выплескиваясь наружу через два окна, он косо, полосами освещал серую дорогу и на противоположной стороне ее, скользя и ломаясь, упирался в обшитые досками строения Прибытковой усадьбы. Когда фронт стоял на Соже, постоянно слышно было его дыхание — вдруг сполохи взрывов в небе заиграют или канонада нарушит тишину, а порой и то и другое вместе. Теперь фронт совсем не ощущался: как откатился, так словно бы и утих или пока» лея дальше, хотя на самом деле передовая проходила в междуречье Десны и Ипути, километрах в семидесяти от Веремеек; Забеседье попало в так называемую зону тишины, когда даже самые мощные звуки теряются в пространстве, потому что звуковые волны сперва косо идут вверх, а потом возвращаются на землю уже далеко от выстрела или взрыва. Однако никто не видел сегодня и молний, полосующих небо, к примеру, еще вчера, словно где-то там гулял суховей и догрызал в дубравах орехи. Спускаясь с крыльца, Зазыба непроизвольно бросил взгляд в крайнее окно. Масей по-прежнему сидел за столом, только не сутулился больше и не опирался локтями — сидел, прислонившись спиной к стене, а голова его склонилась к левому плечу. Не иначе, уже спал. Марфы Зазыба в передней горнице не увидел, может, она действительно стелила на другой половине сыну постель. Зазыба остановил взгляд на застывшем, словно распятом, Масее, снова подумал, как и некоторое время назад в хате, что им взаправду будет тяжело вместе, лучше бы уж, кажется, и не возвращался Масей домой, раз незаконно. И вообще не хотел бы Зазыба, чтобы в деревне теперь объявился возвращенец из «тех мест». А то вон в Гонче… Не успел вернуться туда раскулаченный в начале коллективизации Шкроб, как тут же расквитался с деревенскими активистами— и первой убил родную тетку, старую женщину, которая присутствовала, как депутат сельского Совета, при описывании и конфискации его имущества. Хотя, конечно, сравнивать кулака из Гончи с Масеем! Зазыба и сам понимал, что этого и ради примера не стоит делать, что это несравнимые вещи, что сын его по всем статьям не похож на Шкроба. Но ведь и он вернулся домой незаконно!.. «Господи, — воззвал в душе не набожный Зазыба, — дай мне силы; чтобы примириться с тем, что я не могу изменить». Ему пришло в голову, что надо бы как можно скорей поговорить с Масеем наедине. Ему казалось, что в их будущих отношениях, их будущей близости даже Марфа, от которой он, наверное, от одной не таился, даже Марфа может стать помехой, потому что эти отношения, потому, что эта взаимная близость не чужих ей людей, а отца и сына, ее мужа и ее сына. «Хорошо, что подсказала она истопить для Масея баню — стал успокаивать себя Зазыба. — В бане-то мы и поговорим, а если понадобится; то и прикинем, как быть. Уже идя по заулку Зазыба почувствовал сильный запах цветов. Запах этот был знаком, ему не однажды доводилось замечать его, и всякий раз ранней осенью, в конце своего заулка. Но взглянуть хоть одним глазком на пахучее растение он почему-то не удосужился, ни разу, даже и мысли такой не было… Запах был приятный, а главное, не приторный, не мешавший дышать человеку, во всяком случае Зазыбе. Возле забора, уже как поворачивать на заросшую полынью и чернобыльником пустошь, у Зазыбы стоял дровяной сарай, в котором еще с прошлого года сохли в поленнице расколотые сосновые дрова. Чуть дальше стояла сама баня, небольшое, аршина четыре в длину строение с утепленным предбанником: летом мойся или зимой — одинаково тепло. Баню эту когда-то они с отцом строили на одну свою семью, но потом начали приходить к ним мыться и соседи. Баня делилась на две части — собственно баню и: предбанник, который служил первым делом для отдыха; тут раздевались, сюда же выскакивали после парки полежать на скамье или прямо на плотно сбитом полу, отдышаться, окатиться водой, тем более что как раз в предбаннике размещалась необходимая для-всего этого утварь — шайки, корыта и бадейки. В самой; бане были вместе и парильня, и мыльня. Тут же вдоль-стены стояла в; одном ряду с полком печка, сложенная из крупного камня, которого полно было вокруг деревни. Полок в свою очередь напоминал обыкновенную домашнюю лавку, но сбитую из осиновых досок, потому что сосновые или еловые не подходили для такого дела из-за смолистости, ибо смола обжигала голое тело. Печку в Зазыбовой бане топили по-черному, дым из нее выходил через, двери и два оконца — верхнее и нижнее. Словом, это была самая заурядная деревенская баня, какой ее знали в Забеседье не только с прадедов, но и с более древних времен. Возникала порой мысль у некоторых хозяев усовершенствовать кое-что в таких банях, например, вмазать в печку чугунный котел для горячей воды, вывести трубу через крышу? Но как раз эти попытки и убедили еще раз веремейковцев, что деды недаром выбрали когда-то именно такой вот тип бани: выяснилось, что после усовершенствования баня сразу же теряла свое другое предназначение — в ней уже: нельзя было сушить лен, коптить окорока… Зазыба подошел к поленнице, содрал с нее задубевшую кору, которой укрывали: дрова от мокрети; при этом что-то шевельнулось живое на поленнице, и Зазыба даже отдернул руку. Но напрасна он пугался — только и дела было, что разбудил спавшего в дровах ежа, который неведомо как забрался на самый верх, под горбатую кору; может, случайно заночевал, а может, давно обжил это уютное, сухое местечко. Разбуженный еж сердито фыркнул, как из воды вылез, в которую его нарочно столкнули, чтобы позабавиться, вытянул лапки вдоль тела и, распрямляясь, скатился в сторону. Зазыба догадался, что это еж, когда зверек ткнулся рыльцем ему в сапоги. Говорят, ежи хорошо видят в темноте, однако этот почему-то все тыкался в Зазыбовы сапоги, словно нюхал ваксу — то ли пришлась ему по вкусу, то ли просто был слепой. Зазыба некоторое время даже не отрывал ног от земли, чтобы не зацепить ненароком зверька, не отдавить ему что-нибудь. Но вот ежик наконец выбрался из-под Зазыбовых ног, освобождение шмыгнул куда-то в новое укромное место. Зазыба набрал на левую руку дров, чтобы потом перехватить их и правой, и привычно, как и надлежит хозяину, опять набросил на поленницу еловую кору. При входе в предбанник лежала на земле спрессованная еще с прошлой осени костра, которую свалили здесь, когда трепали лен: обычно в Веремейках развозили колхозный лен по собственным баням, и тут уже по бригадирским нарядам бабы мяли его на самодельных или покупных железных мялках. Зазыба в охотку, с добротной крестьянской опрятностью вытер о костру ноги, одну и другую, с неким особым удовлетворением, потом снял с пробоя замок, толкнул дверь, отняв на мгновение руку от дров. Из бани пахнуло навстречу чем-то нежилым и горьким, Зазыба даже плачуще сморщился, словно чих подоспел. Дрова он пока что сбросил в предбаннике, а сам прошел дальше через открытые двери внутрь бани, где на полочке, прикрепленной внизу к стене, стоял его фонарь «летучая мышь». Нащупав в темноте под железными ребрами пузатое стекло, Зазыба приподнял его, поднес к фитилю спичку. Прежде чем затопить печь, ему надо было еще подмести пол и выгрести из печи старые угли. Что он и сделал довольно ловко, используя старый облезлый веник и лопату. Не прошло и двадцати минут, как из бани повалил через двери и оконца густой дым. С дымом, словно изгнанный дьявол, появился оттуда и Зазыба. Он постоял немного в отдалении, будто беспокоясь, что дрова в любую минуту могут погаснуть, потом двинулся к забору, чтобы принести из поленницы еще сухих дров. По тропинке навстречу шла Марфа. Она несла на коромысле два полных ведра, наверное, те, что стояли в сенцах еще с вечера. — Как он там? — глухо спросил Зазыба. — Дак уж унялся, — ответила Марфа вроде бы неохотно, подставляя по очереди оба конца коромысла, чтобы муж снял с ушек ведра. — Заснул ли только, не знаю. — Ты хоть положила его на кровать? — Нет, сидит за столом. — Раздеться бы уговорила! — Дак… — Ладно, иди домой. Я тут управлюсь. Вот зараз вылью в чугуны твои ведра, а потом сам пойду по воду. Как раз и наношу, покуда развиднеется, да и веник надо связать. — Ты бы взял лучше готовый. — Кто теперь готовым парится? — Дак ведь осень, лист облетает. — Ничего, на молодых березках еще есть зеленый и держится крепко. Думаю, на веник наломаю. — Ты хоть далеко не ходи за ним, — пожалела его Марфа. — Вот здесь, за глинищем сразу, березки молодые стоят. Дак ты с обеих сторон и наломай. — Ладно, иди уж, то-то без твоей науки веника не наломаю. Но Марфа не торопилась уходить от бани. — Дак что же это теперя с Масеем будет? — вдруг спросила она сломавшимся голосом, будто сквозь боль. — Как это, что будет? — сурово глянул на нее муж. — Дак ты же сам слышал! Говорит вроде… — Ничего он еще не сказал нам такого, чтобы… Словом, ступай к нему и не рви себе душу. Несмотря на мужнину неприступность, Марфа все колебалась, намереваясь не молчать и дальше. Но Зазыба понес ведра с водой в баню. Не иначе, он ладил там чугуны в печке, потому что долго не выходил обратно. Наконец Марфа поняла, что не дождется мужа, недаром он столько времени терпит дым в бане. Ей сделалось грустно, она обиженно вздохнула и с ревнивым чувством в сердце пошла от бани, чтобы по заулку вернуться домой. Чем дальше она отходила, тем сильней ощущала запах дыма; дым был без примесей, без неприятного запаха, и ей, хозяйке, показалось, что это уже бабы затопили по всей деревне печи. На Касперуковом огороде у хлева что-то шмякнулось оземь, будто сполз с крыши в оттепель клок снега. Мелочь, но это задержало на некоторое время Марфино внимание, заставило теряться в догадках. Уже поднимаясь на крыльцо, Марфа поняла по бликам на стенах своего дома, что зажегся свету Прибытковых. Видно, их невестки обманулись светом напротив, не поняв, как это случается в деревне без часов, ночь или утро, и проснулись, услышав вдобавок звук мужских шагов в заулке. «Во, напрасно сбили со сна молодиц!..» — пожалела Марфа, но тут же успокоила себя, мол, всего и беды, что пораньше бабы управятся с домашним хозяйством, останется больше светлого дня на работу в поле. С этим чувством, с этим наивным женским удовольствием она и вошла в свою хату. Масей в ее отсутствие так и не встал из-за стола, сидел в той же позе, прислонившись к стене, даже голову держал склоненной к тому же левому плечу. Снова выкручивать фитиль, чтобы добавить в комнате света, Марфа не стала — не потревожить бы сына, ведь свет ударил бы ему в лицо. Теперь ничто не мешало ей глядеть на Масея, на его исхудавшее, с запавшими щеками лицо, высокий лоб, на который свисала прядка русых, нет, пожалуй, слегка русоватых, если это слово передает точней оттенок, волос; когда-то в детстве, когда Масей ходил в подростках, вместо этой прядки торчал вихор, поэтому, может, и не прилегала плотно прядка к голове, несогласно моталась от каждого движения во все стороны; лицо сына было как бы расслабленным, Марфе даже показалось, что Масей затаенно улыбается, но нет, просто он не хмурился и не переживал ничего во сне, видать, успокоился наконец, что попал домой; этого счастливого и одухотворенного покоя на Масеевом лице не портила даже сумрачная тень в горнице. Все, до мелочей все было знакомо ей в обличье сына! Но чем дольше всматривалась мать, тем больше находила, что сын как-то странно переменился, стал похож на того, каким был до «ухода в город. Марфа отошла от порога и села на лавку, излюбленное свое место, и не столько излюбленное, сколько навсегда выбранное, она и представить не могла, чтобы сидеть вот так, без дела, еще где-нибудь в своем доме. «Досталось, видать, Масею, этак-то отощал, совсем с лица спал!..» Эта мысль словно бы уколола в сердце, ее сразу зазнобило. Марфе до слез стало жаль сына; как и тогда, когда узнала, что осудили его, сперва родилась злоба на кого-то неведомого и ни разу не виденного, кто виноват был в несчастьях сына, так и сейчас она припомнила недавний разговор, который вела с мужем возле бани, и вся ее неопределенная злость почему-то перекинулась на него, показалось, что отец хотел сыну недоброго, и она вдруг почувствовала, что легко может возненавидеть близкого ей человека той слепой и неистовой ненавистью, какую навряд ли поймет кто даже в здравом уме. Зазыба тем временем тоже не забывал про Масея, верней, не мог не думать о нем, и, что бы ни делал — снуя по заулку с ведрами от колодца и обратно и связывая березовый веник за глинищем, — без конца его мысли кружились вокруг сына. Во-первых, появление сына было совсем неожиданным, а это одно уже не могло не вызвать сильного потрясения, которое не так просто проходит, хорошо, если на смену придет другое потрясение, более сильное, а во-вторых, в связи с необычайным возвращением Масея вообще было о чем подумать. Другое дело, что Зазыба гнал от себя недобрые мысли, сознательно обрывал их в зародыше, как рассудительный человек, которому мало только с налету схваченного, краем уха услышанного; ему необходимо вникнуть в суть дела, чтобы все понять, а тогда уж делать выводы. Поскольку отгонять мысли о сыне, о подробностях его возвращения в деревню становилось с каждой минутой трудней, он старался ухватиться памятью все равно за что, только бы уйти от главного. На досуге таким образом многое можно перебрать в памяти. А у Зазыбы теперь и вправду было время, ведь то, что он делал руками, нисколько не мешало голове, наоборот, даже благоприятствовало своей размеренностью и неспешностью. Но каждый так уж устроен, что только сиюминутным или только будущим не может долго жить. Все чаще приходит на ум что-нибудь из давно пережитого, считай, уже вроде отрезанного, потому что человек, каким бы изобретательным он ни был, не способен возвращать к жизни минувшее, он властен над ним только в воспоминаниях. Видно, легче вспоминалось Зазыбе прошлое, поскольку и настоящее, и будущее, как говорится, дальше своего носа пока трудно было разглядеть. Может, потому, что шла война, вспоминалось все больше военное, видно, непроизвольно: немного империалистическая, когда Зазыба кормил в окопах вшей на румынском фронте, а то все гражданская. Благо было с чего — империалистическую он закончил в пятнадцатом, когда приехал долечиваться в деревню, гражданскую же прошел без малого от начала до конца, попав к Щорсу. Щорс наведался в восемнадцатом в Забеседье не случайно, не проездом, — он стоял тогда на Унечи, узловой железнодорожной станции, формировал Богунский полк. Родился Николай Александрович, или, как его, двадцатилетнего парня, называли, «батька Щорс», на Черниговщине, в Сновске, но не меньше почитал он и отцовскую родину, Беларусь. Сам Щорс порой шутил: мол, я одним махом и хохол, и кацап, и белорус. А еще больше смеялся, удивляясь, что до сих пор белорусам не придумано клички — ерунда, кажется, а вот же… Словом, белорусов, которые попадали в полк, он тоже называл земляками. Зазыба случайно записался в Богунский полк, но никогда об этом не жалел. Только из Богунского вскоре перешел в Таращанский. Это было время, когда из оккупированной и гайдамацкой Украины выходили на Унечу преданные Советской власти партизанские соединения. Попали туда и таращанцы, от которых перед тем сбежал их первый командир Гребенка. Вместо царского офицера отрядом командовал теперь рабочий Боженко (в отличие от Щорса этот действительно был по возрасту уже «батькой»). И вот в те дни среди таращанцев Зазыба встретил своего однополчанина по румынскому фронту. Само собой, снова сошлись. Ну, и остался Зазыба с ним у таращанцев, тем более что никакая канцелярия не мешала. С таращанцами брал Зазыба Киев, участвовал в боях за Фастов, Новгород-Волынский, Гощу… Незадолго перед тем, как получить ранение за 11Гепетовкой-По-дольской, ему посчастливилось побывать в Веремейках. Созвал тогда их, ветеранов бригады, Боженко в штаб и сказал: «Людей нам не хватает. В полку еще туда-сюда, а у кого и по сто человек не наберется в ротах. Надумал я такое дело, братки. Отправляйтесь-ка все по своим деревням, по городам. Собирайте там людей —* молодых, средних, старых, какие захотят пойти к нам. Но смотрите, чтобы добровольно было. Не надо насилия. Власть советскую уважайте. Авось пополним бригаду новыми бойцами». Хоть и далеко было Зазыбе ехать до Веремеек, но подался он в родные края охотно. В штабе бригады выдали соответствующий мандат со штампом: «Украинская Советская Республика. Первая Украинская армия. Первая Украинская советская дивизия. Штаб второй таращанской бригады. Действующая армия». Из всей своей поездки Зазыба хорошо запомнил, как уже на второй день после приезда в Веремейки отправился с мандатом в Белынковичи, к войсковому комиссару товарищу Олейникову. Взял он туда с собой И малого Масея… Опять Масей!.. Спохватившись, Зазыба утопил в шайке, полной горячей воды, березовый веник и принялся заливать ковшом угли в печи. В лицо сразу пахнуло жаром и золой, Зазыба даже заслонился согнутой в локте свободной рукой. Наконец он отставил ковш, посидел немного на корточках перед печью, ожидая, что внутри вот-вот блеснет незалитый уголек. Но напрасно. Тогда Зазыба второй раз за сегодня подмел пол в бане, осмотрелся, — кажется, можно было идти звать сына. Светало. Хотя Зазыба наперед и не рассчитывал, однако баню подгадал к самой поре, будто по твердому уговору: просыпайся, мол, после ночи да иди мойся. Зазыба вошел в хату, опустился устало на лавку. От его тихого движения вздрогнула, завозилась на топчане Марфа — она все-таки прикорнула под самое утро, не выдержала глухой тишины в доме, да и боязно было разбудить ненароком сына. Видно, это последнее обстоятельство и повергло ее в тревожный сон. — Ты бы потише хоть… — забеспокоилась она. — Ничего, — громко, не понижая голоса, отмахнулся Зазыба. — Баня-то готова! — А ему теперя, может, и не нужна наша баня, — снова зашептала Марфа. — Ну, нужна не нужна, а я говорю, что готова, — кажется, еще громче сказал Зазыба, будто пришел с далекой дороги и застал в доме непорядок. Теперь уже не мог не проснуться и Масей, как бы крепко он ни спал. Однако пробудился спокойно, так просыпаются люди или на короткое рремя, мол, только вот гляну вокруг, а потом снова засну, или приученные к внутреннему контролю, когда надо все время быть настороже и не выдавать своего присутствия. Зазыба заметил, что Масей проснулся, и обрадовался — жалко было тормошить сына. — Говорю, баня готова, — сообщил и ему Зазыба. — Уже? — словно бы удивился Масей. — Дак рано же, — ласково сказала мать. — А может, ты передумал? — спросил Зазыба. — Может, зря топили? — Наоборот! — Тогда будем собираться. Давай-ка нам, мать, чистое белье. Масей легко, рывком отшатнулся от стены и так же легко отвел назад согнутые в локтях руки. — Эх, проспал, — пожалел он. — Надо было сжечь в бане все это. — И кивнул на стеганку и на штаны, сшитые то ли из дешевого сукна, то ли из крашеной посконины. Зазыба в ответ усмехнулся. — Огонь снова можно развести. Сожжешь, раз уж тебе так хочется. Тем паче что костюм твой у нас сохранился. — Дак лежит твой костюм! — обрадованно подтвердила и Марфа. — Сберегли! — Спасибо, — улыбнулся сын. — Может, достать? — вскочила мать. — А и правда, сын, — поддержал Марфу Зазыба, — зачем уж этими лохмотьями трясти? Пощеголял где-то, и хватит! Когда все необходимое для бани было сложено хозяйкой на скамье в одну стопу, а потом завернуто, как и полагается в таком случае, в полотняный ручник-утиральник, Зазыба сказал Марфе: — Ты, гляди, тоже не копайся. Можешь позвать на пару Прибыткову Анету, чтобы не одной быть в бане. — Не-не! Я сегодня и совсем не пойду. — Как знаешь, — пожал плечами Зазыба. — Пошли, сын. Разогревшийся в бане Зазыба даже не ощущал, что утро выдалось сегодня уже совсем по-осеннему промозглое, недаром Масей, выйдя из дому, поежился и как-то смешно ссутулился. — Ежели не забыл, — сказал сыну Зазыба, — заверни за баню, заткни куделью оконце. — Не забыл вроде. Масей тут же повернул за угол, повел по сторонам взглядом, ища эту кудель, а когда нашел ее у самой стены, в канавке, выбитой капелью, принялся с силой пихать в оконце — квадратную отдушину, вырезанную пилой на уровне поднятых рук в бревенчато!! стене. Оттуда крепко несло жаром, но Масей не обращал внимания на это, старательно исполняя отцово поручение. Для полной уверенности он еще несколько раз полнее к оконцу растопыренные пальцы, чтобы определить, не выходит ли пар. Удивительное дело, — до этого поручения Масей почему-то не чувствовал себя Дома, словно теперь отец наконец допустил его до всего домашнего и оно опять должно было стать родным, а больше всего, наверное, тронул душу сына отцовский голос, когда тот послал его затыкать куделью оконце. Довольный, Масей облегченно вздохнул и громко засмеялся, будто увидел вдруг нечто такое, чего ему не хватало и что он давно искал, или разгадал что-то, что сильно беспокоило до сих пор. — Заткнул! — даже не удержался и похвастался он отцу, через минуту входя в предбанник. Отец тем временем стоял в одних подштанниках, потряхивая над шайкой с горячей водой свежим березовым веником. — Добра, — отозвался он весело, — тогда раздевайся, клади свои лохмотья где хочешь, а то вешай на эти рогачи. — Он махнул веником на вбитые в стену железные крюки. — А я уже пойду поддавать пару. Вскоре через закрытые двери послышался сильный треск, в парилке будто взорвалось, и Масей понял, что отец и вправду начал поддавать пару: от первого же ковша холодной воды один из раскаленных камней на печке не выдержал, зашипел и раскололся, произведя звук, похожий на легкий взрыв. Как помнилось Масею, отец его плохо переносил банный жар, прежде баню для всех готовил дед Евмен, начиная с того момента, как закладывались в печь дрова, и кончая вот этим — разведением пара; обыкновенно дед и на полок первым лазил, — натягивал на плешивую голову суконный картуз, ставил возле деревянную бадейку с холодной водой, вместо ковша алюминиевую мисочку, из которой ловчей поливать на горячие каменья, и принимался обрабатывать березовым или дубовым веником свое старое тело, делая при этом малые или большие передышки. Никто не мог тогда усидеть в бане, мужики обычно собирались в предбаннике, пережидали, покуда дед Евмен наслаждался на полке… Наконец Зазыба вылил на каменку-бунтарку последний ковш воды, толкнул локтем дверь, переступая в облаке пара через порог. Прежде чем заговорить, он искоса оглядел голого сына — словно хотел убедиться, цело ли у Масея мясо на костях, потом опустил руки в шайку с холодной водой, плеснул себе в лицо. — У-у-уф-ф-ф!.. — выдохнул и спросил Масея: — А водили там в баню, где ты был? — Во-ди-и-ил-и, — почему-то растягивая слово по складам, ответил Масей. — Значит, водили? — удивленно переспросил Зазыба, будто не надеялся на такой ответ. — Водили, — уже коротко подтвердил Масей. — Ну и хорошо, — тоже не слишком распространяясь, сказал на сю Зазыба. — Ступай в баню, раз не отвык, да попотей там а тогда начнем. Масей послушно сложил на груди руки, будто не в парилку собирался войти, а по меньшей мере в купель, потом зажмурился и вслепую переступил порог, сразу же захлебнувшись жарой. — Носом дыши, носом, — покуда не затворились двери, успел бросить вслед ему отец. Но где там! Масей только попытался последовать совету отца, как тут же слиплись ноздри, и он снова начал было хватать воздух ртом. Потом пересилил себя. С полминуты задыхался так в пару, а может, и дольше, однако вскоре почувствовал, что дыхание вправду делается ровнее и ему уже не так горячо внутри. — Я тебя сам попарю, — объявил отец. Он облил из ковша весь осиновый полок, подвинул ближе к стене деревянную бадейку с холодной водой. — Ложись! — велел сыну. Помогая себе руками, Масей забрался на полок и лег головой в самый угол. Но отцу не понравилось. Комлем веника он сразу же дал понять сыну, чтобы тот выдвинулся больше на середину, вытянул ноги подошвами к печке. Масей приподнялся на руках, передвинулся. Тогда отец картинно взмахнул под самым потолком веником и, мелко-мелко потряхивая, принялся водить им над распластанным телом сына, потным, но еще не багровым. Чем ниже опускался веник, тем сильней Масей чувствовал спиной обжигающий жар его. Казалось, веник дышал, опускаясь сверху. Лежа на животе, Масей ждал, что отец начнет хлестать сразу же, однако тот не торопился, он еще раз пронес — все так же мелко потряхивая — веник вдоль тела, от самых пяток к затылку, и только потом хлестнул с потягом по правой лопатке. Вообще Масей зря напрягался: отцовские удары не причиняли боли, хорошо распаренные березовые ветки мягко стегали по спине, по ягодицам, по икрам и при этом даже гасили сухой жар. Шлеп-шлеп-шлеп… Плясь-плясь-плясь… Шлеп-шлеп. И чем сильней батька охаживал его веником, тем больше сыну хотелось этого — во всем неухоженном, грязном теле его вырастал какой-то нестерпимый зуд, а под кожей шевелился морозец. — Ну как, сын? — перехватывая левой рукой веник, озорно спросил Зазыба. — Терплю-ю-ю, — умиротворенно прогудел Масей. Тогда отец довольно кивнул головой и по-прежнему озорно продолжал: — Это еще что! Это так себе! А вот зараз как поддам чуток, тогда и правда придется тебе потерпеть! Он нащупал рядом с бадьей ковш, зачерпнул воды и опростал весь на печку. Теперь каменья не трещали и не разрывались, однако пар от них сразу же словно выстрелил вверх, упруго ударил в потолок, расползаясь жгучими волокнами над полком. — У-у-уф-ф! — привычно выдохнул Зазыба и опять, будто наново начиная, стал дробно потряхивать веником. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп… Плясь-плясь, плясь-плясь… Шлеп-шлеп… — А спереди я сам, — попросил Масей. — Что ж, попробуй, — легко согласился Зазыба, но перед тем, как выпустить из рук веник, положил его еще сыну под коленки, на самые поджилки. — Ну вот, — наконец воскликнул он, бросив на край полка веник, и, сгибаясь, вывалился в предбанник. Масей повернулся на мокрых осиновых досках, которые хоть снизу спасали его от жара, свесил вниз ноги. Но долго париться самостоятельно не смог. И не потому, что сделалось совсем душно на полке. И, конечно, не потому, что слишком часто приходилось опускать руку с веником в холодную воду, чтобы не обжечься. Проходило уже то упоение, от которого, казалось, не будет угомону ни душе, ни телу. Наперекор себе Масей продержался без отца на полке несколько минут, потом отбросил, словно ненужную вещь, веник и ринулся в предбанник, готовый выбить головой дверь. — У-у-уф-ф! — подражая отцу, выдохнул он за порогом; из синего тело его сделалось малиново-красным. Зазыба тоже с явным интересом скользнул глазами по нему, спросил с доброй улыбкой, которая могла бы стать обидно снисходительной, не будь он отец. — Ну, как оно? — Уф! — Обмой вот лицо, вода в шайке, — посоветовал отец, да ложись на пол отдыхать. — И, увидев, что сын словно бы не решается, успокоил: — Не бойся, не запачкаешься и не застудишься. Половицы тут плотно подогнаны. Я даже прошлым летом еще раз клином поджал каждую. И завалинка хорошо обкопана. Так что не проймет с исподу. А хочешь, так я тебя и водичкой обдам Правда, доктор Колосовский говорил, что это вредно, вроде бы кожа снова закрывается от холодной воды и не дышит. Но дед твой не страшился. Завсегда после парильни тут вот, в предбаннике, обливался холодной водой. А зимой прямо в снег сигал. Бывало, уж под руки вытащишь его из бани, а он так и норовит с порога нырнуть в сугроб. Нарочно загородку ставили из досок, чтобы сугроб у стены наметало. Окатить, что ли? Масей отрицательно покачал головой. — Дед! — мечтательно сказал он. — Что деду делалось… — Тогда ложись, — потянул его за руку Зазыба. Сперва Масей стал на колени на пол рядом с отцом, а уж потом лег ничком на половицы. Казалось, после долгого пребывания в парилке будет стучать и колотиться сердце, но нет, оно уже успокаивалось, и вообще все существо Масеево расслаблялось, а на глаза наплывала дрема, правда, не та, от которой сразу проваливаешься в сон, эта, наоборот, колом распирала веки, не давала им слипнуться. Масей сложил перед собой ладони, прижался к ним правой щекой. Отец тоже подвинулся ближе. — Значит, решил домой прийти? — спросил он через некоторое время, и Масей вдруг понял, что отец все время носил этот вопрос в себе. — Домой, — сквозь сонную расслабленность сказал он. — А почему в Красную Армию не пошел? — А кто бы меня взял? — вроде безразлично, но уже с некоторым вызовом ответил Масей. — Ну, как это — кто бы взял? — не понял отец. — А так, — оторвал щеку от ладони Масей и поднял голову. — Надо было растолковать хорошенько, кто ты и чего хочешь. — А кто бы меня слушать стал? Кто бы слушал мои толкования? — Мало ли умных людей? — Умных людей действительно немало, — согласился с отцовским доводом Масей. — Но раз не послушали… раз не сумел растолковать в мирное время, так неужели думаешь, что в военное до кого-нибудь дошло бы? — А может, как раз и дошло бы? — Нет, батька, все обстоит несколько иначе, чем ты представляешь себе. Кто имеет право отказать человеку в защите родины с оружием в руках? Но отказывают. — Тебе и правда отказали, или только говоришь так? Беседа стала походить на допрос, и Масей отчаянно наморщил лоб. — Говорю, батька, только говорю, — тоскливо признался он и умолк, как будто ничего не мог противопоставить отцовской убежденности; да умолк ненадолго, набрался терпения и снова начал: — Но я говорю тоже, что с этим делом все обстоит иначе, чем ты себе представляешь, батька, а может, просто хочешь выдать желаемое за действительность. Да, никто мне не отказывал, как можно отказать, если ты не просил? — И правда, как? — Но ты заметь в то же время, кто добровольно поставит меня из-под стражи да сразу под ружье? Не успел бы я заикнуться в военкомате, что из заключения да по какой статье сидел, как моментально очутился бы у стенки. Не только разбираться, но и разговаривать дальше не стали бы. Это когда армия наступает, так все, от полководца до рядового, довольны и во всем правильно разбираются. Тогда каждый посочувствовать готов. А когда армия отступает, так все получается как раз наоборот. Ну, а тут у нас даже не отступление, скорей, всеобщее бегство. — Допустим, на войне по-всякому бывает, — неуверенно кинул Зазыба. — Как в обычной драке, если оба сильные, небось сам не раз видел, так сперва то один сверху, то, глядишь, уже второй на нем… — Это же не простая драка — это война!.. — Война, — задумчиво согласился Зазыба. — Потому я и верю, что за отступлением будет наступление. А ты не веришь? — Не верить, батька, я не имею права, — ответил Масей. — Но разговор наш, кажется, не про это? — И про это, — настойчиво уточнил старший Зазыба — Да ладно. Меня тревожит, что ты не по чистой вернулся. — Формально по чистой. Срок мой вышел. — Тогда в чем дело? — А в том, что… Словом, по чистой, батька, оттуда последнее время, по-моему, никого не выпускали. Просто привозили туда, откуда когда-то брали, и давали новый срок. — Ну, а тебе новый дали? — Не успели. — А что говорили на суде? — Говорили на следствии, — усмехнулся Масей. — А на суде было просто: приводили в зал, председатель спецколлегии зачитывал приговор — и на этап. — Я тогда же, в тот год, поинтересовался в районе, дак мне сказали, что отбываешь ты срок по семьдесят второй статье. Растолкуй мне, что это такое. — В семьдесят второй статье много параграфов. Меня судили за контрреволюционную агитацию. — Ясно. Ну, а провинность какая? — Разве не помнишь, какой снежный ком тогда катился с горы? Только бы донос на кого поступил. — Значит, на тебя тоже был? — Перед этим мы вечеринку устроили. Профессора своего чествовали. Как раз день рождения у него был. Ну, мы и собрались, бывшие студенты. Однако не учли одного. Затесался на вечеринку мальчик один. Све-е-ет-ленький такой, чи-и-истенький, будто с иконы час назад сошел. Кажется, племянник ассистента нашего профессора. Вот он и настрочил на нас. — Напраслину? — Ты, батька, как следователь мой! — засмеялся Масей. — Тот тоже вот так искренне удивлялся: мол, и что же, ничего такого не говорили вы между собой? Так вот, как на исповеди, ничего похожего! Дело в том, что в компанию образованных людей затесался человек, видишь, я не говорю, что негодяй или хуже, так вот… в компанию образованных людей затесался человек, который только что кончил в деревне семилетку. Можно представить себе, чем показалась ему беседа умных людей? Вот он и изложил ее по своему разумению, не иначе, сочтя себя большим патриотом, чем каждый из нас. — Ну, а следствие? Неужто следствие не могло разобраться? — В том-то и загвоздка! Я ж не напрасно говорю, что вроде бы снежный ком с горы катился. Оказывается, лишь бы донос поступил. А он уже гипнотизировал всех. Масей вдруг начал кашлять, до тошноты. Зазыба дотронулся до него: — Ты не волнуйся, сын! — Я уже давно не волнуюсь из-за этого, — наконец прокашлялся Масей. — В душе у меня горько и пусто. — Но и горечь тоже очищает человека. — Чем? — Своей горькостью. — Слишком ее много. Только теперь она разбавлена другими веществами, — в конце концов, во время войны иначе и быть не может. Разбавлена, но не уничтожена. — Ничего, все пройдет, сын. Горечь — она тоже заставляет человека заново познать жизнь. Вот только с освобождением твоим немного не так получилось. Потому я и вспомнил сразу про армию — это как раз лучший выход из положения был. Недаром же говорят, кто смел, тот и съел. — Думаешь, я сам не понимаю, в какой капкан попал? — печально взглянул на отца Масей. — Ага, в любой капкан не завидно попасть, а в этакий и совсем уж не стоило бы. — Он все равно как забытый. Может, никто уже и не придет проверить его. — Ничего, сын, все обойдется!.. Только бы за тобой не было… — А что за мной могло быть? — вскинулся Масей. — Разве от тебя я скрывался бы? — Он снова начал кашлять, хоть и не так надрывно, как прошлый раз. Зазыба предложил: — Пойдем, сын, еще раз на полок. Погреемся. А то и правда разлеглись тут. Давно у тебя этот кашель? — Был как-то, а потом сам прошел. — Может, грудь застужена? — Нет-нет, наверняка нет. — Ну и хорошо. Пойдем. Погрею тебя. В бане дышалось уже легче, жара почти не донимала, однако Зазыба открыл на улицу и застекленное нижнее оконце. — Ложись снова на полок, — сказал он. — Да повернись головой к печке. С правой руки мне ловчей будет. Покуда Масей жестко укладывался на осиновых досках, боясь наставить синяков, Зазыба успел принести из предбанника ведро с кипятком, накрытое деревянным кружочком. Поставив ведро на пол, он поднял брошенный Масеем веник, оглядел его, не торчат ли голые прутья, потом утопил в горячей воде. — Вот о чем я просить тебя должен, сын, — сказал он вдруг, кладя на спину Масею заново распаренный веник. — Не говори ты с мужиками про все про это в деревне. Я понимаю, ты теперь обиженный. Тебе и правда не сладко. Но поверь мне, своему отцу, что советская власть в твоей беде не виноватая. Ты ж сам говоришь, ком с горы катился. Было, отрицать нельзя. Но… не всюду одинаково. У нас, например, ни одного пальцем не тронули. Да и не только у нас. Значит, самоуправство на местах творилось. А сверху за ним недоглядели.

— Чудные у меня родители, — вздрагивая кожей от пекучего березового листа, горько усмехнулся Масей. — Мать все время на господа бога надеется, а батька — на высшую власть!.. — Иначе мне нельзя, сын, — опуская снова веник в ведро, крякнул Зазыба. — Чего сам тогда стою? А в жизни мало ли что случается. Тем более когда эту жизнь заново строишь. Тут и ошибиться нетрудно, не то что недоглядеть. Сам понимаешь. — Опыта нет, поэтому делай что хочешь, набирайся опыта. Ошибаешься? Ну что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому делай ошибки, быстрей выучишься. Попомнишь меня, батька, об этом еще скажут, ой, скажут! — Я и сам понимаю, что скажут! — не принимая сыновней озлобленности, повысил голос Зазыба. — Не раз уже говорили! В коллективизацию наворочали лишнего — поправили, головокружение от успеха вышло. В тридцать восьмом тоже поправили. Ежова наказали. На пленуме нарушения осудили. Так что… — Святой человек ты у меня, батька, — вздохнул Масей. — За это я уважаю тебя. — И на том спасибо, сын. Другой раз, может, и не сказал бы, а сегодня принимаю даже похвалу. Приятно. Особенно если сын хвалит, а ты хорошо знаешь, за что он хвалит. Эти слова прозвучали для Масея одновременно и как укор, и как затаенная ирония. Поэтому он, смутившись, замолчал. Отец тоже не начинал новой беседы. Опуская раз за разом веник в кипяток, он потряхивал им над спиной сына, пронося вдоль хребта. И каждый раз на мгновение останавливался в каком-нибудь одном месте, прижимая березовые ветки к телу. Масея обжигали эти прикосновения, но он покорно молчал, даже не шевелился, только временами вздрагивал. …Одетый во все чистое, Масей через полчаса вышел из бани, глянул перед собой на широкий простор, где надгорбатым полем всплывало красное солнце, и почувствовал вдруг, как сильно, словно перед самыми морозами, запахло полынью.
VI
Бои на оборонительном рубеже, что пересекал Тульско-Орловский тракт, как начались почти неожиданно, будто ни с того ни с сего — еще не все полки 284-й дивизии заняли траншеи перед громадным противотанковым рвом, — так и прекратились, вернее, не прекратились, а утихли на какое-то время. Собственно, упорных оборонительных боев, как это было на прежних рубежах, например на Днепре, потом и на Соже, здесь пока вообще не произошло. Немцы сначала намеревались разрушить новую полосу обороны русских прямо с воздуха. Над противотанковым рвом, над траншеями и окопами, которые заранее, еще чуть ли не в конце июля, были подготовлены почти вдоль всего оборонительного рубежа в несколько линий, висели горбатые «юнкерсы», вываливая из чрева вниз бомбы. Бомбились также все близлежащие деревни, в том числе и Пеклино, леса и перелески по левую сторону от противотанкового рва на протяжении трех-четырех километров. Немецкому командованию казалось, что после такой тщательной авиаподготовки достаточно будет сразу же пустить танки, чтобы прорвать новую, неустоявшуюся оборону еще до подхода основных моторизованных сил. Но надежда оказалась напрасной. Замысел немцев был разгадан своевременно, и на танкоопасных направлениях артиллерия успешно отбила вражеские атаки. Тогда немцы унялись, решили дождаться основных сил, которые еще подтягивались к фронту. Поэтому все и утихло вокруг. Вместе с тем прекратился и поток войск, отступающих от предыдущего оборонительного рубежа. Таким образом, Шпакевичу тоже вроде бы стало нечего делать. Последняя группа бойцов и командиров на этом участке перешла линию фронта неудачно, это как раз была группа, в которой побывал гостем однажды ночью в лесу возле Ширяевки Чубарь и по душам побеседовал с полковым комиссаром. Но об этом Шпакевич не знал. Да ему и не полагалось дотошно расспрашивать окруженцев, даже если бы кое-что и беспокоило. В перестрелке, которая вдруг началась с обеих сторон, погиб раненый полковой комиссар, которого красноармейцы на носилках вынесли по болоту в траншею уже мертвым… Известно, встречать окруженцев, налаживать переход через линию фронта было делом необычайно хлопотливым, много приходилось нервничать и мало спать, поэтому Шпакевич охотно вернулся к выполнению своих непосредственных обязанностей в роте с самого начала его назначили помкомвзвода. Оборонительный рубеж был подготовлен заранее, солдатам мало пришлось ковыряться в земле, разве поправить изредка траншею после бомбежки. Ну, а раз не надо швырять лопатой на бруствер землю, значит, и работы, считай, настоящей солдатской нет. Поэтому Шпакевич договорился с командиром взвода, что отлучится на некоторое время в Пеклинский лес, туда, где недавно размещался сборный пункт. — Надо на могилу одну наведаться, — объяснил он, чтобы и правда не выглядело это просто прогулкой. Взводный не возражал. Шпакевич взял с собой еще и красноармейца-уральца, который назвался плотником. Дело было в том, что все это время на передовой Шпакевичу хотелось обиходить по-человечески могилу Холодилова. Хоронил убитого он сам, но наспех, как попало — после того налета было приказано не демаскировать сборный пункт и вообще не слишком задерживаться возле сеновала, потому что на позициях ждали пустые окопы. И вот теперь Шпакевича грызло, что он тоже поддался спешке и не сделал даже пристойной могилы — едва успел выкопать ямку глубиной примерно в заурядный солдатский окоп для стрельбы лежа. Письмо родным Холодилова Шпакевич послал. Он правильно мыслил — Холодилов был тут ничейный, еще не приписанный ни к какой части, поэтому и уведомлять о его смерти официально было некому. Значит, сделать это надлежало Шпакевичу. И не только по дружбе, но и по обязанности, пусть не официальной. Адрес Холодилова у Шпакевича был, он вынул его вместе с другими документами из кармана холодиловской гимнастерки. Но что написать, какими словами поведать родителям про гибель сына? Сперва ему хотелось рассказать обо всем, что только можно было припомнить из их совместных странствий, из их военной службы — хотя известно, какая служба на войне, на войне солдаты просто воюют, а не служат! — но даже в мыслях письмо выходило длинным, почти бесконечным, на него не хватило бы бумаги, поэтому Шпакевич после размышлений написал самое простое: мол, дорогие отец и мать (отец у Холодилова, с его же слов, был человек не старый, но инвалид — на плотах когда-то на Чусовой застудил ногу, да так и не вылечился), сестры и братья, ваш сын и брат Холодилов Валентин Тарасович погиб геройской смертью в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за честь социалистической отчизны и похоронен в лесу, что в полутора километрах на северо-восток от деревни Пеклино… А вдруг оттуда, из Уфы, когда-нибудь приедут на могилу?.. Расстояние от передовой до того Пеклинского леса было небольшое, и Шпакевич с плотником быстро взялись за дело: с общего согласия решили не пожалеть час-другой и перехоронить Холодилова. Отмерив шагов десять от первой могилы, Шпакевич стал копать другую, глубокую и не тесную, тем более что земля была песчаная и позволяла это. Красноармеец тем временем принялся вытесывать из расколотой сосны обелиск на могилу, чтобы потом вырезать на нем и имя погибшего; плотник был из недавно мобилизованных, попал сюда, на этот оборонительный рубеж, с дивизией, которая еще не участвовала в боях, и потому не видел, как хоронили солдат до сих пор — только бы успеть землей присыпать, ему хотелось справить все по-настоящему, без всякой спешки, как полагается; Шпакевичу только и удалось уговорить его не ставить крест Холодилову, красноармейцу, мол, на могиле надлежит иметь заостренный кверху граненый столбик, который называется обелиском. Им никто не мешал: на сеновале никого не было, со вчерашнего дня он вообще стоял пустой, потому что старший лейтенант из особого отдела и те войсковые службы, что занимались тут после так называемого пропускника формированием новых боевых подразделений, перебрались непосредственно в штабы, где им и полагалось быть. Побросав с полчаса землю из ямы, Шпакевич распрямился — было уже по грудь, оперся ладонями о края и подтянулся наверх, чтобы передохнуть. Красноармеец, увидев это, тоже перестал тюкать топором. — Я, конечно, не знаю, — сказал он, садясь на пень, — но часто думаю и все хочу спросить. Занимает мою голову и морочит одна мысль. От самого начала войны. — Что же это за мысль такая, что вы все спросить не можете? — доброжелательно откликнулся Шпакевич, который тоже успел усесться на пень, как раз напротив. — А вот какая. — Солдат снял с головы пилотку, пришлепнул на правом колене, видно, его и вправду давно интересовало что-то. Он и теперь не торопился говорить, словно взвешивал или приглядывался к человеку: довериться ли? — Помню, в девятнадцатом годе собирали для немцев сухари. Самим есть было нечего, а немцам собирали. — Я мал тогда был, не помню, — сказал на это Шпакевич, будто попытался отмежеваться. — А я помню, хотя тоже не в больших годах был… — Интересно, сколько вам теперь? — спросил Шпакевич. — Так неужто не видать? — Ну… — неуверенно начал Шпакевич. — А уж много, — сказал, чтобы не делать лишней задержки, плотник. — Если по-настоящему, так в закутке должен сидеть или на печи греться. Ну, а по теперешней войне… Но я не про это. Истинная правда, собирали тогда для немцев сухари. Это я помню. А самим в те времена кусать было нечего. Хорошо, если по пол-ось-.мушки на взрослого человека в Москве и в Петрограде выпадало. Да и в других городах не жирней было. У самих люди помирали с голоду, а чужим сушили сухари. Говорили, немецким рабочим, ихним детям помощь нужна. Мол, пролетариат не забудет потом. Также солидарность проявит, когда понадобится. — Что ж, правильно, — подтвердил Шпакевич. — Но это еще как поглядеть, — словно бы с укоризной глянул на него красноармеец. — У меня тогда брательник в Питере с голоду помер. Маленький, сопливый еще был. Сиротина. Ну, и поехал к дядьке, на завод устраиваться или так в городе прижиться. Приехал, а дядьки нету. Я уж не помню, с кем тогда, в девятнадцатом, война шла. Да, видно, что не с немцами. У них тогда, писали, республика была. Баварская. — С Юденичем, — подсказал Шпакевич. — Так вот я и говорю… брательник мой… пошатался бездомный да голодный по Петрограду и помер на каком-то вокзале. Ну, а если бы наоборот было, если бы не немчик какой те сухари скушал, а мой брательник? А их скушал немчик. И небось теперь по нас стреляет. — А почему именно тот стреляет, что сухари ел? — пожал плечами Шпакевич, наконец уразумев, куда гнул солдат. — Ну, не обязательно, конечно, однако… — Дело как раз в этом вот «однако»! А почему не допустить, и это будет верней всего, что немчик тот сидит теперь в гитлеровском концлагере? А может, в подполье с фашистами сражается? — Допустить, известно, можно, — снова с тем же укором посмотрел на Шпакевича плотник. — Ну, концлагерь, конечное дело, тюрьма. А что ему делать там, в Германии, в подполье? — На заводе бомбы портить, гранаты… — Где же тогда они, те порченые бомбы? Сдается, все время взрываются. Как которая падает на землю, так и взрывается. Да и гранаты исправные! — Фронт ведь не только здесь! — обиженно возразил Шпакевич. — Фронт ведь большой! Так почему вы думаете, что и там?.. — Эх, вижу, не стоило заводить разговора, — уже явно жалея, поморщился от досады пожилой красноармеец. — Думал бы себе и думал, как раньше, а так… — Почему не стоило? — вскинулся Шпакевич, а сам в это время припомнил, как недавно вот тут, на сеновале, допрашивали сбитого над оборонительным рубежом немецкого летчика, который с двухкрылого самолета разбрасывал листовки. «Я рабочий!» — все повторял он, словно вкладывал в это какой-то особенный смысл, словно искал некоего контакта с допрашивающими его. А когда старший лейтенант из особого отдела спросил через переводчика, почему он, рабочий или сын рабочего, да воюет с рабочими, пленный ответил: «Потому что война!» Тогда ему сразу же другой вопрос поставили: «А почему ваши фюреры вообще начали войну против Советского Союза?» Ответ был неясный, видно, не совсем продуманный, да зато выученный; сводился он к следующему: мол, мы бы не пришли сюда, если бы вы сами отменили советско-марксистский строй, разогнали Коммунистический Интернационал, — словом, он понимал задачу так, что им, немцам, ничего не оставалось, как только из рабочей солидарности вмешаться в Дела России… Шпакевич теперь понимал, с пожилым человеком необходимо было поговорить сообразно моменту, растолковать ему, что тут к чему, хотя понимал он и то, как непросто было бы сделать это, ведь война сильно пошатнула многих, однако продолжить беседу им не удалось. Внезапно на поляну, где они разговаривали, сидя друг против друга на спиленных пнях, прибежал запыхавшийся посыльный, красноармеец из их взвода, и еще за несколько шагов крикнул Шпакевичу: — Взводный приказал прибыть вам в расположение роты! — Когда? — Немедленно. — А почему? — Не знаю. — Одному или с ним? — Шпакевич кивнул головой на пожилого красноармейца, который торопливо прилаживал пилотку, приминая ее сверху рукой. — На этот счет ничего не сказано! Шпакевич неохотно поднялся, почесал за ухом, как бы растягивая время, потом сказал плотнику: — Вы вот что… Кстати, как вас зовут? — Тарасом. Тарас Яковлевич. — Его отец тоже Тарас, — сказал Шпакевич, имея в виду Холодилова. — Так что сыном мог быть. — А молодой? — повернулся плотник в ту сторону, где чуть вздымалась на могиле земля. — Студент. Тоже любил поговорить. Я даже подумал — сойтись бы вам раньше, вот наговорились бы, может, и мне объяснять потом не пришлось. Сами бы разобрались, что к чему. Но, как говорится, не судьба. Я вот о чем попрошу вас, Тарас Яковлевич, вы уж тут не бросайте начатого дела. Могилу я почти выкопал. Осталось только дно подчистить. Ну, а… — Ладно, командир, — взялся за топорище плотник. — Идите уж, раз зовут. Небось не просто так, может, что случилось. А без вас не могут обойтись. Не волнуйтесь. Сделаю тут все в аккурате. Я такой, подвести никого не могу. Раз надо, так надо! — А то, может, оставить и его? — показал на посыльного Шпакевич. — Нет, я один управлюсь. Вы скажите только… Имя товарища своего убитого скажите… — Ах, да. Чуть не забыл. Холодилов. Валентин Тарасович Холодилов. — Запомнил. — Так и напишите: «Красноармеец Холодилов Валентин Тарасович, погиб…» — Говорите, написать? Нет, карандаш первый же дождь размоет. И следа никакого не останется. Жаль, стамески нет. Ну да ладно. Ножиком попробую. Словом, не волнуйтесь, все сделаю в аккурате. Словно предчувствуя, что говорит с человеком последний раз, а может, от обыкновенной признательности, которую хотелось выразить хоть чем-нибудь, Шпакевич крепко пожал красноармейцу руку и быстренько отправился вслед за посыльным, которому не стоялось на месте. Командир взвода ждал его и начал чуть ли не с порога, хотя никакой вины за Шпакевичем не было: — Приходил Зимовой, приказал разыскать тебя хоть под землей. Хорошо еще, что не влетело. — А зачем я понадобился ему? — спросил Шпакевич. — Если бы ему! А то кому-то в штабе дивизии! Шпакевич подумал, снова вызывает старший лейтенант-из особого отдела. — Так куда мне теперь — сразу в штаб дивизии или к Зимовому? Взводный пожал плечами. — Ну, раз приходил Зимовой, значит, к нему и надо. А там уж выяснится. — Слушай, — сказал Шпакевич, — я там, в лесу, оставил бойца, ну, того… — A-а, Светличного? — Да. Так ты его не ругай, если чуть задержится. Могилу он там устраивает. — Зря ты это надумал, Шпакевич, покачал головой взводный. — Надо было похоронить своего товарища в братской могиле. Хотя, между прочим… не все ли равно убитому, где лежать? А насчет Светличного, пускай у тебя голова об нем не болит. Ну, давай прощаться. Чую, не вернешься ты к нам. Должно быть, забирают тебя навсегда. А жаль, добрый помощник был. — Напомога-а-ал я тебе! — разочарованно протянул Шпакевич. — Только числился помкомвзвода. — Ничего, все мы тут пока что числимся. Главное начнется, как немцы попрут. А они вот-вот соберутся с силами. Почти то же через какие-нибудь полчаса говорил Шпакевичу и командир роты Зимовой. Напоследок спросил: — Вещи-то хоть с тобой? — Какие у меня вещи? Подошел замполит, средних лет человек с круглым добрым и слегка удивленным лицом. Этот так и вообще в роте был со вчерашнего дня — работал где-то заведующим парткабинетом, пока район не попал в оккупацию. Но поскольку вся рота состояла из людей случайных, а значит, из тех, кого удалось объединить в одно подразделение на сборном пункте, то бойцы и командиры привыкали друг к другу быстро, довольно было перекинуться сочувственным словом да отсыпать в двурогую жестянку щедрую щепоть махорки. Замполита тоже сразу приняли в роте как своего, уже ходил среди взводных анекдот, рассказанный им в первый день знакомства: как осенью через крестьянские полоски торопился заяц и встретил в поле ежа. «Куда ты, косой?» — спрашивает еж. «А за тем вот пригорком, — отвечает заяц, — верблюдов холостят». — «Где ты верблюдов у нас видел? Спятил?» — «А мне другие зайцы говорили!» — «Ну, а ты-то чего боишься? Ты же не верблюд?» — «Ну да, а как отрежут причиндалы, так поздно будет доказывать, что ты не верблюд». И теперь, увидя замполита, Шпакевич почему-то первым делом вспомнил этот анекдот, улыбнулся про себя: ну и мужик, кажется, не из трепачей, а тоже выдумает… Замполит, видно, почувствовал его улыбку, пошутил совсем по-дружески: — Гляди, там, в штабе, руководи, да не слишком дергай. Особенно нас с Зимовым. У Шпакевича, как и у теперешних командиров его, предчувствие было не напрасным: впереди его действительно ожидало задание, которого он и представить не мог. Из штаба дивизии, куда он добрался вскоре, его направили в политотдел, занимающий избу в этой же деревне, напротив, окна в окна. В деревенской избе из двух половин за столом сидели трое. Одного Шпакевич узнал сразу, еще со спины, это был знакомый старший лейтенант из особого отдела, хотя уже и переодетый во все военное, а в петлицах вместо трех своих наркоматских треугольников имеющий кубики. Вторым сидел начальник политотдела дивизии. До сих пор на начальника политотдела Шпакевичу привелось глянуть всего разок, и то мельком, когда тот зачем-то наведался несколько дней назад на сборный пункт в Пеклинском лесу. Третьего, присутствующего здесь и сидящего за столом лицом к Шпакевичу, он совсем не знал и даже не догадывался, кто он и откуда, тем более что на одежде его знаки различия отсутствовали начисто. А дело как раз и было в том человеке, командире специального разведывательно-диверсионного отряда, созданного из добровольцев в Москве по инициативе Народного комиссариата государственной безопасности и направленного сюда в расположение дивизии, чтобы отряд мог переправиться через линию фронта. С виду он показался Шпакевичу человеком приятным — хоть и сидел, но заметно было, что ростом высокий, с черной, еще не сильно отросшей бородой, с густыми бровями, с темными цепкими глазами. Нередко встречаются люди, которые свою проницательность пробуют на других, чтобы разгадать затаенные мысли, нагнать страху и этим утвердить себя. Но этот был не таков. Чувствовалось в его проницательности одновременно что-то и острое, и деликатное, словно он боялся зря уколоть человека Своим взглядом. Потом, через несколько недель, когда они будут уже по ту сторону фронта, в тылу у врага, Шпакевич по-настоящему оценит этого замечательного человека и многое узнает о нем от других, особенно от Ерофеева, бывшего инструктора физкультуры одной из бумагопрядильных фабрик Подмосковья: и о том, что командир их кадровый чекист, который восемнадцатилетним пареньком участвовал в Октябрьской революции, разгонял полицию в Бежице и Брянске, и о том, что затем пошел он добровольно на фронт против Юденича, и о том, наконец, что после гражданской войны долго боролся с бандитизмом и контрреволюцией на Украине… А теперь они и откровенно, и тайком поглядывали друг на друга — Шпакевич и его будущий командир; командир спецотряда потому, что собирался предложить Шпакевичу кое-что, а Шпакевич — почувствовав его непростую заинтересованность своей особой. Но первым заговорил старший лейтенант. — У нас тут новые обстоятельства обнаружились, — начал он издалека. — И вот товарищи хотят послушать, как вы из окружения сюда выходили. Маршрут опишите, разные там мелочи. Словом, попытайтесь изложить все так, как тогда у нас. Шпакевич насторожился — по опыту знал, если дважды спрашивают об одном и том же, значит, что-то неладно. Но не ответить не мог. Словно собираясь с мыслями и проходя в них свой путь сюда из Забеседья, который пришлось проделать в самую дождливую погоду по немецкому тылу вместе с Чубарем и Холодиловым, Шпакевич прежде всего, конечно, вспоминал, что он уже говорил старшему лейтенанту из особого отдела там, на сеновале. Получалось, что тогда он не слишком-то вдавался в подробности. Говорил все, как было, однако схематично, словно боялся отнять много времени. Между тем командир спецотряда, видно, понял его заминку по-своему и поспешил на выручку. — Карту читать умеете? — спросил он. — Да, — ответил Шпакевич, наконец ясно поняв, что это тот самый человек, ради которого за столом сидели и начальство политотдела дивизии, и старший лейтенант из особого отдела и для которого вызвали сюда его, Шпакевича. Командир спецотряда удовлетворенно кивнул, достал из-за спины распухшую военную сумку, которая лежала на скамье между стеной и ним, и вынул оттуда сложенную гармошкой топографическую карту. Старший лейтенант из особого отдела предупредительно потянулся к ней, помог разложить на столе — и это тоже не осталось незамеченным Шпакевичем, значит, и правда какая-то важная шишка! — Подойдите ближе. Шпакевич ступил к столу два шага, которых не хватало, чтобы оказаться рядом с остальными, кто находился в избе, и, не ожидая дальнейшей команды, точней, дальнейшего, приглашения, наклонился над картой. — Ну, а теперь покажите нам, как вы шли сюда и откуда. Шпакевич без всякого труда отыскал извилистую линию Беседи, показал пальцем, в каком месте впадает в нее Деряжня, где был взорван последний мост, и уже оттуда, давая самые подробные объяснения, начал постепенно приближаться к Пеклину. — У вас там знакомые остались? — спросил командир спецотряда, когда Шпакевич подробно показал весь маршрут от Беседи. — Нет. — Ну, а те?.. Словом, вы же по дороге с кем-то встречались, где-то ночевали… Такие знакомые остались? — Такие были, — смутился Шпакевич. — Известно, и еды у людей приходилось просить, и ночлега. Но это не в счет. Как говорится, поел-поспал, да и спасибо на том. — Хорошо, — сдвинул густые брови партизанский командир. — А этот, Чубарь, с которым вы шли сюда, где он теперь? — В Журиничах, там, говорят, ополчение собирается. — Из какой он деревни был? — Точно теперь не помню, но где-то недалеко от Белой Глины. — И кем он там работал? — Председателем колхоза. — Тоже не лишний человек, — подумав немного, подытожил командир спецотряда, — но… это так, любопытства ради. Тем более — как его теперь найдешь? — А Холодилов погиб, — договорил Шпакевич, — уже здесь, от бомбы. В хате настала тишина. Но не потому, что Шпакевич вдруг напомнил о гибели товарища. Нет. И начальник политотдела дивизии, и старший лейтенант уставились на третьего — на партизанского командира, который задумчиво трогал, словно поглаживал снизу, тыльной стороной ладони свою черную бороду, и терпеливо ждали, что скажет наконец он, устроит ли его кандидатура Шпакевича. А дело было вот в чем. В самый последний момент, когда партизанский отряд уже готов был переправиться во вражеский тыл, заболел проводник, даже не заболел в настоящем смысле этого слова — его покусали пчелы… Тогда командир отряда и обратился к штабу дивизии, чтобы срочно помогли подыскать ему другого надежного проводника, иначе срывалась операция, которую долго и детально разрабатывали в Москве. И вот старший лейтенант из особого отдела снова вспомнил про Шпакевича: «Действительно, а почему не порекомендовать его?» Позвонил начальнику политотдела: «Есть такой человек!» Наконец молчание в избе было нарушено. Тот, от кого ждали решающего слова, перестал теребить бороду, просветленно улыбнулся одними глазами, будто свалил с себя громадную тяжесть, и спросил, проникая тем же острым взглядом Шпакевичу в душу: — А еще раз не хотели бы пройтись по тем стежкам и дорожкам? — Как это? — не понял Шпакевич. — Обыкновенно. Проделать примерно тот же маршрут, но в обратном направлении. Тогда вы шли оттуда сюда, а теперь по шли бы отсюда туда. Шпакевич склонил голову набок, спросил: — Один? — Нет. — Большая группа? — Ну, об этом узнаете после. Теперь же от вас нужен ответ — согласны или не согласны? Пока в принципе. Товарищи, вот за вас ручаются. — А все-таки? — досадливо поморщился Шпакевич. — Хотелось бы и от вас услышать что-нибудь определенное. — Услышите в свое время» — без улыбки, но приветливо пообещал командир спецотряда. — Повторяю, прежде всего необходимо ваше принципиальное согласие. Я понимаю, для. вас это неожиданно, психологически вы не готовы к такому путешествию и вообще, но, не утаю от вас, у нас тоже свои трудности, может, для нас кое в чем более неожиданные, чем для вас. Так что я даже не имею возможности, дать вам достаточно времени подумать. Тогда, по дал — голос начальник политотдела дивизии: — Приказывать мы тоже не имеем права. Не тот случай. «Что же это за случай за такой? Что?» — подумал Шпакевич. И начальник политотдела поторопился добавить: — Да, не можем! — Ладно, — решил, наконец Шпакевич, хотя в душе до конца не победил настороженность. — Считайте, что уговорили. — Значит, согласны? — Да. — Ну что же, я рад! — Мужчина, который настойчиво и вместе с тем терпеливо добивался этого ответа, встал и протянул через стол Шпакевичу сухощавую руку: — Но то, что сейчас услышите, пока большой секрет. Сегодня ночью на ту сторону фронта, в тыл оккупантам, со специальным и ответственным заданием переправится партизанский отряд. В нем будет тридцать три человека. Вы пойдете проводником. Понятно? — Да. — Ну, а теперь надо собираться, — складывая карту, сказал партизанский командир. — У нас с вами, — посмотрел он на Шпакевича, — есть еще немного времени, думаю, мы успеем хоть — в основном обдумать некоторые подробности будущего похода и уточнить отдельные детали. Поэтому сейчас, минут через двадцать, поедем с вами в расположение отряда. Это недалеко. В соседней деревне. А пока вы подождите меня на улице, там, кажется, есть скамейка на крыльце, посидите, мне с товарищами надо кое-что обсудить. Шпакевич вышел. Скамеек на крыльце было даже две. Но на них друг против друга сидели два незнакомых командира — совсем пожилой и помоложе, но тоже в годах, судя по знакам различия, они имели одно звание; командиры были увлечены беседой, и появление Шпакевича на крыльце не вызвало у них никакого интереса, будто он уже давно мозолил им глаза. Чтобы не мешать им/а больше всего чтобы не вызывать лишнего внимания, Шпакевич козырнул и постарался быстрей сойти с крыльца. Поскольку отлучаться далеко он уже не имел права — сказано было ждать на крыльце, — он не придумал ничего лучшего, как сиротливо прислониться боком к телефонному столбу против избы, где размещался политотдел дивизии. Как раз от этой избы широкая деревенская улица поворачивала и выходила через несколько дворов в поле, где справа от дороги стояла под вязом грузовая машина, замаскированная сверху зелеными-ветками. В той стороне где-то высоко летел самолет, вокруг которого время от времени рвались зенитные снаряды, разрывы доносились слабо, зато хорошо было видно, как в небе вдруг появлялись маленькие белые облачка, словно там лопались коробочки хлопка.VII
Уже несколько дней на Зазыбов двор заглядывал Кузьма Прибытков. Великая охота была у него поговорить с Масеем. А сегодня, кроме того, Прибытков таил надежду похарчиться у Зазыб, потому что одна его невестка, Анета, торопилась в Яшницу вместе с другими веремейковскими бабами и почти не стряпала, а вторая уже который день сильно хворала, не поднимаясь с постели даже к печи. Между тем Зазыба ревниво перехватывал Кузьму по эту сторону своих ворот, даже в мыслях не давая старому задерживаться долго возле сына — не хватало еще, злился он, чтобы по случаю Масеева возвращения толпился тут народ!.. Старый Прибытков, видно, тоже угадывал Зазыбово настроение. И не очень-то церемонился. Может, полагал, что старость имеет и на это право. — Дак проснулся Масей или нет? — неизменно вопрошал Кузьма; при этом и вид у старого пильщика, и голос был такой, словно до хозяйского сына у него появилась крайняя нужда. — Нет, — бросал в ответ хозяин откуда-нибудь из-под повети, и Прибытков без всякой обиды поворачивал обратно, топая враскоряку следом за своей палкой к калитке, высокий порог которой становился для него уже нешуточной помехой. На этот раз Кузьма не выдержал до конца свою роль, завел под лоб глаза, будто старец, явившийся с поводырем в деревню, и сказал: — Вот сколько я до тебя, Денис, ни хожу теперяка, а все на угощение не попаду. Сдается, и сын целый вернулся, а ты все куксишься. — А как же, кукшусь, — легко согласился Зазыба, словно ему по нраву пришлось это словечко. — Нечем мне тебя угощать. — Ну вот, нечем, — опять закатил Прибытков глаза, — а некоторые наши мужики цельные дни, может, из-за столов не вылазят. Все угощаются. Разве ж это не диво — умять целого лося? — Ну, а что еще делать с ним было, с этим лосем? — равнодушно усмехнулся Зазыба. — Дак… Если бы только одного лося, — вел дальше Кузьма Прибытков, подначивая Зазыбу. — А то Браво-Животовский и поросенка еще с колхозной фермы прихватил, будто без домашнего мяса дичина в брюхо уж и не лезет. — А вот за это, что незаконно берут поросят с фермы, кое-кому и по рукам стоило бы… — Гм… Некому! Наконец Кузьма Прибытков посчитал, что после такого разговора ему уж наверняка можно задержаться на Зазыбовом дворе. Подошел поближе к завалинке, сел на доску, которая нарочно была здесь положена. Вышел на середину двора из своего укромного места и Денис Зазыба. — Будто не ведаешь, кому по рукам теперь давать надо? — хитро поглядел на него Прибытков. — Я-то ведаю, — ответил насмешливо Зазыба, — да ведают ли другие? — Дак… Более определенно отозваться на слова Зазыбы Прибытков не сумел, верней, нарочно не захотел, понимая, что у Зазыбы вырвалось это скорей от запальчивости, чем от сознания реальной власти; просто никто теперь в деревне не осмелится, а тем более из-за поросенка, стать поперек дороги Браво-Животовскому и его компании. Другое дело раньше, почти до самого того момента, как в деревне появились немцы. До тех пор словно бы еще не верилось, что они вообще доберутся до Веремеек. Поэтому даже Браво-Животовский в роли полицейского всерьез не воспринимался. Но после того, как веремейковцы прошли под конвоем до деревни да постояли под угрозой расстрела на площади, все изменилось в их сознании, если совсем не перевернулось. Конечно, подумалось веремейковцам, Браво-Животовский получил у криницы порцию колотушек от фашиста, но зато не стоял вместе со всеми односельчанами на площади и жандармский офицер не грозился расстрелять его. Значит, сколько ни издевайся над ним, сколько ни измывайся в мыслях или на словах, а он уже тебе не ровня!.. — Я это к тому, — наконец встрепенулся на завалинке Прибытков, — что у тебя вот зараз сын, дак тебе тоже бы лосятинки той не мешало взять. Тогда бы и угощение, как это водится, наладил. Сын ведь вернулся. А то я хожу-хожу, а все никак не дождусь, покуда ты к столу пригласишь. — A-а, вон ты про что, — нехотя улыбнулся Зазыба. — И правда, есть с чего вспомнить про свежину. Так она уж небось успела просолиться? — Солонина бы тоже к столу пришлась. — Ничего, Кузьма, — помягчел Зазыба, — обойдемся как-нибудь своим харчем, без лосятины. А вот что они незаконно взяли с фермы скотину, так за это надо бы спросить кое с кого. — Эх, — махнул рукой Прибытков, — не вяжись ты с ними, живодерами! Ты лучше скажи мне: как тебе показались немцы? — Сам-то небось тоже видел? — Дак ведь это, сдается, еще не немцы, что взяли да проехались по деревне из конца в конец. Взаправдашние немцы уже, видать, те будут, что приедут однажды и больше не уедут никуда. — Эти тоже едва не перестреляли мужиков. — Дак хто виноватый? — Ага, кто виноватый? — Каб не солдат той, что в колодезь свалился, может бы, и не было совсем страху. Но, как я теперя уже думаю, дак они даром не будут людей трогать. Зазыба от негодования задохнулся. — Дак как это, скажи мне, трогать не будут? — А так — коли их не зацепят, то и они ничего не будут иметь до тебя. — Гм… — Мы же мирные. До мирных и отношение должно быть свое. Услышав это, Зазыба долгим взглядом, словно впервые, поглядел на Прибыткова, укоризненно покачал головой. — Ну и мудрец ты, Кузьма, — сказал он. — Сперва надеялся, что немцы совсем не пойдут в Веремейки, потому что дороги к нам дрянные, а теперь, когда они все же завернули и к нам, ты другое выдумал. Ну и что, если мы мирные? — Мирные и мирные! — Мудрец! Мудрец! — А что, может, и мудрец? — Тогда ответь мне, мудрец, на такой вопрос. Вот ты считаешь, что мы мирные люди. Правда, мы с тобой мирные. И невестки твои тоже мирные, и внуки. А что ты думаешь про своих сыновей, которые воюют? — Значит, они не мирные. Они военные. — Но ведь и Роман Семочкин был военным! — Романа тута не треба в расчет брать. — Нет, ты все-таки Романа бери в расчет. А то по-твоему выходит, что его никогда не было и теперь не существует. Но это же не так. Он есть, неважно, хочешь ты этого или нет. Живет в деревне среди нас. А сыны твои тем временем воюют. Они тоже могли бы вот так, как Роман, бросить винтовку — дай домой, к женкам, мы, мол, тоже хотим мирными стать. Так нет же! Сыны твои воюют! И ты думаешь, воюют потому, что не пускают с фронта? А может, думаешь, что не улучат момента дезертировать? Такой момент всегда подвернется, я это знаю, сам воевал. Особенно теперь, когда и по ту сторону фронта, и по эту тыл большой. А Тимофей твой не бросает винтовку, понимает, что от немцев надо защищать и тебя, старого, и детей своих малых, и женку молодую. Иван тоже не бросает. Может, они не считают вот так, как ты: раз вы мирные, значит, ничего вам не угрожает. Может, они лучше нас с тобой знают, — Зазыба даже себя не пожалел рядом поставить, — что такое война и для чего она развязана! — Что говорить про моих сынов! — не по нраву пришлось это Прибыткову. — Хто знает, где они теперя? Может, воюют, а может, и совсем уже нема на свете? Хорошо, коли еще в плену. Пошла же Анета вместе с другими бабами в Яшницу. Говорят, там военнопленные наши содержатся, дак, может, кого, найдет. — На. войне по-разному случается, — словно бы утешая Кузьму Прибыткова, кивнул Зазыба. — Тут на расстоянии не угадаешь. А заговорить их от пули никто не может. Ну, а насчет плена… Тут тоже не заспоришь. Война без плена, не обходится… Потому и бабы наши думают: а вдруг и правда ейный попал? Их, баб, понять можно. Особенно теперь, когда все столько говорят про плен да про пленных. Вот они, и побросали хозяйство да детей, а сами в Яшницу. С другого боку, кто еще побежит туда, если не они? — Да ужо. ж… — Ну пускай, бабы, и есть бабы, но мы-то про живых твоих сынов говорим. Как же ты рассуждаешь так обо всем. Ну а если вдруг сегодня или завтра придут снова немцы да скажут тебе — сыны твои воюют на фронте, значит, они наши враги. А раз они твои сыны, значит, и ты нам ворог. Таким образом, и внуки твои вороги им, и невестки!.. — Ты уж скажешь, Денис!.. — Не-е-ет, — покрутил головой Зазыба, — это не я говорю. Это мы с тобой так говорим. Как раз. до этого и должны были договориться, начавши делить людей на мирных и немирных, глупых и сметливых, живых и неживых. Надо наконец понять всем, что это палка о двух концах теперь — мирный, немирный… Сам подумай: что было бы, если бы немцы не выловили из колодца своего утопленника? Все же выяснилось случайно. А если бы не лошадь? Кладбища не хватило бы похоронить нас. Да и кто бы хоронил? Один Браво-Животовский? Нет, здесь иначе надо рассуждать. Я разумею, что говорил ты без злого намерения. Просто хочется утешить и себя вот, и меня, и других. К тому же тебе хочется вжиться… — Куда это мне хочется вжиться? — В новую жизнь, вот куда! — Ясное дело, что живой человек про это первым делом должен думать. — Но это же брехня! Сам себе брешешь. Покуда идет война, вообще надо забыть про это. Сама война вжиться хоть кому помешает. Нарочно ли, не нарочно, а помешает. Это уж как водится, на то и волнения великие, на то и буря, чтобы сразу не дать корнями прирасти к земле. Ну а утешаться совсем тоже не стоит. Недаром умные люди говорят: обещают землю, а надевают петлю. — Но говорят ведь и по-другому тоже. Небось слыхал: одним война, другим мать родна. — Как не слыхать? Слыхал. Знаю даже похлеще: мол, война — кому веревка, а кому дойная коровка. Только все это глупости. Не стоит забывать, что любая война прежде всего кровь людскую пьет и жизни забирает. Еще ни один человек, которого когда-нибудь затронула война, наперед не мог знать, чем она для него обернется. — Ладно, Денис, хватит нам про это, — совсем просто, будто до сих пор только дурил Зазыбе голову, сказал Прибытков, но не усмехнулся. — А то выходит, что я самый плохой из всех. И зря ты учишь меня. На моем веку это уже которая по счету война. Однако не надо страшиться, что в войну беспременно все погибнут. — Допустим, этого я не говорил. — Может, и не говорил, но похоже было с некоторых твоих слов. А я всего только за то, чтобы люди тоже остерегались. Сами глядели, что и как. К чему гибнуть тем, кому не надо, от кого, как говорится, пользы мало. Ну, какой смысл может быть для войны, если вдруг погибнут мои малые внуки? Какая корысть от них? Зазыба покачал головой. — Мудрец ты все-таки, Кузьма! Но юродствовать тоже не годится. Грех. — Зазыба хоть и говорил все время не очень громко, но внутренне напрягался и даже устал, словно тащил на себе немалую поклажу. Казалось, Прибытков взорвется. Но последние Зазывов ы слова, видно, совсем не тронули его. По крайней мере, на жилковатом лице не отразилось никаких эмоций. Как и минуту назад, старик равнодушным голосом сказал: — Ладно уж, хватит. Не проснулся ли Масей-то? Слышишь, с маткой в хате гомонят? Выбитый из колеи этой беседой, Зазыба спохватился, что пора и ему идти в дом, — в конце концов, всего за один раз не обговоришь, особенно с таким доморощенным философом, как Прибытков. Но как быть с Кузьмой? По правде говоря, Зазыба не возражал бы, чтобы Кузьма отправился восвояси. Однако прогонять же не станешь. Выручил отца Масей, вышедший на крыльцо. За эти дни в родительском доме он покруглел лицом, и в походке, в движениях появилась прежняя, молодая живость. — Может, умываться тут будешь, — сразу подступил к сыну Зазыба, — так ведро из сеней вынесу? — Спасибо, батька, не хлопочи. — Ну, как знаешь, — пожал плечами Зазыба, словно недовольный, что Масей так легко отказался от его услуг. Масей сошел с крыльца, стал под окнами. — Что новенького сегодня, дядька Кузьма? — спросил он Прибыткова с какой-то непонятной, поддразнивающей усмешкой. — А ничего, — будто с неохотой ответил сосед. — Ну, а жизнь как? — Дак… ты же сам знаешь. Как вчера, так и сегодня. Сдается, ничего не менялось. Главное теперя — ночь переспать. День уж как-то весь на виду, он после ночи нехитро катится. Но тише-тка! Действительно, в заулке вдруг загромыхала и остановилась телега. — Полюбопытствовал бы, Денис: не к вам ли это или, может, ко мне? — глянул на Зазыбу Кузьма Прибытков. Зазыба кивнул согласно, но постоял еще некоторое время как бы в нерешительности и только потом неторопливо зашагал к калитке. К палисаду, сколоченному из штакетника, привязывал вожжи Браво-Животовский. Делал он это не спеша, словно приехал надолго, потом вернулся к телеге, взял со свалявшегося сена винтовку. Появление Браво-Животовского в заулке, а тем более у самых ворот было неожиданным. Поэтому Зазыба, увидев полицейского в открытую калитку, сразу прикинул, что бы это могло значить. «А!» — наконец махнул он с досады рукой и перестал теряться в догадках, потому что все равно ничего путного не надумал. Браво-Животовский тем временем поднялся на высокое крыльцо, взялся за щеколду. — Мы тут, во дворе! — крикнул из-за калитки Зазыба. — А-а-а, — услыхал Браво-Животовский, но не повернул назад, брякнул дверями и через сенцы, будто в собственном доме, где знал все закутки, ходы и выходы, вышел на другое, заднее крыльцо. Не иначе, он тоже слышал, что уже столько времени в деревне находится Зазыбов сын, тем более что ни Зазыба, ни сам Масей не скрывали от людей этого, однако, очутившись теперь во дворе и увидев там Масея, Браво-Животовский смутился, будто дня него эта встреча была неожиданной. — Добрый день, — не забыл поздороваться полицейский. Поскольку глядел он при этом на одного Масея, то и ответил на его приветствие Масей. Но Браво-Животовский быстро совладал с собой. — Прошу извинить меня, — желая показать свою воспитанность, начал он. — Не хотелось бы разбивать вашу добрую компанию, но обязан. — И, повернувшись лицом к Зазыбе, внушительно объявил: — Нас с тобой вызывают в волость. — Почему вдруг меня? — уставился на полицейского Зазыба. — Какое отношение имею я к волости и вообще… ко всему? — Не одного же тебя, — фальшиво и чуть заискивающе улыбнулся Браво-Животовский. — Нас с тобой вызывают вместе. — Ну, а все-таки почему вдруг и меня? — Такая команда, — развел полицейский руками. — Небось под конвоем повезешь? — Под конвоем — не под конвоем, но приказано доставить. — Ну что ж… — уже слабо сопротивлялся Зазыба. Браво-Животовский почувствовал это и торопливо добавил: — Совещание комендант созывает. Ну, а… что конкретно там будет, сказать не могу. — Да нехай бы погодил немного твой комендант, а, Антон? — ожил вдруг на завалинке Кузьма Прибытков. — А то ж мы не успеем даже позавтракать. — Какое там завтракать! Надо быстрей ехать, — распорядился Браво-Животовский. Масей понял, что отца неспроста заставляют ехать в Бабиновичи. Определенно, что-то грозит ему. Поэтому решил вмешаться. «Надо пригласить Браво-Животовского в дом, посадить вместе со всеми завтракать, а там уж и выпытывать». Он хотел было обратиться — к полицейскому по имени-отчеству, чтобы приглашение хоть внешне выглядело учтивым, однако кроме имени — Антон, ничего не вспомнил. Тем временем Кузьма Прибытков, которому появление полицейского тоже могло боком выйти — терялся завтрак у Зазыбы, — не усидел на завалинке, начал подниматься на ноги, помогая себе палкой. — Ты уж уважь нас, Антон, — попросил он, подольщаясь к Браво-Животовскому. — А то и правда, как это остаться мужику без завтрака? Полицейский засмеялся. — У людей уж обед успел свариться, а вы… А ты при чем тут? — в упор поглядел он на старика и поморщился, скорей всего потому, что беседа шла не по душе. Казалось, чего проще — забрать Зазыбу да двигать в местечко, — а тут начинаются тары-бары… Мол, почему, зачем? Особенно некстати оказался наЗазыбовом дворе этот въедливый Прибытков. — При том, что сосед? — всерьез обиделся Кузьма. — Мы вам не мешали, когда вы лося того ели. Да еще и поросенка с фермы прихватили. Не напрашивались ведь к вам. — Ну и напрасно! — абсолютно спокойно пожал плечами Браво-Животовский. — Мы никому не отказывали. Кто приходил, тот и ел с нами лосятину. Могли и вы явиться. — Я не про это, — нетерпеливо махнул рукой Прибытков. — Я про то, что мог ты и подольше посидеть где-нибудь за столом. И мы успели бы угоститься. Небось не всю стравили лосятину? — Да, считай, уже всю. — А кто был? — не отставал Прибытков. — Я же говорю, кто приходил, тот и угощался. — Так уж и приходили, так уж и угощались! — А тебе, гляжу, завидно? — Может, и завидно. Только я не про это. Я спрашиваю, кто приходил на лосятину. Ну, Микита, это ясно. Потом небось Роман Семочкин. Потом Рахим. Это же надо — покуситься на редкого зверя! Еще никто не успел увидеть, наглядеться вдоволь, а он вдруг взял да и бах. — Ты думаешь, я защищаю его? Конечно, глупость сделал. Но выбрасывать понапрасну лосятину тоже не расчет. Поэтому мужики и разобрали тушу. А Рахим никакой не мой. — Дак он же только и знает, что от твоего двора да к Роману Семочкину бегает. — Бегал, — усмехнулся Браво-Животовский. — У него под Борисовом земляк объявился. Забирает его туда. — Ну, дак и слава богу. — Видишь, — снова засмеялся Браво-Животовский, — а ты все недоволен. Все не по тебе. Странно, но Прибытков тоже незлобиво усмехнулся ему, будто весь разговор к тому и вел, чтобы Браво-Животовский объявил ему новость. Между тем горячность Кузьмы, даже настырность, с какой он говорил с полицейским, сперва насторожили Масея — не хватало еще, чтобы завелась ссора да осложнилась какими-нибудь неожиданными обстоятельствами. Но чем дольше он вслушивался в беседу, тем ясней понимал, что настороженность его напрасна. Оказывается, не такой простачок этот Прибытков, кажется, и говорит резко, однако все время следит, чтобы не довести спор до крайности, хотя почти в каждом слове его — пренебрежение к собеседнику. Во дворе не хватало только Марфы, которая хозяйничала в хате. Но вскоре и она вышла на голоса. Окинула взором мужиков, удивилась присутствию во дворе Браво-Животовского. Однако не подумала, что ему нужен Денис. Материнское сердце сразу же встрепенулось в тревоге за сына. — Дак что вы стоите тута? — заторопилась она с крыльца, вытирая передником руки. — Масей? Денис? Кузьма? Антон Игнатович? — взывала ко всем по очереди. — Идите в хату. Там и поговорите. Я и завтрак на стол поставила. Стынет. «Выходит, отца его звали Игнатом», — словно чему-то удивившись, подумал Масей, услышав материнское приглашение, но отчество полицейского теперь было ни к чему: во всяком случае, Масей не бросился помогать матери, не стал зазывать в хату гостей — брезгливость, которую он почувствовал в голосе Кузьмы Прибыткова, охватила его тоже. Марфа поняла, что между мужиками нет согласия и что вряд ли она дозовется их в хату, еще больше встревожилась, испуганно глянув на своих — на сына и мужа. Тогда Зазыба, который до сих пор стоял, будто не у себя во дворе, сказал: — Чего уж тут рассиживаться! Ехать надо. — Кому? Куда? — сразу засуетилась Марфа. — Антон за мной вот приехал, — поторопился успокоить ее Зазыба, поняв, что Марфа испугалась за сына. — Говорит, надо срочно в Бабиновичи. Кузьма Прибытков тоже не смолчал, недовольно закряхтел. — Будто и правда што горит там!.. — Дак… Игнатович? — просительно посмотрела на полицейского хозяйка, видя за ним всю власть. Это ее обращение, нескрываемая тревога умилили Браво-Животовского. Он по-настоящему почувствовал свое превосходство. — Сегодня совещание у коменданта, так созывают в Бабиновичи полицейских и старост со всей волости, — охотно начал растолковывать он Марфе. — А Денис при чем? — не поняла она. — Нашто он понадобился? — Да, при чем я? — спохватился Зазыба и посмотрел сперва на Браво-Животовского, потом на Марфу, будто хотел и ей что-то доказать. — Какие вы стали непонятливые! — возмутился Браво-Животовский. — Правильно, старосты у нас еще нет. Не выбрали! Но… Словом, пока не выбрали старосту, гражданскую власть в деревне осуществляешь ты. Потому приказано доставить и тебя на совещание. — Ну, коли так!., — с облегчением вздохнула Марфа. Кузьма Прибытков тоже скоро смекнул, что к чему, начал подбивать соседа: — Дак съезди, Денис! — Ему вдруг даже приятно стало, что и Зазыбу зовут на совещание в волость, как будто этим наконец решалось что-то очень важное, от чего целиком будет зависеть дальнейшая жизнь деревни; ему только страсть хотелось выяснить, кто над кем потом станет — Зазыба над Браво-Животовским или наоборот; ведь если рассчитывать даже по царскому времени, уж не говоря о недавнем, думал он, так всегда гражданская власть в деревне имела перевес, и стражники, и милиционеры подчинялись ей; от этого сознания Прибыткову и совсем уже стало весело, мол, зря Браво-Животовский столько дней важничал; потому и упрашивал Кузьма Зазыбу: — Не отказывайся, Денис, съезди! А Зазыба стоял посреди двора обалдевши — то, что молол когда-то Браво-Животовский, было глупо наперед учитывать, но сегодня это вроде подтверждалось!.. Тянуть было ни к чему, тем более что Зазыбе не хотелось садиться за стол с Браво-Животовским, и он виновато глянул на сына, словно беспокоясь, правильно ли тот поймет его, и шагнул через калитку со двора. Масей рванулся вслед за отцом без всякого определенного намерения. Однако дорогу неожиданно заступил Кузьма Прибытков. — Не треба, Денисович, — непонятно, но с особым смыслом сказал, заморгав глазами, дед, а потом и ладонь поперек поставил, мол, не встревай. — Нехай батька едет в местечко, я тебе все растолкую. Нехай только батька едет, не мешай. — Я и не собираюсь, — с обидой бросил Масей, раздраженный помехой. — Вот и ладно, — ласково и чуть вкрадчиво молвил Прибытков. Масей отошел к крыльцу, пытливо взглянул на мать. Казалось, ее нисколько не взволновал неожиданный отцов отъезд, она стояла спокойно, и, видно, в голову не приходило ей, что муж едет в Бабиновичи голодный. Ей не привыкать было, что Денис, как вот сегодня, либо сам срывался из дома в неподходящее время, либо его вызывали. Но причина ее теперешней сдержанности заключалась в другом — как только она поняла, что Браво-Животовский приехал не из-за Масея, сразу же и успокоилась, сразу же и отлегло от сердца, по крайней мере на этот раз. Пока они стояли каждый на своем месте и обдумывали то, что случилось после появления Браво-Животовского, за воротами застучала колесами телега, постепенно удаляясь к повороту на деревенскую улицу. — Пое-е-ехали! — воскликнул Кузьма Прибытков, на слух проводив по заулку затихающий грохот; он словно до сих пор все еще не верил, что Зазыба с Браво-Животовским поедут на одной телеге в занятое немцами местечко, потому и растянул с особым удовольствием это «поехали». — Я тебе вот что должен сказать, Денисович, — шкандыбая к крыльцу, заговорил дальше старик, — дела у нас в Веремейках на лад пойдут, раз твоего батьку германцы на совещание покликали. Теперя и правда уже надеяться можно на что-то твердое. Значит, и новая власть без таких, как твой батька, не может обойтись. Ну что же, чем раньше, тем лучше. Даже для самих немцев. А то все этот Животовщик. Как ни говори, а черт его разберет. Сдается, тихо сидел, хозяином неплохим считался, а тут вдруг попросился сам в полицию, к немцам. Значит, все это время, как жил в Веремейках, был себе на уме. Значит, тоже не без царя в голове ходил. Ну, а коли до конца не ведаешь, что в себе носит человек, дак ажно страшно. Потому я и говорю: нехай Денис едет в Бабиновичи, раз понадобился. А то я уже, грешным делом, думал — доведется всем миром этому Животовщику кланяться.VII
Кузьма Прибытков правду сказал — веремейковские солдатки еще до рассвета отправились в Яшницу, которая находилась, считай, уже в самых верховьях Беседа. Дорогу туда из Веремеек мало кто не знал, потому что местечко было торговое. Вообще в Прибеседье с давних пор местечки, так же как и села, различались не по количеству дворов или даже магазинов, а по большей части тем, много ли на год падало ярмарочных праздников. В Бабиновичах, например, ярмарка собиралась три раза на сретенье, когда, согласно народному календарю, встречаются зима с весною, потом в Ильин день, что за две недели до великого спаса, и на Дмитра, в самую холодную осень. В Белынковичах базар собирался на пречистую, в конце августа. В Силичах — на Юрия. Словом, по тот и по этот бок Беседи, кажется, не было ни одного большого или малого селения, ни одного села с церковью, где бы не ладилась ярмарка. Правда, не каждый местный базар мог равняться с Хиславичским или Любавичским, которые шумели обычно по две недели кряду. Зато в Яшницу окрестный люд сходился и съезжался в году раз пять: в так называемый красный торг, который выпадал на последнюю неделю перед рождеством, на соборную, что перед пасхой, потом на обоих Никол — на весеннего и на зимнего, и осенью, уже на воздвиженье. Веремейковские женщины собирались в дорогу сегодня, как и в те добрые времена, когда торопились на базар, — до солнышка всегда можно пройти немалое расстояние без жары и пыли. Заминка была только одна, в самом начале, еще на деревенской улице, когда решали, какой дорогой идти — брусчаткой или старым трактом. Но последнее слово осталось за невесткой Антона Жмейды, Анютой, которая до замужества жила в деревне за Большим Хотимском: — Ходимте старым шляхом, бабы. Там и родные места свои покажу. А то на брусчатке, может, немцев теперь много. Так будем все время шлепать вдоль, по канавам да по жнивью — и обуток напрочь стопчем, и ноги в кровь побьем. Ну, а по старому тракту, может, никого не встретим. Тоже причина. Особенно если поиметь в виду, что длинная дорога всегда вымотает, если не знать наперед, где ночевать будешь. Словом, согласились бабы. Сперва они даже не шли, а вроде бы неслись по большаку, будто череда птиц, — так же, как и птицы, солдатки то разлетались поодиночке в стороны, то соединялись, вытягиваясь цепочкой по обочинам. Покуда за спиной былb Веремейки, говорили мало, редко кто уронит словцо или охнет, оступившись невзначай: все — и говорливые от природы, каких другой раз хлебом не корми, только пострекотать дай, и неразговорчивые — мчались по большаку словно одержимые. Их, конечно, понять было можно: одна детей как следует не накормила, другая бросила своих без присмотра, третья забыла распорядиться по хозяйству и теперь терзалась, что без нее все наперекосяк пойдет, четвертая… Но, конечно, больше всего каждая думала, что впереди будет — а не повезет ли, а не окажется ли в том Яшницком лагере ее родимый? Отправляясь в путь по большаку, веремейковцы завтракали обычно в Ключе — возле небольшого прозрачного ручья, который стекал вниз с высокого берега старого речища Беседи. Дело в том, что за Ключом этим большак разветвлялся — на Колодливо и на Белынковичи — и пешеходы норовили передохнуть перед тем, как окончательно определить себе дальнейшую дорогу. В Колодлизе издавна через Беседь ходил паром. В Белынковичах, наоборот, действовал мост, пожалуй, единственный на всей реке, если брать ее от истока до среднего течения. Даже не один, а два, потому что дальше висел над водой и железнодорожный мост. Однако по нему не только не ездили, кроме, конечно, как на поезде, а и не ходили, потому что сильно охранялся. Во всяком случае, и пешеходы, и возы, и машины, чтобы попасть на другую сторону, должны были или переправиться через Беседь на колодливском пароме, или перейти либо переехать по белынковичскому мосту, особенно если надобилось что в верховьях реки, на старый тракт. Так вот… В начале дороги вела баб Жмейдова невестка, которая почему-то боялась, что за Ключом спутницы ее передумают да пойдут на Крутогорье, а не с нею — прибеседскими деревнями. Пока держались сумерки и не прояснилось небо на востоке, мало что видно было на далеких и близких холмах. Но вскоре по правую сторону взгляду открылось Курганье — около полусотни древних курганов. Правда, курганы эти ни в какое сравнение не шли с теми, что высились за Белой Глиной, однако и они появились здесь, без сомнения, очень давно, может, десятки тысяч лет назад. Тем не менее в Веремейках Курганье (как выдающаяся местность, связывалось не с мустьеркой эпохой. Оно славилось больше как «страшное место»: будто бы раньше чуть не за всяким, кто шел мимо него ночью, катился оттуда живой клубок синего огня; будто бы человек, за которым следовал огонь, либо помирал вскорости, либо попадал в беду; в конце концов, веремейковцы могли привести немало примеров, после которых нетрудно поверить не только в заурядную мистику, но и в самую отъявленную чертовщину. Конечно, много и попусту болтали. Но все-таки люди сходились на том, что блуждает по Курганью неприкаянная душа, караулит на дороге живых своих сестер: мол, если даже и не сумеет заманить к себе в сети, так уж накличет беду. Но вот в ту войну в Веремейки приехал первый учитель, беженец из Виленской губернии. Верней, не сам приехал, в деревню привез его из Климовичей староста Игнат Кожанов. До тех пор веремейковцы детей своих учили то в Бабиновичах, то в Мошевой — там были школы первой ступени. Понятно, что веремейковские мужики обрадовались случаю, мол, свой учитель в деревне — это кой-чего стоит, благо совсем недорого обходится: еще в уездном городе староста договорился, что крестьяне будут кормить его подворно. Вещичек у учителя с собой не было, зато веремейковцы шибко удивились, когда в Федосовой хате (а староста поставил его на квартиру к своему женатому и отделенному сыну) он открыл сундук, набитый под самую горбатую крышку разными книгами. Сперва учитель жил, как и поселил его староста, у Федоса Кожанова. Однако вскоре хозяин начал возражать — не хотел, чтобы дом превратили в общественную школу, только и успевай затворять за огольцами дверь. Тогда учитель начал собирать веремейковских ребятишек, где столовался: сегодня у Халимона, завтра у, Тришки, а послезавтра у старосты, и так по всей главной улице, потом заворачивал в Подлипки, пока не доходила очередь до последнего двора. Учитель-то и стал жертвой «страшного места». И, кажется, последней. По крайней мере, так считали в Веремейках. Поговаривали, что он сам был виноват: вздумал ковыряться с лопатой на Кургане, может, золото искал. Чем конкретно поплатился учитель за свой безрассудный поступок, веремейковцы не знали, его вскоре вызвали из деревни в уездный город. В Веремейки он не вернулся. Но, пожалуй, с того времени перестали, ходить слухи о разных ужасах на большаке против Курганья, не иначе — огненный клубок покатился куда-то за учителем, чтобы отомстить ему за потревоженное. заповедное место. Постепенно людская молва о привидениях да неприкаянных душах утихла. Но не настолько, чтобы веремейковцы, проезжая или проходя мимо Курганья ночью, не побаивались. И сегодня солдаткам стало не по себе, когда в сумраке наступающего утра они углядели между кряжистыми соснами курганы. Никто из них, как стали подходить к Курганью, не сказал ни слова. Молчали, будто уговорились, будто взаправду боялись потревожить нечистую силу. Большак здесь круто поворачивал, словно переламывался, а после широко охватывал с левого бока Курганье. От этого поворота начинались большие пески. Пожалуй, уже до самой Беседи не встречалось более глубоких на всем большаке. Поэтому по обочинам здесь, за посадками;, были наезжены еще две дороги, только колесные. Они и выручали лошадей, ведь человеку ничего не стоило свернуть, чтобы напрасно не вязнуть. Пока женщины торопились в молчании обойти Курганье, на маковках далеких и близких деревьев задрожал, будто нагретый, воздух, утренний румянец разлился вокруг солнечными лучами. Пробуждалось поредевшее к этой поре птичье царство. Теперь уж могли не сдерживать себя и женщины. — А правда ли это, — спросила Анюта Жмейдова, — что баба одна из Гончи взяла себе примака из лагеря? — А как же, взяла, — охотно подтвердила Дуня Крокопкина, которая перед тем, как пойти в Яшницу, несколько дней собирала подобные слухи. — Что она, вдова была или как? — Про это я не спрашивала. Говорят, привела да привела. — Может, вдова, дак… — Вот и ты бы шла до конца с нами, в Яшницу. Ничего не случится с твоей матерью в том Тростине. Ну, захворала, дак надо ли еще из такой дали дочку звать? — Нет, матку не могу бросить! — возразила Анюта. — Это когда же было, что она заболела? Кажись, не в том. ли месяце? — Пускай себе. Но проведать матку надо. Они, старики, долго хворают. Им бы только лежать. — Если есть за кем. — Дак нас же у нее двое. Сестра старшая, да я вот… — Ну и пускай бы сестра присматривала. — И у меня сердце тоже-пена месте. Как услышала, что матка-захворала, и угрызаюсь с того времени. — Как хочешь, — перестала — наконец уговаривать Анюту Дуня Прокрпкина, но прибавила явно нарочно: — А то-вдовам тоже надо, чтобы кто-то им пожню косил. Недаром же поют — на вдовьем поле собрались работнички: медведь корягой пашет, а волк боронит… — Ну, — ее пожню дак еще и Жмейда старый покосит. А вот наши кто косить будет?.. — с некоторой неприязнью сказала Фрося Фадеева, жена того самого Миколы Рацеева, что когда-то погнал в Орловскую область колхозных, коров, да таки не вернулся в деревню. — Не такой уж он косец, как вам кажется! — сказала на это Анюта. Тогда заговорили остальные. Но так, будто втихомолку откусывая. — по кусочку от греховного яблока. — Да ты не очень-то жалей его, — начала Гэля Шараховская, — своего Жмейду. В ихнем роду мало кому одной жены хватало на вею жизнь. Это твой Лексей чего-то рано помер. Но Анюта решила до конца защищать мужнин род, несмотря на то что жила с мужем мало. — Кто это у них такой женатый-переженатый был? — вспылила она. — Будто- Не знаешь? — А — и не знаю! — Дак поспрашивай вот у баб. Они скажут. — Дак говори уж сама, открой глаза, раз начала. — И скажу. Но Шараховской не пришлось просвещать. Анюту Жмейдову, которая, кстати, не хуже остальных знала, что собиралась сказать Гэля. Ке опередила Варка Касперукова, маленькая фигурка которой метнулась на голоса с. другой обочины. — Дак вон хоть бы и дядька покойного мужа твоего, Ладимир. Не успел, на кладбище одну отнести, как в Гончу: за другой поехал, — бросила ©на презрительно, словно Анюта в самом деле была виновата в этом. — А назавтра даже хвалиться стал, мол, поживу теперя с молодой дак поживу! А то и вкуса того, женатого, не знал до сих пор. — Вот чего — захотел, старый пень.! — прыснула от неожиданности РозаСамусева. — Уж, почитай, помирает, а наливку глотает. — Где там! — .состроила гримасу Варка Касперукова. — Ладимир тот ног под собой не чует от радости. — Ат, Ладимир вам, вижу, свет застит, — недовольно дернула плечами молодая вдова, но уже без прежнего запала, — Если крепкий да сильный, дак что ему делается? Свекор вон мой… — А на что твоему свекру еще одна, коли вдовая невестка в доме? Думаешь, люди не слышат и не видят? Ты вот теперь идешь матку проведать. А почему совсем к ней не уйдешь? Что тебя в Веремейках, дети держат? Дак нема их у тебя, детей. А может, деревня наша очень понравилась? Дак проверим вот, поглядим, хуже ли твое Тростино наших Веремеек. — Ах, вон ты про что? — удивленно вскинула глаза на Варку Касперукову Анюта, но не успела возмутиться. Из движущейся толпы выбилась в первый ряд Палага Хохлова, старше годами, чем остальные солдатки, которая тоже шла в Яшницу вызволять из лагеря своего Ивана. — Во, недаром говорят, — сказала она, — уши завянут у того, кто послушает бабью болтовню. Что это вы сегодня, будто сдурели? Ай говорить больше не о чем? — Дак голодной куме… — обрадовалась было этой защите Анюта Жмейдова. Но Палага продолжала совестить своих попутчиц, не прислушиваясь к голосу Анюты. — Идете ведь на доброе дело, так и идите. А то бог знает что можно подумать… Смеху-то! Нашли кому завидовать. Накинулись на бедную вдову! — Ну вот, — сказала, словно оправдываясь, Гэля Шараховская, — сама завела разговор, а мы теперя оказались виноватые. Это же ей с чего-то захотелось примака взять. Это ж она любопытствовала, правда ли та баба из Гончи привела себе кого-то из Яшницкого лагеря. — А почему бы ей и в самом деле не поинтересоваться? — уже окончательно беря сторону вдовы, оглянулась Палага, чтобы слышали все попутчицы. Она совестила баб не свысока, без всякого возмущения, совсем как детей, которые заморочили ей голову. Палага была не только старше всех солдаток, само присутствие ее здесь казалось странным, во всяком случае, мало кто считал, что ей уж так надо идти в Яшницу, потому что жили они с Иваном недружно. Бил он ее часто, так часто и люто, что и представить трудно. Грозился даже забить до смерти. А она только терпела да обиду сносила, не проходило недели, чтобы из их хаты не слышалось криков. Дети у них тоже часто помирали, может, от побоев. Говорили, что муж будто бы возненавидел ее, что виновата она перед ним. Но только говорили, никто не знал ничего толком — ни Палага, ни сам Хохол никому не открылись в деревне. Понятно, что в Веремейках глядели на Хохловых как на очень несчастливую' пару, — чем уж этак жить вместе, лучше разойтись. Синяки сошли с нее только теперь, как ушел муж вместе с Зазыбой и Миколой Рацеевым. И вот, несмотря ни на что, битая-колоченая Палага шла вместе с солдатками, шла в Яшницу, думая, что ее Иван тоже томится среди пленных. Удивительное дело, но если бы начал так срамить ту же Дуню Про коп кину или Варку Касперукову кто-нибудь другой, а не Палага Хохлова, вряд ли смолчала бы любая, не сказала бы слова поперек. Палаге же ни Варка, ни Дуня, ни Гэля Шараховская не возразили. Только поглядели на нее, будто удивленно, будто даже с оттенком досадливой жалости, как глядят обычно на неровню. К тому же и вид женщины был достоин сожаления: шла босая, и ноги, совсем иссохшие, уже почти без икр, вязли по щиколотку в сыром песке. Несытым было и тело ее, ни спереди, ни сзади не круглилось под одеждой — вылинявшей васильковой кофтой и домотканой, словно панева, юбкой, пошитой в две полы. Про таких обычно говорят — доска доской. Но глаза у нее остались необычайно живыми, а на немолодом лице (было ей за сорок) не отбилось ни одной резкой морщины, будто легко ей давалась до сих пор жизнь. Палага не напрасно вмешалась в разговор младших женщин, который уже становился почти непристойным, — вскоре все они, казалось, забыли о нем. Только двоюродная сестра Силки Хрупчика Суклида спросила еще: — А вдовая ли та женщина из Гончи, что примака из лагеря привела? — Вдовая, вдовая, — заверила ее Палага Хохлова. — Жена лесника, который выскочил в позапрошлом годе на лыжах под чей-то выстрел в Прудище. Целили в зверя, а попали в человека. Историю эту с гибелью лесника из Гончи знали все в Веремейках, и не только в Веремейках, айв других окольных деревнях, которые располагались на территории Паньковского лесничества, поэтому женщины не стали обсуждать ее. Первой деревней по этой дороге из Веремеек были Заборки, однако мало кто из веремейковцев наведывался туда, тем более считал дворы. Во-первых, хоть и стояла она при дороге, но была заслонена лесом. А во-вторых, не любили во всей округе по эту сторону Беседы самих заборковцев. Над ними и смеялись, и сердились на них. Сердились, пожалуй, больше. Конечно, не без причины. То возле Заборков вдруг «лесун» объявится, который хватает на дороге молодых баб из других деревень и насилует, затащив подальше в лес, то в самих Заборках какой-нибудь проходимец пустит худой слух. Особенно прославились заборковцы после одного случая. Правда, давнего. Было это так. В Заборках вдруг появился «коровий доктор». Сам он называл себя даже не «ветинаром», а «ветфельчером». Возник и сразу же показал свое умение, потому что как раз у одного заборковского хозяина заболела корова: днем сделалась вялая, а к вечеру пена жгутом пошла изо рта, язык стал вываливаться. Хозяйка, конечно, голосит, хозяин темней тучи ходит. Тогда и пришел на помощь тот «ветфельчер». Был он местный, из Заборков, но не в пример другим побродил по свету — сперва работал на шахтах, подавшись в Юзовку, чтобы зашибить деньгу да поправить дома хозяйство, потом служил где-то. Словом, хозяином он оказался бестолковым, а человеком и совсем непутевым, потому что очень скоро забыл и про хозяйство, и про семью. Что заставило его вернуться наконец в Заборки, сказать трудно. Тем более что людей он сторонился. Сказал только вскорости, что выучился на «ветфельчера». А тут как раз подвернулся случай показать себя — корова занедужила. Хозяева и позвали его. Пришел он на двор, закрылся один в хлеву с больной скотиной. И правда корова скоро выздоровела. Черезнесколько дней вышла с остальным стадом на пастбище. После этого заборковские мужики, здороваясь с ним, стали шапки снимать. А слава о нем из Заборков разносилась дальше. Ну, а раз идет слава, так находится и справа[19]. Через неделю приключилась такая же коровья болезнь в Гонче. Потом в Веремейках, в Гутке, в Кавычичах и т. д. И все приглашали «ветинара» из Заборков. Лечил он коров от этой болезни с год или больше, пока не подсмотрел кто-то — оказывается, сам «ветинар» и; вгонял скотину в болезнь: поймает за деревней тайком Ласюту или Чернавку да натрет мылом язык. Чего тогда не быть корове вялой, чего не давиться мыльной пеной, которая нутро выворачивает. А бывало и так. Идет по какой-то надобности человек через Заборки, останавливает его мужик и бьет наотмашь. «За что?» — глядит на него чуть ли не со слезами прохожий. «А ни за что, — спокойно отвечает ему мужик, — чтобы помнил, что побывал у нас в Заборках». Зато если уж попадал из Заборков кто в смешное положение, даже в беду, то болтовни да смеху хватало, считай, на все Забеседье. Особенный хохот вызвало недавнее происшествие. Выяснилось — в один прекрасный день, что из Заборков вышел в большое начальство сын бывшей панской прислуги, кажется, заместителем наркома стал. Разумеется, захотел приехать в деревню. Ну, а заборковцы решили в лепешку расшибиться, приветить земляка. Колхозное руководство, конечно, с позволения районного, даже столы приказало накрыть под соснами, при этом не жалеть ни напитков, ни закусок. Гость действительно умилился, увидев, как встретили его односельчане. Но долго не задержался в деревне, часа два посидел с ними под соснами, отведал и напитков, и незатейливой крестьянской снеди. После его отъезда заборковцы, известное дело, продолжали праздновать, благо хватало на столах всего, к тому же дарового. «Во, — хвалились захмелевшие мужики, — как хорошо иметь земляка в больших начальниках». Думали, что пьют и едят если не за его счет, так не за свой-то наверняка. И обманулись. На другой день собралось колхозное правление да разложило издержки по дворам — и на тех, кто сидел за праздничным столом, и на тех, кто стоял поодаль да облизывался. Сегодняшнее путешествие веремейковских женщин тоже не обошлось без приключения. Вдруг из-за деревьев как раз против Заборков выскочил на дорогу с винтовкой за плечами ражий детина. Веремейковские солдатки еще шагов за двадцать разглядели его усы и вкрадчивую улыбку. Что детина этот — полицейский, стало ясно сразу — такую же голубую повязку на рукав уже нацепил в Веремейках Браво-Животовский.
Между тем полицейский стал упрямым козлом посреди дороги и ждал, пока приблизятся женщины. То ли нарочно, то ли случайно, но место он выбрал против небольшой прогалины, которая, будто просека, разделяла лес с правой его стороны, поэтому фигура полицая была освещена ранним солнцем. Вкрадчивая улыбка и щедрое солнце делали его чем-то похожим на кота-мурлыку — вот-вот выгнет спину, а потом потрет лапой ус. — Куда это вы? — удивился полицейский, выговаривая слова нараспев. — А никуда! — в тон ему ответила Дуня Прокопкина. — Так уж и никуда? — не поверил полицейский, заигрывая. — Ну, на кудыкину гору, — чтобы отвязаться, бросила Дуня Прокопкина и попыталась обойти стража. Но полицейский и не думал пропускать солдаток. Он расставил руки, готовый метнуться в ту сторону, куда и они. — Значит, на кудыкину гору? — насмешливо переспросил он. — А чьи будете? — Свои, — отозвалась из толпы Палага Хохлова. — Ну что ж, — сказал полицейский, — покуда не признаетесь, дальше не пущу. — Вот я сейчас так тебе не пущу, — наконец вырвалась вперед Палага Хохлова, — что мозги собирать придется! Видно, полицейский был человек сметливый и сразу сообразил — эта сухоребрая и вправду ни перед чем не остановится. Захохотал. — Я и так знаю, чьи вы. У меня у самого в Веремейках родня. Но сколько ни пытались потом солдатки вспомнить, кто мог быть в Веремейках его родней, так и не вспомнили: не было такого случая, чтобы кто-нибудь женился на заборковской девке либо, наоборот, веремейковская выходила в Заборки. Тем не менее Дуня Прокопкина сказала: — Родней считаешься, а пугаешь. — Это я для порядка. Службу несу. Полицейский тут же шагнул на обочину, освободил дорогу. Хоть и непонятно было, почему он пошел вместе с ними, но солдатки скоро словно бы перестали и замечать его; в конце концов, его присутствие больше не вызывало ни у кого тревоги; кто знает, может, у полицая тоже появилась надобность отлучиться из деревни по какому-то делу? Так и шли они некоторое время лесной дорогой — женщины сами по себе, а он сам по себе, придерживаясь обочины. Из желто-зеленого папоротника, росшего здесь повсюду в сосняке, вдруг выскочила белолобая собака с желтыми подпалинами над глазами и какими-то странными пежинами на брюхе. Увидев незнакомых женщин, собака тявкнула, будто тоже для порядка— мол, нельзя иначе, что подумает про меня хозяин, все-таки я прежде всего должна службу нести, — потом бросилась к ногам полицейского, радостно ластясь. Разумеется, никого собака своим неожиданным появлением не испугала, и могло ли теперь пугать людей такое существо, как собака?! Тем более что веремейковские солдатки торопились не на шутку, как торопились бы раньше на ярмарку. Одетые, считай, в самое лучшее, с узелками в руках, они все выглядели нарядно. Не хватало только, чтобы на сегодняшний день пришелся престольный праздник. Казалось, полицейский обрадуется, что на подмогу ему выбежала собака, но не тут-то было. Усатый толстяк вдруг с чего-то озлился, выказывая жестами и веем видом крайнюю досаду, стал гнать собаку домой — сперва оттолкнул ее, правда, не тупым ободранным носком ялового сапога, а широким, собранным гармошкой книзу голенищем, но пес снова бросился ему в ноги, и тогда он, состроив страшную гримасу, схватился за винтовку. — Пшел! Пшел отсюда! Как и всякий умный пес, этот тоже понял, что хозяину почему-то не нравится его присутствие, обиженно поджал хвост и снова тихо гавкнул, уставясь на чужих женщин, теперь уже, видно, в отчаянии, что прогоняют. Но в следующий момент внимание его отвлекла на себя крупная серая птица, которая, как неживая, упала на дорогу, будто обрубок подсеченной у комля оплывшей смолой сосны. Птица эта напоминала болотного мышелова, с таким же, как и у него, загнутым книзу клювом и длинными ногами. Хотя она и притворялась, что падает вниз замертво, но, как только очутилась на земле, прикоснулась к ней ногами, сразу же встрепенулась, распростерла во всю ширину крылья и, суетливо поскакивая, побежала вперед по дороге. Заметив ее, собака тут же забыла и хозяина, и женщин, бросилась со всех ног догонять. Птица тоже почувствовала опасность, не стала зря: испытывать судьбу— ударила о землю крыльями и так же стремительно, как падала с дерева, взлетела вверх, но не в сторону дороги, а села на самую макушку крайней сосны. Одураченный пес закрутился возле сосны, и громкий лай его нарушил свежую тишину леса. До Ключа оставалось не так уж много, как на дороге, которая задела левой обочиной край леса, словно гриб из-под земли, выросла фигура мужчины. Это был немец. Видимо, он стоял здесь давно, но веремейковские солдатки почему-то увидели его только теперь, когда оказались совсем близко. Был он в темно-синей пилотке, в короткой непромокаемой куртке с капюшоном за плечами, в суконных галифе, узкие, почти в обтяжку штанины которых были засунуты в блестящие сапоги. На животе висел автомат. Что это был немец, женщины догадались сразу, потому что полицай чуть не рысцой кинулся к нему. Для полицая пребывание здесь этого немца, конечно, не было неожиданностью. Это можно было понять по тому, как привычно, не настороженно, вел он себя. Значит, негодяй специально шел с ними. Пока верткий полицейский что-то толковал немцу, показывая на женщин, те успели заметить неподалеку, шагах в тридцати от крутого склона, за которым начинался лес, самолет с черно-белым, словно бы разрубленным крестом на фюзеляже. Немного дальше вяло дымил костер, рядом с которым находились еще два немца — один сидел, охватив колени руками, а другой полулежал, подперев ладонью голову. Самолет этот — легкий бомбардировщик — приземлился на косогоре вчера, уже под вечер. Получив в воздушном бою где-то над излучиной Десны несколько больших пробоин, он не дотянул до аэродрома, который размещался за Белынковичами, недалеко от деревни Каничи, и сел где пришлось, несмотря на то, что впереди, всего в полукилометре, начинался скошенный луг. Теперь летчики охраняли бомбардировщик, ожидая, пока приедут с аэродрома авиатехники. Вообще-то им повезло здесь. Еще вчера прибежал сюда этот полицейский, с луга заметивший, как приземлился самолет. Поэтому ночь они провели возле костра, не испытав ни голода, ни жажды. И уж совсем были поражены летчики, увидев теперь, как знакомый полицейский возвращался после ночи среди немалой толпы женщин. — Зи маль айнен ан, — вдруг даже сел, раскинув чуть ли не по обе стороны костра ноги, тот летчик, что поддерживал голову ладонью, — унзер полицист хат унс айне унмасе фон вайберн ауфгетрибен. Е фюнф про лате[20]. Другой захохотал и сказал: — Айн динстайфригер нар ист геферлихер, альс айн файнд[21]. — Ляс дас. Ди руссен хабенволь ир шприхворт нихт ауф унс гемюнцт. Дер флинке Ганс, нас нур ауф, лехт зих шен ди липен унд ист цум хартен айнзац берайт. Гешвинд, геер брудер, дас вир нюнхен нихт ферзоймен. Ште ауф, зоне биет ду ам шейтерхауфен фертиг геройхерт. Нун рихтен вир айне грандиозен людерцемунг айн…[22]. Но другой летчик только поморщился от этих слов, сказав чуть ли не с гадливостью: — Дас паст мир нихт ин ден крам. Славите дорфме-дельс зинд рехт шмутцих. Зихер хабен зи нихт айнмаль хозенцойг ам ин штайсе ан. Штрайхт мих альзо ауф дер листе ауз, их махе нихт мит. Ду унд Ганс аляйне, ир цайт ойх ганц геваксен ойрер грандиозен людерцемунг. Ин айнем монат фаре их ауф урляуб хайм, унд нун ист эс айн вениг гедульден. Эс вере айне толе блемаже, тайнер Эльза вас унгевюнште инди тоше айнцушибен[23]. — Ляс дас дайне зорге зайн, — пожал плечами его товарищ. — Дас ду эс шпетер нихт бедауэрст. — Он пружинисто вскочил на ноги, сунул за широкий ремень шлемофон и снисходительно усмехнулся: — Инцвишен муст ду вахе ши бен[24]. Однако напрасно он пугал товарища — в караул тому становиться не пришлось. Пока велся возле костра этот диалог, на дороге все было кончено. Оказывается, полицейский всего-навсего подбивал часового отобрать у веремейковских баб харчи, которые они несли с собою, завернув кто в пестрый платок, кто в вышитый рушник. Часовой хоть и не понимал чужого языка, но слова — сало, яйца, мед — быстро дошли до его сознания. — Гут, гут, — похлопал он весело по плечу полицейского и жестом показал женщинам, чтобы те выкладывали все на травку. Однако никто из солдаток не торопился раскошеливаться. Они поглядывали то на часового, то на полицейского, будто и вправду не догадывались, чего от них хотят. Тогда полицейский стал вырывать узелки. Женщины не сопротивлялись. И только Жмейдова невестка бросилась объяснять полицейскому, что у нее нет с собой разносолов, потому что идет она к больной матери. — Не ври, показывай и ты, что несешь, — не поверил тот. Но в Анютином рушнике и правда ничего особенного не было, кроме подгоревших шкварок да пресной лепешки. Не выпотрошенным пока оставался маленький узелок Палаги Хохловой, величиной с кулачок. Она держала его обеими руками, прижимая к животу, и всем видом показывала, что не собирается расставаться с ним. К тому же и полицейский как бы не торопился подступаться к ней. — Ну, а тебя я давно приметил, — наконец произнес он. — Сейчас поглядим, какая ты храбрая, будешь ли мозги выбивать. Он потянулся, чтобы забрать у Палаги то, что она хоронила в узелочке. Но Палага расцепила руки и спрятала узелок за спину. — Ну-ну, — погрозил полицейский. — Отойди! — возмутилась Палага. — Сейчас же отдай, стерва! — Не тронь, а то!.. — гневно замотала головой женщина. — Сойди с дороги. — Ах, так! — Полицейский попытался зайти сзади. Но где там! Палага вдруг повернулась и ткнула узелком прямо в его усатую морду. Ощутив сильный удар, который пришелся чуть ниже лба, полицейский схватился рукой за нос. Кто-то из женщин ошеломленно ойкнул — ну и Палага!.. — Бежим! — крикнула тогда не своим голосом Роза Самусева, и все бабы, кроме Палаги, бросились испуганной стаей в лес. Палага стойла встопорщенная, готовая еще раз ударить полицейского, если тот попробует сунуться к ней, недаром же она воевала с мужем! Да и не испугалась совсем, просто не думала, что надо и ей тикать отсюда. Тем временем полицейский опомнился от неожиданного удара и готов был в бешенстве наброситься на женщину. Ему ничего не стоило мгновенно расправиться с ней, ему казалось, какой бы задиристой ни была эта женщина, сил у него хватит. Но вдруг часовой, на глазах которого произошло все, громко расхохотался и стал между Палагой и полицейским. Что им руководило при этом, сказать трудно. Может, просто смешно стало, что пожилая и весьма корявая, невзрачная баба отважилась на поступок, которого до сих пор ему никогда не приходилось видеть. Тем более что рядом на траве лежало достаточно разной снеди, ее хватило бы даже на целую эскадрилью, а не только на троих. — Вег, — он отпихнул полицейского и, повернувшись к летчику, как раз подходившему к дороге, снова захохотал. — Хает ду гезеен, вас да лес ист?[25] — Айне шене хандгеменге. Да хает ду каин Ойропа, Ди зитен зинд хирцулянде толь ферлетщ Их унд Вольфганг майнтен, дас эр унс либе динге инрайхераузваль пумгекнуг гелиферт[26]. — Эе ист зебен зовайт, — совсем весело сказал часовой. — Вас хиндерт ойх ден дран цу шпайзен, да. эс ойя шмект?[27] — Ду дарфст шон зельбер дизе альте кахель кляйн-криген. — Летчик сел на корточки и принялся рассматривать банки, куски сала, яйца и другие аппетитные припасы. — Их абер хабе вас андерес цу тун. О, гут, гут![28]. — Ге шон вег![29] — состроил злобную гримасу часовой, показывая Палаге Хохловой, чтобы та убиралась прочь. Не выпуская из рук узелка, который она сумела-таки отстоять, Палага повернула, назад, но быстро одумалась и рывком, с невероятной легкостью, не чуя под собою ног, кинулась мимо опасного места по дороге вперед. Полицейский не понимал, почему вдруг немец не разрешил ему задать настоящую трепку этой сухореброй задире, иначе он в мыслях и не называл ее теперь, однако от дальнейшей попытки мстить отказался, сбитый с толку, затаил >в себе злость, которая прямо распирала его, только пообещал вдогонку: — Ничего, я тебя еще встречу, паскуда! А нет, так и в Веремейках отыщу! Казалось бы, чего уж лучше — утекай себе подальше и от заборковского злыдня, и от немцев, так нет. Палага и тут не преминула показав свой характер, повернулась и крикнула совсем по-деревенски в ответ полицейскому: — Поцелуешь ты меня в… — при этом она не постыдилась вслух сказать и последнее слово. От беспомощности — ничего ведь проклятой не сделаешь! — полицейский притворно хихикнул, — мол, что ты с дуры бабы возьмешь, — а потом торопливо заметался, помогая немцам переносить к костру награбленную у веремейковских женщин: провизию. Он даже случайно не взглядывал в ту сторону, где быстро шагала по дороге Палага, догоняя убежавших товарок. К этому времени те тоже выбрались на дорогу, благо за поворотом из-за деревьев не было видно ни немцев с их подбитым самолетом, ни полицейского. — Убьют там Палагу одну, ей-богу, убьют! — спохватилась в страхе Гэля Шараховская. Тогда и остальные забеспокоились, хотя у самих страх еще не прошел. А Варка Касдерукова с укором молвила: — Ну что у нее там уж было такое, чего не захотела отдать? — Ага, — поддакнула ей Анюта Жмейдова, — хорошо, если хоть скоромное, а то, может, всего-навсего огурцы-семенники. Солдатки говорили так, то осуждая, то жалея Палату, а сами чутко, с тревогой, от которой знобило сердце, прислушивались: не дай бог, и правда грохнет выстрел. Отбежали они не очень далеко от того места, где их задержал немец, поэтому и Палаге Хохловой не составило труда догнать их. — А мы думали… — увидев наконец ее, живую и здоровую, только и произнесла Гэля Шараховская, но при этом почему-то вопросительно поглядела на своих попутчиц, будто хотела, чтобы те поддержали ее. Палага ничего не отвечала, только дышала, тяжело. Женщины помолчали некоторое время, давая возможность ей прийти в себя, потом Дуня Прокопкина грустно сказала: — Давайте подумаем, бабы, как нам дальше идти. — Дак мы же договорились, — насторожилась Анюта Жмейдова. — Пойдем на Каничи, потом на Батаево. — Я непро эта!.. — не глянув на нее, нахмурилась Дуня. — Я про то, стоит ли нам теперь вообще идти в ту Яшницу. — Как это? — не поняла Варка Касперукова. — Так, — Дуня показала пустые руки. — Самим не чего на зуб положить, не то что мужа накормить да выкуп за него дать. — Дуня правду сказала, — чуть не в один голос поддержали другие солдатки, будто ждали подходящего момента, но, видно, не только потому, что немцы с помощью заборковского полицая вдруг отобрали у них припасы, рассчитанные на лагерную охрану; после того, что случилось с ними в этом лесу больше всего тревожила неизвестность, ждущая впереди; чтобы повернуть назад, казалось, не хватало только повода. Гэля Шараховская ясно ощутила это и попыталась отогнать опасность. Почему-то обращаясь только к Прокопкиной Дуне, она с горькой запальчивостью, как кровно обиженная, объявила: — А я пойду! Пойду, хоть и не с чем! А вдруг Андрей там? Дак хоть погляжу на него, буду знать, что живой, не убитый. Потом еще раз приду. Ее упорство было более чем убедительным, и когда она после короткой паузы, вызванной внутренним волнением, снова бросила укоризненно: «Вы себе как хотите, а я пойду!» — солдатки двинулись с места. Останавливаться на завтрак в Ключе было не с чем. Держась руками за деревянный обод криницы, женщины лишь по очереди напились холодной воды, от которой заломило зубы. Легче было тем, кто не положился целиком на дорогу, а еще дома перекусил наперед, эти и воду пили теперь всласть. До сих пор никто не знал, кто что брал с собой, а тут вдруг, напившись воды, начали чуть не хвастаться. — Мне-то свекруха набила-таки торбу, — вздохнула, открывая секрет, Гэля Шараховская. — Кажись, всего там хватало. Все прошлогодние и нынешние запасы собрала. Даже груздей соленых банку не пожалела. Вот празднуют-то теперя немцы! — Да и полицай небось не останется в накладе, — с завистью сказала Анюта Жмейдова. — Ну, уж твоим дак и наедятся они, — насмешливо бросила ей Анета Прибыткова, помня, как та показывала полицейскому лепешку с подгорелыми шкварками. А Гэля Шараховская вдруг призналась: — Хорошо, немцы хоть не догадались про мои золотые пятерки. Я их под титьку сунула, дак где им догадаться. Столько берегла!. Еще матка, покойница, на приданое давала. — Ну вот, оказывается, у Гэли и золото есть! — окинула всех прищуренным глазом Анюта Жмейдова. — Дак у Шараховских небось еще и не такое нашлось бы, если хорошенько покопаться, — засмеялась Варка Касперукова, но без задней мысли, просто так. — Как же, целые горшки берестяные с золотом стоят! — брякнула с досады Гэля, уж не рада, что и призналась. — Вот милиционеры не знали, кого в колодец опускать, — отозвалась тогда Фрося Рацеева. — Надо было сразу за Шараховских браться, а они деда моего в холодную посадили. — Да ведь тоже не напрасно! — воскликнула Анюта Жмейдова. — А тебе откуда известно? — не понравилось это Фросе. — Дак рассказывали же… — Мало ли чего могут наболтать. А ты молоть языком горазда. — Тихо вы, бабы, — наконец не выдержала Палага Хохлова и почему-то прижала к плечу голову, сделав при этом страдальческое лицо. — А то договоритесь, что друг перед дружкой заголитесь. Всего вам жалко. Всего у вас хватало. А мне вот своего, — показала она на узелок, — дак и ничуть не жаль, хоть я его и не отдала немцам. Потому нет тут ничего такого, чтобы жалеть. Одно сало, и то без хлеба. Теперь как будем есть? Не понесу же я в Яшницу его, раз все голодные. Небось сами скоро выдерете из рук. — Ну что ты, Палага, — попробовала урезонить ее Анета Прибыткова. — А то я сама не понимаю, что надо поделиться? Сейчас вот зайдем за Белынковичи, да и подкрепимся сообща. Благо и вода там в Беседи найдется. — Воды и той, что в Ключе напились, до самого вечера хватит, — засмеялась вдруг Роза Самусева, обрадованная Палагиной щедростью. — Ничего, еще не раз захотите. Вечер далеко. А сало мое, чтоб вы знали, прошлогоднее. Соли на нем — ножом не соскребешь. Так что… Уже на выходе из леса, как поворачивать на другую дорогу, что вела мимо Колодлива на Белынковичи, в глаза им бросилась дощечка, прибитая на уровне человеческого роста к березе. Заостренным концом дощечка эта показывала туда, куда направлялись веремейковские бабы. Русскими литерами в несколько строк на ней сообщалось, что ближайшие лагеря «для красноармейцев и командиров, которые не успели сдаться в плен», находятся в таких-то населенных пунктах. Вторым среди них была указана Яшница. — Ну вот, — растерянно вскинула брови Дуня Про-копкина, — неделю будешь шляться по этим лагерям и все не обойдешь!.
IX
Потряхивая вожжами, Браво-Животовский направил лошадь из заулка на улицу и повернул налево, чтобы ехать в Бабиновичи по коноплевскому концу деревни. Зазыба открыл было рот — не хотелось вместе с Браво-Животовским ехать на виду у всей деревни, к тому же и дорога удлинялась ровно на то расстояние, какое занимала улица, однако вовремя передумал, — может, полицейский собирался по пути заглянуть еще домой. Но не тут-то было. Тот не остановил лошади у своего дома. Значит, с самого начала имел намерение ехать в местечко кружным путем, мимо Халахонова подворья. Правду сказать, в выборе дороги не последнюю роль могла сыграть и привычка — ведь коноплевцы вечно отправлялись в Бабиновичи отсюда. — Сыну твоему тоже надлежит явиться в волостную управу, — буркнул полицейский, когда они с грохотом переехали первый мосток за деревней. — На учет надо стать и все такое. — Ага, — думая совсем о другом, уронил Зазыба. Тогда Браво-Животовский повернулся лицом к Зазыбе и осклабился, словно уязвленный чем-то. — Кстати он домой пришел. — Отсидел свое, так и пришел. — А мне не обязательно знать, отсидел твой Масей срок или нет. В конце концов, сам скажет где надо. Но что домой вернулся, не стал без толку шататься, это хорошо. И отцу выгода будет, и самому можно устроиться как следует. Немцам тоже образованные нужны. — У него своя голова на плечах, нехай сам думает. А выгоды мне от его прихода никакой. Другое дело — радость. — Не скажи. Выгода есть. — Что-то невдомек мне. — Ну, а хотя бы уже то, что Масей из тюрьмы вернулся? — Гм, большое утешение! Да и при чем тут тюрьма? — Смотря какая. Он же не вор и не убийца, а политический. Значит, у него расхождение с советской властью было. Ну, а теперь такие люди в цене. — Вот ты про что! — невесело усмехнулся Зазыба. — Значит, за сына и мне цена выше будет? Так я тебя понял? — Так. — Но ведь немцы небось еще не знают про Масея? — Почему это не знают? — возмутился Браво-Животовский. — Откуда же им стало известно? — бросил испытующий взгляд на своего собеседника Зазыба. — Сам говоришь, ему надо еще явиться в волость, отметиться. — Ну и что? Это же отметиться, а… Словом, ты, Зазыба, не думай, что новая власть ничего про нас не знает. Знает, да еще и как. — Выходит, ты мой благодетель? — насмешливо спросил Зазыба. — Значит, тебе надо спасибо сказать? — Ну с этим еще успеешь, — снисходительно разрешил Браво-Животовский. — Правда твоя, успею, — не меняя насмешливого тона, согласился Зазыба. — Но пока давай мы с тобой, Антон, договоримся так: ты не оказываешь мне никаких благодеяний, а я не нуждаюсь ни в чьем покровительстве. Во-первых, не так уж я молод, чтобы думать о карьере, особенно при новой власти, а во-вторых, для меня теперь важней не то, кто мне доверять собирается, а кому я доверять намерен. Скажу откровенно, к тебе у меня доверия нету. — Напрасно. — Не знаю, но сказал я, что думал. — Напрасно, — повторил Браво-Животовский и добавил: — Теперь тебе без меня не обойтись. — Вижу, тебе с чего-то очень хочется связать одной веревочкой с собой и меня, и сына моего. — Веревок я не вью, тут ты ошибаешься, но общества твоего не чураюсь. — Известно, не с Драницей же все время якшаться? Хватит того, что он подвел тебя у криницы. Все хвастал, что может по-немецки, наши мужики даже поверили, что он переводчиком при тебе, а как до дела дошло, так тумаков отведать пришлось. Да и немец тот тоже какой-то шалопутный — своего не узнал. Помнишь, как в том анекдоте?.. — Ну, чья бы корова мычала, а твоя молчала, — стараясь сохранить спокойствие, сказал Браво-Животовский. — Твои тоже не меньше шалопутные. Меня хоть плеткой, а тебя так и совсем чуть со света не сжили. Зря попрекаешь. — Да я это к слову, — будто и правда Пожалел Зазыба, что ненароком напомнил полицейскому о неприятности. — У меня тоже к слову пришлось, — с явной иронией повинился Браво-Животовский. — Будем считать, что квиты. — Квиты так квиты, — охотно согласился полицейский. Напрасно он надеялся на перемирие. Через минуту Зазыба сказал: — А поросенка с фермы вы незаконно взяли с Драницей. Не имели права. — Чепуха, — попытался отмахнуться Браво-Животовский. — С лосем надо было как-то решить. — Колхозная ферма не собственный хлев. В охотку и каждый мог бы. — Так ты же распустил колхоз. — Но это еще не значит, что каждый может хапать что вздумает. — Эх, — дернул щекой Браво-Животовский, — не об этом сегодня надо говорить нам! — И выражение лица его сделалось едва ли не страдальческим, как будто и вправду он добивался в беседе чего-то такого, что никак не доходило до Зазыбы. «Ишь, — насмешливо подумал Зазыба, — кручина полицая забирает. Но это только начинка, а будет целая овчинка. Придется шила с перцем попробовать» Потом сказал: — А правду болтают наши мужики, Антон, что ты у Махно служил? — Служил, — как ни в чем не бывало, подтвердил Браво-Животовский. — А что? — Тогда мы и раньше, оказывается, могли повстречаться с тобой? Я же свой орден получил за махновцев. — Ну, про это, допустим, я читал в районной газетке. — Мог и ты оказаться среди них. И тебе бы башку снял шашкой. — Ну, это еще бабка надвое указала. Мог ты мне башку отсечь, а мог и я тебе. Или Не веришь? — Ты, видать, землю со злости грыз, пока жил у нас затаясь? — Я, как тебе известно, землю пахал, — сказал на это Браво-Животовский. — К чему мне было ее зубами грызть? Да меня тогда уже у Махно и не было, когда ты саблей махал там. — Золота-то хоть награбил, гуляя с Махно? — спросил Зазыба. — Ясное дело, целый воз. Неужто не заметил, что моя хата золотом крыта. — Ну, допустим, хату крыл еще сам хозяин. — А перекрывал ее кто? — Перекрывал ты. Но не верится чего-то, что ты без золотишка. Известно ведь, какие вы, махновцы, мародеры. — Я, милый мой, привык честно служить. — За идею? — А если и не за идею, то все равно честно. Ты думаешь, я у одного Нестора Ивановича служил? Я и в Красной Армии был. — Когда — перед тем, как к Махно перебежать, или после Гуляйполя уже? — Чего теперь выпытывать! Надо было раньше интересоваться. — Странно у тебя получается — служить служишь, а похвалиться вроде и нечем. — Почему? Я же открыто служу. — Это теперь. А что ты скажешь, как немцев прогонят? — Все надеешься, что большевики твои вернутся? — Надеюсь, Антон, надеюсь! — Но признайся, Зазыба, ты бы со мной вот так, по-человечески разговаривал, если бы твой верх был, если бы ты на мое место стал? — Во-первых, я на твое место не посягаю. А во-вторых, ты тоже скоро иначе запоешь. Это покуда нет окончательной уверенности, что власть твоя надолго зацепилась у нас, ты ангелом прикидываешься. — Ну, это ты мне уже говорил, — возразил Браво-Животовский, — а я, как видишь, все еще не оправдал твоих надежд. Никто в Веремейках не может пожаловаться, что я сделал ему худо. И дело вовсе не в том, что чего-то жду. Тут, кажется, уже все ясно. Ждать долго не надо. Власть поменялась навсегда. Не знаю, долго ли у нас будут сами немцы. Это уж их дело. Одно бесспорно — советской власти они больше не допустят Сам знаешь, сила солому ломит. Так что зря ты надеешься на большевиков. Не вернутся они. — Глупый ты все-таки, Антон, — терпеливо дослушав до конца, засмеялся Зазыба. — Большевики — это люди. Живые люди. И никакая власть не заставит их отказаться от своих убеждений. Попробуй вынь из человека душу. А убеждение — это и есть душа. Поскольку люди живут повсюду, поскольку без людей на земле немыслимо, значит, и большевики будут всегда среди нас. — Ну вот, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему, — пожал плечами Браво-Животовский. — При чем здесь душа, при чем убеждения? Я говорю про большевистскую власть. А кто про что думает, черт с ним, мельница, как сам видишь, большая, все перемелет. Не у одних же большевиков убеждения. Были свои убеждения когда-то у кадетов, у эсеров, у меньшевиков, у анархистов Большевики перемололи их на своей мельнице. Теперь очередь настала для самих большевиков. Даст бог, национал-социалисты их перемелют. Довольный, что основательно доказал все Зазыбе, Браво-Животовский некоторое время ехал молча. Дорога уже шла краем торфяника, где первый год высаживали кок-сагыз. Растение это для здешних земель было неведомое, о нем, кажется, никто слыхом не слыхивал до сих пор не только в Веремейках, а и по всей Беседи. И вот в этом году во всем районе принялись пропагандировать его еще с зимы. Крайне необходима была резина. В земотделе был введен даже специальный агроном по кок-сагызу, а в колхозах созданы бригады, которым полагалось заниматься выращиванием новой сельскохозяйственной культуры, имеющей стратегическое значение; по крайней мере, пропагандируя ее среди колхозников, все, кто имел касательство к этому, нажимали на необходимость в ней именно со стратегической стороны. Понятщэ, в Веремейках тоже была создана такая бригада. И на протяжении всей нынешней весны веремейковские колхозницы не успевали выводить цыпки на руках и ногах. Но зря старались. С войной как-то сразу пропал интерес к кок-сагызу, о нем забыли. И тогда по торфянику снова принялся расти пырей, за ним болотный перец и разная другая трава, которая заглушила квелые побеги новой культуры. Так что, считай, кок-сагыза в Веремейках никто и не видел. Во всяком случае, в густых зарослях болотного перца и пырея отыскать его теперь было немыслимо. В итоге веремейковцы напрасно потеряли изрядный кусок покосов, ибо до тех пор, как вспахали тракторами урочище, тут каждый год буйно поднималась луговая трава, бывало, овсяница вымахивала человеку по самый пояс и заливала среди лета фиолетовым паводком все пространство от этой дороги и до новых колхозных подсек, на которых сеяли просо, овес и гречку. Грустно глядя теперь на заглушенный сорными травами торфяник и жалея загубленные покосы, Зазыба вспомнил с чего-то, как первый раз привозил сюда несколько лет назад Чубаря. Тогда они тоже ехали из Веремеек этой вот дорогой. Чубарь только что принял от Зазыбы колхозные дела, но поскольку по настоянию Маштакова Зазыба оставался в колхозе заведующим хозяйством, а это значит, фактически замом председателя, то ему выпало показывать новому председателю и артельные угодья. Кажется, как раз в те дни вовсю цвела здесь луговая овсяница. Укрыв в ольшанике от слепней жеребца, они долго расхаживали сперва по покосам, потом по вырубке, благо было чем любоваться. Тут же оба стали невольными свидетелями, как в овсах, поднявшись над вырубкой, ястреб напал на перепелку… — Так все-таки, Денис Евменович, — оторвал Зазыбу от этих мыслей Браво-Животовский, — ты не ответил мне. Что бы сделал со мной, окажись вдруг теперь на моем месте, а я вот так, как ты, пугал бы тебя? Зазыба потер глаза, будто их жгло от бессонницы, потом длинно усмехнулся. — А ничего, — сказал он ровным голосом. — Неужто? — Можешь поверить. Зачем мне было бы этим заниматься? Ты же дезертир, ну а дезертиры подлежат военному суду. Так что я просто не смог бы решать твою судьбу. Странно, но Браво-Животовского это нисколько не возмутило, не иначе — за время оккупации успел уже основательно обдумать свое положение, свыкнуться с ним и готов был к любому повороту событий, полностью полагаясь на счастливую звезду. — Значит, пощады не будет? — сдерживаясь, спросил он еще, но ответа ждать не стал и, словно сомневаясь, вспомнил: — А на спаса ты не такой категоричный был, Зазыба. Помнишь, даже надежду кое-какую авансом дал?…Народу на улицах местечка было больше, чем когда-либо. Видно, Бабиновичи постепенно привыкали к жизни в оккупации, приспосабливаясь к новым порядкам. Но что сразу бросилось в глаза Зазыбе, так это отсутствие на выгонах, в. переулках между дворами домашней скотины — не то что раньше, когда только и гляди, чтобы не наехать нечаянно или на свинью с оравой поросят, которая могла разлечься и кормить их прямо на проезжей части, или еще на какую-нибудь живность, тоже привольно чувствующую и ведущую себя соответственно, не говоря уж о курах да гусях, которым и совсем никакого запрета не было. Даже собаки и те не кидались сегодня из подворотен вслед приезжим. Немцев веремейковские седоки углядели при въезде на главную улицу, что шла с этой стороны мимо большого, еще от панских времен оставшегося сада на торговую площадь возле церкви. Немцы тоже ехали на телеге, но навстречу. Было их трое… Один, сидя с ногами в передке, подгонял вожжами огромного мерина, еле умещавшегося в оглоблях, а двое других сидели по сторонам и переговаривались друг с другом, порой поворачивая головы к вознице. Заметив немцев, Браво-Животовский засуетился в телеге, ткнул в руки Зазыбе вожжи. — Теперь ты, — сказал он. Зазыба вожжи взял, но с насмешкой подумал, что Браво-Животовский, видно, хочет пустить пыль в глаза немцам, показать себя, каков он есть — даже собственного кучера имеет. Но по тому, как полицейский стал оттопыривать локоть с повязкой, ему вскоре стало ясно, что Антона беспокоит совсем другое. Судя по всему, он боялся, чтобы немцы не сочли его из-за винтовки пришлым, враждебным элементом. И Зазыба вспомнил происшествие у веремейковской криницы. Тогда Браво-Животовский тоже все время старался держать на виду руку с повязкой. От этого воспоминания Зазыбу разобрал смех, но, чтобы напрасно не злить Браво-Животовского, он не подал виду, смеялся в душе — истинно, свои своего не признали!.. Тем временем телеги разминулись на широкой местечковой улице и Зазыба с ревнивым чувством, будто его нагло и нежданно надули, отметил, что немцы и глазом не повели в их сторону, а проехали мимо, беззаботные, полностью занятые собой. Когда Браво-Животовский с Зазыбой подъехали к комендатуре, которая размещалась в бывшем здании сельсовета, там уже сидели на скамейках по обе стороны высокого крытого крыльца вызванные на совещание к коменданту из местечка и окружных деревень старосты и председатели колхозов, где они уцелели, к примеру, бабиновичский Абабурка, и другие добровольные и принудительные чины волостной управы. Всего здесь вместе с полицейскими собралось человек двадцать. Как представлялось немцам, они должны были помогать устанавливать в деревнях по обе стороны Беседи «новый порядок». Кроме Абабурки, которого Зазыба хорошо помнил по довоенным собраниям, он увидел еще Захара Дов-галя, что был председателем колхоза в Гонче, и тоже давнего активиста Авдея Хрупака из Нижней Вороновки. Вообще знакомых лиц бросилось в глаза словно бы и больше, чем три эти, но кто они, Зазыба уверенно сказать не мог, если бы спросили, хотя был убежден, что ему приходилось раньше встречать их. Зато мог подтвердить: эти люди, кроме троих — Абабурки, Девгаля и Хрупака, не имели отношения раньше ни к руководству хозяйством, ни тем более к общественному активу. Видать, принадлежали они к таким добровольцам, как и Браво-Животовский, если, конечно, не к таким, как сам Зазыба. Во всяком случае, эту подробность, кто и как тут очутился, можно было выяснить и после. Абабурка между тем тоже заметил Зазыбу, когда тот вел лошадь между возов, но испуганно отвел глаза, видно, не желая встречи при таких обстоятельствах. Зато Захар Довгаль подошел сразу же, по старой привычке без всякого стеснения чинно подал руку. — Тебя тоже покликали? — спросил он как о чем-то заурядном. Пряча против своего ожидания взгляд, Зазыба только наклонил в ответ голову. Было слышно, как на крыльце, смеясь, кто-то рассказывал: — Дак я и говорю, едет это Адольф по дороге за нашей Слободкой, а там мужик поле пашет под зябь. Дутик, может, слыхал? Ну, и, как это бывает, на заворотах плуг руками приподнять не хочет. Ленится. Дорогу, опять же, ковыряет. Известно, Адольфу тряско по такой дороге ехать. Вот он и подзывает Дутика к себе. Говорит: «Я тебя сейчас научу, как поле пахать, мать твою так!» — да шомполом его, шомполом. — Ну, что шомполом протянул, это не диво, — согласился кто-то другой, — с шомполом он не расстается, может, даже и спит с ним, а вот что материт… У немцев же не такая ругань, как у русских. — Зато другая есть. Как это?.. — А, у них одно: гунд да гунд, швайн да швайн[30]. Захар Довгаль прислушался к голосам на крыльце, вызывающе усмехнулся. — Вот как легенды складывают. Обыкновенный садист и самодур, а его овечьи души за рачительного хозяина выдают. — Ладно, нехай некоторые тешатся, пока самим не попало от Адольфа, — подмигнул ему Зазыба и мягко взял за Локоть. — Лучше скажи, как вы там в своей Гонче? — Да небось хуже, чем вы в Веремейках. Не успели поделить хозяйство. Так и живем колхозом. А я, вишь, председатель. Вот зараз послухаем, что нам Гуфельд скажет, какие у него планы на наш счет. А тебя что, старостой веремейковцы выбрали? — Нет, бог миловал. Да и вообще не занимались еще таким делом, как выборы новой власти. Обходимся одним полицейским. — После совещания ты не торопись, посидим где-нибудь вместе, у меня дело к тебе, да не для чужих ушей. Приехавших. на совещание позвали в комендатуру. — Пошли и мы, — сказал Захар Довгаль. — Пускай другие зайдут, а мы успеем. — Не боишься; что позанимают места? — шутя спросил Довгаль. — Ничего, постоим. Когда-то, лет пятнадцать назад, здание это перевезли в Бабиновичи от Полужа, правого притока Беседа, где его оборудовали под мельницу. Но не кончили. Когда в местечке понадобился новый дом для сельсовета, почти уже готовую мельницу разобрали и переправили на лошадях сюда, перестроив изнутри согласно новой планировке. Теперь в нем был большой зал, в котором проходили сессии сельского Совета и разные другие торжества, а также приемная, где сидел секретарь Совета, и кабинет председателя — просторная комната в три окна по одной стене. Прежде чем попасть в зал заседаний, кстати, как и в кабинет председателя, нужно было пройти через приемную, перегороженную, совсем как в сберегательной кассе или на почте, барьером с замысловато выточенными деревянными балясинами. Немцы не изменили внутреннего устройства, оставили все, как было. Разница только в том, что за перегородкой в приемной теперь сидел немец в чине унтер-офицера, а кабинет председателя занимал Гуфельд. Новые хозяева дома были приветливо снисходительны, при входе в зал стоял даже молодой солдат, показывающий дорогу гостям, мол, не смущайтесь, проходите. Рассаживались по рядам долго и шумно, тем более что никто не торопил и не мешал. Даже когда все расселись и, казалось, угомонились уже и в зале воцарилась относительная тишина, еще долго пришлось ждать коменданта. Наконец порог переступили друг за другом двое мужчин. Один был в штатском, среднего роста и, видимо, средних лет, во всяком случае, молодым назвать его нельзя было даже на первый, весьма мимолетный взгляд… Казалось, он совсем без интереса обвел темными глазами зал. Но равнодушие его было обманным, внимательному человеку довольно было почувствовать на себе этот вроде бы нелюбопытный взгляд, чтобы убедиться в обратном — за внешним безразличием в глубине глаз таилась та особая зоркость, та проницательность, которая позволяет мгновенно оценить и понять многое. Второй немец был военным. Этот немец от штатского отличался внешней подобранностью, разумеется, как и надлежит военному, несмотря на полноту сорокалетнего мужчины, в нем даже по виду чувствовались живость и сноровка человека, который пока ни от чего в жизни не собирается отказываться. Войдя в зал, он сразу чему-то улыбнулся и первым двинулся от дверей по узкому проходу с левой стороны к длинному столу на помосте, который напоминал низкую сцену. По тому, что в руке военный держал, словно хлыст, обыкновенный шомпол от пехотной винтовки, нетрудно было догадаться — это комендант Гуфельд. Не отрывая глаз от коменданта, Зазыба вдруг вспомнил, как в начале оккупации вообразил было Гуфельда… немецким коммунистом… Могло же такое прийти в голову!.. От этой прошлой несообразности у него даже сделалось горячо внутри, где-то под ложечкой. Тем временем комендант остановился за столом, как раз в центре, и взмахнул над самой столешницей шомполом, видно, по привычке, но присутствующими этот жест был воспринят как угроза. — Добры дзень, Панове, — картавя, поздоровался по-белорусски комендант, собрав на своем чуть ли не квадратном лбу глубокие морщины, будто ему стоило большого напряжения сказать это; он, видно, собирался и дальше говорить по-белорусски, но не смог отыскать в своей памяти нужных слов, а может, забыл начало речи, беспомощно засмеялся и обратился к штатскому, сидящему сбоку, что-то тихо говоря ему по-своему. — Комендант приветствует вас всех в этом зале, — не вставая, начал весьма неплохо по-русски штатский; он не дал себе труда подняться в присутствии коменданта, стоящего за столом, и это свидетельствовало о некой его независимости, а может, человек этот хотел даже подчеркнуть свою непричастность к тому, что должно тут произойти. Во всяком случае, Зазыбе сразу захотелось увидеть реакцию коменданта на эту самостоятельность штатского. Но напрасно. Тот не подавал вида, и было непонятно, нравится ему поведение переводчика или нет. «Кто их тут, дьяволов, разберет!» — досадливо подумал Зазыба. Однако интерес его к человеку, который так недурно говорил по-русски, употребляя порой даже местные словечки, и который наверняка случайно оказался в переводчиках, остался. Поэтому, не выдержав и минуты, Зазыба стал все чаще переводить взгляд с коменданта на штатского, потому что суть происходящего была в нем; при этом он, видимо, производил свои наблюдения слишком подчеркнуто и вскоре и сам ощутил на себе не менее пристальный взгляд штатского, который, кстати, уже не оставлял его без внимания до конца. Комендант между тем положил поперек стола шомпол, как будто ему наскучило пугать и забавляться им, не поворачивая головы, нащупал сзади освободившейся рукой спинку стула, подвинул его на дощатом помосте ближе, чтобы пришлось как раз, и сел. При этом он как-то резко откинулся на спинку, даже еще не прикоснувшись к обитому кожей сиденью, невольно произведя смешное впечатление. Но на лицах присутствующих ничего не отразилось, не те были обстоятельства, не те условия и не то место, чтобы позволить себе, хоть и нечаянно, зубы скалить. Местные вели себя сдержанно, даже степенно: у кого это было притворством, у кого — смутным страхом, а у кого естественным, откровенным верноподданничеством. — Прежде чем говорить о наших местных делах, я зачитаю вам, Панове, обращение генерального комиссара к жителям Беларуси. — Комендант рывком выпрямился над столом и взял из толстой папки, которую принес с собой, лист синей бумаги. — «Освобожденный из-под советского ига, — начал он читать, — непобедимой силой победного немецкого оружия, белорусский край свободно вздохнул. Прозвучал и смолк звон оружия на Беларуси. Под надежной защитой немецких вооруженных сил можно снова взяться за восстановление разрушенных домов, мастерских и хозяйства. Следом за немецким солдатом пришел сюда немецкий государственный деятель, чтобы осуществить руководство краем. Целью его славных во всем мире и признанных даже враждебными завистниками усилий является создание для вас изобилия и обеспеченной будущности в границах нового великого немецкого государства, которое образуется в Европе. Он пришел как друг готового к сотрудничеству народа, как охранитель справедливого порядка и опытный создатель всеобщего достатка. Край должен снова возродиться. Вам и вашим детям будет обеспечено спокойное будущее благодаря немецкому порядку… Белорусы, первый раз в вашей истории победа Германии дает вам возможность обеспечить вашему народу свободное развитие и спокойное будущее, без российско-азиатско-большевистского гнета и чуждого господства. Я надеюсь, каждый из вас понимает, что его интересы тесно связаны с интересами Германии, что вы будете верными последователями и помощниками немецкого руководства…» Штатский кончил переводить, и в зале раздались хлопки. Для Зазыбы это было настолько неожиданным, что он сначала даже не понял, с чего это вдруг. Сам он не стал хлопать, но, чтобы не было после неприятностей, задвигался на стуле, будто бы в восторге от зачитанного комендантом обращения генерального комиссара Белоруссии. Глаз он при этом не поднимал, уставился на свои колени, чувствуя пронзительный взгляд немца в штатском. Комендант тем временем снова неуклюже опустил зад на стул и под рукоплескания что-то сказал переводчику. В целом население вашего района, — продолжал он через минуту, — встретило нас лояльно, в некоторых деревнях даже, по доброму вашему обычаю, хлебом-солью. Например, в Забычанье таким образом встретили танковую колонну Якименко Павел и Каплунов а Настасья, в Белом Камне — Привалов Трифон, а в Артюхах крестьянин Лахманов остановил артиллерийскую батарею и показал мины, которые были заложены на дороге советскими саперами. Вместе с тем сегодня я лично получил приказ от военного коменданта района, в котором указывается, что есть случаи, когда отдельными злостными врагами нового порядка распространяются ложные известия с фронта, а две семьи из Прудищанской волости наказаны за преданность фашизму. Кроме того, имеются случаи нападения на немецких солдат. Так, возле Прусинской Буды неизвестные вооруженные напали на автомашину, в которой ехал начальник полевой жандармерии района. Поскольку виноватые не были Найдены, пришлось взять из каждой близлежащей деревни по заложнику. За семь пробоин, которые обнаружены в бортах автомобиля, расстреляны семь человек местного населения. В приказе военного коменданта района специально подчеркивается — за каждый подобный случай, если не будут выявлены действительные преступники, полевая жандармерия и полиция порядка должны расстреливать заложников. Мы тоже объявляем большевистским агентам: кровь за кровь, а смерть за смерть. А вы непосредственно должны сообщить приказ в своих деревнях. Кроме того, мы сегодня вручим каждому представителю обращение заместителя государственного комиссара восточных областей пана Фриндта, которое вы тщательно перепишите от руки разборчивым почерком в нескольких экземплярах и вывесите в людных местах, чтобы каждый крестьянин знал, как ему вести себя и за что он потом может нести ответственность. Это касательно распоряжений и приказов вышестоящих властей. Вместе с тем, вам необходимо объяснить также своим односельчанам, что всему населению волости полагается теперь в обязательном порядке приветствовать немецких солдат и офицеров — и мужчинам, и женщинам. За неуважение к офицерам армии великого фюрера виновные будут наказываться. Это, между прочим, касается и чинов полиции. При встрече с немецким офицером чины полиции обязаны отдавать честь, беря под козырек, мужчины — снимать шапки, женщины — говорить «Добрый день». Понятно? — Да, да, — закивали головами наиболее верноподданные, а может, и оторопевшие мужики, словно лошади в жаркий день. Захар Довгаль, сидящий рядом с Зазыбой, незаметно толкнул его сапогом в ногу. Шепнул: — Дожили, брат!.. Сперва кось-кось, а потом хворостиной по спине, хворостиной! — Боюсь, что одной хворостиной не обойдется, — не поворачивая головы к соседу, сквозь зубы отозвался Денис. — Слыхал же, что сотворили в тех деревнях, что вокруг Прусинской Буды. У нас тоже едва такое не случилось. Как и всякий опытный докладчик, который кроме всего прочего рассчитывает еще и на эффект от сказанного, Гуфельд дал некоторое время повозиться мужикам на жестких стульях, даже переброситься словом, подумав — пускай-ка они побрешут и на свой хвост, а то некоторые волчьей шкурой подбиты, и заговорил снова: — Здесь, в зале, находятся, за небольшим исключением, наши друзья, которые уже дали согласие сотрудничать с новой властью. Я надеюсь, что приказ генерального комиссара найдет соответствующий отклик и среди остальных присутствующих. Мы собрали вас сегодня, мужи доверия, чтобы одновременно и посоветоваться, и решить насущные дела, которые касаются более широкого распространения нового порядка в волости. Вы почти все здесь крестьяне. Потому и разговор в первую очередь будет о земле. От советского режима получено тяжелое наследство. Земля, как вы сами знаете, была закреплена за колхозами. Крестьяне в результате коллективизации перестали быть крестьянами в настоящем смысле этого слова. Вы превратились, по сути, в наемных сельских рабочих. Целью германских властей станет быстрейшая и радикальная ликвидация советской бессмыслицы, каковой являются ваши колхозы. Однако каждому разумному крестьянину должно быть понятно, что сейчас нет возможности сразу же, без проведения серьезных подготовительных работ, ликвидировать колхозы и перейти к индивидуальному хозяйству. Поэтому колхозы пока будут сохраняться, чтобы затем постепенно переходить к общинному хозяйствованию. Вспомните, что произошло с сельским хозяйством, когда советская власть без постепенного перехода, одним росчерком пера повсюду основала колхозы… Так же случилось бы и теперь, если бы произошел внезапный раздел колхозов. Сельскохозяйственное производство сильно сократилось бы, чего ни в коем случае мы не можем допустить. — Тут комендант запнулся на момент, спохватившись, затем поправился: — В ваших же собственных интересах. Как понимаете, всему свое время. Но вы дождетесь, что наконец будет отдано распоряжение государственного министра об отмене колхозов. Будет введен новый порядок землепользования. «Значит, вот для чего привез меня сюда Браво-Животовский, — прежде всего подумал Зазыба, потому что в Веремейках все сделали наоборот. — Значит, отвечать придется?» Но ни страха, ни даже растерянности он почему-то не почувствовал, может, потому, что комендант и переводчик все еще продолжали говорить и своими голосами вперебивку мешали осознать все в полном объеме, хотя на правой щеке, ближе к виску, и задергалась у Зазыбы предательская жилка. А вот и главное, что должен был услышать на этом совещании Зазыба, собственно, для чего его и вызвали в местечко: — В связи с этим я должен отметить, что в некоторых деревнях волости, особенно по ту сторону реки, происходит самоуправство. Не ожидая распоряжений, там разделили колхозное имущество, посевы и так далее. Например, в Веремейках. — Комендант повел взглядом по залу, отыскал среди «мужей доверия» Браво-Животовского и дал ему знак подняться с места. — Правильно я говорю, что в вашей деревне без разрешения начали делить колхоз? — Да, — вскочил Браво-Животовский. — Кто в этом виноват? Браво-Животовский посмотрел на Зазыбу. Тогда и комендант перевел свой взгляд в ту сторону. — Кто виноват? — уже с расчетом на Зазыбу крикнул Гуфельд, хотя еще и не знал, кто должен подняться на его голос. Зазыба понял, что надо отвечать. Медленно, словно ему мешало что-то между стульев, выпрямился. — На каком основании вы совершили это? — зло. уставился на него комендант. — Кто вы? — Заведующий хозяйством. — Завхоз? — уточнил переводчик. — Да. — А председатель где? — спросил комендант. — Ушел вместе с фронтом. — Он коммунист? — Да, коммунист. — А вы? Зазыба промолчал. Странно, но комендант тоже не настаивал на ответе, будто что-то уже знал про Зазыбу и теперь вспомнил это. — Так зачем же вы без разрешения поделили колхоз? — повторил он. — Так решило правление, — ответил Зазыба и даже удивился своему спокойствию. — У нас, по артельному статуту, в хозяйстве один человек ничего не решает. Ни председатель, ни заведующий хозяйством, ни бригадиры, никто другой. Для решения колхозных дел мы избрали правление. Правление все и решало. Так что… — Ну, мы с этой грамотой вашей немного знакомы, — не понравилось такое обтекаемое и, в сущности, уклончивое объяснение Гуфельду. — Вас не предупреждали о персональной ответственности? Зазыба недоуменно пожал плечами. Тогда комендант перевел колючий взгляд на Браво-Животовского. — Не успел я, господин комендант, предупредить его, — неожиданно соврал тот, конечно, ни он сам, ни Зазыба не забыли о разговоре, который произошел на спаса, а потом, на следующий день, уже в поле. — Покуда приехал от вас в деревню, там все и кончилось. Действительно, правление решило. Правда, оно теперь не в полном составе, не хватает членов правления, поэтому собрание можно считать неполномочным. Видимо, эта последняя подробность не имела для коменданта никакого значения, он тут же недоверчиво глянул на штатского, что-то возмущенно сказав ему. Но тот не стал переводить слова коменданта «мужам доверия», только усмехнулся. — В каком состоянии теперь хозяйство? — быстро перевел он следующий вопрос. — Все поделено, — ответил Зазыба. — Колхозники трудятся индивидуально. — Мы выясним, кто виноват в этом, — предупредил его комендант, и по тому, как поглядел он и на Браво-Животовского, стало понятно, что он уже объединил их с Зазыбой. — Кстати, это касается не только веремейковцев. Я отмечал, что без нашего позволения затеяли делить колхозы и в других деревнях. Чтобы вы знали, виноватых будем искать повсюду. А вы можете сесть, — милостиво разрешил он веремейковцам. И они опустились на свои места. Пока Зазыба скрипел стулом, усаживаясь, Захар Довгаль, наклонившись к его плечу, успел шепнуть: — Недаром говорят: раз не сумел отсечь руку своему лиходею, так лобызай ее теперь. — Нам осталось обсудить с вами еще несколько важных вопросов, — перебирая бумаги, продолжал между тем комендант. — Скоро вы начнете получать от нас разные циркуляры, согласно которым будете действовать. Административное устройство по волости утверждено такое: в самой волости — управа, в которой бургомистр, писарь, счетовод, агроном, а также волостная полиция порядка; в деревне — староста, заместитель волостного агронома, один полицейский из расчета на двадцать — тридцать дворов. У нас уже есть бургомистр. Это пан Брындиков. Поздравьте его. В первом ряду зашевелился и встал во весь рост сутулый бургомистр, бывший председатель сельпотребсоюза. — Есть писарь, — продолжал комендант, — есть счетовод. Пришли добровольцы и в полицию. Таким образом, что касается волостной управы, то здесь у нас все как полагается. Но еще не в каждой деревне есть старосты. Не выбраны заместители волостного агронома. Правда, мы с этим сознательно задержались немного, потому что там, где остались на месте председатели колхозов, все руководство по административной части выполняют они. Теперь необходимо ускорить избрание старост там, где были распущены без разрешения, колхозы. Надо также учесть, что не хватает и полицейских. Я подчеркиваю, на каждые двадцать — тридцать дворов для охраны порядка надо иметь по одному полицейскому, значит, на деревню в сто дворов необходимо не меньше пяти. Порядок должен строго соблюдаться. Недаром же мы назвали полицию полицией порядка. На этом и закончим. Переводчик не успевал повторять за ним по-русски, поэтому тишина в зале устанавливалась не сразу. — Если есть вопросы, — сказал штатский после всего, — господин комендант с удовольствием ответит вам. Первым проявил интерес смуглый мужчина, что сидел рядом с Абабуркой. — Скажите, — он откашлялся, — а какое административное руководство установлено в районе? — Я отвечу, — кивнул комендант. — Во-первых, районная управа, имеющая отделы народного образования, финансов, а также сельхозгруппу, которой подчинены заготовительные и налоговые органы. Во-вторых, в районе функционируют военные власти, которым подчинена и гражданская администрация. — Тогда скажите, — не садился сосед Абабурки, — как подать будет устанавливаться, по каким нормам? — Этот вопрос еще как следует не разработан, — ответил комендант, — но скоро и здесь будет внесена ясность. Скорей всего, для большего удобства, пока не состоялся переход на индивидуальное землепользование, будут использованы материалы советских комитетов по заготовкам, в основу которых лягут нормы бывших государственных поставок по всем видам налогов. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что наиболее остро стоит вопрос не о податях, а об уборке урожая. Особенно в колхозах. Что же касается индивидуальных хозяйств, как тех, которые достались нам от Советов, так и тех, что создались уже в новых условиях, то и здесь будут определены соответствующие нормы, Понятно? — Да. С другого конца зала, не с самого ли последнего ряда, тоже послышался голос: — Я правильно понял вас — раз в районной управе создан отдел народного образования, значит, и учеба в школах будет возобновлена? Когда это может произойти? Обычно у нас в школах занятия начинались с первого сентября, а эти сроки уже давно прошли. — Да, действительно, — выслушав перевод, как будто обрадовался Гуфельд. — Новая власть образованию вашего народа будет придавать не меньшее значение, чем большевики. Но более подробно вам на этот вопрос может ответить бургомистр. Пан Брындиков, подойдите сюда и расскажите мужам доверия все как есть. Вы же, кажется, присутствовали уже на школьном совете в Крутогорье? Бургомистр вышел к столу, показав собравшимся свою красную, хорошо откормленную и отпоенную на сельпотребсоюзовских харчах физиономию. — Да, —торопливо начал он с некоторым беспокойством. — Мы в управе уже имеем кое-какие инструкции на этот счет. Начальное народное обучение должно быть совершенно бесплатным. Надлежащее внимание будет придано также разработке и усовершенствованию общего и специального среднего образования. Что же касается сроков, то тут действительно мы в районе опоздали. Придется начать учебу в школах позже: если не первого октября, то где-то в ноябре уже обязательно надо провести укомплектование школ и учителями, которых, кстати, мало осталось в районе, и учениками. — Тогда скажите еще, — послышался другой голос, уже ближе к Зазыбе; принадлежал он загорелому человеку в темно-синей сатиновой косоворотке, — какие Предметы будут преподавать в школах? — Немецкий язык прежде всего, — начал перечислять бургомистр, — затем закон божий, химия, физика, ботаника, зоология, арифметика с алгеброй и геометрией, ну, и русский язык, конечно. — А белорусский? Наверное, бургомистр не имел на этот счет определенных инструкций, потому что сразу же повернулся к коменданту. Тот долго, даже слишком долго слушал переводчика, несколько раз переспрашивая его о чем-то, наконец одобрительно закивал головой. — Господин комендант считает, — глянул в зал переводчик, — что со стороны германских властей, как и обещано в обращении генерального комиссара Белоруссии, не будет препятствий, чтобы в школах изучали местный язык. Но вам всем надо знать, что район ваш пока относится к области военных операций. — Понятно, — протянул загорелый, но не сел. Зазыба ревниво усмехнулся про себя: «Подловил-таки, холера!» — И последний вопрос, — сказал загорелый. — По каким учебникам будет вестись в школах преподавание? Какого можно ожидать материального обеспечения учителям? — Пока не издадут новых учебников, — взял на себя объяснение бургомистр, — преподавание надо осуществлять по советским. Но приказано навсегда выбросить из них слова «советский», «большевик» и так далее. Портреты большевистских вождей тоже необходимо удалить. Что касается материального обеспечения, то сохраняется прежний, в советском объеме, оклад, кроме того, будет выдаваться паек — по десять килограммов хлеба на месяц лично учителю и по пять килограммов на каждого иждивенца в семье. Остальным присутствующим тоже захотелось узнать у коменданта кое о чем, например, откроются ли магазины, какое предполагается медицинское обслуживание населения. — Платное, — терпеливо растолковывал тот, — по пять рублей за прием у доктора в деревенском лечебном пункте и по десять в городской больнице или амбулатории. Ну, а насчет магазинов сомневаться не нужно. Без коммерции еще ни одна власть не обходилась. Потом поднялся Довгаль. — А у меня такой вопрос, — заметно волнуясь, начал Захар. — Колхоз, как он был задуман, требует коллективного труда. Но и коллективный труд требует, в свою очередь, использования на больших площадях техники. Советская власть обеспечивала нам такую технику. Это вам каждый подтвердит. Обеспечите ли вы нас тракторами, посевной и уборочной техникой? Особенно если учесть, что в деревнях нет лошадей. — Где же ваши советские тракторы? — недовольно уставился на Довгаля комендант. — Эвакуированы. — А зачем же вы позволили эвакуировать? — Допустим, у нас лично разрешения не спрашивали, — заставляя себя не отводить от коменданта глаз, ответил Захар. — Тем более что тракторы, молотилки и другая такого рода техника принадлежали государству в лице машинно-тракторных станций, которые обрабатывали колхозные участки по договору. — Не пытались! — поморщился Гуфельд. — У вас не спрашивали! И вместе с тем выясняется, что в Нижней Вороновке эмтээсовский, а значит, как вы говорите, государственный трактор был закопан тайным образом в лесу. Хорошо, что нашлись лояльные по отношению к нам люди и выдали тайник. Так что не очень-то изображайте из себя простачков. Мы еще посмотрим, куда что в самом деле девалось. Ну, а насчет того, будет ли новая власть обеспечивать вас техникой, скажу твердо — пока никакой сельскохозяйственной техники, а также автомашин не имеем возможности выделить. А вот насчет лошадей… Тут мы можем дать вам верный совет. Используйте в хозяйстве как тягловую силу коров. — И, увидев, что местные недоверчиво, даже с иронией заулыбались, строго повысил голос: — Да, да, коров! В Протекторате, например… — Где-где? — не понял кто-то в зале. — В Чехии, — растолковал переводчик. — В Протекторате, например, — продолжал дальше комендант, — давно на коровах выполняют все полевые работы — пахоту, сев, боронование, перевозки и так далее. Прикиньте сами: лошадь работает в год на полную мощность тридцать — сорок дней, не больше, а корма на нее надо запасти на все триста шестьдесят пять. Поэтому вместо лошади там многие крестьяне теперь держат одну-две дойные коровы. Поскольку в хозяйстве лошади нет, коровам достаются все корма. А хорошо кормясь, коровы, несмотря даже на работу, дают больше молока. Потому и вам следует перенять этот опыт. Использование коров на самых разных работах — весьма рациональный способ ведения хозяйства. Понимаете? — Да как же, — мялся, почесывая в затылке, Захар, — но как попашешь на корове, так уж… напьешься молока, аккурат как от той козы. Услышав это, кто-то громко хмыкнул в середине ряда, глуша откровенный смех, но напрасно — не сдержался, дал себе волю, а за ним неожиданно захохотали почти все, кто сидел в задних рядах. Действительно, чудно, чтобы на корове пахать!.. Зазыба от громкого хохота даже растерялся — накличет на себя Захар беду. Но комендант, слушая, что говорит ему с Захаровых слов переводчик, вдруг тоже засмеялся, то ли притворяясь, то ли вправду поддавшись общему настроению. Мужики посмеялись, уже словно бы с дозволения, и затихли. — На этом беседа наша, собственно, закончена, Панове, — сразу же за наступившей тишиной объявил комендант. — Но не торопитесь, есть одно неотложное дело, о котором надо тоже договориться. Еще в августе у деревни Белая Глина во время отступления Красной Армии был сожжен на Деряжне мост. Теперь от военного коменданта района и начальника дорожного отдела поступил приказ — немедленно отстроить этот мост. Поэтому я, в свою очередь, тоже приказываю — на строительство моста направлять каждый день из деревни по десять подвод с возницами и специальными плотниками. За это отвечают перед комендатурой чины полиции и старосты. По тому, что Гуфельд взял в руки свой шомпол, все в зале поняли — совещание и вправду закончилось.
Из комендатуры Зазыба вышел одним из последних. Даже Захар Довгаль, который все время просидел рядом, теперь почему-то ринулся вперед, словно собирался догнать кого-то на крыльце. На душе у Зазыбы было так, будто его только что обманули или, еще хуже, незаслуженно облили грязью с головы до ног, изругали в пух и прах, хотя вроде ничего особенного за эти полтора часа не произошло. В конце концов, Зазыба и раньше понимал, зачем ехал сегодня из Веремеек, с кем и к кому!.. Но все-таки душу терзала досада. И, может, как раз потому, что ничего обманного и обидного не случилось. Странно, но факт, от которого никуда не денешься: совещание прошло, как любили раньше говорить, «на уровне». Главное, никто персонально никого не ругал, не пугал, не пытался вздернуть на дыбу даже виноватых, вроде Зазыбы — а Зазыбе почему-то хотелось думать, что сегодня в роли ответчика был вызван, точней, насильно доставлен не он один, — так даже виноватых, как нарочно, помиловали, разве что немного пригрозили. Получалось, что комендант действительно собирал мужиков из окружных сел, чтобы посоветоваться, как вести в новых условиях хозяйство, как наладить порядок. Но, спускаясь теперь за другими по ступенькам крыльца, Зазыба подумал и о том, что за эти полтора часа, когда он слушал коменданта — речь его и ответы на вопросы, — он совсем не дал себе труда вникнуть в суть происходящего, осмыслить все и взвесить. Сидел сиднем на жестком деревянном стуле и слушал, словно боялся чего пропустить. Правда, была причина, которая все время мешала ему осмыслить речь коменданта и вообще все, что пришлось услышать, — присутствие в зале штатского, переводчика, которому Зазыба сразу попался на глаза и который потом уже не терял его из виду, словно проверял, как реагируют на все местные «мужи доверия». Получилось, что Зазыба первым делом начал присматриваться больше к штатскому, чем к коменданту, хотя, разумеется, интересоваться Гуфельдом нужно было бы активней — Гуфельд стал выдающейся особой. Но Зазыбе уже казалось, что он потерял интерес к коменданту, во всяком случае, такой, который у других питался разными слухами еще с тех пор, как немцы обосновались в Бабиновичах. Ему только оставалось досадовать, что иной раз приходится думать о коменданте даже против желания, как будто кто-то мстил Зазыбе за прежние иллюзии. Между тем иначе и быть не могло, Гуфельд являлся той новой реальностью, которая ничуть не зависела от желания Зазыбы, это по меньшей мере. Словом, Зазыба, если рассуждать логично, неспроста обратил внимание на штатского. Но не ожидал, что этим вызовет и к себе не меньший интерес. Пристальное наблюдение вскоре стало его беспокоить, и Зазыба не мог избавиться от этого беспокойства до конца совещания… Сойдя с крыльца, мужики не торопились расходиться. Со стороны можно было подумать, что они вывалились гурьбой на улицу во время перерыва, а потом вернутся в дом. Сбившись в компании под окнами, курильщики принялись ладить самокрутки, угощая друг друга самосадом, а те, кто не употреблял пахучего зелья, присоединялись к знакомым если не-поговорить, так хотя бы послушать. При этом кто-то сказал, смеясь: — Что мне понравилось сегодня, так это что баб не было. Одни мужики заседали. А то раньше повызывают разных активисток, а из-за них и слова тебе никто не даст. — Ну, а как же без активисток? — поддержал его другой охотник побалагурить. — Сперва речи, мол, треба и надо, а после — шуры-муры. — М-да, некоторые бабы и орденов таким образом нахватали, и в магазинах лучшее по спискам имели. Уже приближалось время обеда. Густой и тяжелый зной висел над местечком — странно, но и осенью хватало жары. Было слышно, как за деревьями на большаке то затихали, то снова принимались гудеть машины. Послушав неровный, смягченный зеленью гул, Зазыба вспомнил, что утром им с Браво-Животовским удалось пересечь большак свободно, наверное, тогда еще не успело возобновиться движение. Припомнил он и тот случай, когда вез в местечко Марылю, и словно бы наново стал переживать все, знал, нелегко дались те минуты не только ему, но и девушке; наконец, он рассудил, что обязательно должен проведать ее, благо Хонина хата недалеко, сразу за почтой, потому что Марфа покоя не даст ему, все будет спрашивать, почему не сходил, но тут же и пожалел совсем по-отцовски — ехал сюда на пустом возу и не взял с собой гостинца Марыле; да и Марфа впопыхах не догадалась. Утвердившись окончательно в своем решении, Зазыба поискал глазами среди «мужей доверия» Браво-Животовского. Но тот небось не выходил еще из дома. «Вот олух, — обозлился Зазыба, — жди его, не бросишь ведь без присмотра лошадь, тогда и правда на коровах придется в волость ездить». Не было видно в компаниях и Захара Довгаля. «Ну вот, — снова рассердился Зазыба, — а говорил, что дело есть, да чтобы без посторонних». Зазыба не догадывался, какое у того появилось дело к нему, но и без дела не мешало бы поговорить с умным человеком, который, по всему судя, тоже теперь мучится и тревожится не меньше других честных людей. Теперь как никогда нужны единомышленники. Да, надо искать единомышленников! Но где они? В середине одной из компаний на дороге Зазыба вдруг увидел того самого загорелого мужика, который на совещании спрашивал у бургомистра, будут ли преподавать в школах белорусский. Казалось, среди других дел не такое уж оно важное, когда вокруг война и когда на повестке дня вообще стоит вопрос о существовании народа, который говорит на этом языке, во всяком случае, как думалось Зазыбе, это не самое насущное, но тем не менее тот человек своим вопросом вызвал у Зазыбы симпатию. Теперь загорелый мужчина тоже был в центре внимания. Он что-то рассказывал, а те, кто стоял вокруг, громко хохотали. Зазыба даже позавидовал им и, может, не удержался бы от искушения услышать хоть краем уха чужую беседу, однако на шум из комендатуры вышел Браво-Животовский. Он держал в руке «дулом» вниз большой рулон бумаги. По всему было видно, что чувствовал себя здесь веремейковский полицай как дома и даже лучше, если вспомнить отношения между ним и его женой: после попойки на спасов день, когда он открылся мужикам со своим махновским прошлым, Параска сделалась словно чужая… Браво-Животовский подошел к телеге, зачем-то засунул руку глубоко в сено, словно проверяя, не лежит ли чего под ним, потом с энтузиазмом потряс перед Зазыбой бумажным свертком. — Будем развешивать на домах плакаты! Нехай наши веремейковцы привыкают к новым вождям и к разным новым картинкам-рисункам. — И, чтобы не оставлять Зазыбу в недоумении, снял верхний большой лист глянцевой бумаги, развернул его прямо на глазах, отведя далеко в сторону левую руку. — Вот какую форму скоро будут носить чины полиции порядка! — похвалился он, обращая внимание Зазыбы на плакат, где в красках был намалеван немецкий офицер-интендант, почему-то в белом мундире с маленькими, почти сплошь красными погонами, и полицейский, одетый в темно-синий, и тоже при погонах, с широким черным отложным воротником френч, но без серебряных кубиков на нем; и немецкий офицер, и полицейский, слегка склонившись друг к другу, любезно пожимали руки. Внизу на белой полосе через весь плакат Зазыба прочитал: «Форма и знаки различия чинов полиции в освобожденных восточных областях». Конечно, плакат не мог остаться незамеченным на улице. Браво-Животовского сразу же обступили, начали разглядывать плакат, а потом выхватили его из рук, и он поплыл дальше. Раззадорившись, Браво-Животовский принялся раскручивать второй плакат, потом третий, снимая их друг с друга, как рубахи. На всех остальных был изображен в разных позах Адольф Гитлер. На одном слегка сутуловатый фюрер обнимал за плечи девочку, улыбаясь кому-то впереди. Подпись гласила: «Верховный вождь германского народа проявляет большую и нежную заботу о детях». — Так будем, Зазыба, сегодня наклеивать нового вождя? — полицейский сказал это с явным расчетом на окружающих, и, может, даже больше для них. Зазыбу его оскорбительная нарочитость возмутила, но он не поддался ярости, отреагировал вяло: — А надо ли? — Думаешь, рано? — отгадал полицейский то, чего не сказал открыто Зазыба, и захохотал. — Будь уверен. Своими глазами карту у коменданта видел. В самый раз, не рано. Уже давно, больше месяца, как немцами пройден Смоленск, ворота на Москву. Украина тоже почти пала. Осталось только Киев взять по ту сторону Днепра. Так что не бойся, друзьям твоим конец, свободно развешивай плакаты. — Нет, ты уж сам этим занимайся, — энергично замотал головой Зазыба, добавив: — Да с этим может справиться любой сопливец. Только конфетку посули. — Откуда они теперь, те конфетки? — серьезно посмотрел на него Браво-Животовский. — А ты винтовочные патроны раздай, — насмешливо посоветовал Зазыба. — Они теперь только тем и занимаются, что самострелы мастерят. А нет — из винтовки дай кому популять. — Патроны сосчитанные. — Ну тогда как знаешь. Да что это мы собрали тут митинг? Коменданту небось не понравится после такого совещания. — Как раз наоборот; — Ну, вот что, — сдержанно сказал Зазыба, понимая, что иначе теперь от полицейского не отвязаться, — езжай себе в Веремейки один, а мне надо еще в Зеленковичи, к женкиной родне. — Что-то зачастил ты к ним, — недовольно буркнул Браво-Животовский. — Может, и меня пригласишь? А то сам угощаешься, а мне ни разу не перепало. — Значит, надо иметь там своих родичей. — Как выручать тебя, так я должен, а как угощаться… — Ты это про что? — Да хоть бы и про то, чего от тебя хотел услышать комендант. — А-а, — усмехнулся Зазыба. — Ну, так мог и не выручать. — В конце концов, как хочешь, — махнул рукой Браво-Животовский. — Я себе попутчика найду. А ты возьми вот это на память, чтобы не задумываться неизвестно о чем, — и он сунул в руки Зазыбе лист бумаги. — Вот и хорошо, — Зазыба круто повернулся и выбрался из толпы. Он еще услышал, как что-то кинул Браво-Животовский, может, издевательское, однако теперь Зазыбу это уже не трогало. Он будто только что вылез из болота, где бесновались черти. «Теперь, сволочь, долго будет поминать, что ради меня соврал коменданту!..» — с сердцем подумал он, суя в карман полученную от Браво-Животовского бумажку, хоть и не представлял, чем бы в противном случае могла кончиться вся эта история с его вызовом на сегодняшнее совещание. На базарной площади, куда, не оглядываясь назад, наконец вышел по бабиновичской улице Зазыба, возле газетной витрины, которая осталась еще от советских времен, виднелось несколько женских и мужских фигур. В витрине что-то белело. «Небось уже немецкие газеты», — подумал Зазыба, вспомнив, что на спасов день их еще здесь не было. Подогретый любопытством, он перешел почти по диагонали площадь и очень удивился, увидев в незастекленной уже витрине знакомые буквы — «Правда». Сперва Зазыба даже не поверил глазам, но чем ближе подходил, тем явственней убеждался, что не ошибся. Местечковцы читали «Правду». Сбитый с толку Зазыба остановился у витрины за спинами женщин и, сдерживая волнение, тоже прилип взглядом к газете. Но тут же затряс, будто от наваждения, головой — заголовки статей были чужие, враждебные!.. «Более 260 советских дивизий уничтожено в начале войны», «Советское правительство готовит уничтожение Москвы и Ленинграда»… Словно еще не веря, что перед ним обыкновенная фашистская фальшивка, Зазыба опять глянул на газету. Шрифт был такой же, как и у московской «Правды», рисованные полукруглые литеры. Но под названием бросался в глаза совсем иной текст: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь для борьбы с большевиками». «До чего додумались, сволочи?» — возмутился в душе Зазыба, но заставил себя пробежать глазами по всем четырем полосам фальшивки. На одной из них жирным шрифтом было выделено две строки: «Во время налетов на Москву отмечены попадания в Кремль». Внизу, под карикатурой — «Лорды заседают, а немцы наступают», — чернело объявление: «Вырежьте и сохраните Зтот пропуск. С таким пропуском на сторону германских войск может пройти неограниченное количество бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Тут же, взятый в рамочку, помещен был и текст пропуска на двух языках — русском и немецком, мол, предъявитель сего, не желая даром проливать кровь за интересы жидов и комиссаров, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных сил, за что немецкие солдаты и офицеры окажут перешедшему радушный прием, накормят и устроят на работу. Ниже газеты было приклеено два объявления, отпечатанных на прекрасной бумаге. Первое, пожалуй, нельзя было назвать объявлением. Это, скорее было распоряжение, хотя подпись лица или учреждения, от которого оно исходило, и отсутствовала. «За несдачу радиоаппаратуры, — прочитал Зазыба, — и предметов советского военного снаряжения гр-н Каренин И. осужден на 6 месяцев тюрьмы с двадцатью палочными ударами ежемесячно». «Каренин?.. Каренин?..» — вспоминал Зазыба. В Бабиновичах действительно был человек с такой фамилией, но, помнится, звали его Тимофеем. Значит, Каренин, оказавшийся в немецкой тюрьме, был кто-то другой. Что же во втором объявлении? Зазыба прочитал и его: «Рыскина Ольга Егоровна, уроженка села Малая Липов ка, меняет фамилию на девичью Тупикова, а также меняет фамилию своего сына, Рыскина Владимира Абрамовича, рождения 1940 года, на фамилию Тупиков и отчество дает по своему крестному отцу — Иванович». «Ну вот, — подумал Зазыба, — новый порядок в действии!..» В эти дни всем было чему удивляться. И многое, несмотря на внутреннюю подготовленность, было внезапным. Внезапность вообще вызывает, пускай хоть и временную, но растерянность, когда человек перестает вдруг понимать, казалось бы, совсем простые вещи. Особенно если это относится к военному времени. И не просто военному, а вражеской оккупации, когда все, начиная от общественно-политического уклада, меняется. Потому неудивительно, что для понимания общей обстановки, так называемого текущего момента, Зазыбе куда больше дали вот эти два маленьких объявления и приказ военного коменданта района, зачитанный на совещании Гуфельдом, чем целая газета в витрине, где желаемое, скорей всего, выдавалось за действительность. Объявления свидетельствовали совсем о другом. В них Зазыба явственно увидел то изуверское, уродливое и ужасное, чего не только ожидало, а и чем жило уже так называемое мирное население, которое кто по своей, кто не по своей воле осталось по эту сторону фронта. «Но куда все-таки девался Довгаль? — спохватился Зазыба. — Как раз потолковали бы обо всем, ведь он сам зачем-то уговаривал ехать вместе, дело какое-то имел». С досадой отвернулся он от витрины, чтобы снова перейти площадь и по другой улице направиться за почту, к Хониному дому, потому что самая большая ответственность в местечке была у него теперь перед Мары-лей. Зазыба собирался только взглянуть, как устроилась девушка, может, нуждается в чем-то и он в силах помочь, а потом пешком отправиться себе по надбеседской дубраве в Веремейки. Но напрасно Зазыба беспокоился. Кажется, Марыля ни в чем не нуждалась. По крайней мере, на Зазыбу она не рассчитывала. Чтобы увидеть ее, даже не пришлось заходить в Хонин дом. Марыля вышла ему навстречу с немецким офицером, перед которым по новым порядкам Зазыба должен был ломать шапку. Странно, но как раз про это нововведение, про этот старопанский обычай Зазыба и не вспомнил. А еще более нелепым было бы, если бы он вообще снял шапку. Увидев Марылю, которую вел под руку офицер, Зазыба сразу же почувствовал, как ударила в лицо ему кровь. Стало и совестно, и обидно. Если бы мог свернуть куда-нибудь, так свернул бы, чтобы не смутить ее. Но свернуть, как на грех, было некуда, разве, как мальчишке, перескочить через забор да спрятаться в сливовых зарослях, что нависали над улицей через изгородь. А расстояние все сокращалось, и скоро их уже разделяло шагов пятьдесят. Ругая в душе и себя и тот недобрый час, когда он решил проведать Марылю, Зазыба скованно двигался навстречу. Правда, Марыля жила здесь на особом положении, и Зазыба мог сообразить, что ее сейчас не позорит появление на улице с немецким офицером, наоборот, она жертвует собой ради дела, для которого оставлена здесь. Однако он почему-то не подумал об этом, видно, личная, отцовская ревность мешала ему понять, кто Марыля на самом деле. И вряд ли что-нибудь изменилось бы, пойми Зазыба все, пожалуй, это нисколько не уменьшило бы остроты положения — и вправду, обрадуется ли она теперь, увидев вдруг человека, который единственный здесь кое-что знает о ней или о чем-то догадывается. Словом, из всего этого ясно было пока одно — Зазыбе тягостно и неприятно идти по улице. По нему, так поступок Мары-ли выглядел не только, самое малое, непатриотичным, но и безнравственным, мол, потаскуха потаскухой!.. «Выходит, не зря тогда предупреждал Шарейка?» — подумал Зазыба. И как раз вот эту провинность он считал совсем непростительной — опять же, видно, по той причине, что это касалось его личных чувств.

Марыля тоже не могла не заметить знакомой фигуры. Тем более, что Зазыба, расстроенный неожиданным поворотом дела, не сообразил даже перейти на другую сторону улицы, чтобы тропинка, служившая здесь тротуаром, не свела их с Марылей лицом к лицу. Готов был хоть сквозь землю провалиться, чтобы не столкнуться с ней, а вот сделать самое простое — перейти улицу не додумался. В следующий момент Марыля прошла мимо, глазом не поведя. Она была целиком занята (или делала вид) кавалером, молодым светловолосым обер-лейтенантом, который тоже казался не менее увлеченным. Внешность ее поразила Зазыбу. Это уже Выла совсем не та милая своей скромностью девушка, Которую он увидел когда-то в хате кулигаевского Сидора Ровнягина и которую после, через несколько дней, Привез сюда, в Бабиновичи. Чего стоили ее приподнятые груда, выпирающие из тесной блузки и назойливо лезущие в глаза. И вообще вся она будто округлилась за эго время, формы ее теперь подчеркивались специально. Зазыба не догадывался об этом, но за согласным шествием Марыли и немецкого офицера наблюдал не он один. Не знал он и того, что его подопечная делала это не первый раз. Жителям Почтовой улицы ее прогулки с немцами были не в новинку, особенно после того, как незнакомая девушка, неведомо откуда и почему взявшаяся здесь, устроилась на работу в военный госпиталь, который не очень давно обосновался в Бабиновичах и занял помещение местной больницы, оставив доктору Колосовскому с его больными пять коек в старом каменном строении, где раньше, в царское время, была становая холодная, а еще раньше церковный клир хранил подношения — горшки с медом, корзины с яйцами, круги воска, кадки с насыпанным зерном… Конечно, не одна Марыля в местечке поторопилась завязать дружбу с немцами, однако на Почтовой улице, кроме нее, еще никто не служил им, а тем более не разгуливал вот так с оккупантами. Правда, поведение чужой девицы не слишком-то удивляло, верней, тревожило здешних жителей, она была все-таки пришлой, потому и отношение к ней сложилось соответственное, мол, что с чужачки возьмешь, но тем не менее каждый шаг ее не оставался без чьего-нибудь вольного или невольного внимания. Одни подсматривали за распутной девкой просто из любопытства — а может, и вправду увидят что-нибудь такое, чего еще не случалось, словом, увидят невиданное; другие поглядывали с пренебрежением, ревниво храня исконные обычаи человеческой чистоплотности или, в данном случае, женского целомудрия, уж не говоря о гражданском достоинстве и патриотизме. Эти последние высокомерно отказывали в любом снисхождении чужачке, и стоило ли удивляться, ведь даже Зазыба, единственный могущий все понять, не только мысленно укорял ее, но и стыдился. Между тем не из одних окон следили за Марылей с ее кавалером свободные да любопытные местечковцы. Зазыба заметил в огороде, который был почти рядом с Хониным двором, женщину, которая стояла там не таясь: свесила согнутые в локтях руки через верхнюю планку забора, доходившего ей до подмышек, и будто ждала Зазыбу, когда он поравняется. Она и правда вскоре завела разговор, перед тем удивившись, что узнала его. Была женщина гладкой, с круглым незагоревшим лицом, такие обычно не занимаются деревенской работой, не копаются в земле, видно, она относилась к так называемой поселковой интеллигенции, к которой причисляют себя даже школьные уборщицы-технички, не говоря уж о медсестрах и другом обслуживающем персонале, или была замужем за человеком, положение которого позволяло ей сидеть без дела. — Ну что? — крикнула женщина навстречу, вкладывая в эти, пока не совсем понятные Зазыбе слова столько ехидной иронии, сколько хватило бы на целую горячую ссору. — Нашкодил, а теперь отворачиваешься? Не ты ли это привез ее сюда? Думаешь, я не видела, как вы с одноногим портным таскали в Хонину хату ее барахло? Зазыба молчал, не отвечая и не глядя уже на женщину. А ту все больше разбирало: — Вот теперь и любуйся на них! И сучка эта не узнает тебя, и ты небось боишься признаться! Может, дочкой приходится? Под градом ругательств Зазыба шагал по тропинке, будто переходил над темным омутом высокую кладку, казалось, сделаешь неверный шаг или глянешь не в ту сторону и полетишь вниз. — Все не попадается мне тот Шарейка, — не умолкала женщина, — он бы у меня давно забрал эту сучку к себе домой! А то, вишь, поселили в чужой дом, а человеку негде теперь голову приклонить. Видал, сидит теперь Хоня под забором с детьми-сиротами и крыши над головой не имеет, будто и дома себе не строил, будто это уже и не его дом! Ну и что же, что он еврей? Странно, но ругань эта постепенно приобретала обратное действие — чем сильней женщина поносила Марылю, а заодно и его с Шарейкой, тем быстрей Зазыба менял к Марыле отношение, сопротивлялся услышанному и скоро близок уже был к тому, чтобы возмутиться вслух, хотя не очень-то покажешь характер в таких обстоятельствах, кому нужен теперь здесь скандал. Однако противоречие внутри появилось, и Зазыба уже точно знал, откуда оно, — от этой ругани. И он, Зазыба, тоже хорош!.. Привез, да и бросил здесь, как в лесу среди волков, одну… Правда, не по своей охоте привез. Но ведь о чем-то думали люди, раз просили сделать это? И Маштаков, и тот военный, пускай и врал он тогда про Масея. Довольно было собрать все воедино, как снова возникло недоброе чувство, стало точить душу. В точности как и в Веремейках, когда он возмутился, что Марыле поручили совсем не женское дело, направляя сюда, в оккупированное фашистами местечко. Может, и сегодняшнее поведение ее объяснялось этим делом, а не тем, что обозлило его минуту назад и что разъяряло эту местную «интеллигентку», которая ругала на чем свет стоит их обоих — Зазыбу за то, что привез распутную девку, а Марылю, понятно, за ее распутство. И не может быть, а скорей всего, что так. А если так, то… Зазыба вдруг понял постыдную для себя, ужасную вещь, — и тот офицер, где-то шедший с Марылей теперь, ей не друг, и эта женщина, которая злобно виснет на заборе и чуть не плюет вслед, тоже, считай, враг. А тут еще Хоня Сыркин!.. Появление его здесь было неожиданным и уж наверняка случайным, но объективно оно свидетельствовало, что Зазыба не совсем точно исполнил поручение: Хонино возвращение могло отразиться — и даже роковым образом — на положении Марыли, живущей в его пустом доме. Серьезно озабоченный этим, Зазыба моментально забыл про женщину, которая не переставала бросать вслед ему обидную брань, и чуть не рысью миновал почту, на крыльце которой стоял немец-часовой. Зазыба торопился к Хониному дому не потому, что не терпелось повидать хозяина. Наоборот, в душе он надеялся, что женщина нарочно соврала, чтобы сильней уязвить его, и что Хоня-заготовитель не вернулся в местечко. Но где там! Сыркин сидел с двумя сыновьями-подростками на траве между тропкой-тротуаром и забором, словно прячась в тени, хоть солнце уже било им в лицо. Все Сыркины чем-то напоминали лохматых нищих, которые шли-шли, да утомились, сели отдохнуть здесь, все-таки не в безлюдном месте, может, кто-нибудь и подаст милостыню, как водится, краюху в торбу или медный пятак в шапку. Мимо них можно было пройти совсем незамеченным — Хоня свесил голову низко на грудь, словно в изнеможении или отчаянии, а мальчики хотя и выглядели бодрей отца, однако были тоже безучастны, будто растеряны. А Зазыба-то не собирался прятаться от них. Он не знал еще, о чем заговорит с евреем-заготовителем, почему-то вернувшимся из эвакуации; не догадывался наперед и о том, будет ли иметь эта беседа толк, по крайней мере, для того дела, о котором он сейчас пекся, но заговорить с Хононом Зазыба был просто обязан; и это было не только человеческим желанием, а необходимостью; вот сейчас он поравняется с Сыркиным и его детьми и спросит… спросит, конечно, про Цилю, потому что ее нет с ними, да и женщина та упоминала о каком-то сиротстве, значит, лучше зацепки и не придумаешь, если даже и нарочно искать. — Здорово, Хонон! — остановившись напротив, окликнул Зазыба мягко, чтобы не испугать. Сыркин сразу же узнал Зазыбу, хотя чему удивляться — мало кого не знал еврей-заготовитель по ближним и далеким деревням, особенно таких приметных людей, как этот веремейковец. — Где же твоя Циля? — спросил Зазыба, как и задумал наперед спросить. — Нету Цили, — хрипло, даже несколько равнодушно ответил Сыркин и отвел в сторону глаза, будто раньше провинился в чем-то перед Зазыоой или вообще чувствовал свою вину, о которой нельзя было догадаться. — Уже нету Цили, — повторил он, бросая слова в пустоту, и теперь Зазыба ясно уловил скорбь в его голосе, как громкий, хоть подавленный, стон. По всему было видно, что Сыркин не нуждался в постороннем сочувствии, и, может быть, не потому, что не хотел его, — наверное, в его нынешнем состоянии было даже не до этого. Пока Зазыба подыскивал следующие слова, за спиной раздался знакомый голос, — оказывается, та злыдня перелезла на улицу из своего огорода через забор, явилась следом. — Не слушай его, Хонон, — завела она, и Зазыба понял по ее голосу, что ярость свою женщина еще не растратила и ничего хорошего появление ее не обещает. — Это же он с тем хромым Шарейкой, что портным у нас в местечке, кукушку эту подсадил в твой дом. Откуда хоть он, Хонон? Знаешь его? Услышав это, Сыркин встрепенулся, оборотился лицом к Зазыбе, однако не удивление блеснуло в прояснившихся его глазах, а откровенное недоверие, словно он до глубины души был поражен услышанным и теперь хотел убедиться своими глазами в обратном. Зазыба не сказал Сыркину ни слова, только смотрел напряженно, словно боясь нечаянно выдать себя: в его расчеты не входило говорить о Марыле и о своей причастности к устройству ее в местечке. — Так откуда этот человек, Хонон? — тормошила Сыркина въедливая соседка, наверное, ответ нужен был ей не столько для сочувствия, которое она выражала бездомному человеку, позоря его обидчиков, сколько из обыкновенного любопытства, взыгравшего в ней: вот ведь Сыркин небось знает этого деревенского, а тоже боится, молчит! Поняв, что склочница-баба легко не отступится, будет долго молоть ерунду, пока не вырвет наконец у Хони ответа, Зазыба поторопился перевести разговор на себя. — Не слушай ты ее, Хонон, — сказал он, поморщившись от досады. — Тебе тут теперь всякого наговорят! Ни я, ни Шарейка не виноваты, что так вышло. Да и никто не виноват. Тебя не было в местечке, а хата пустовала. Ну, девка и поселилась у тебя. Так что, видишь… Могла чью другую облюбовать, а выбрала твою. Не связываться же тебе из-за этого с немцами, она ведь небось у них служит? — И служит, и… — Ну вот, — словно обрадовавшись, перебил женщину Зазыба. — Значит, не надо и сидеть вам тут. Глаза мозолить. Раз твой дом занят, переходи жить с сыновьями в другой. Кажется, в местечке свободных домов хватает. Сыркин согласно закивал. — Ну, так и ступай сейчас же, — подбодрил его Зазыба, — занимай хоромы кого-нибудь из ваших беженцев, да и живи, а то и правда накличешь на себя беду какую. Наверное, до сих пор Хонону даже в голову не приходило, что можно как-то обойтись в поселке без своего угла, найти приют в другом месте, благо опустевших домов действительно хватало, но, когда сказал об этом Зазыба, он сразу же словно бы повеселел — словно в непогоду, ночью получил приглашение на ночлег. Но женщину, которая не только присутствовала здесь, а и активно участвовала в решении дела, казалось, не устраивал такой оборот, она даже порывисто шагнула вперед, ставши между Зазыбой и Сыркиным. — Вот, сам натворил дел, лишил человека собственного крова, а я вдруг виновата? — Никто тебя не виноватит, — пожал плечами Зазыба, словно выказывая этим свое недоумение. — Нет, не обманешь! — не сдавалась тем временем ехидная баба. — Не такая я раззява, чтобы ты меня вокруг пальца обвел! И ты, Хонон, не верь ему! Сама, своими глазами видела, как вы с Шарейкой курву эту привозили сюда! Даже могу сказать, когда это было! На спасов день, вот когда! — Болтаешь черт те что, — пытаясь унять женщину, строго, но вместе с тем благожелательно сказал Зазыба. — Все-то ты видела, в се-то ты слышала. А между тем могла и ошибиться. Могла и недоглядеть как следует. — Ошибиться, недоглядеть?! — кривя губы и передразнивая Зазыбу, чуть ли не заорала женщина. — Мне же пока глаз не вырвало и ушей не позатыкало! — Ладно, допустим, — не теряя рассудительного тона, свысока улыбнулся Зазыба, думая хоть этим вызвать взрыв, чтобы потом свести разговор к нормальному тону: ведь по-человечески Зазыба не мог не понимать, какие чувства руководили женщиной, в конце концов, она говорила чистую правду; иное дело, что ее правда была некстати, грозила неприятностями; с другой стороны, перебранку эту не ко времени, которая с каждой минутой превращалась в скандал, надо было кончать, поэтому Зазыба прямо спросил: — Ну какая тебе-то корысть? Ну, пускай Хонон, ему есть о чем хлопотать, а тебе какая корысть? — А что человеку негде детей пристроить, так… — Вот это уже другой разговор, — заторопился Зазыба, — если уж так получилось, что хозяина не пускают в дом, так пригласила бы его к себе. — Я? — чуть ли не ужаснулась женщина. — А почему бы и нет? — Так… — Видишь, Хонон, — используя ее растерянность, повернулся к Сыркину Зазыба, — я правду тебе говорю, не сиди здесь, иди куда-нибудь со своими хлопцами в свободный дом, а то эти жалостливые бабиновичцы долго будут душу тебе рвать. Хонон, соглашаясь, снова закивал головой. Тогда и женщина, словно спохватившись, заторопилась: — Мельника дом, кажется, тоже пустой до сих пор. — К тому же предложение Зазыбы отвечало теперь и ее желаниям: а вдруг и правда придется вести этих евреев к себе на квартиру? Не дожидаясь отцовского знака, Хонины сыновья подняли с травы вещи. Оторвался от земли и Сыркин, мучительно разгибая натруженные, разбитые и за время сидения одеревеневшие ноги. — А знаешь, с кем мы шли-то? — Выражение лица теперь у него стало таким, будто только об этом он все время и думал, совсем не слушая, о чем спорили и этот веремейковский мужик, и эта знакомая женщина, считай, соседка, ведь их дома стояли чуть ли не крыша к крыше. — С Чубарем вашим, вот с кем! — С Чубарем? — не поверил Зазыба. — Когда это было. Сегодня? — Нет, раньше. Мы в Мельке задержались, пожили немного, а он дальше отправился.
Х
Яшница стояла при большом почтовом тракте, при таком же старом, наверное, как и само местечко. Пока не построили железную дорогу от Унечи на Оршу, тракт был единственной проезжей, а значит, благоустроенной дорогой протяжением, может, верст в сто, которая соединяла уездный город с волостными местечками и большими становыми селами. Кроме того, по нему можно было попасть сразу за границы уезда — прежде всего на Черниговщину, к которой в то время относились и Новозыбков, и Клинцы, и Старо дуб, и Унеча, и Сураж… Можно себе представить, сколько тут проехало-промчало тогда в оба конца шикарных фаэтонов, рессорных колясок, почтовых карет, а больше всего, конечно, крестьянских телег! Железная дорога начисто переиначила пути сообщения в этой местности. С вводом ее уже не находилось охотников преодолевать эти сто верст даже в самых покойных фаэтонах. Понятно, что старый тракт постепенно сделался не нужен великому множеству людей, теперь по нему ездили в гости или по какой хозяйственной надобности только от местечка до местечка, от села до села, от деревни до деревни. Да и трактом его перестали называть — просто дорога, большак… Но началась эта война, и забытый тракт снова сделался людным и шумным. Сперва по нему с тяжелыми боями отступали от Сожа 21-я кавалерийская и 132-я стрелковая дивизии, которые попали в окружение в Гусарских лесах. Потом, в августе, старые березовые посадки по обе стороны от него утюжили гусеницами танки Гудериана. Теперь же здесь двигались немецкие военные части уже чуть ли не третьего эшелона 2-й танковой группы, что была повернута из района Кричева на юг. Как раз перед приходом веремейковских женщин в Яшницу в местечке остановилась одна такая войсковая часть, рота автотранспортного батальона танковой дивизии. Повсюду на улице стояли съехавшие вправо по направлению движения крытые грузовики. Солдаты использовали привал, как и полагается в таком случае: одни слонялись без всякого дела между машинами, другие, выставив зады, ковырялись в моторах под поднятыми капотами, а по большей части сидели на противоположной обочине, подкрепляясь дорожным пайком, беседовали прилично, шумели сдержанно или хохота; ли — это уж в зависимости от того, где какая компания собралась и кого что заботило. Но все-таки солдат в этих машинах, которые заняли от перекрестка вдоль всю улицу, если глянуть из конца в конец ее, было мало, потому что на грузовиках под тентами лежал боевой и другой войсковой груз, который сопровождала лишь команда охраны. А эти военные тонкости, как говорится, не женского ума дело. Зато веремейковским бабам сразу же бросилась в глаза компания немцев, что плотно окружила скамью у забора, сделанную из доски и двух вкопанных в землю столбов. Такие скамейки обычно ставят у своих хат чуть ли не все хозяева в деревне, ну а местечко тоже до настоящего города не доросло, в том числе и Яшница. Правда, мало кто выносил скамьи свои вот так за ворота, чаще их делали под стеной, у дверей, а если и снаружи, так тоже где-нибудь под самыми окнами. Эта же скамейка была вкопана шагах в трех от дорожки, что вилась по обочине, да и сам дом стоял близко к уличной дороге, его отделял только узкий, обнесенный штакетником огородик, который здесь, как в деревне, зовется палисадником и где, как правило, растут высокие мальвы да кустится сирень. Чем ближе подходили женщины к перекрестку, тем становилось понятней, почему столпились немцы — из середины круга все явственней долетали звуки губной гармоники, слышался нарочитый топот сапог, не иначе кто-то в пляске разминал затекшие от долгого сидения в машине ноги. И, как бы ни были увлечены в этот момент немцы, как бы ни развлекал их своим мастерством какой-то лихой служака, не заметить веремейковских женщин они не могли. Им почему-то очень интересно было увидеть разом столько женщин. Поэтому гармоника вдруг стихла, солдаты повернулись к проезжей части, и один весельчак, низкий и плотный, словно добросовестно начиненная фаршем сарделька, с улыбчивыми, даже нагловатыми глазами, шагнул, раскидывая руки и приседая, наперерез женщинам, будто собирался изловить целую стаю гусей и боялся, что какая-нибудь птица проскочит мимо. Остальные немцы только подвинулись немного ближе, встав, словно по привычке,полукругом на краю травянистой обочины и весело, как на нежданную забаву, пялили глаза на кунштюки своего товарища. Тот между тем приближался к женщинам, ковыляя уже на согнутых ногах и переваливаясь с боку на бок. Это, наверное, и правда было смешно, и к перекрестку сбегались солдаты со всей растянутой по местечковой улице автоколонны. Кое-кто уже брался за живот от смеха, выкрикивая каждый со своего места проказнику: — Пак дас глюк, байм ципфель, Макси, зи ист им брайтен рок![31] — Фасэ мир ди…[32] — Мир ди дыке, дас…[33] — Мир аух…[34] — Га-га-га, га-га-га!.. Тем временем никто из веремейковских женщин — а на улице, кроме них и солдат, никого не было — не имел желания «ловиться». Сперва, когда двинулся от толпы наперерез им этот плотный немец, пожалуй, и правда великий проказник, женщины только удивленно насторожились: слишком похоже было то, что он теперь вытворял, на обычную немудреную игру-забаву, на какую были горазды и деревенские парни; во всяком случае, черта в нем никто пока не видел, скорей, они взирали на него, как на ряженого, которого подговорили вот эти, тоже переодетые парни, прямо заходившиеся вокруг в разноголосом хохоте. Но обманчивое ощущение или обманчивое впечатление это прошло быстро, вдруг их как молнией ударило — никакие это не ряженые, никто его не подговаривал и не нанимал; это немец, и хохочут вокруг тоже не деревенские парни в престольный праздник, а немцы!.. И первая солдатка, которой раньше всех пришло это в голову, оторопев, остановилась на дороге, будто башмак поправить, потом шарахнулась назад, произведя в своей группе замешательство, а этого, в свою очередь, хватило, чтобы кто-то еще растерянно ойкнул, хотя, может, еще и бессознательно; в следующую минуту веремейковки встрепенулись разом и, отшатнувшись, с визгом и криками бросились вдруг, словно испуганные птицы, в разные стороны — потому что справа стояли грузовики, а слева подходил с распростертыми руками этот кривляка немец; притом не все солдатки испугались настолько, чтобы с одинаковым ужасом разбежаться; были и такие, что просто поддались общему настроению, охваченные больше свойственным женщинам сердечным замиранием, чем боязнью. Обыкновенно при такой традиционной игре-забаве попадается ловцу какая-то одна — или та, что давно облюбована, или та, что замешкалась и не успела отскочить, а может, и сама тайком мечтает попасть в объятия. Но это когда собирается своя, как говорится, желанная компания. Навряд ли кому хотелось угодить в объятия к немцу. Но ведь солдат не шутил, и ближе всех оказалась к нему Роза Самусева. Сначала она замерла, наверное, не совсем понимая, чего хочет двинувшийся наперерез немец, потом, когда ее попутчицы бросились назад, было уже поздно — Розу выпихнули нечаянно из самой середины толпы более ловкие солдатки, и она, видя, что останется сейчас лицом к лицу с немцем, отскочила в другую сторону, туда, где стояли вдоль забора крытые грузовики. На что Роза надеялась при этом, сказать трудно, ведь там была очевидная ловушка — грузовики стояли впритык к забору, образуя небольшие отсеки, из которых дальше не было хода. Крайняя машина тоже была прижата к забору, и Роза, оказавшись в ловушке между грузовиком и высоким жердяным забором, через который с маху даже мужик вряд ли перескочил бы, заметалась, словно мотылек, неожиданно попавший через форточку в ярко освещенную комнату. Теперь немцу совсем не составляло труда поймать ее. Но он не спешил. Все шагал, приседая с расставленными руками, переваливался с боку на бок, словно гусак, и только блудливые глаза его с каждым шагом закипали алчной краснотой. Роза, вся сжавшись, отступала к забору, блестящие черные глаза ее наливались неудержимыми слезами, хотя она и не плакала еще. Но вот она уперлась спиной в забор и, поняв, что ей некуда деваться отсюда, затопала в отчаянии ногами, будто маленькая девочка, которую собирались наказать, закричала со стоном: — А ма-а-мочки, что же это!.. Наконец немец приблизился вплотную, моментально выпрямился и, хватаясь руками за жерди, стал прижимать Розу всем телом к забору. Но забор был наклонен немного к улице, поэтому Роза успела повернуться боком, съежиться, крепко упираясь локтем левой руки немцу в грудь. И как только ей это удалось, он сразу же почувствовал, что эффекта, на который рассчитывал, затевая это представление, уже не получится. Поэтому немец, несмотря на свои домогательства, тут же отступил от забора, смешно закидывая назад голову, будто боялся, что Роза, вызволив другую руку, царапнет ногтями по его лицу. В конце концов, все могло бы кончиться одними шутками. Их, этих шуток, хватило бы и для него, и для тех, кто, смеясь, наблюдал за всем да подбадривал, потому что молодую славянку все-таки прижали к забору. Но вместе с тем в душе плотоядного шутника осталось неудовлетворение, даже злость на эту упрямую славянку — сам-то он хорошо понимал, что вынужден отступиться ст нее, почувствовав еще с первого прикосновения к ней, как она сопротивляется, и сопротивляется непритворно. А преодолеть этого он не мог. И вот оскорбленное самолюбие неожиданно подсказало ему нечто иное. Неудачливый Макс заметил вдруг, что женщина, которая, сжавшись, стоит перед ним, смахивает на еврейку — такая же смуглая, волоокая, с кудрявыми черными волосами, которые сплошь вьются мелкими кольцами. — Юдин[35], — обрадовался он своему нечаянному открытию и, схватив Розу за руку, потащил за собой через дорогу. — Юдин! — весело крикнул он и своим товарищам, которые сразу же перестали хохотать. Между тем остальные веремейковские женщины, отбежав, почувствовали, что им больше ничто не угрожает, и столпились в сотне шагов от перекрестка. Роза к тому времени была заслонена со всех сторон немецкими солдатами, и увидеть ее было невозможно. Конечно, каждая из женщин понимала, что на месте Розы могла оказаться и она и только случайно в руки немцу попала Роза. Необходимо было выручать подругу. Но как это сделать и кто отважится пойти туда? Вместе с тем кое-кто из веремейковских пока полагал, что ничего страшного с Розой не случится. Может, попугают, а потом отпустят. Известно же — солдатня. И уж совсем никому в голову не могло прийти, что немцы приняли Розу за еврейку. Странно, но немцы тоже были несколько встревожены таким сюрпризом, надо же, чтобы пустая забава вдруг так обернулась. Кто-то стал издеваться над неудачливым проказником, мол, хорошо хоть хватило ума приглядеться, а то бы в самом деле смешал арийскую кровь с еврейской… Но большинство солдат, обступивших теперь испуганную Розу, которая и знать не знала, за кого ее принимают, хмуро помалкивали и поглядывали с откровенной неприязнью, если не враждой, будто эта смуглая женщина только что оскорбила их, обокрала или, как минимум, обманула. Макс, притащивший сюда Розу, постепенно был оттиснут назад, теперь против нее стояли другие немцы. Они не хватали ее, даже не дотрагивались, но Роза сразу почувствовала их враждебность. Она стояла среди неспокойной толпы, холодея телом и душой. Наконец высокий немец в очках, которые были много шире его длинного лица, ткнул пальцем чуть ли не в груда ей, спросив: — Юдин? Роза не понимала, чего от нее хотят. Тогда высокий более настойчиво, ясно, более громким голосом повторил вопрос, но уже не тыкая пальцем. Слово, которое он еще раз выговорил, оставалось для Розы непонятным, разгадать его было ей не под силу, хотя и очень хотелось уловить смысл. Ей все время казалось, что, если бы она ответила на вопрос, сразу бы кончилась эта нелепость и ее больше не задерживали тут. Теперь вместо страха она почувствовала себя виноватой, что не понимает ничего, и моргала глазами, пытаясь даже улыбнуться. Между тем принужденная улыбка ее и весь вид принимались немцами как вызов под личиной наивности, потому что они ждали от Розы ужаса, а не виноватой улыбки, которая говорила, как им казалось, о ее хитрости, и молчание ее, наконец, вызывало у них просто злобу. Спрашивал все время один немец. И всякий раз одно и то же: — Юдин? Такой допрос при ее непонятливости мог тянуться бесконечно, а мог кончиться и быстро, обычной расправой. — Бабы, дак что это мы стоим тут? — вдруг всполошилась в толпе своих Дуня Прокопкина, что немцы долго не отпускают товарку. — Она же тама!.. Бабы, дак что ж это мы, а? — укоряюще, со злостью и слезами обиды на глазах крикнула она и, не дожидаясь никого, зашагала к немцам, которые держали Розу в кольце. Дуня полагалась целиком на удачу эх, будь что будет!.. Когда подошла близко к немцам, те, уставившись на Розу, даже внимания не обратили на другую женщину. Тогда Дуня решила пробраться в середину толпы, где стояла Роза. Как бы недовольная тем, что ее не замечают и мешают пройти к товарке, Дуня осторожно, но решительно распихала локтями немцев, что стояли спиной к ней, и принялась протискиваться дальше. Ее не задерживали. Казалось, пропускали даже охотно, только бросит кто из солдат словно бы удивленный взгляд, а потом отвернется, чтобы слышать до конца допрос, который пока не давал результатов. Но вот Дуня пробралась вперед, обвела укоризненным взглядом всех вокруг и, обращаясь к Розе, сказала с тем же укором: — Бессовестная какая! Мы тебя ждем тама, а ты!.. Она, в душе не думая этого, бессознательно сделала вид, что Роза нарочно тут развлекается, а не то что ее задерживают. При этом Дуня уже совсем не боялась, наоборот, пока она пробиралась, распихивая локтями и корпусом немцев то в одну, то в другую сторону, дрожь, с которой она подходила сюда, перестала колотить ее, и она могла спокойно стоять в чужом окружении и так же спокойно рассуждать. Она только не догадывалась, что среди немцев не было ни одного, кто понимал бы ее. Поэтому, бросив Розе эти несколько слов, она тут же, как ровня, начала корить… немцев, которые теперь, увидев ее среди своих, недоумевали: — Что вы цепляетесь к ней? Ей идти надобно, бабы стоят ждут, а вы задерживаете. Упреки ее, конечно, прозвучали, словно в пустой бочке, но решительность, с которой вела себя Дуня, не могла остаться незамеченной, она отражалась прежде всего на лице ее, а сильней всего в голосе, в том почти независимом тоне, который ей удалось взять чуть ли не сразу. Немец в очках, к которому она обращалась, даже не думая, что он теперь здесь за главного — просто раньше он стоял напротив Розы, а теперь, когда здесь оказалась Дуня, оказался и напротив Дуни, — этот немец, пожалуй, был первым, кто почувствовал ее тон. Казалось, чужая независимость должна была бы рассердить его, однако он не рассердился, только возмущенно — мол, теперь объясняй и этой! — сказал, показывая на Розу: — Зи ист юдин![36] Не в пример Розе Дуня сразу ухватила смысл слова «юдин». Кстати, Роза теперь тоже поняла, может быть, как раз потому, что рядом стояла подруга. Дунина решимость, с какой она пробилась сюда, в середину круга, и с какой вела себя здесь, наконец-то вернула Розе способность соображать и владеть собой. Но она почему-то не испугалась, обнаружив, что немцы приняли ее за еврейку. Только удивилась этому и заволновалась по-другому, не как прежде, когда ничего не знала и ни о чем не догадывалась. Почти гневно, недоуменно блеснула она глазами на Дуню, сказала, словно жалуясь, с надрывом: — Что они выдумывают? Какая я еврейка? Скажи хоть ты им, а то дотемна будут держать, не отпустят. — Ладно, скажу, — кивнула ей рассудительная Дуня. — Но, пока говорить да толковать буду, ты не стой, бежи быстрей отсюда. Бежи вон к бабам. — Как это? — А так, что бежи — и все тут! — злясь на Розину несообразительность, даже повысила голос Дуня. Роза согласно кивнула, хотя вряд ли по-настоящему понимала, как это: «бежи и все тут!» Одно дело — сказать. Совсем другое — сделать, когда вокруг, плечом к плечу, да еще в несколько рядов, стоят вражеские солдаты. Да и присутствие знакомого и близкого человека, как ей казалось, делало нахождение здесь не таким уж опасным. Немцы между тем ждали ответа. Но уже не от Розы, нет. Они ждали ответа от этой русой и милой с виду женщины, пусть и славянки, но которая не побоялась прийти сюда и стать рядом с еврейкой. Смелый и, казалось, безрассудный поступок произвел впечатление на них, и они не стали чинить препятствий, когда женщины заговорили между собой на непонятном для них языке. Дуня довольно быстро смекнула, что теперь именно от нее немцы ждут объяснений. Потому-то она и сказала Розе, чтобы та незаметно уходила к веремейковским бабам. Но Дуня не возразила немцам сразу, что Роза, мол, не еврейка, сначала и ее это сбило с панталыку — чего-чего, а такое про Розу и выдумать трудно. Думала, немцы, с жиру бесясь, и правда кинулись поразвлечься. На деле-то выходило иначе. — Нет, пан, Роза не юда, — наконец сказала Дуня, глядя в нетерпеливые глаза высокого немца сквозь стеклышки его очков. — Она не еврейка. Она наша. Мы же из одной деревни, дак и она белоруска, как и все мы там. Нет, пан, Роза… Она еще не успела договорить, как увидела: чьи-то руки с засученными по локоть рукавами потянулись к Розе, готовые вцепиться ей в курчавые, схваченные на затылке коричневой ленточкой волосы, снова зашумели, даже закричали кругом непонятными голосами солдаты; Дуня от этого содома спохватилась и сразу же поняла, что ее слова получили обратное истолкование. Еще не зная точно, в чем дело, она попыталась загородить собой подругу и прежде всего изо всей мочи, на какую хватило замаха, шлепнула немца по рукам. — А лю-юдочки, што же это ро-обится! — вслед за этим в бессильном отчаянии завопила женщина, словно надеялась на близкую помощь. Но помогать было некому, даже если бы кто и решился, — кроме веремейковских баб, которые все стояли толпой на дороге, на этой улице, занятой немецкими солдатами и грузовиками, не попадалось на глаза ни одной родной души. Те же обнаженные руки, что не дотянулись до Розы — они только качнулись вниз от удара женщины, — не меняя направления, ткнулись Дуне в грудь, и Дуня почувствовала, как цепкие пальцы сгребли шелковую кофту, сдирая ее и заголяя спину. До сих пор Дуня делала все словно бы по наитию, подчиняясь только коротким импульсам, которые, пожалуй, были результатом бессознательного протеста — еще бы, обижали соседку! — а тут сообразила вдруг, что опасность нависла над ней самой. Моментально она вся напряглась, налилась непритворной, уже настоящей злостью и крепко ухватила немца за запястья скользких, пропитанных бензином рук, подержала их в одном положении, будто еще не совсем веря, что одолеет мужчину, потом мощным толчком оторвала от себя, даже отлетели эмалевые пуговицы с кофты. Теперь, когда он не пригибал ее голову книзу, Дуня увидела лицо немца, и прежде всего багровую, в палец шириной полосу под левым глазом, наверное, след ожога — либо в детстве опекло молокососа чем-то, либо уже теперь, на войне, зацепило, потом глаза, мутные и тяжело опухшие, слезливые, как у пьяного. Казалось, этого отпора хватало, чтобы немец оставил ее в покое. Но где там! Тот не собирался отступать. В следующий момент он снова потянул к ней голые по локоть, с растопыренными пальцами руки, целя в полураскрытую грудь, на которой она не успела запахнуть кофту. Тогда Дуня решилась на самое простое, к чему обращаются в крайнем случае все женщины: с омерзением плюнула в лицо насильнику. Но это было уже, как говорят в таких случаях, слишком. Даже немец в очках при всей своей солидности и тот подался назад, боясь, что если не одумается и не угомонится эта женщина, то следующий плевок получит он, как близстоящий. — Фэстнемен![37] — крикнул он срывающимся голосом и для верности поднял ладонь, надеясь заслониться хоть так. Дуня больше на защищалась и не нападала сама. Казалось, у нее иссякли силы и она уже не способна на сопротивление. Она позволила двум немцам, которые бросились к ней по только что услышанной команде, заломить себе руки за спину, а сама, стыдясь, придержала подбородком на груди кофту. Немцы, подталкивая друг друга то плечами, то спинами, тут же расступились, образуя в толпе проход, а те два солдата, что заломили за спину Дуне руки, толкнули ее вперед и повели по этому проходу. Не остались на месте и остальные, составляющие до сих пор толпу. Они тоже с неспокойным гулом двигались вслед целой процессией. В результате на некоторое время немцы забыли про Розу, и она осталась на обочине дороги одна. Стояла и с ужасом смотрела, что же будет с Дуней. Вот немцы наконец довели Дуню до крайнего грузовика и, хотя там была металлическая ступенька, откинули и задний борт. Дуня освободила руки, видно, ей уже не мешали это сделать, оглянулась по сторонам, будто прощалась со всем, что вокруг, потом поставила колено на край откинутого борта и, хватаясь за дно кузова, полезла в середину, под тент. За ней легко вскочили и те два немца, что вели ее. Они сразу заслонили собой Дуню, и Роза, сколько ни поднималась на цыпочки, не могла увидеть подругу. За себя Роза не боялась. У нее почему-то было такое впечатление, что нелепость, которая приключилась с ней, больше не повторится и что немцы оставили ее в покое сознательно. И вообще по простоте душевной Роза склонна была думать, что все-таки напрасно Дуня этак неразумно повела себя, в конце концов, она бы, Роза, и сама постепенно как-то освободилась из неожиданной западни. Мало ли что выдумать можно, если судить о человеке только по внешнему виду. На самом-то деле никакая она не еврейка, значит, мол, и бояться нечего. Бедняге и невдомек было, что одно только имя — Роза, которое, ничего не подозревая, произнесла ее соседка, взорвало немцев окончательно. Не догадывалась и о том, что пройдет всего несколько минут и немцы спохватятся, снова вспомнят про «юдин», потому что поступок, который совершила Дуня, кинувшись защищать ее, будет рассматриваться как недопустимый криминал — сопротивление вермахту и сознательное сочувствие евреям… А пока про Розу еще не вспомнили, она стояла себе на месте, словно покинутый осенней стаей подранок. Роза слышала, как уже несколько раз несмело, будто в кулак, окликали ее веремейковские женщины, толпящиеся в отдалении, за перекрестком, но почему-то даже не поворачивала в их сторону головы, словно боялась, что ее начнут корить там да виноватить во всем. Может, как раз это чувство и подсказало ей в конце концов поступить иначе — пойти не туда, куда звали ее, а наоборот, направиться к грузовику, где сидела под охраной Дуня Прокопкина. Медленно и непроизвольно, будто не в своем уме, молодая солдатка перешла с обочины на дорогу, потом ближе к забору. Когда наконец она оказалась на полпути к грузовику, ее окликнули из огорода — просто взяли да выкрикнули что-то совсем невнятное да кашлянули, видно, только чтобы привлечь внимание. Роза поняла это, бросила быстрый взгляд за забор. Там за редкими зелеными кустами, похоже, садовой малины, прячась, стоял человек. Видно, здешний житель, хозяин дома, что по левую сторону улицы от перекрестка был вторым по счету; дом стоял в тени старых лип, на которых висели прикрепленные к стволам, обвитые берестой круглые ульи. Озираясь, человек манил Розу пальцем. — Ты что ж это делаешь? — начал он торопливым полушепотом, когда Роза подошла по его знаку к забору. — Утекай, покуда не поздно! Утекай, девка! То ли этот шепот вывел ее из душевного оцепенения, то ли он стал отправным толчком, даже не толчком, а тем психологическим моментом, которого она сердцем, может быть, неосознанно ждала, однако Роза вдруг метнулась к самому забору. Замерла перед ним на миг, а потом ухватилась обеими руками за верхнюю перекладину. Перелезла она через забор по-женски, не прыжком с маху, как это делают обычно мужчины, а переступая ногами по каждой жердочке вверх. Немцы в это время, видно, заняты были разговорами о том, что произошло, поэтому Роза без всякой помехи оказалась по ту сторону забора и, подхватив левой рукой подол широкой юбки, побежала по огородной борозде, забыв даже про человека, который, собственно, подсказал ей путь к спасению. Бежала она неловко, цепляясь за картофельную ботву, которая оплетала борозду, к тому же огород покато спускался к улице, и бежать все время приходилось в гору… Вскоре Роза почувствовала во рту нестерпимую горечь. Ей бы в самый раз остановиться, чтобы хоть перевести дух, а она все бежала и бежала. Наконец одолела пригорок. Думала, по ровному уже будет намного легче убегать, однако сразу за холмом начинался чей-то другой огород, хоть и без забора, да вспаханный поперек борозды, по которой до сих пор она быстро двигалась. Горечь, которая сперва словно бы заполнила только грудь, теперь пропекала насквозь все нутро, а сердце, казалось, вот-вот пробьет сбоку грудную клетку, вырвется оттуда испуганной птахой. Ноги сделались непослушными, не то что онемели или подкашивались от усталости, просто их мозжило, будто перед этим она несла на себе громадную тяжесть. Роза еще пробежала немного вдоль борозды, повернув на новом огороде вправо, потом заставила себя остановиться. Солнце как раз висело над тем пригорком, по которому Роза только что взбежала сюда. Теперь он заслонял всю местечковую улицу, где стояла немецкая колонна. Можно было надеяться, что немцы тоже не могли видеть ее оттуда. Но там же посреди улицы остались веремейковские бабы!.. А где-то в грузовике сидела Дуня Прокопкина, которая одна теперь должна была отвечать за все!.. Роза только представила, что может случиться по ее вине, и задрожала в отчаянии и, ослепнув от горючих слез, бухнулась ничком в борозду. Хотя она и сознавала свое бессилие, и понимала, что мало может сделать, однако в душе решила не прятаться долго тут, на этих незнакомых огородах, ей казалось, она только полежит немного в сторонке от всего этого, а потом вернется назад, на улицу, пускай уж что будет, то и будет!.. Да и по отношению к Прокопкиной Дуне надо было вести себя пристойно, та ведь не испугалась и не думала о себе, когда бросилась на выручку ей!.. Шли минуты, а Роза лежала неподвижно в борозде, словно не могла даже приподнять над землей свое непослушное, негнущееся тело.Между тем немцам наконец-то понадобилась так неожиданно пойманная «еврейка». Но на обочине ее уже не было. Тогда они бросились искать Розу по дворам по обе стороны старого тракта. Рассыпавшись по трое, по четверо, озабоченные солдаты врывались с решительными лицами в дома, шарили повсюду в хлевах, заглядывали в погреба. Напрасно — Розы нигде не было. Единственный, кто мог что-то конкретно сказать о ней, тот человек, который недавно наблюдал с огорода, из-за зеленых кустов, исчез из малинника сразу же, чуть ли не следом за Розой, только он не побежал далеко, а вернулся к себе в дом. Из окна ему было видно все — и как немцы вскоре засуетились кругом, ища пропавшую «еврейку», и как деревенские женщины, что пришли в Яшницу, сговаривались о чем-то на дороге. Он только удавился, почему эти женщины все еще не разбежались, стоят да пялятся, ровно глупые овцы, на немцев. Известное дело, удавиться чему попало не очень трудно, особенно если есть для этого повод. Но если раскинуть мозгами, то понять веремейковских женщин тоже было можно — куда уйдешь отсюда, если двум землячкам угрожает опасность? Конечно, они не знали, чем именно могла грозить и Дуне, и Розе эта история, ведь никто из женщин не видел даже краем глаза, что случилось, все запомнили только, как сперва дурашливый немец изловил возле забора и силой повел за руку через дорогу Розу, потом на выручку ей отправилась Дуня… И вот теперь не было ни Розы, ни Дуни!.. Правда, Дуня в грузовике. За это уж веремейковские женщины ручались. А Роза так и совсем пропала, похоже было, что или убежала, или спряталась где-то поблизости, только никто не заметил, как ей удалось сделать это: немцы, казалось, вообще забыли о ее существовании, а веремейковские, убедившись, что она не откликается ни гласом, ни воздыханием на их зов, стали наблюдать за немцами. Немцы действительно некоторое время вели себя спокойно, будто у них и мысли не было о недавнем инциденте. Мол, вообще ничего не случилось, и Дуня Прокопкина попала в грузовик по доброму своему согласию, ей-богу, можно было подумать: уговорили немцы ее поехать куда-то вместе, будто казаки ту Галю молодую… Но вот откуда-то от головы колонны прибежал к перекрестку унтер-офицер, тот самый немец в очках, что допрашивал сначала Розу, потом Дуню, и у автомашин снова все пришло в движение. Было видно, как солдаты недоуменно завертели головами, заозирались вокруг, наконец забегали по улице. Унтер-офицер тогда обратил внимание на веремейковских и подумал, что «еврейка» за то время, пока он бегал докладывать о происшествии командиру роты, могла вернуться к своим. Солдаты между тем успели обыскать улицу и по ту и по эту сторону, перевернули все вверх дном в ближайших домах. К веремейковкам унтер-офицер подошел с двумя солдатами, одним из которых был тот Макс, что начинал недавнюю игру-забаву. Из-за него-то и заварилось все. Макс старался теперь больше всех — подскакивал к каждой женщине, внимательно вглядывался в лицо, вообще как-то очень уж мельтешил, будто чувствуя за собой вину. Унтер-офицер тоже словно не находил себе места — ему крайне необходимо было отыскать «еврейку» сейчас, сию минуту, ибо командир роты не захотел заниматься неожиданно возникшим конфликтом, да и некогда было, потому что кончалось отведенное на привал в этом местечке время. Командир приказал передать обеих женщин — и пойманную «еврейку», и ту, которая оказала сопротивление солдатам, — либо в штаб тылового района, где есть чины полевой жандармерии, либо прямо в здешнюю комендатуру, или даже полицию. — Вег![38] — наконец взбесился от всех этих неудач унтер-офицер, и Макс с другими солдатами кинулись распихивать автоматами веремейковских баб. — Вег! — Вег! — с каким-то тупым воодушевлением повторяли они, будто кнутом щелкали, короткую команду и все дальше отталкивали стволами автоматов женщин, пока не загнали в боковую улочку, узкую и короткую, обычный переулок, который соединялся где-то с другой, параллельной улицей. Опять, как и на том перекрестке, веремейковские солдатки сбились в кучу, но не шумели, стояли молча, только некоторые, более нервные и впечатлительные, тихонько всхлипывали да вытирали ладонями влажные подглазья. Вскоре стало слышно, как на перекрестке заурчали моторы, сразу же запахло дымом, который незаметно поплыл местечковыми огородами. Немецкая автоколонна наконец собралась двинуться дальше. Но женщины долго не смели пройти по переулку и глянуть вдоль дороги. Только когда шум отдалился от перекрестка и понемногу стихнул, те, кто побойчей, набрались храбрости дойти до того места, откуда в обе стороны просматривалась во всю длину улица. От перекрестка она шла в гору, круто горбилась в полукилометре отсюда и была пуста, только в придорожной канаве, как раз против того двора, где на липах висели ульи, валялся какой-то ящик. — Ну, что? — подошла к более храбрым и Анета Прибыткова. — Не видать, — не поворачивая головы к ней, а все глядя в ту сторону яшницкой улицы, где исчезли за пригорком немецкие грузовики, ответила Варка Касперукова. — Вот натворили бабы хлопот! — сокрушенно покачала головой Гэля Шараховская и схватилась руками за щеки, будто собиралась заголосить. — Ну, Дуню они увезли, — имея в виду немцев, вслух рассуждала Варка Касперукова. — А где же Роза? — Дак, может, и Розу тогда повезли с собой? — будто спросила у самой себя задумчиво Фрося Рацеева. — Навряд ли… — усомнилась Анета Прибыткова. — Кто же это видел? — А кто их знает, — развела руками Гэля Шараховская. — Может, и увезли… — Дак почему тогда немцы забегали? — не переставала сомневаться Кузьмова невестка. — Вот и нас загнали сюда. Может, Розу искали? Нет, бабы, так не надо говорить. С Дуней — тут же, сдается, ясно, ее немцы забрали с собой, а Роза… — Анета дело говорит, — поддержала Кузьмову невестку Палага Хохлова. — Ей-богу, Розу немцы шукали, — уверенно поддержали и остальные. Варка Касперукова кивнула. — Это же если бы с нормальными людьми дело иметь. А немцы!.. Что они тебе скажут на своем языке? Да и ты им что в ответ молвишь? Одно только и слышишь — гер-гер… — Если уж так сошлось у нас, лучше бы и вовсе не идти сюда, — вздохнула, запечалившись, Анета Прибыткова. — В том Ключе тогда происшествие было, а теперь и здесь. Повернуть бы оглобли еще из Ключа, дак… — Дуня как чувствовала, не хотела идти… — Дак… — Анета постояла в задумчивости, потом и сама будто осуждать Дуню принялась: — Я тоже вам скажу, надо было вернуться. — Кабы знатье!.. — Ага, если б знать! — загоревали женщины. Однако стоять в переулке и долго рассуждать времени не было. — Ладно, бабы! — глядя из-под руки на солнце, остановила напрасные сетования Варка Касперукова. — Беду с вами теперь, в эту вот минуту, мы не поправим. Давайте думать, что делать дальше. — Надо поискать Розу… — Что Роза? — Варка нахмурила черные брови, которые на ее белом лице были какими-то чужими. — Роза, если что, если она и правда спряталась, выйдет, сама вскорости отыщет нас. Но что нам делать? Может, пока суд да дело, смотаемся к тому лагерю. Надо же поглядеть, там ли наши, чтобы после не думалось. — Тогда сделаем так, — распорядилась Анета Прибыткова. — Вы все идите к церкви, вон, видите, маковки торчат, дак вы зараз идите туда. Лагерь где-то возле церкви. А я тем часом тут побуду. Может, Роза откуда и вынырнет. Не сидеть же ей до самого темна в укрытии. Дак я и приведу ее сразу же к вам. И про Дуню она все скажет. Только высматривайте, бабы, уж и моего там, может, и мой случится, дак передайте, что я с вами пришла. — Нет, — строптиво замахала руками Варка Касперукова, — не дело ты сейчас говоришь, девка! Надо вместе держаться. Либо тут останемся все, либо, наоборот, туда пойдем разом. А то порастеряемся в этой Яшнице и знать после не будем, кто где. Хватит уж и того, что Дуни с Розой нету. А теперя ты вот что-то вздумала. Чтобы и тебе еще попасть в какую историю? Нет, Анета, и не думай! Пойдем с нами. Вот поглядим на тот лагерь, по шукаем своих, а тогда уж кинемся по всем следам. Не вертаться ж нам без баб в Веремейки. Сколь сирот сразу наделаем! У Дуни двое заплачут в хате, у Розы тоже… Но Анета не трогалась с места. Тогда Варка Касперукова положила ей руку на спину и легонько подтолкнула. — А ма-а-амочки мои-и! — чуть не заплакала Анета. — Цыц! — строго сказала ей Варка, словно бы и вправду обеспокоившись, что солдатка начнет вопить. — Слезами горю не поможешь. Может, еще все обойдется. Я вот только думаю, зря Дуня сама пошла к немцам. Роза бы и одна выпуталась. Ну, подурили бы трохи, а там и отпустили. — А я думаю, — еще больше скривилась Кузьмова невестка, — это мы виноваты. Если бы пошли на выручку все разом, а не одна Дуня, дак… Может, и не случилось бы такого. — Думаешь, мне не жалко наших баб? Думаешь, одна ты такая жалостливая да хорошая? — Всем нам жалко их, — вздохнула Варка Касперукова. — Но что теперя поделаешь? И вообще, кто знает, что теперя делать? Ну, будем блукать по местечку да виноватых искать, а потом что? Нет, лучше мы зараз вот сходим к тому лагерю, поглядим мужиков, а после уж прикидывать станем, что к чему. Лагерь военнопленных в Яшнице действительно был возле церкви, точней, в самой церкви, давно непригодной для службы. Но яшницкую церковь окружала еще и старая ограда, поэтому лагерем называлось все вместе — и церковное строение с дырявой крышей, и огороженный церковный участок. Рядом раскинулась базарная площадь. В центре местечка на улицах уже попадались люди, по всему, здешние, яшницкие жители. Но никто из местных не пялился на большую толпу чужих женщин, такое теперь было не В диковину. Площадь от края до края была пуста, и перед теми, кто бывал здесь раньше, она предстала такой, пожалуй, впервые — в базарные дни тут иной раз было не протолкаться, вечно полно народу, а также возов, на которых доставляли в местечко в деревянных ящиках гусей, свиней да другую домашнюю живность на продажу. В окнах домов, которые пристройками тесно соседствовали друг с другом, отражалось розовыми бликами солнце, которое садилось сегодня как раз над старым, поросшим кривулями-вербами валом, насыпанным еще в Северную войну, когда в этих местах Петровы войска отбивали от Московии шведов. Более чем за двести лет вал почти сровнялся с площадью, и только по старым вербам угадывались прежние очертания его. Двуглавая кирпичная церковь, которая снаружи напоминала скорей костел, возвышалась с южной стороны базарной площади, поэтому солнце освещало ее от поблескивающего мрамором кладбища до конических куполов, на которых блистали ажурные, словно сплетенные из проволоки, кресты. Ограда вокруг церкви была как кирпичные соты, и сквозь них просматривался церковный двор, по которому лениво, будто монахи, слонялись пленные в красноармейской форме. В далеком углу ограды, там, где через дорогу жались местечковые дворы, была поставлена наблюдательная вышка, сколоченная из досок и поднятая на деревянных сваях. На вышке стоял и смотрел на веремейковских баб часовой с наведенным на площадь пулеметом. Солдатки на мгновение замешкались посреди площади — идти или не идти дальше, — но все-таки побороли робость, которая возникла при виде этой вышки и вооруженного часового. Подходили они к лагерю, осеняя себя крестом, будто и на самом деле в мыслях теперь ничего не было, кроме церкви этой да господа бога. Между тем пленные тоже заметили новую толпу деревенских баб, кто-то даже крикнул об этом на весь двор, и из церкви сразу же высыпали люди в красноармейской форме. Все они — и те, что болтались до сих пор по двору, и те, что ютились в церкви, — кинулись навстречу женщинам, к ограде. Пока женщины пересекали площадь, подходя ближе, с той стороны ограды успели выстроиться чуть не все обитатели лагеря. Их было не много, сотни две. Давно не стриженные и не бритые, истощенные, хоть и не до такой степени, чтобы не держаться на ногах. Дело в том, что в Яшницком лагере пленных кормили для поддержания сил, чтобы не только жили здесь, на этом церковном дворе, но и ходили на работу — на лесопилку, на большак, где всякий раз приходилось засыпать все новые и новые рытвины да выбоины от гусениц и колес, на лесоповал. К тому же и сам здешний лагерь был невелик. Словом, у. этих пока еще неплохо держалась душа в теле. Но глаза у всех, на кого ни глянь, были печальные, как у настоящих узников.

Немецкий часовой на наблюдательной вышке свободно допустил веремейковских женщин к самой ограде, где по другую сторону стояли военнопленные, и можно было сразу сделать вывод, что такое здесь происходило часто, по крайней мере уже не первый раз. На некоторое время женщины и пленные, казалось, вообще были оставлены без внимания. И только через несколько минут из небольшого домика, где раньше, наверное, помещалась церковная утварь, вышел немецкий солдат с овчаркой на поводке и автоматом на груди. Он тоже не стал отгонять женщин. Сдерживая нетерпеливую овчарку, молча и неторопливо похаживал мимо припавших к ограде женщин. А те в это время, пока их никто не трогал, совсем расхрабрились — перебегали с места на место, чтобы лучше видеть лица пленных, окликали. Прежде чем назвать своего Ивана, Барка Касперукова громко спросила: — Из Веремеек есть кто у вас? Может, Пармен Прокопкин или Иван Самусев? — Она заботилась о товарках, которые не дошли до лагеря. — А Касперук Иван? Есть Касперук или нет? Говорю, из Веремеек есть у вас кто? Но веремейковских мужиков в Яшницком лагере не было. Тогда Прибыткова Анета начала допытываться у каждого, чей бы взгляд ни поймала: — Может, встречал наших? Веремейковских? Наконец один, высокий и узкоплечий, с аккуратной черной бородой, видно сжалившись, сказал: — Тут местных нет. Приходили такие, как и вы, женщины и забрали своих. Хотя, в конце концов… Почему ваши должны быть в лагере? Может, воюют? Вам кто-нибудь сказал, что они в плену? — Нет, никто не говорил. — Так почему тогда ищете? — Ну как же… Это ж… мужики наши! Кто другой об них позаботится? — Но сами видите, — подождав немного, сказал пленный, — ваших здесь нет. Как вы говорите, веремейковские? — Ага. — А фамилии? Как фамилии мужей ваших? — Моего, например, Прибытков, — с новой надеждой ответила Анета. — Иван Прибытков. И Тимофей Прибытков. Это брат мужа моего. А ее, — Анета поглядела на Палату Хохлову, что стояла рядом, — ее мужа тоже Иваном зовут, Хохол фамилия. Иван Хохол. Может, встречали? — Нет. — Дак, может, на войне? — уточнила Анета, будто надеясь, что пленный еще что-нибудь вспомнит. — Нет, Прибыткова я не встречал. — А Хохла? — спросила в свою очередь Палага. Пленный после этого повернул голову направо, налево и громко спросил: — Тут спрашивают: Ивана Хохла из Веремеек не знает кто? — И, не дождавшись ответа, посочувствовал: — Видите, не встречали. Между тем заключенные, утратив интерес к веремейковским бабам, — мол, даже никаких харчей с собой не принесли, — начали понемногу расходиться в разные стороны. И тот пленный, что сочувственно разговаривал сперва с Анетой Прибытковой, а потом с Палатой Хохловой, тоже старающейся хоть что-то выведать о своем муже, собрался было уже уйти, однако задержался и вдруг с любопытством спросил: — Веремейки? Где это Веремейки ваши? — Дак… За Хотимском, туда, — ответила ему Палага. — Как раз отсюда на Белынковичи треба, а потом аж до Малого Хотимска. — Далеко? — Да верст около сорока, считай, будет. — Так, — сказал словно про себя пленный. Тогда не удержалась Анета Прибыткова: — А сам-то откуда будешь? — Я нездешний, — усмехнулся пленный. — Я из Москвы. — А-а-а, — покивала головой Анета, будто понимала больше того, что было сказано. — И сколько ж вам тута, в этой церкве, сидеть придется? — Видимо, до конца войны. Хотя… Вот если бы кто из вас сказал немцам, что я… Ну, что я тоже чей-то муж. Такой поворот в разговоре был совсем неожиданным, поэтому Анета Прибыткова даже смешалась. Зато Палага Хохлова вдруг внимательно посмотрела на человека, словно примеряясь. Наконец виновато улыбнулась. — Дак… Мы, сдается, не пара один одному. Хоть ты и с бородой, но по глазам вижу — молод. Вот если бы Анета? Услышав это, Кузьмова невестка ойкнула и всполо-шенно замахала руками. — В своем ты уме, Палага? Как это я при живом мужике да назову другого? — Она даже не смела теперь посмотреть в ту сторону, где стоял за кирпичной оградой пленный. Палага тоже поняла, что зря так легко сватает солдатке незнакомого мужчину. Но перевести все на шутку и отделаться этим тоже не хотелось, потому что человек не шутил, просил всерьез. И она поэтому подошла к остальным спутницам, затеребила их, шепча чуть ли не каждой на ухо и показывая то кивком головы, то прямо пальцем на пленного. Глянув в ту сторону, солдатки, как и Анета Прибыткова, ойкали от внезапного предложения, словно Палага подбивала их на что-то стыдное. — Надо же как-то помочь человеку! — наконец возмутилась та. Потеряв надежду уговорить кого-нибудь из своих, она тем не менее обнадеживающе махнула рукой пленному, мол, не горюй, все равно выручим, потом повернулась к охраннику, который, будто не обращая внимания на женщин и на пленных, шагал неподалеку с овчаркой на поводке. — Пан, — начала она просить его, хватая за рукав, — тама муж мой. Вон стоит. Отдайте мне его. — О, гут, гут! — Немец с любопытством подошел к ограде, посмотрел сквозь кирпичную соту на пленного, затем окинул прищуренным глазом с головы до ног Палату и тут же брезгливо усмехнулся: слишком очевидной была разница в возрасте, чтобы принять их за мужа и жену; но спросил: — Ист эс дайн зон?[39] — Да, муж, да, — не поняла его Палага и для большей убедительности замахала сверху вниз обеими руками. — Найн, найн, матка, — почему-то игриво возразил охранник. — Кайн ман. Матка люгт. Матка ист нэ думэ ганс[40]. — И равнодушно, совсем не обозлившись, что его собирались обмануть, зашагал в противоположную сторону вдоль ограды. — Благодарю вас, — виновато сказал сердобольной женщине пленный и грустно улыбнулся. — Это мы напрасно с вами затеяли. — А родненький мой, чем же помогли тебе еще? — чуть не завыла сбитая с толку Палага. — Ничего, спасибо и за это. — Хоть бы хлеб был какой при себе, дак и того нема, — все хотела сделать что-нибудь доброе душевная женщина. В этот момент со стороны церкви показался другой немец, но без собаки, и что-то громко закричал. Пленные, кто еще стоял у стены, начали оглядываться на крик и отходить На середину двора. Пора было что-то решать и веремейковским бабам — никто здесь не встретил ни мужа, ни брата, ни свата… — Может, и правда наши в Кричеве… Сказала это Варка Касперукова, но подумали так все солдатки. Однако идти в Кричев отсюда никто из них не рассчитывал — во-первых, неблизкий путь, а во-вторых, никакой гарантии, что окажется там кто-нибудь из Веремеек… — А мы думали, тетка, — глядя насмешливыми глазами на Палату, вдруг словно бы вспомнила про неудачное «сватовство» Гэля Шараховская, — что ты… словом, что тебя отсюда силой под руки уводить придется. Думали, не расстанешься со своим москвичом. Странно, но даже в сегодняшних приключениях настроение у веремейковских солдаток менялось, как погода в неустойчивый день — уже, кажется, и ждать нечего, а она вдруг то солнцем блеснет, то дождиком прольется. Последние слова Гэли Шараховской потонули в хохоте, словно женщины, все без исключения, только и ждали этой шутки. Палага тоже не обиделась на них. Только, напустив на себя строгость, сказала: — Вам только бы одно… Тем временем на базарную площадь понемногу опускались сумерки, об этом говорили длинные сплошные тени с неровными краями, что стлались понизу от местечковых домов через всю площадь до мощеной дороги мимо церкви. — Пойдем-ка мы, бабы, по домам, — задумчиво, даже мечтательно промолвила Фрося Рацеева. — Ага, подомам!.. — вдруг заторопились остальные и зашумели так, будто не зашли сегодня в несусветную даль, а были где-то у Веремеек, на близких пожнях. Между тем вряд ли хоть одна из них забыла, что еще днем сговаривались все Заночевать в Тростине. Там осталась Анюта Жмейдова и теперь, конечно, ждала их, чтобы после вместе идти ко дворам. Но со времени этой договоренности много что изменилось. Уже не было с ними Розы Самусевой, Дуни Прокопкиной… И, хотя никто из женщин не знал, какой из этого положения можно найти выход, чувство вины не покидало их, особенно теперь, когда вплотную заговорили о доме, будто они и не собирались делать для своих односельчанок, попавших в беду, даже того, что было в их силах. А по силам могло быть каждой, так же как и всем вместе, многое, надо только было. поискать как следует по Яшнице Розу, если та вправду убежала, да узнать наконец, куда увезли немцы Дуню Прокопкину. Однако тут имелась и своя опасность — хождение в такую пору по местечковым улицам да еще деревенской гурьбой наделало бы лишнего шуму, совсем нежелательного, ведь кто знает, какие осложнения могут выйти, кто может поручиться, что снова не прицепится к ним какая-нибудь дрянь. Верней всего, конечно, было бы отправиться сегодня в Тростино, переночевать там, а завтра вернуться в Яшницу. — Если Роза и вырвалась, дак теперь уже где-нибудь возле Веремеек, — раздумывала вслух Фрося Рацеева. На этот раз ее поддержала одна Варка Касперукова: — Может, и не возле Веремеек, а вот за Тростином, дак это уж да. Не будет же она ворон по дороге ловить, раз задала деру! Некоторые женщины тоже добавили неуверенно: — Да уж так… — А в Кричев завтра не пойдем? — осуждающе посмотрела тогда на Варку Анета Прибыткова. — Сама ж говоришь, может, наши там! Варка на это не откликнулась. Зато Палага, вдруг тихо засмеявшись, сказала: — А я так думаю себе, что мой Иван воюет. Правду говорит тот москвич: почему это все солдаты должны в полоне оказаться? — Ну, ты, тетка, теперя со своим москвичом… — А что? — Дак… — А я и правда думаю, мой Хохол где-то воюет. Это ваши… Вашим что, молодым! Абы скорей к женке молодой под крылышко. А воюют нехай старшие. — Ну, ты на наших, тетка, тоже не наговаривай. — Дак пойдем завтра в Кричев ай нет? — снова подала голос Анета Прибыткова, но теперь понастойчивей, будто раздраженно, так что не услышать уже нельзя было. — Утро вечера мудреней, — ответила ей, вздохнув, Палага. — Треба ночлега искать, вот что я скажу вам, бабы, разве поспеем мы добегчи до того Тростина? — И правда ведь, Анюта дожидается… — обеспокоилась Фрося Рацеева. — А Роза? — Покличем и Розу. — Что кликать? Надо искать! — Где ж ты теперя ее углядишь? — Ага, темно делается. — Пойдемте, пойдем!.. Переговариваясь так, веремейковские женщины и не заметили, как перешли снова базарную площадь.
XI
Вместе с медленно остывающим солнцем остывала и жара. Зазыбе, который шагал через дубраву к Беседи, хотелось знать, где нашел приют Чубарь. А в том, что Сыркин тогда в местечке говорил правду про него, сомневаться не приходилось, к чему было тому выдумывать? Лучше, конечно бы, подождать дома, покуда председатель подаст знак, объявится каким-то образом сам. Но раз уж запало Зазыбе в голову, так он и не переставал прикидывать то так, то этак. Подмывало дойти своим умом и до другого, тоже по логике связанного с этим: почему вообще вернулся Чубарь, какая причина тому? Размышляя, Зазыба постепенно пришел, к выводу, что председатель, не иначе, махнул в Мамоновку к Аграфене Азаровой — там, в поселке, не очень людно, а хата Аграфены стоит чуть ли не в самом лесу, только подойди из-за деревьев к окну да постучи в стекло. Ну, а если Чубарь до сих пор и не объявился в Мамоновке, не будет большой ошибки, если Зазыба даст сегодня крюка, чтобы попасть через рум[41] в поселок: в конце концов, как он понимал это дело, Аграфена теперь недолго останется в неведении насчет Чубарева появления и тогда в любую минуту можно будет связаться с председателем через нее. Вода в Беседи показалась Зазыбе чересчур холодна, будто у него давно были застужены ноги, хотя, что говорить, ей и на самом деле пришла пора становиться холодной, недаром в народе пословица: придет Илья, принесет гнилья, да и воду остудит; как раз по этой причине после Ильина дня здешние старожилы обычно не купаются. По-журавлиному переставляя ноги, Зазыба быстро перековылял на другой берег, потом сел на ивовый куст, который рос прямо на белом, словно перетертом песке, и обул сапоги. С берега отсюда открывалась большая излучина, проложенная рекой, а на ней рум — место, откуда плотогоны по высокой воде сплавляли плоты в Сож. Рум этот заложен был здесь очень давно, даже Зазыбов дед Михалка помнил его в своем детстве, и, пожалуй, не с тех ли еще времен стояли здесь две, теперь уже сгнившие избы, в одной из которых под закопченной крышей помещалась сплав контора, в другой жили — долго ли, коротко, как кому выпадало — сплавщики из дальних деревень. Местные мужики раньше охотно хаживали сюда на промысел: тогда, во время сплава, как раз наступали свободные от работы по хозяйству деньки — весной, пока не начинали сеять сплошь, и осенью, когда с основными полевыми работами, за исключением молотьбы, было покончено. Раза два гонял с отцом плоты и Зазыба. С тех пор он помнил весь процесс сплава, исполненный и романтики, и отчаянного риска. Начинался обычно сплав тем, что из лесу зимой трелевали сюда на рум срубленные и уже ошкуренные при помощи скобелей бревна, которые к тому времени успевал осмотреть бракер, чтобы потом не попалось под пилу гнилое или кривое бревно. Трелевали из лесу сюда также и готовые брусы — для железной дороги, шахт, приисков. Особенно много вытесывали шпал для железной дороги. Брусы, из которых получалось по одной шпале, называли швелями, по две — шлифрами, по три — тимборами. На руме доставленные бревна обычно складывали в шлихты, которые достигали двух метров в вышину и более четырех метров в ширину. Шлихты эти сдерживались подпорами и даже — а вдруг половодье зальет рум! — стягивались толстой проволокой. Весной, когда река входила в берега и вода слегка теплела, сплавщики принимались вязать плоты. Один конец длинной, чуть ли не в двадцать метров, ваги укреплялся на берегу, другой — на середине реки поперек течения. Затем мужики начинали расталкивать баграми бревна со шлихтов. Чтобы легче было катить от берега к воде, под низ подкладывали лягеры — три-четыре простые жердины. Подпихивая бревна шестами, спускали их на воду, упирая комлями в закрепленную вагу. Теперь, как правило, вяжут бревна в плоты проволокой. Но Зазыба помнит, как они с отцом вязали свои плоты гужбой — веревками из ивового лыка, которые иные называли карделями. К концу лыковой веревки крепился кнепель, попросту деревянный клин, который протаскивался под каждой из двух ту блей, перекинутых поперек плота сзади и спереди. Такой плот обычно складывался из двадцати и более полос, накрест связанных между собой шворой, сделанной из той же гужбы. Когда плот наконец был связан, сзади на него прибивали ящичек с валом, на котором крепилась длинная ширага — заостренное снизу бревно, чтобы можно было при необходимости тормозить или совсем останавливать плот. На первой полосе с самого переда ставилась для управления опачина, сплавщицкое весло, которое имело метра четыре длины. Но на этом оснастка плота не кончалась, потому что без борборов, что привязывались по обе стороны его, нельзя было долго держаться у берега. Ну, и, конечно, не забывали плотогоны про шалаш, рядом с которым ставился ящик с песком для костра. Особенно запомнился Зазыбе тот случай на сплаве, когда они с отцом гнали по Беседа большой, чуть ли не на тридцать полос, плот уже глубокой осенью. Плот они связали сами. И отец тогда трелевал бревна для него. А вот почему тот плот простоял лето у берега Беседа в воде, Зазыба теперь уже не помнил. Кажется, вышла какая-то неуправка в хозяйстве. Одним словом, пришлось гнать им плот глубокой осенью. Когда подплывали к Сожу, в устье Беседа сплошь уже блестел на солнце припай, а посередине реки — то впереди плота, то сзади него — шла по течению шуга, готовая каждую минуту остановиться, столкнувшись с каким-нибудь препятствием, чтобы тоже превратиться в лед. Задержись они с отцом на день-два здесь, на руме, или случись какая заминка в эту пору в дороге — и все, зимовал бы плот, вмерзши в реку, покуда не освободился бы из ледяного плена весной. Однако главные мытарства начались потом — на приемном пункте отцу почему-то не заплатили денег, сказав, что получит расчет за пригнанный плот в сплавной конторе своего рума. И они возвращались чуть ли не из-под Гомеля в Веремейки пешком уже зимой, безденежные. Пришлось побираться от деревни к деревне, потому что харчей, которые они взяли с собой из дому, хватило только в одну сторону. Как раз этим-то и запомнился Зазыбе тот сплав. Сперва отец, стесняясь просить, объяснял людям, кто они такие с сыном, по-крестьянски обещал за обед или за ужин отблагодарить после, когда доведется в новый сплав попасть в эти края. Но потом понял, что зря объясняет, все равно их принимали за нищих. Как только бедняга понял это, идти стало легче: никто ни на что особенно не рассчитывал, только бы хоть и заплесневелого, а хлеба кусок в торбе не переводился да ночевать пускали. Совпало так, что в Веремейки они пришли к ночи. Однако им и хотелось объявиться в деревне тайно, без лишних свидетелей, потому что на обоих жалко было смотреть — одежда совсем не по погоде, обутка стопталась, да и завшивели они… С постройкой железной дороги Унеча — Орша сплавное дело в этом месте Беседа захирело — во-первых, само строительство, пока оно велось, потребовало много леса, а во-вторых, железная дорога дала новый способ перевозки его на далекие расстояния. Во всяком случае, какое-то время леспромхоз работал только в одну сторону. Но незадолго до войны, без малого за два года, трелевка возобновилась на руме: как и в давние времена, когда рум закладывался, забеседский лес пошел за границу — сперва до Припяти в плотах по трем рекам, затем при помощи лесовозов в Буг, который стал пограничным. Напрасно было бы искать кого-нибудь на руме теперь. Даже дежурные, которым полагалось находиться круглый год здесь, и те еще до прихода немцев разбрелись по своим деревням. Сразу же за румом начинался лес — прямой пиловочник, если говорить языком таксаторов. Казалось, что некогда шумная дорога — к руму обычно и шли, и ехали — сегодня будет пуста на всем протяжении до Мамоновки. Ан нет. На втором километре пути Зазыба вдруг увидел волка. Совсем по-собачьи тот сидел при дороге, поглядывая навстречу. Не велик страх взрослому человеку увидеть в лесу волка, тем более одиночку, но Зазыба почувствовал, что в руках не хватает для такой встречи крепкой дубинки или хотя бы срезанного хлыста. Но уже через мгновение мысль об обороне отпала, Зазыба догадался: на обочине сидел волк, давно уже никому не страшный. Бессильный. О нем все знали в округе. Не каждому доводилось встречаться с ним вот так, как теперь Зазыбе, однако знать знали. Был он очень стар, беззуб и поэтому не нападал на скотину. Людям тоже нечего было бояться его, потому что волки, может, раз в десять лет нападают на человека, и то в глухую филипповку, во время своих волчьих свадеб, а этот вообще не способен был навредить кому бы то ни было — задушить жертву уже не хватало мочи, не то что загрызть. Трудно было представить даже, чем он кормился, небось только утиными яйцами на болоте, беспомощными, еще мокрыми после рождения зайчатами и прочим, что не могло убежать. Словом, про то, чем жил волк последние годы, когда занедужил от старости, знал, пожалуй, один бог да он сам. Совсем не сторонясь людей в своей немощи, наоборот, явно стремясь к ним, он, будто нищий какой, слонялся по округе и, видно, как все живое, способное хоть каким-то образом мыслить или вспоминать что-нибудь, с тоской перебирал воспоминания о прошлом. Прошлом!.. Кто на склоне дней своих не считает, что все в прошлом?.. Даже самый удачливый среди живых вряд ли осмелится сказать, что получил от жизни все, о чем мечтал. Да и кто остался доволен тем, что получил? Наконец, кому дала жизнь все то, что обещала вначале? Без опаски подходя к зверю, Зазыба глянул вблизи на волка и с грустью отметил незавидный его вид: клочья шерсти, в которую давным-давно, может, еще с прошлого лета вцепились репьи, когда он таскался где-то по выгону за деревней, висели грязными колтунами на облезлой шкуре, а в глазах — уже без прежнего хищного блеска — стоял гной, и бедолаге с трудом удавалось частым морганием отгонять прочь мошкару. Зазыба ужаснулся, сердце у него сжалось, будто он встретил не волка, а старого знакомца, может, ровесника, который внезапно напомнил ему своим присутствием на обочине лесной дороги что-то роковое и неизбежное. Но не заведешь ведь беседу с волком!.. Поэтому Зазыба, как бы стыдясь глядеть на невзрачного, совсем беспомощного зверя, заставил себя не смотреть в его сторону, прошагал мимо. Между тем волк тоже не остался сидеть на месте, двинулся следом — может, от одиночества, а может, от голода. Некоторое время Зазыба слышал позади мягкий топот его лап, но, поскольку шел быстро, волк вскоре отстал, наконец и топот его совсем затих. Не в этот ли момент Зазыба и вышел к озерцу, берега которого поросли ивняком и камышом, поэтому с дороги, охватывающей его подковой, не всякий мог углядеть зеркальную поверхность. Но в одном месте дорога все-таки подходила близко к берегу, там буйно рос раздвинутый на две стороны камыш, и в просвете, сквозь который блестела середина озерца, стоял источенный и потрескавшийся челн, словно обыкновенное корыто, которое выкинули со двора за ненадобностью. На челне этом можно было переплыть прямиком через озерцо, тогда бы сократился путь в Мамоновку, но на это, кроме желания, нужна была известная смелость: хоть и челнок, да дырявый. Сразу же за озерцом, уже совсем невдалеке от поселка, было место, которое знающие люди редко обходили. Мамоновский крестьянин, тот самый Боханек, который последним погнал в Орловскую область колхозных коров, спилил когда-то там, на краю болота, дубок, а через несколько лет вдруг обнаружил, что пень поднялся в рост человека. Не веря глазам, Боханек стал наведываться туда чаще — действительно, год от году пень вырастал, как живой. Тогда Боханек поделился своей тайной с другими. Удивленные мужики чесали в затылках, крутили головами, однако не удержались, чтобы не сделать на коре ближайшего дерева зарубки. И на следующий год убедились — пень и правда поднялся выше зарубки. Даже старики и те не слыхивали ничего подобного раньше — вот, мол, недаром когда-то предки наши поклонялись деревьям, а паче всего дубу, который считался святыней у Перуна, главного здешнего бога. Кто знает, может, Боханек как раз и попал на самый Перунов дуб, недаром теперь растет даже пень… Через некоторое время от этой дороги к «святыне» пролегла тропка, которая через болото вела дальше к поселку. Правда, ходить по ней можно было только в сухое лето. Но загадочная тайна растущего пня держалась до того часа, пока кто-то из румовских специалистов, покопавшись вокруг него с лопатой, не выяснил необычайно любопытную, если не единственную в своем роде, то уж, не иначе, редкую деталь: пень не останавливал роста потому, что корни его давно, еще до того, как Боханек спилил дерево, срослись с корнями соседней ольхи и продолжали питаться от них. Открытие это нисколько не уменьшило интереса к Перунову пню. Особенно потому, что близко по дороге был рум и там постоянно находились люди, которых тоже тянуло подивиться на чудо. Потревожив своим топотом в камышах красноклювых чирков, которые сразу, не сделав даже привычного круга, стремительно полетели куда-то на другую воду, Зазыба обошел озерцо. Уже слыхать было, как в поселке кто-то тюкал по высохшему дереву топором, потому что звук казался легким и звонким. Видно, близость поселка заставила Зазыбу снова подумать, почему вдруг вернулся Чубарь, что вынудило его, но в итоге были одни догадки, зато с какой-то тревожной назойливостью вспомнилось, как они поговорили в тот, последний день, когда явился председатель в избу к своему заместителю. И все-таки время, прошедшее с того дня, сделало свое дело. Неожиданно для себя Зазыба обнаружил, что рад в душе внезапному появлению Чубаря. Радость эта пока была неопределенная, ни на чем не основанная, но тем не менее уже жила в нем, давая надежду — несмотря на распри, которые случались между ними, Зазыба не сомневался в одном, теперь, пожалуй, самом главном: наконец-то будет не только с кем поговорить, а и обсудить условия, в которых при? дется действовать в оккупацию. О совещании у коменданта тоже стоит рассказать Чубарю, сам он не осмыслил еще этого как следует — странно, но всякий раз, как собирался Зазыба взвесить мысленно услышанное в волости, что-то выбивало его из равновесия, даже пугало. Самое последнее такое совпадение было совсем недавно, когда Зазыба нащупал в кармане бумажку, которую сунул ему в Бабиновичах Браво-Животовский, а он, в свою очередь, положил ее в карман. Это было обращение заместителя государственного комиссара восточного округа Фриндта, о котором говорил на совещании Гуфельд и которое комендант приказал развесить повсюду в волости — в местечке и в деревнях. Напечатано оно было на четырех языках — русском, белорусском, польском и немецком — в четыре длинных столбца и начиналось такими словами: «В интересах безопасности страны и неприкосновенности собственности и имущества жителей немецкими властями будет проводиться со всей строгостью борьба с бандами и группами террористов. Население призывается оказать этому действенную помощь». Далее в тексте шли один за другим пять пунктов, и почти после каждого из них жирными литерами было напечатано: «…будет расстрелян». Собственно, и военный комендант Крутогорского района, и комендант Бабиновичской волости уже действовали, исходя из этого обращения. Странно только, что обычный приказ назывался почему-то обращением! Чем глубже Зазыба вчитывался- в строчки, тем сильней, казалось, стыла в нем кровь. Но шальная мысль все-таки. мелькнула: видно, зря генеральный комиссар Кубе торжественно оповещал, что «прозвучал и смолк звон, оружия на Беларуси». Обращение, которое держал в руках Зазыба, свидетельствовало как раз об обратном — нет, не смолк! Чубарь действительно жил это время в Мамоновке. Выходило, Зазыба в точку попал, — мол, председатель перво-наперво отправится после странствий к Аграфене. Он и раньше чуть не каждый вечер наведывался в поселок, а теперь тем более не обойдет хаты, где всегда ему рады. Связь их — Чубаря и Гапки Азаровой — была бельмом на глазу у людей; собственно, осуждали их за то, что Чубарь начал похаживать к этой женщине вскоре после гибели ее мужа в финскую кампанию. Такое считалось великим грехом не только в деревне. Даже после того, как Чубарь заявил, что собирается жениться на Гапке, веремейковцы вкупе с кулигаевцами да мамоновцами не перестали за их спинами презрительно кривить губы — одни не могли простить им, что не подождали со своей любовью и года, когда Гапке строго полагалось носить траур по убитому мужу, другие же, пользуясь нарушением этого давнего обычая, просто злословили. Тем временем сами виноватые, казалось, не обращали внимания на чужие наговоры, считая их обыкновенными сплетнями. Вот уж правда, что любовь слепа!.. Чубарь пришел в Мамоновку утром, сразу же, как переночевал в лупильне. Когда он на рассвете выглянул из избушки> то был приятно удивлен — лосенок всю ночь напролет оставался на месте. Уж, тот сполз с порога и снова спрятался под доски, а лосенок лежал себе и, наверное, крепко спал, потому что голову поднял, только когда Чубарь затопал рядом. Увидев человека, он быстренько, будто испугавшись, вскочил на ноги, но прочь не отбежал. Бедняга за свою короткую жизнь столько претерпел обид от людей, а тут стоял и словно радовался, что не проспал, как малолетний пацан, которого отец пообещал взять с собой в поездку да показать что-то. Чубарь вдохнул полной грудью холодный воздух, зевнул, удивляясь, что еще со вчерашнего на небе брезжит луна. Идти в Мамонов ку надо было в обход Веремеек. Но дорога все равно по большей части была знакомая. И Чубарь, долго не мешкая на месте ночлега, двинулся. Лосенок тоже не отставал. Он только постоял немного, будто по уговору, играя в прятки, а потом кинулся догонять Чубаря, исчезнувшего за первыми кустами. Покуда не зашла луна и не началось настоящее утро, Чубарю необходимо было успеть пройти самые людные места, те перекрестки и урочища, где скорей всего можно было наткнуться на человека, хотя бы даже и простого грибника. Но где-то за озером — как раз на половине дороги к поселку — его втайне начало раздражать шурыганье маленьких копыт сзади, словно лосенок мешал ему идти. С досадой подумалось: «Ну куда его приведешь, если сам еще бездомный?» Это и определило все — Чубарь вдруг сиганул в еловую чащобу, подальше от тропки, а там с поцарапанным лицом выскочил на какую-то болотину, окруженную, будто нарочно, узкой лентой березняка, и без лишнего шума зашагал наудачу, чтобы чутьем попасть на мамоновскую дорогу. Правда, уже в Мамонов ке он пожалел, что бросил за озером лосенка одного, не привел с собой, его можно было если не приручить, то хоть подержать некоторое время на дворе, пока не подрос бы для самостоятельной жизни в лесу. Хозяйка увидела Чубаря через окно, когда тот напрямик вышел из лесу. Она рванулась было навстречу, но тут же сдержалась, чтобы дождаться его в сенцах. Как только Чубарь переступил первый порог, Аграфена, не стесняясь детей, повисла у него на шее. В тот день она даже не спрашивала, откуда он взялся и долго ли собирается быть. Она только радовалась, что Родион вернулся к ней, и не таила этой радости от него, и не спрятала бы ее и от людей, если бы можно было показаться на люди. Как и представлял себе Чубарь по дороге от фронта, действительно было все — и горячая банька, которую приготовила Аграфена уже к самому вечеру, и жадная любовь ее, и бесконечные ласки. Но скоро, уже через несколько дней, Чубарь почувствовал, что хозяйка вроде затревожилась: мол, ничего не знает о его намерениях, о его планах. Чубарь, конечно, не стал скрываться от нее, в конце концов, в этом не было смысла, ведь кому-то он должен был целиком довериться, а она слушала и все тускнела лицом, будто постепенно разочаровывалась в своих надеждах. Видя, что в их отношениях растет отчужденность, Чубарь понял: надо внести полную ясность. Но разговор такой все оттягивал, верней, просто не решался начать, словно боялся в душе, что нарвется на что-то неприятное, что ему откажут в этом доме в чем-то таком, без чего дальнейшая его жизнь немыслима… Зазыбу сегодня Гапка встретила тоже ревниво, может быть, даже враждебно, будто человек пришел, самое малое, описывать за долги имущество. А Чубарь, наоборот, обрадовался. — Как ты проведал, что я здесь? — спросил он возбужденно после того, как они крепко пожали друг другу руки. — Сорока отсюль прилетала, — пошутил Зазыба, тоже не пряча радости. — Ну, а по правде? — Если по правде, то бабиновичский Хоня сказал. — Где ты его видел? — В местечке. — И он тебе сказал, что я в Мамоновке? — насторожился Чубарь. — Откуда он мог знать? — Нет, об этом я сам догадался. — Вот и хорошо, — успокоился Чубарь. — А то я уж, грешным делом, подумал… Да ты садись, — пригласил он и, как только Зазыба опустился в самодельное, с гнутой спинкой кресло, которое словно бы с расчетом было поставлено дальше от окна, спросил о самом главном: — Ну как тут, заместитель? Что нового? Зазыба усмехнулся. — Гм, нового… Нового много, считай, что все новое. И самое первое — это то, что ты теперь уже не председатель, а я не заместитель. Потому что колхоза нет. — А не поторопился ты его распустить? Зазыба пожал плечами, снова усмехнулся, но более нетерпеливо. — Я и сам одно время думал, не торопимся ли мы. Даже полаялся кое с кем. А потом вижу — в самый раз. Особенно если учесть, что комендант тоже неудовольствие выразил нашей торопливостью, даже проборку сделал мне за это на совещании. — Что за совещание? — Обыкновенное. Немцы собирали полицейских, старост, председателей колхозов, где они остались еще, ну и советовались, как новый порядок ладить. — А ты при чем здесь? Ты ж не староста и не полицейский. Даже не председатель колхоза. — И я так считал, что ни при чем. А комендант почему-то не поверил. Тоже вызвал. Да и говорит при всех, что мы самоуправством занялись, поделив колхозную собственность. Грозился, мол, расследует дело. Так что не один ты недоволен. — Ну, комендант — это одно, а я — другое! Зазыба вдруг почувствовал в Чубаревом голосе прежнее упрямство, которое порой граничило с безрассудством и нередко мешало им жить в согласии между собой. Поэтому сказал примирительно: — На это есть санкция колхозного правления. Протокол тоже составлен, чтобы раздать имущество и поделить посевы. Но не насовсем, а только на сохранение колхозникам до прихода Красной Армии. — Что-то я не слыхал раньше такой директивы. Что, новая поступила? — пронзительно глянул на Зазыбу Чубарь. — Просто правленцы сами решили так. — С твоей, конечно, помощью? — А как же. — Что я тебе говорил? Приказано было уничтожать, все уничтожать! Не сохранять, а уничтожать! Думаешь, немцы такие дураки, чтобы не найти, где вы что спрячете? Я сам когда-то при раскулачивании искал, знаю. — Ну, что найдутся что и нет. — Вот, вот! Видя, что на Чубаря мало действуют его доводы, Зазыба решил зайти с другой стороны, надеясь, что это уж непременно подействует. — Вот ты говоришь, — покачал головой он, — что будто бы все треба только уничтожать, чтобы не досталось немцам. Думаешь, мне очень хочется, чтобы они жирели на наших хлебах? Кстати, я потом беседовал с Маштаковым. Тот тоже не говорил, чтобы я подчистую уничтожил все. — А чего же он хотел? — Ну, конкретных указаний не давал, но уничтожать колхозное достояние не приказывал. Говорил, в частности, что хлеб и самим понадобится. — Когда это было? — Сдается, не на другой ли день, как ты ушел из Веремеек. — Он к тебе приезжал? — Нет, в Кулигаевку. А меня уже после покликали туда. — Ну, и про что вы говорили? — Примерно про все. Кстати, о тебе он тоже спрашивал. — А ты что? — Сказал, что видели тебя на большаке, небось и подался в Крутогорье. — А он? — Возмутился. Говорил, что тебя где-то ждали перед этим, а ты не пришел. Чубарь долго молчал, потом спросил: — Как полагаешь, он здесь, в районе? — Чего не ведаю, того не ведаю, — развел Зазыба руками. Тогда Чубарь отбросил взмахом головы волосы, чтобы не падали на лоб и лежали ровней, согнал с лица глубокую задумчивость, которую сменили нетерпение и решительность, и перевел разговор на другое. — Ну, про колхоз и про то, что вы теперь делаете, я наслушался за эти дни и от нее, — Чубарь кинул взгляд на хозяйку, которая все еще находила себе какие-то дела в хате. — Только не хватало услышать от главного действующего лица. Теперь и это состоялось. Таким образом, надо считать, что новый порядок в Веремейках уже действует. И полицейский есть? — Есть. Браво-Животовский. — Жаль, что до него в свое время не добрались. Затаился, подлюга. — Ты с ним осторожней. Вооруженный ходит, да и грозился как-то, что не пощадит тебя, если встретить доведется. — Тут кто кого. Я тоже без винтовки не хожу. По-разводили сволоты разной! — Да она как-то сама… — Потому что ждала, покуда время настанет. Браво-Животовский тоже был на совещании? — Он меня и возил. — Значит, начал командовать? — Остерегается еще брать все на себя, но дело идет к тому. — Что его держит? — Выгадывает, чтоб уж наверняка все было. Чтоб не получилось какой неожиданности: а вдруг да наши попрут немцев обратно? — Глянуть бы одним глазом на него. — Думаю, не разминуться вам. — Значит, тебя немцы ругали, что колхоз распустил? — весело, будто сдерживая смех, поглядел на Зазыбу Чубарь. — О чем же они думают? — Как о чем? — не понял Зазыба. — Ну, чего хотят от колхоза? — уточнил Чубарь. — Хлеба, — ответил Зазыба. — Значит, вообще собираются оставлять колхозы? — недоуменно заморгал Чубарь. — Сдается, нет. У них все уже продумано. Снова обещают крестьянам индивидуальное землепользование. Но с постепенным переходом. Через общину. — А какая корысть им тогда канителиться? — У них на этот счет есть свое толкование. Но все толкование — пустое. Просто нужен наш хлеб. Ну, а из колхоза легче его забрать. Дальше там, мол, еще неизвестно, что будет, а теперь понятно — нынешний хлеб выращен, значит, не надо всякими перестройками мешать мужикам убирать его. Вот видишь, — воскликнул Чубарь, — немцы своей линии держатся, а ты помогаешь им! — Я уже тебе не один раз объяснял, — поморщился Зазыба, — не треба все сводить к одному — бросить хлеб и уничтожить. Думаешь, Красная Армия сюда вернется с хлебными обозами, чтобы мужиков кормить? — Перестань ты, Зазыба, печься о мужиках! Идет война! И нам с тобой совсем о другом надо думать. — О людях тоже надо думать. — Ну, ты как знаешь, а я потакать не собираюсь. Не за этим возвращался. Ты небось думаешь, я все это время по кустам отсиживался? Я полсвета уже обойти успел. На-тка вот, прочитай. — Он вынул из кармана сложенную бумагу с речью Сталина, которую получил от полкового комиссара, подал Зазыбе. Но Зазыба только глянул на заголовок да пробежал первые строчки. — Это я читал. Еще когда печаталось в газетах. — То было в газетах, а теперь, вишь, мандат. Мне его дал один большой человек, когда направлял сюда. Потому что здесь обо всем хорошо сказано, что и как. И нечего выставлять свою «народническую» политику. Теперь не до нее. — Никакая она не народническая, а самая советская. — Но ты наконец должен взять в толк, что на войне надо воевать! — Разве я отрицаю? Но мы-то с тобой не совсем на войне. Покуда мы с тобой скорей в войне, чем на войне. — Значит, необходимо и здесь разжечь ее. Зря не захотел читать до конца. Тут так и написано: «…Нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду, везде…» — Я же тебе сказал, я и так знаю эту речь. Еще с тех пор, как печаталась в газетах и передавалась по радио. Сталин сам говорил. Но как ты со своей конницей собираешься кормиться в тылу? Может, надеешься, что тебе и овес для лошадей, и кашу гречневую для партизан с самолета скинут? — А хоть бы и так! Наладишь связь, и доставят все, что тебе надо. Где они теперь, самолеты? Что-то я не вижу… Немецкие летают, а наших не видать. — Найдутся самолеты, когда понадобится. — Ну да, послушать тебя, все просто делается, будто и вправду их теперь не видать потому, что не нужны они. Я вон вертался в Веремейки с Орловщины, так нагляделся — ихние все время висят над дорогами, бомбят да стреляют из пулеметов, а наших чаще всего и близко нету, хорошо если артиллеристы зенитками попугают. Нет, брат, не все так просто, как кажется да как хочется. До всего надо умом доходить. Нам тут начинать партизанскую войну, так нам и думать, как начинать ее и с чем. Щорсовы войска когда-то тоже партизанскими назывались одно время, но я не помню, чтобы мы кричали вот так: жги, уничтожай!.. Правда, теперь обстановка другая и война не та. Однако же люди есть люди. И тогда они людьми были, и теперь ими остались. И жить они должны будут. — Опять ты про свое!.. — Я не про свое, — возразил Зазыба, — я как раз про то, что и ты. Так что интерес у нас один. Не сомневайся. Но не надо с бухты-барахты. Необходимо учитывать разные обстоятельства. Ты вот бумажку показываешь, а у меня в кармане, словно бы для такого случая, припасена другая. Почитай, чтобы и тебе стало кое-что понятно, во всяком случае, чтобы хоть теперь ты не порол горячку. Он вынул из кармана обращение заместителя государственного комиссара восточных областей, подал Чубарю. Тот взял, поглядел и буркнул: — Ну вот, нашел что сравнивать! — Это не для сравнения, — сказал непреклонно Зазыба. — Скорей для ясности. — А что это означает — государственный комиссар в застемповстве? — Не знаю, я такого слова раньше не слыхал, — ответил Зазыба. — Наверное, и вправду заместитель. «Кто увидит подозрительную особу, — читал вслух с первого параграфа Чубарь, — особенно парашютистов, отдельных командиров или солдат, шпионов или саботажников, советских служащих и так далее или узнает что-нибудь об их местонахождении, тот обязан заявить немедля ближайшим немецким, или не немецким властям. Кто пренебрежет донесением или окажет враждебным лицам какую-нибудь помощь — кров, еду или иное, — будет расстрелян. За данные, которые помогут поймать злоумышленников, нарушающих безопасность и порядок, каждый может получить от комиссара округа вознаграждение в пять тысяч рублей». Гм, значит, и за меня могут дать пять тысяч? — как бы удивился Чубарь. — Выходит, что могут, — отрезал Зазыба. — Читай-ка дальше. — «Фамилии тех, кто выдаст злоумышленников, могут быть по их желанию сохранены в тайне. На жителей населенных пунктов возлагается ответственность за сохранность телеграфной и телефонной связи, дорог, в том числе и железных, как и за все прочее немецкое оборудование. За невыполнение этих обязанностей будут караться жители…» — Видишь, ты думаешь так, а черт переиначивает, — сказал Зазыба, как только Чубарь кончил читать. — Есть и на черта гром. Но если будешь вчитываться в такие вот обращения, как это, состряпанное каким-то Фриндтом, навряд ли черта выгонишь. Такие обращения рассчитаны на то, чтобы мы все, кто попал в оккупацию, сидели, словно мыши под веником, и ни гугу. Они хотят наших людей рабами сделать, потому и запугивают, чтобы лишить воли к сопротивлению, деморализовать. Где ты ее взял? — В комендатуре всем давали. — Небось расклеивать намереваются? — Раз напечатано, значит, будут и расклеивать. — И ты помогать собираешься? — Я просто хочу разобраться, что тут к чему! — Сдается, уж было время разобраться. — Теперь каждый день новое добавляет. — И будет добавлять, но это еще не означает, что мы должны сидеть сложа руки да ждать, пока все до конца прояснится, можем и опоздать. По-моему, ты просто или боишься, или… — Зряшный твой труд, — перебил Чубаря Зазыба. — Эти твои «или» ко мне не подойдут. Я не меньше патриот, чем кто другой, и не хуже понимаю, что надо браться за оружие. Но я также и за то, чтобы взвешено было и учтено все, как следует быть. То ли Зазыбовы доводы наконец возымели действие, дошли до Чубаря, то ли он еще не собрал аргументов против них, но вдруг перестал возражать — облокотившись о край стола, возле которого сидел, задумчиво подпер голову правой ладонью и сдвинул густые черные брови. Хотя они — уже в самом деле бывшие председатель колхоза и его заместитель — все это время, пока были вместе в Аграфениной хате, считай, спорили, иначе их разговор нельзя назвать, если бы и хотелось, однако на лице Чубаря не было видно и следа возбуждения. Эта неожиданная перемена, вызванная, может быть, внутренними противоречиями, прямо-таки тронула Зазыбу, ему сделалось неловко, словно он обидел человека, в чистоте намерений которого не приходилось сомневаться. Чубарь некоторое время молчал, а Зазыба смотрел на него с каким-то острым, почти щемящим чувством, кажется, впервые четко осознав громадную разницу между своим и его возрастом. До сих пор Зазыбе почему-то никогда в голову не приходило, что такая разница существует, потому что Чубарь всегда был для Зазыбы человеком, сменившим его в должности, значит, их уравняли во всем сами обстоятельства. А тут Зазыба как бы нечаянно обнаружил, что намного старше Чубаря, по существу, тот годился ему в сыновья. Начав думать так, он не мог не отметить также, что Чубарь изменился и внешне, пока был в отсутствии: лицо словно бы заострилось и шея похудела, а высокий открытый лоб покрылся глубокими морщинами, которые сходились к переносице; под выпуклыми надбровными дугами, полуприкрытые веками, тайно хмурились темные глаза. Наверное, Чубарь быстро почувствовал, что Зазыба в упор рассматривает его, недовольно задвигался и, встав с такого же самодельного кресла, на каком сидел Зазыба, заложил руки за спину, прошелся широкими шагами раз, и другой, и третий по комнате. Зазыба между тем остался на месте, только повернулся слегка, чтобы не сидеть к Чубарю спиной. Наконец Чубарь перестал мерить шагами горницу, остановился у стола и снова уселся, стиснув коленями сложенные вместе ладони. Зазыба понимал, что беседа еще не кончена, больше того, на некоторые вопросы он так и не ответил Чубарю, а тот весьма несдержанно вел себя, поворачивал часто разговор совсем в другую сторону, особенно когда принимался строптиво отрицать, казалось бы, очевидные вещи, отстаивая свой взгляд на них; но понимал Зазыба также и то, что инициатива в разговоре и дальше будет за Чубарем, именно от Чубаря зависит, на чем они сойдутся сегодня, хотя, разумеется, очень хотелось заставить его посмотреть на все глазами человека, который силен не только преданностью общему делу, сводящемуся теперь к одному — к борьбе с врагами, но и расчетом, способностью оценить обстановку и действовать согласно этой оценке. Последней попыткой призвать Чубаря к большей сдержанности было хоть и несмелое, но все-таки возражение, когда тот, посидев немного молча, сказал с укоризной: — Не выполнили мы, Денис Евменович, директивы, не все сделали, что от нас требовалось… — Дак… Может, директива поменялась уже… Это когда было-то, теперь небось новые директивы есть. Только мы про них не знаем. — Никто той директивы не отменял, — дернулся Чубарь. — Директива была дадена правильная. — И спросил: — Что ты собираешься делать завтра? — Кажется, ничего, — ответил Зазыба, но тут же спохватился: — Хотя нет, что я говорю — черт уже нашел работу. — Какой черт? — Комендант. — Что, уже дошло до того, что комендант приказывает, а у вас поджилки дрожат? — Не очень-то дрожат, а приказ выполнять должен. — И что он такое приказал? — На Деряжне, в Белой Глине, разрушен мост. То ли наши взорвали при отступлении, то ли после кто развалил. Теперь вот восстанавливать надо. Приказано запрячь все подводы, какие есть в хозяйстве, да отправить с мужиками в Белую Глину. — Как раз завтра? — Точно не знаю, но надо ждать, что Браво-Животовский начнет быстро выполнять комендантов приказ. — Так-так, — презрительно усмехнулся Чубарь, — Красная Армия повзрывала мосты на реках, а вы, патриоты, собираетесь теперь по приказу какого-то немецкого коменданта восстанавливать их. — Дак… — Что «дак»? — с прежней усмешкой передразнил Чубарь. — Поставить бы там, в соснячке, что против моста, станкач с полными лентами да свинцом по вас, свинцом! — А ты так и сделай! — обрадованно встрепенулся Зазыба. — Да из пулемета не по нам, мы тут ни при чем, а по фашистам, по фашистам свинцом своим. Вот тогда и мы разбежимся кто куда, как ты постреляешь их, и некому будет приказывать да принуждать нас под палкой, а то и под страхом смерти. — Думаешь, не сделал бы? Зазыба пожал плечами. — Был бы пулемет, — искренне пожалел Чубарь, — так не очень испугался бы я. — Ну, а раз нету пулемета, так нечего и говорить, а тем более попрекать, — насмешливо блеснул глазами Зазыба. — Словом, покуда пулеметы только у немцев, так извиняйте. Никто не захочет стать добровольно под пулю. Мы в Веремейках и то уж убедились, как они могут наводить на людей пулеметы. Но Чубарь не слушал Зазыбу. — И ты, красный орденоносец, поедешь восстанавливать мост? — поразился он. — Поеду, — упрямо мотнул головой Зазыба. — И дело не во мне. Я хоть сейчас готов смерть принять, но чтоб От этого польза была. А что с того будет, если я пожертвую собой, а делу не помогу? Все равно немцы мост на Деряжне восстановят. Посгоняют мужиков из окрестных деревень и восстановят. — Но кровь героев, Денис Евменович, помогает зреть идеям, — совсем не думая, что своей жестокостью не только обижает, но и оскорбляет Зазыбу, произнес Чубарь. — Хватило уже крови и без моей для идей, — спокойно ответил на это Зазыба. — Кровь здесь не поможет. Надо сделать так, чтобы не мы немцев боялись, а они нас. И не кровью Своей мы должны напугать их, а оружием. Я вот так понимаю дело и хочу, чтобы и ты наконец понял это. — А я хочу, чтобы ты все-таки не ехал в Белую Глину. Тебе надо съездить в другое место. — Куда это? — В Мошевую. Думается мне, наши оставили для подпольной работы кое-кого в районе. Не может быть, чтобы из руководителей никого не было. Столько директив разных читали, циркуляров. Нет, должно быть, обязательно кого-нибудь оставили здесь. Кстати, об этом говорил и тот человек, который направил меня сюда. — Что за человек? — испытующе глянул на Чубаря Зазыба. — Не все равно? Человек и человек, выше нас с тобой! — Но почему ехать именно в Мошевую? — Так мне кажется. Дело в том, что в начале августа, незадолго до оккупации, меня тоже вызывали как раз туда. Видно, не напрасно же собирал райком коммунистов, которые имели броню от призыва в армию? Зазыба задумался, против этого предложения он ничего не имел. Наоборот, одобрил — наконец за столько времени сказано что-то более или менее конкретное, хотя еще и не знал, к кому там в Мошевой надо будет? толкнуться. И вспомнил — неподалеку от деревни, в поселке Держинье, жил его давний приятель, лесник Артем Олейников, тоже, как и Зазыба, участник гражданской войны. Это был человек любопытной и нелегкой судьбы. Еще задолго до революции, чуть ли не в одиннадцатом году, окончив народную школу, отправился он из белорусской деревни на Дальний Восток инекоторое время служил матросом на пароходной пристани в Благовещенске. Затем ему повезло — он устроился на службу в контору товарищества Амурского торгового пароходства. Но началась война с кайзером, его мобилизовали и в армии, как человека «письменного», назначили писарем особого артиллерийского дивизиона, вооруженного, как он любил рассказывать уже в мирное время, французскими 133-миллиметровыми дальнобойными пушками. В декабре семнадцатого года, когда появилась возможность оставить армию, вернулся Артем в родную деревню. Однако не окончательно. В мае следующего года стал он делопроизводителем мобилизационного отдела Климовичского военкомата с исполнением обязанностей комиссара уездной почтово-телеграфной конторы, а потом комиссара сразу нескольких волостей, в том числе и Белынковичской. Ну, а в девятнадцатом году бывший писарь, делопроизводитель и комиссар поступает в Красную Армию, сперва опять воюет с немцами, с гайдамаками, затем с белогвардейцами и белополяками… Был дважды ранен. Собственно, по ранению в двадцать первом году и домой вернулся. Поработал объездчиком в лесничестве. Потом отправился учиться, кончил курсы по лесоэксплуатации, после чего был назначен помощником лесничего. Но в тридцать пятом году Артема вдруг исключили из партии, обвинив в связи с классово-враждебными элементами за то, что будто бы держал на работе раскулаченных. Правда, на суде факты его покровительства классово-враждебным элементам не подтвердились, он был восстановлен в партии даже без всякого взыскания. И тем не менее на прежнюю должность Олейников уже не попал — во время предварительного заключения у него хлынула кровь из ушей, и он потерял слух. Пришлось довольствоваться работой обычного лесника. Красноармейцем Артема в девятнадцатом году сделал Зазыба. Олейников подался за ним к Щорсу, когда Зазыба по поручению батьки Боженко приезжал в родные места вербовать в бригаду добровольцев. Познакомились они в Белынковичах, где Олейников был военным комиссаром. Известное дело, без дозволения комиссара проводить набор добровольцев на территории подведомственных ему волостей было нельзя. Поэтому Зазыба посадил на телегу Масея, еще совсем мальчишку, которому тоже очень хотелось прокатиться с отцом., и отправился искать комиссара в Белынковичи, за восемнадцать верст от Веремеек. Как раз перед тем, как им приехать туда, в местечко ворвалась залетная банда атамана Кутузова. Ходили слухи, что имя великого полководца атаман взял себе для пущей важности, мечтая сразу же сделаться знаменитым. Но потом выяснилось, что это была его собственная фамилия. Был он родом из Клинцовского уезда и выдавал себя за защитника деревенской бедноты, грабя-де только казну да богатых евреев, которые составляли тогда основную массу жителей уездных городов и волостных местечек. Правда, нет ли, однако передавали чуть не легенды, что награбленное он раздавал крестьянам; И этот вот «крестьянский заступник» с отрядом в пятьдесят сабель занял Белынковичи. Первое, что он сделал: взял в плен комиссара Олейникова, которого атамановы конники застали у председателя волисполкома. Самого председателя не тронули — тоже политика: мол, с выбранной властью, пускай даже и Советской, не воюем… Кутузовцы шарили уже вовсю по Белынковичам, когда на главную улицу со стороны Колодлива въехал Зазыба. Появление вооруженного человека, конечно, не могло остаться незамеченным. Поэтому Зазыба не успел даже хорошенько осмотреться, как телегу его облепили со всех сторон кутузовцы и силой повернули лошадь к церкви, где в поповом доме пировал атаман. С ним был и комиссар Олейников. Кутузов делал вид, что не считает его своим пленником, поминутно стремился подчеркнуть это перед другими, однако от себя не отпускал. Увидев их мирное застолье, Зазыба сперва подумал, что тут и вправду одна шайка-лейка. «Кто такой и что делаешь?» — спросил атаман приезжего. «Приехал к военному комиссару», — ответил Зазыба. «Вот тебе и комиссар, — улыбаясь, показал на молодого человека в портупее напротив себя атаман. — Говори, что тебе надо от него». — «А вот это уж мое дело, говорить или трохи подождать», — с вызовом сказал Зазыба, который к тому времени сообразил, что комиссар, скорей всего, вынужден сидеть здесь. «Ты, я вижу, прыток, служивый, — обиженно покачал головой атаман. — Ну что ж, тогда садись и ты рядом с комиссаром. Тоже гостем будешь». И в тот момент, как он говорил это, покачивая головой и гримасничая, Зазыба успел поймать короткий взгляд комиссара, в котором явственно сквозило предостережение. «Так у меня же пацан остался на телеге», — обеспокоенно сообщил атаману Зазыба, давая понять, что ему необходимо выйти. «Ничего, — махнул рукой атаман, — за твоим хлопчиком поглядят мои ребята, а ты спокойно садись». — «Боюсь, испугают они ребенка», — простодушно поморщился Зазыба. «Тогда поручим его попадье, — отгадав Зазыбово желание любым способом оказаться на улице, насмешливо сказал атаман. — Эй, матушка! — Из боковых дверей на его голос чуть ли не вбежала проворная, но не слишком-то веселая женщина. Кутузов важно сказал ей: — Гость наш приехал с дитем, так ты погляди там, чтоб… словом, накорми и обогрей малого, а мы тут с его отцом да с комиссаром посидим за столом. — И посмотрел на Зазыбу. — Видишь, все уладится. Попадья постарается. А ты садись и рассказывай за чаркой, откуда и зачем. — Потом словно бы притворно возмутился, что Зазыба не торопится проявить послушание. — Да не гляди ты на меня подозрительно! Все мы тут свои, революционеры. Так что садись и выкладывай. А хочешь, так и председателя волисполкома покличем». Наконец Зазыба понял, что отсюда ему пока не выйти, поэтому с якобы довольным видом сел туда, куда уже показывал атаман, на венский стул между двух атамановых адъютантов. Кутузов подождал, покуда усядется ершистый приезжий, налил из большой бутылки в стаканы и крикнул на другой конец стола хозяину: «Отче, принеси еще пойла, на одного гостя поболе у нас». Поп, словно вол из-под ярма, глянул на него — действительно, трудно быть радушным, если в доме твоем за столом сидит рядом и большевистский комиссар, и разбойный атаман, который выдает себя за революционера, — но не посмел ослушаться. Покуда поп ходил за самогонкой, Кутузов успел пошутить, почему-то обращаясь больше к Зазыбе: «Я у него тут спрашивал: «Отче, знаешь ли ты, чем отличается костельный звон от церковного?» — «Не знаю», — говорит. А я ему: «В церкви звонят — блины-блины-клецки, блины-блины-клецки, а в костеле иначе — трем-блин-пополам, трем-блин-пополам!» Вижу, нравится, но молчит отче, только глазами хитро моргает. Казалось бы, одна религия, христианская, и тоже нет мира — православные на католиков, католики на православных. А тут хотят, чтобы мы, революционеры!..» Говоря это, атаман перевел взгляд на комиссара и, может, как раз потому и не кончил фразу, видно, они уже успели выяснить свои идейные разногласия. Чтобы не накликать на себя худших подозрений, Зазыба выпивал сразу, как только атаман отнимал от стакана бутыль, надеялся, что в пьяной сумятице выберется из этой западни. Но напрасно. Сам атаман хоть и пил тоже немало, однако не хмелел. Оружие бандиты не отобрали ни у Зазыбы, ни у комиссара, и можно было догадаться, что на жизнь их атаман не покусится, зато собирается держать в изоляции до тех пор, пока его бандиты не перетрясут местечко. Атаман был уверен, что тут, в поповом доме, где не только за столом, а в каждом углу сидит кто-нибудь из его подручных, ни комиссар, ни приезжий не посмеют оказать сопротивления. Поэтому он был спокоен и вроде только одним озабочен — чтобы угодить своим вынужденным пленникам. «Кутузов не замарает напрасной кровью своего великого имени!» — восклицал он время от времени. И действительно, утром, когда кутузовцы с полными мешками награбленного покидали местечко, Зазыба даже отцовского коня нашел на том самом месте, где привязал вчера, а попадья привела к телеге заспанного Масея, который, пожалуй, мало чего понял из того, что происходило всю ночь. Больше всех был сбит с толку комиссар Олейников. Будто оглушенный, он долго поглядывал в конец местечковой улицы, где медленно, как редкий туман, оседала пыль, поднятая атамановой конницей, и машинально почесывал давно не стриженный затылок. Потом сплюнул подальше от себя, словно вдогонку атаману, и спросил: «Чего приехал?» А как услышал от Зазыбы, с каким делом явился к нему таращанец, заматюкался, затопал ногами: «Не мог сказать раньше! Тайну хранил! Вот кого надо было агитировать — бандюков этих и ихнего идейного атамана! Готовый эскадрон имел бы сразу же!» — «Нам не треба таких, — улыбнулся Зазыба. — Нам в бригаду нужны сознательные бойцы пролетарского или крестьянского происхождения». От этого комиссар прямо взвился: «А думаешь, нам тут сознательные не нужны? Кто будет сражаться с такими вот идейными атаманами, как этот Кутузов, несознательные? — Потом поуспокоился, затих и с надеждой в глазах посмотрел на Зазыбу. — Слухай, возьми меня с собой, а? К чертовой матери всех этих атаманов! Пойду на войну как человек и буду воевать за Советскую власть с настоящим врагом! Вот зараз примчится из Климовичей с отрядом Сурта, и буду я просить, чтобы отпустил. Возьмешь?»К этому вот Артему Олейникову Зазыба теперь я собирался мысленно в Держинье. Во всяком случае, если Артем и не знает ничего про августовское совещание, которое созывал в Мошевой Крутогорский райком партии и на которое не попал Чубарь, то беседа с ним будет все равно на пользу — обычно лесники, даже глухие, слышат и видят больше, чем это иной раз кажется. — Ну вот, — с укором сказал Чубарю Зазыба, — оказывается, и для меня работа нашлась, а ты уж хотел, чтобы… — Работы теперь для всех хватит, — с затаенным неудовольствием откликнулся Чубарь. — В конце концов, твое дело, когда ехать в Мошевую, завтра или на день-два позже. Но чтобы долго не тянул. И перед тем, как поедешь, вызови ко мне Драницу. — Ты что, не знаешь, с кем теперь Драница твой дружбу водит? — оторопел Зазыба. — Он же завтра продаст тебя Браво-Животовскому! — Ничего, — нарочно не обратил внимания на растерянность Зазыбы Чубарь. — Ты ему только скажи, что я здесь, а потом уж моя. забота будет снова в свою веру переманить его.
ХII
Чей-то мужской голос крикнул на темной, сумрачной улице: — Это вы из Веремеек? Солдатки от неожиданности остановились, притихли. Наконец нехотя откликнулись: — Мы. — Тут из ваших одна у меня в доме, — подошел ближе мужчина, — так пойдемте и вы. — Кто, Роза? — моментом обступили его, прямо прилипли веремейковские женщины. Он вроде бы не услыхал вопроса. Рассказывал дальше: — А другая баба в комендатуре. Немцы отправили ее в нашу, яшницкую. Будет завтра разбираться комендант, что она натворила, в чем провинилась. — Помолчал и добавил: — Вот какие вы… Другие бабы ходили к нам, так все было тихо, а вы вдруг наделали делов. — Да уж… — вздохнув, как бы повинилась за всех перед незнакомцем Анета Прибыткова. В доме, куда яшницкий житель вскоре привел веремейковскую компанию, кроме растерянной Розы Самусевой были еще две женщины, одна, наверное, жена хозяина, еще молодая, хотя и тучная женщина, другая постарше, то ли ее свекровь, толи, может, теща его, сидя на низенькой скамеечке, она качала деревянную зыбку на веревках. Роза услыхала голоса попутчиц, когда те проходили во двор мимо окна; она знала, что это ее односельчанки, так как хозяин обещал перехватить их у лагеря и привести сюда; вскочила с жесткого венского стула, на котором сидела у оштукатуренной стены между окнами, и, как только отворилась дверь в сенцы, а за порогом в темном проеме возникли знакомые фигуры, кинулась навстречу. — Ну, кто бы подумать мог! — всплеснула она руками. — Они же за еврейку меня приняли! — Еще что скажешь! — не сразу поверила ей Варка Касперукова. Тогда подала голос молодая хозяйка. — А что странного? — усмехнулась она. — Аккурат евреечка. — Ну, какая она евреечка, — пожала плечами Анета Прибыткова, но и сама исподтишка окинула Розу пытливым взглядом. — Ладно вам, — обратилась к женщинам недовольная чем-то Палага Хохлова, — может, когда проезжий какой и заночевал у дедовой бабки. Недаром у них всегда хорошие свиньи водятся. Но все это шуточки… — Ну да, хорошенькие шуточки! — заступилась за Розу Анета Прибыткова. — Эти шуточки чуть не довели вот!.. — Дак я и говорю, — досадливо-нетерпеливо перебила Палага. — Я и говорю… — Видно, она хотела сказать что-то Анете Прибытковой в свое оправдание, однако передумала и, повернувшись к Розе Самусевой, спросила: — Ну, а Дуня? Почему вдруг Дуню забрали? Сверкнули при тусклом свете жестяной коптилки влажные глаза, Роза встрепенулась, будто ждала этого вопроса и боялась его. — Дак она же сама… — Роза сказала так и замялась на мгновение. — Она сама пришла. А я стояла там и не понимала, чего они мне говорят со всех сторон, чего добиваются. А как Дуня пришла, дак и я догадалась — юда да юда, говорят. Ну, и лезут с руками. А Дуня заступилась. Тогда немцы на нее и набросились. Начали угрожать ей. — Как это угрожать? — словно бы не поверила Палага. — А так, что один немец даже кофту порвал на ней. — Ну и что, если порвал? — недоуменно пожала плечами Палага, мол, экое диво, и, будто ища поддержки, посмотрела на старую хозяйку, которая хоть и не переставала качать рукой зыбку, однако повернулась лицом к ним и слушала разговор. — А то, что Дуня плюнула ему в морду! — со злостью ответила Палаге Роза Самусева, пряча в ладонях лицо. — Ха, — выдохнула от неожиданности старая хозяйка. А Палага Хохлова спокойно сказала: — Ну и дура! Тогда вспыхнула Анета Прибыткова. — А сама в Ключе не то же самое сделала? — То, да не самое. Тама был свой, полицай, дак буду ли я еще цацкаться с ним? А тута немец. Не знаешь, что и сказать ему. Вроде немой он. Хорошо еще, если не дурной попадется. А если дурной? Ну, и чего она добилась, что плюнула? — Дак что-то надо же было сделать, чтобы отвязались, — с сердцем возразила на это Роза Самусева. — Вот, то она из себя овечку строит, вроде ничего не понимает, а то вдруг… Дуня что? Дуня… А вот ты! Сперва и крылья, как курица, распустила, лови, мол, петух, меня, топчи, а потом даже ответить не можешь, кто ты, юда или нет. — Сама же говоришь — ему как немому объяснять, если не знаешь, чего он хочет. — Сама, сама! — передразнила взволнованную женщину Палага; она все больше злилась, как бы подавляя неприязнь к Розе. Почувствовав это, самая молодая из веремейковских баб, Фрося Рацеева, даже возмутилась: — Ну, чего ты, тетка Палага? Пожалей хоть Розу! Ей уж и без тебя досталось! Варка Касперукова тоже уловила злое намерение в попреках Палаги, попыталась рассеять все шуткой. Но зря. Палага и вовсе надулась, словно не могла простить Розе Дуню Прокопкину. Тем временем в зыбке заплакало хозяйское дитя, и всем вдруг сделалось стыдно, что так раскричались, чуть ли не на всю хату. Утешать ребенка сразу же кинулась молодая хозяйка, которая все время, пока веремейковские женщины препирались и спорили между собой, молча копалась в открытом шкафчике, что стоял в углу у задней стены и, наверное, служил хозяевам также обеденным столом. «Цыц, цыц!» — наклонилась молодица над зыбкой, задергиваясь домотканым пологом, который свешивался с одной стороны на веревочных петлях из-под самого потолка. Припав к материнской груди, младенец тут же успокоенно замолк, словно захлебнулся молоком, и в комнате воцарилась тишина. — А я вот что скажу вам, бабы, — бросил в эту тишину первое слово хозяин; он стоял в сенцах по ту сторону порога, как будто пришел сюда не вместе со всеми, а только что, да приостановился от неожиданности, удивленный, что в его дом набилось столько незнакомых баб; теперь веремейковки рассмотрели, что это мужчина лет тридцати, как раз под пару молодой хозяйке, хоть выглядел не таким дородным, как она; однако лица их были схожи: и жена, и муж казались одинаково смуглыми, а больше всего сближала их в этой похожести несмелая, застенчивая улыбчивость (иначе и не назовешь), которая появлялась в темных глазах, когда они заинтересованно вглядывались в кого-нибудь. — Ваше счастье еще, что хоть так получилось: и эту я заставил на огороде спрятаться, и ту немцы не увезли с собой, а в комендатуру сдали. — Ага, — закивали головами женщины. — Но как ее вызволить оттуда? — раздался голос Анеты Прибытковой. — Хорошо бы немцы совсем передали ее в полицию, — словно вслух рассуждая, проговорил хозяин. — Что бы тогда было? — В Яшнице начальником полиции кум наш. Пацана нашего крестил. Женщины от неожиданности переглянулись — мол, правда, кум куму не откажет. — А послушает он вас? — Должен послушать, — уверенно, с оттенком самодовольства ответил хозяин. — Я вот только считаю, что откладывать на завтра не надо. Лучше попытаться уладить дело еще сегодня. Как вы думаете? — Ну да, — ухватилась за хозяйское предложение Палага Хохлова, — надо поговорить с человеком, может, и правда вызволит Дуню. — Тогда вот что, — рассудил хозяин, — пойдемте до кума. Но не всем гамузом. Ты вот, как старшая, можешь пойти со мной, — показал он на Палату, — и она, — взгляд его упал на Розу Самусеву. — Нехай поглядит, что напрасно немцы к ней прицепились. Документы-то хоть есть? — Откуль они у нас? — Ладно, скажу куму, что знакомые. И вы тоже в один голос подтверждайте, мол, ночевали не раз в моем дому, как на ярмарку из Веремеек своих приезжали. Женщины догадливо закивали. — Да уж как же… Тогда хозяин потер руки, словно бы от удовольствия, что выпало заняться чужим делом, и весело крикнул на всю горницу: — Мы скоро вернемся. А вы тут ужин готовьте. Варите бульбу, да побольше, потому что немало собралось нас. И небось все есть хотят. С этими словами он. вышел из сеней на улицу. Тем временем Палага Хохлова кинулась к Гэле Шараховской, шепнула: — Давай свои золотые! — Зачем? — встревоженно спросила та. — Давай, давай, — не очень-то стала объяснять Палага. Отвернувшись к стене, Гэля залезла себе за пазуху, вынула завернутое в носовой платок, как она говорила, материно приданое, отдала настырной бабе. — Ну вот, теперя верней будет! — воскликнула довольная Палага и уже совсем весело подала знак Розе идти. В темноте — луна еще не успела взойти — они еле разглядели хозяинову фигуру. Тот словно скользил или плыл летучей мышью сперва по невидимой тропке от хаты, потом по улице, даже не слышно было шагов, не то чтобы споткнулся вдруг или еще каким-то образом наделал шуму. Зато бабам нелегко приходилось, чтобы успеть за ним: разбитая, неровная дорога словно бы подворачивалась, проваливалась под ними, даже сердце замирало. — Значит, мужиков своих не нашли в нашем лагере? — наконец спросил сочувственно хозяин. — Нет, — ответила Палага. — Так уже небось в Яшнице местных и нету никого, — подождав, покуда женщины догонят его, сказал он. — Ага, сдается, нема, — согласилась Палага. — Про это тоже говорил один тама, на церковном дворе. Говорит, может, в Кричеве наши. — Ну, там могут быть, — как о чем-то само собой разумеющемся, сказал хозяин. — Недаром он зовется — пересыльный пункт для военнопленных. Но, чтобы вы знали, в Кричевском лагере даже здоровый человек долго не выживет. Это не то что здесь, в Яшнице. И сравнить нельзя. Тут, можно сказать, курорт для пленных. Тут работать заставляют. Ну а если работы от человека требуют, то и кормить хоть кое-как, но должны. А в Кричеве, там ни еды не дают, ни лекарств. Если не вызволят оттуда сразу, так, считай, пропал, бедняга. Либо немцы пристрелят, либо с голоду ноги протянет. Я брата искал, так видел. Думал, и брат попался к немцам, но нет, напрасно только кума беспокоил, чтобы справки разные для нас обоих у немцев выправлял. — Не попался брат? — Кто его теперь знает! Если бы Кричевский лагерь последний из всех был, уже точно знал бы. А так подумал, что в плену, ну и съездил, чтобы после сомнений не иметь, потому что совесть замучает, если что не так. Но я про кума начал. Не повезло ему в жизни, куму моему, хоть сам он человек добрый. Как раз в мае этом, перед войной, сгорел. Ночью. Скорей всего, от молнии. Самого тогда не было в Яшнице, так и женка сгорела, и двое пацанов. Словом, хлебнул человек горя. Говорили мы как-то с ним и про лагеря. Действительно, странно, почему вдруг немцы стали позволять кое-кому уходить оттуда. Одному выдадут пропуск, например, кто с Украины, чтобы вертался домой, а другого женке отдать не пожалеют за кусок сала, если пришла да узнала своего. Оказывается, не потому, что такие уж добрые по натуре. На это приказ есть высшего командования. Боятся, что в лагерях заразные болезни пойдут. Ну, тиф там разный или еще какая чума. Одним словом, боятся, чтобы не перекинулись жаркой порой хворобы с пленных на войска, потому что заразная вошь может съесть хоть какую, даже доблестную, армию. Вот генералы немецкие и перепугались. Но, как я себе думаю, доброта ихняя протянется только до первых морозов. Тогда никакой заразы не надо будет бояться. Как захвораешь, так тут же на морозе и оду-беешь, и вошь твоя не спасется, даже если и за пазухой. — Да уж как же, — согласилась с провожатым Палага Хохлова. — Так что торопитесь, бабы, и гукайте своих мужиков. А нет, чужих спасайте. Сказав это, хозяин круто повернул налево, в какой-то узкий промежуток между заборами. — Идите за мной, — бросил он назад. Даже в темноте было видно, что промежуток постепенно расширялся впереди, пока наконец не вывел их на широкий выгон, тоже огороженный со всех сторон забором. На краю выгона, уже на самом отшибе, светился окнами домик. По тому уже, что в домик приходилось заходить не из сенцев, а прямо с выгона — только открой дверь да перешагни порог, — можно было догадаться, что жили в нем недавно. Старший полицейский как раз вечерял. Ел похлебку деревянной ложкой прямо из чугунка, держа в левой руке большой ломоть хлеба, отрезанный от буханки, испеченной не дома, на поду в печи, а в пекарне, видно, получил свой полицейский паек. Казалось, чтобы откусить от такого ломтя, не хватит обычного человеческого рта, однако полицейский уплетал хлеб без всяких трудностей для себя; был он мужиком широким в плечах, с крупной головой и соответственно с крупными чертами лица. Он не встал из-за стола навстречу вошедшим, не делал лишних движений, кроме тех, что были необходимы для еды. Однако голову поднял сразу же. — А, это ты, кум? — промолвил он слегка разочарованно. — Ну, посиди трохи, а то я сегодня запарился, некогда было даже поесть. Кум в ответ кивнул, мол, понятно, такая служба, и достал для себя из-под большого деревянного топчана низенькую скамеечку, ловко подцепив ее носком сапога. Казалось бы, из всех пришедших прежде всего нуждались в отдыхе усталые веремейковские женщины, особенно Палага Хохлова, которая, считай, с самого рассвета была на ногах, но их не пригласили сесть. И ничего странного в этом не было — просительницы ведь!.. Покуда кумовья заняты были каждый своим — один увлеченно, как напоказ, будто дразня голодных, хлебал варево, неторопливо нося ложку от чугунка ко рту и обратно, а другой молча сидел и терпеливо ждал, когда оголодавший хозяин наконец опростает чугунок, чтобы поговорить о деле, которое привело сюда его с этими чужими женщинами, — Палага Хохлова с Розой Самусевой, стоя у порога почти в потемках, потому что света от лампы не хватало на всю горницу, успели окинуть ее взглядом из угла в угол. Вообще этот домик внутри скорей напоминал сторожку, чем жилье. Даже гармошка, что висела на стене над голой, без накидок и подушек постелью, не придавала ему обжитого вида. Но вот полицейский облизал со всех сторон ложку, поднес ее ближе к лампе, будто хотел убедиться, что на ней ничего не осталось, потом положил на край чугунка и спросил: — Это они? — Ага, — усталым голосом отозвался пришедший. Между ними, судя по всему, уже в каком-то месте был разговор про веремейковских женщин и про то, что случилось с ними в Яшнице, недаром полицейский так спросил, а потом словно невидящим взглядом долго глядел на порог, где Роза Самусева и Палага Хохлова униженно ждали решения Дуниной судьбы. — И охота же тебе, кум… — засмеялся наконец полицейский, но все-таки закончил свою мысль вслух: Говорю, и охота тебе лезть не в свое дело. И завсегда вот так. Сколько'я помню тебя, ты если не с одним, так с другим возишься. То вдруг собаку покалеченную приютишь, то человека какого-нибудь никчемного домой притащишь. А теперь вот какие-то бабы. Откуль хоть они? Палага Хохлова поняла по разговору, что пора ей выйти на свет из потемок да отозваться своим голосом. — Из Веремеек мы, — сцепив руки на животе, выступила она и поникла головой, кланяясь. — Из каких Веремеек? Из тех, что под Чаусами? — Нет, мы из других, — ответила Палага. — Мы из тех, что по Беседа вниз. — А-а-а, — поняв, закивал головой полицейский. — Которая из вас юда? — И, переводя взгляд с Палаги в темноту, с улыбкой воскликнул: — Небось не ты же! Тогда Палага Крутнулась на босых пятках и чуть не силком вытащила с порога вялую и неподатливую Розу Самусеву. — Ну какая она вам юда! — пронзительно, скороговоркой, с раздражением, будто от внезапного приступа застарелой боли, показала она на растерянную молодую женщину обеими руками. — Или не видите по лицу, что она наша, веремейковская, и батька ее нашенский, и мать деревенская баба? Ну и что, что чернявая? Дак мало ли чернявых? А они заладили одно! Ну ладно, нехай немцы, они, может, совсем ничего не соображают, а вы-то? Что, не угадываете по лицу, какая она юда? И-и-их!..
— Цыц, баба! — поставил локоть на стол полицейский и поводил из стороны в сторону растопыренной ладонью. — Цыц! А то голова распухнет. Я и сам все вижу. Только в отличие от тебя, тетка, я не по лицу это угадываю, а по ногам. Евреек надо узнавать по ногам. Да ладно, зараз не про это. Мне интересно, что думала себе та ваша, другая, когда на немцев с когтями бросилась? — Кто, Дуня? — словно бы удивилась Палага. — Дуня, Дуня! — Дак… — Она же не бросалась сама!.. — несмело вступила в разговор и Роза Самусева. — Это солдаты хотели, дак она… — Оказывается, вон что! Честь защищала! — подмигнул полицейский куму. — Надумала, что оборонять. Да если хочете знать, ни один немец, хоть бы вы даже и просили, не подойдет к вам без мыла, не то что насиловать сразу кинется. А теперь вот ломай голову, разбирайся с вами. Это благодарите бога, что попали на кума моего, на эту жалостливую душу, а то бы… и разбираться долго не стали. Знаете, что бывает за сопротивление военным властям? А куму моему надо и сюда нос сунуть! Говоря все это, полицейский не сводил глаз с кума, но тот сидел, ссутулившись, на скамеечке и, казалось, равнодушен был ко всему, словно всей его заботы было только привести сюда этих женщин. Поэтому полицейский даже окликнул: — Ты не заснул ли, Филипп? — Заснешь с вами! — медленно поднял голову гость, как бы боясь, что внезапное и резкое движение выдаст его. — Небось прослушал, что я тут говорил, — чуть ли не обиженным голосом сказал старший полицейский. — Я наново повторю. То, что говорил и прежде, когда ты один приходил ко мне. Хорошо, помогу тебе и в этом деле… Схожу завтра к бургомистру. Нет, лучше не к Смягликову. Пойду сразу к коменданту, раз с немцами драка завязана. Пускай отдадут бабу нам, и закроем на этом дело. Так и запишем — эта не юда, а та честь свою женскую охраняла, думала, что… Словом, не про то подумала баба да кинулась кошкой сгоряча глаза драть. — Вот спасибо вам, добрый человек! — подумав, что наконец все обошлось, принялась кланяться Палага Хохлова. — И сами будем благодарны, что из беды этакой вызволили нас, и детям своим закажем, чтобы знали да почитали всегда, и мужьям расскажем про все, как вернутся с войны… — Ясно, и внукам, и правнукам!: — подхватил полицейский, но с ухмылкой, будто не веря, что люди вообще способны на благодарность, или просто не придавая всему этому никакого значения. — Дак, а что? И внукам, и правнукам!.. — не растерялась Палага. — Ну, допустим, от вас я благодарности не жду, — махнул рукой полицейский, но сказал это немного мягче и, пожалуй, не так насмешливо-недоверчиво, как перед этим. — Не вы меня нашли, и не вам я подрядился помочь. Тут кум мой, Филипп, главную скрипку играет, с него и взыскивать, от него и благодарности буду требовать. Ну как, Филипп? — Кто же за доброе дело благодарности пожалеет? — шевельнул в загадочной усмешке губами кум Филипп. — Ты же знаешь наш уговор? — вытянул шею с чего-то повеселевший полицейский. — Давай окончательно договариваться: я к коменданту иду утром, и пускай женщины эти катятся по дорожке, куда им вздумается, а ты мне заяву на стол. — Кум, не про то ты снова говоришь, — досадливо выпрямился Филипп. — Знаешь, как в святом писании сказано про это? — Вспомнил чего! — поморщился полицейский. — Ты прочитал бы, что пишут в самом наиновейшем завете. Вот посмотри, почитай. — Он вылез из-за стола, подошел к стене, где на гвозде висела какая-то домашняя одежина, вынул из кармана сложенную вдоль газету. — Теперя надо жить по этому писанию. На, читай. — Так ведь… кто старое забудет, тому глаз вон, — беря из рук полицейского газету, буркнул Филипп. — Э-э, нет! — садясь лицом к гостям с краю стола, упрямо закрутил головой полицейский. — Это ты переиначил. Кто старое помянет, тому глаз вон, вот как правильно. Гость развернул газету, и всем сразу бросился в глаза заголовок: «Менская газэта». — Это теперь такая выходит? — глянул на хозяина кум. — Сам же видишь по названию. — Получаешь? — Нет, бургомистру кто-то привез целую пачку из Минска, он и мне одну почитать дал. Нам газеты еще не присылают. А говорят, снова и подписка будет, если кто пожелает на дом получать, и так. На службу будут по почте газеты приходить. Словом, все как полагается скоро наладят. Только вот, подсчитал я, дорого обходится. Видишь, написано: цена десять фенинков[42] по-немецки, или один рубль по-нашему. Откуда тех рублей теперь набраться, если и правда придется платить по рублю за газету. Это же накопить их надо до этого. И без газет вроде нельзя… Внизу слева читай. Но кум Филипп еще спросил: — Ну, а немцы как платить за службу собираются? Вениками или советскими? — И советскими, и своими, — будто не услышав «веников», серьезно ответил хозяин. — Сдается, половину жалованья теми, а половину этими. Правда, один к десяти: одна марка — десять рублей. Я даже удивился. Повсюду поснимали портреты Ленина. Ну, думаю, а что будут делать с красненькой тридцатирублевкой? Там ведь тоже Ленина портрет. Нет, не тронули. Вот что значит гроши, капитал. Стоимость. Выше политики! — Гм, — скорей от удовольствия, — чем от удивления покачал головой Филипп. — Ну, читай, — подогнал его полицейский. Наконец гость, как и подсказывал ему хозяин, перевел взгляд с названия в нижний левый угол газеты. Там под общим заголовком «В последнюю минуту» была помещена информация «Тимошенко отстранен, Буденный на Лубянке». Ясно, мало кто теперь смог бы удержаться, чтобы не прочитать это сообщение «Менской газэты» до конца. Филипп тоже старательно, только что не сопя от внутреннего напряжения, прямо-таки глотал каждое слово. Не успел он поднять голову от газеты, как старший полицейский вызывающе, будто мстя за давешнее, сказал: — Ну вот, а ты еще сомневаешься. Сталину вправду уже кранты. С кем ему теперь воевать? У него полководцев своих уже, считай, нету. Доведется американцев или англичан нанимать, раз своими дюже легко распорядился. Но не думаю, чтобы наши солдаты да под началом американцев стали воевать. — Ну, а что Москву взяли, не пишут? — оставляя этот разговор без ответа, спросил словно себя самого Филипп и пробежал глазами другие заголовки. — Сдается, не пишут, — словно бы в удивлении, пожал плечами он. — А ты говорил, что взяли уж!.. — Газета-то не сегодняшняя! — Думаю, что и в сегодняшней немцы не написали еще про это. — Не написали, так напишут. На этот счет будь спокойный. — Да я и так не очень волнуюсь. Ты дал бы газету эту домой мне. Дома я лучше прочитал бы. — Ничего, читай тут. — Пора уж идти, кум. Бабам наказал бульбу варить. Небось готова, надо вести и этих вот тоже, не иначе как голодные. — Ничего, потерпят и без бульбы. Ну, а коли охота уж великая до нее, пускай себе идут. Их никто не держит, а мы с тобой дальше поговорим по ихнему делу. — Как же они без меня, кум? — Ага, дороги к дому не найдем! — подала голос Палата Хохлова. — Будут соваться в потемках и дом не найдут, — поддержал заступник веремейковских баб. — Ну, как знаешь., милок, — недовольно заерзал полицейский. — Но уговора своего я не отменяю. Я бабу завтра целехонькую возвращаю, а ты заявление вручаешь, комендант ради этого послушается меня. С завтрашнего дня и начнешь служить в полиции. — А что про меня люди скажут? — встав со скамеечки, подал гость хозяину газету. — То, что и про меня. — Ну, допустим, разница есть, — возразил Филипп. — Даже та, что меня в армию не взяли. — Нашел чем хвалиться! — Хвалиться тут и вправду нечем, — спокойно рассудил гость, — однако задуматься есть о чем. В армию по здоровью не взяли, а тут в полицию сам записался. Или, может, я этим временем поздоровел? Представляешь, что про меня в Яшнице завтра скажут, если я повязку эту нацеплю? «Ну, как знаешь!.. — обиженно пожал плечами старший полицейский, но в его обиженности было больше притворства, чем искренней досады. Видя, что это посещение может не иметь положительных результатов, Палага Хохлова вдруг сжалась и, набравшись смелости, взяла дальнейшие переговоры на себя. — Нет, ты уж, добрый человек, пожалей нас, — шагнула она к столу, где сидел насупившийся хозяин, и положила золотой, один из трех, что взяла у Гэли Шараховской. Полицейский сразу смекнул, что это за металл заблестел на столе. Он тут же взял золотой, поднес к глазам. — Ого, еще николаевская! — и подбросил на ладони золотую пятерку. — Дак ты уж и правда пожалей нас, — повторила Палага Хохлова, но теперь не так униженно, как раньше, когда обращалась к полицейскому, словно абсолютно была уверена, что золото оказало свое действие. — Ну что ж, — помаргивая, взглянул на нее полицейский, — на коменданта, пожалуй, эта монетка сильней подействует, чем даже Филиппово заявление. Но это же одному коменданту. А мне? — И для тебя вот тоже имеется, — уже совсем осмелела Палага, кладя на стол остальное. — Правда, не свои, в долг взятые, да пускай уж. Только сделай и для меня одолжение. Там, в лагере, есть человек один. Выручи ты его, отдай мне. — Кто он тебе? — Никто. — Откуда? — Говорит, из Москвы. — А зачем он тебе? — Дак… Старший полицейский вдруг захохотал во все горло», сказал издевательски, даже оскорбительно: — Ну вот, мужик где-то еще живой, а она уже другого себе нашла! Пакостные вы все-таки творения, бабы!
XIII
На все Веремейки несло горелым. Куда ни пойдешь, в каком конце деревни ни станешь — в коноплевском или коячанском, — всюду забивал ноздри этот запах горелого хлеба. Но пахло не из печей, которые сегодня утром так же, как и каждый день до сих пор, дымили в небо кирпичными трубами. Пахло горелым с поля, с Поддубища. Легкий ветер наносил оттуда чуть ли не сажу. Издалека, еще из деревни, виднелось на склонах желтого кургана множество черных заплат, разных по форме — как занялось от огня жнивье, — по временам кое-где еще взлетали вверх дрожащие искры, которые раздувал, набегая порывами, ветер. Отсюда же, из Веремеек, было заметно, как расхаживали там, передвигались призрачные человеческие фигуры. У Зазыбы в доме тоже не утихал разговор о» ночном пожаре. Заговаривала о нем, вздыхая, Марфа, всякий раз; начиная, словно забывшись, наново, а потом уж подхватывал Масей, который вообще, казалось, предупреждал чуть ли не каждое слово ее. В том, что Масей сделался таким разговорчивым, ничего удивительного не было — годы, которые они не виделись с матерью и которые обернулись для них мучительной разлукой, объясняли все наилучшим образом. Однако скрывалась за его словоохотливостью и другая причина, может быть, самая важная. Она заключалась в том, что отец сегодня не изъявлял не только особого, а совсем никакого желания сказать хоть слово о пожаре. Таким образом, своей словоохотливостью, которая, собственно, ограничивалась почти всякий раз самым домашним разговором о самых привычных вещах, сын как бы помогал матери. Это было в нем старое чувство, всегда вызываемое желанием, чуть ли не с малых лет, во всем принять материну сторону и не столько посочувствовать ей, сколько защитить, как ему казалось, от отцовской черствости. Кстати, это старое чувство, как помнится, сразу же заявило о себе и в ту ночь, когда Массей вернулся домой. А отец сегодня прямо почернел от угрюмых дум. Он теперь все время пребывал в одном настроении, которое точно определялось словом «дурное», и, может, только в те недолгие минуты, когда они встретились ночью на крыльце, не совладал со своими чувствами или сознательно дал им волю. Во всяком случае, встреча с сыном была настоящей, как и полагалось между двумя близкими людьми, много передумавшими друг о друге во время разлуки. Но та первая радость скоро прошла, вроде ставшая и не радостью, а вынужденной данью чувствам отца. Масей быстро понял, еще до того, как пойти в баню, что отца беспокоит его неожиданное появление, и чем дольше он жил дома, тем крепче уверялся в этом, особенно если учитывать, что отец, пожалуй, и не прятал своего беспокойства от него. Хотя после поездки в Бабиновичи он немного ожил, стал меньше задумываться, словно его там, в местечке, чем порадовали. (О том, что на обратной дороге пришлось наведаться в Мамоновку, чтобы увидеться с Чубарем, он и слова не обронил.) Но спать ложился опять удрученный. Когда ужинали вместе — мать, отец и Масей, — началась, как и водится обычно за едой между людьми, которые давно не виделись, беседа. Сперва хозяин вскользь описал совещание в Бабиновичах: что хотел комендант да как местные приняли уведомление о «новом порядке». Потом принялся рассказывать про свое житье в заключении Масей. Уже в середине его рассказа отец, который чуть ли не сразу хмуро сдвинул брови, вдруг дернулся от досады и сказал: — Эх, и охота тебе, сын, все время об одном талдычить? И себе бередишь душу, и нам с маткой головы дуришь! Ну, было! Но я ведь тебе говорил уж!.. Теперь не время про это про все вспоминать! Ты отмучился, другие помучаются! Да что те наши муки в сравнении вот с этими, когда весь народ в беде? — Беда — она всегда беда, — спокойно, даже вроде бы слегка насмешливо поглядел на отца Масей. — И малая — беда, потому что она чья-то, и великая — беда, потому что она тоже чья-то. Думаешь, если я о своей говорю, так иного не вижу и не чувствую? Но меня удивляет, ты вроде не веришь тому, о чем я рассказываю. Сам же небось тоже немало пострадал. Ну, пускай из-за меня. Так у нас и получилось — ты из-за меня, я из-за кого? — Этого я не знаю! — И не хочешь знать. — Гм, — поерзал на лавке отец. — Я говорю, не время теперь об этом вспоминать! Война ведь! — Для тебя, батька, война — всего только великая беда… — И час великого испытания! — Пускай так. Но пойми, война — не только всенародное горе, она также и результат обстоятельств. — Ну и что, если обстоятельств? — А то, что в нынешнем отступлении железной закономерности нет, то есть могли немцы наступать, а могли и мы. — A-а, вон ты о чем! Значит, по-твоему, виновата Советская власть? — Почему? Я хотел сказать… — Ну, вот что, сын!.. — уже спокойно и холодно подытожил отец. — То, что хотел сказать, держи при себе!.. Послухай лучше меня!.. Может, я заслужил хоть своими страданиями, как ты говоришь, право сказать это!.. Для меня Советская власть — как для матери твоей ты!.. Ей, видишь, нету никакого дела до того, какой ты теперь и что ты болтаешь, и что собираешься делать!.. Ты для нее по-прежнему тот, каким она тебя народила!.. А уж ты мне поверь, ни одна мать не хочет, чтобы дитя ее было плохим!.. Она бы тогда и мучиться не мучилась из-за него!.. Даже не рожала бы!.. Вот этак и для меня Советская власть!.. Я ее тоже… ну, если хочешь знать, я ее тоже рожал!.. Я за нее бился!.. Я за нее страдал!.. Потому что все мы, кто за нее бился тогда, знали, какая это власть и зачем она людям нужна!.. Конечно, теперь у немцев или у какого-нибудь Браво-Животовского можно ходить в героях, ругать Советскую власть, рассказывать разные страсти!.. — Да не ругаю я! Я только говорю… — Вот ты все время говоришь, а я до сих пор не знаю, с чем ты домой пришел, что у тебя в голове. — Ну-у-у, батька, ты уж совсе-е-ем!.. — И не совсем, а говорю о том, о чем должен сказать, потому что я тебе батька. С таким настроением теперь, знаешь?.. — У нас с тобой получается так, что, кажется, дальше уж и некуда. — Да, дальше уж и правда некуда! — покачав головой, с задумчивым видом молвил отец, будто увидел за своими словами, так же как за словами сына, что-то совсем другое, иной смысл, а не тот, который вкладывался в них на самом деле. Больше они не говорили. Словно для приличия, посидели еще за столом друг против друга, а когда Марфа начала прибирать грязную посуду, поднялись разом на ноги и разошлись — отец с чего-то в сенцы, сын, бросив в пустоту глухое «спасибо», скрылся за филенчатыми дверями на другой половине пятистенки. А потом случился пожар в Поддубище. Хоть и начался он уже за полночь, но в Зазыбовой хате настоящего сна не было. Спала только Марфа. Отцу с сыном, как говорится, не до сна было. Они то ворочались с боку на бок каждый в своей постели, то лежали в полудреме, не теряя окончательно ясности мыслей. А мысли у обоих кипели тревожные, трепетные, как и тот костер, который бросал с Поддубища отблески на темныеокна веремейковских хат. Сперва было трудно понять, то ли это все еще светит, прячась за деревней, луна, то ли где-то горит. Наконец крикнули на улице: «Пожар!» Зазыба был единственным человеком в деревне, который попусту не ломал головы, отгадывая, кто запалил этот перелог. Но, странно, взяв сразу же под подозрение Чубаря, он не осудил, что тот привел свою угрозу в исполнение, только потрясенной душой в каком-то бессмысленном недоумении все еще до конца не верил, что такое вообще можно сотворить. Пройдя на ту половину хаты, которая целиком принадлежала теперь Масею, Зазыба остановился у окна, прорубленного в стене, что выходила на глинище. От пожара в Поддубище багрец разлился на всем пространстве до самой деревни; он шевелился впереди, как будто двигающийся воздух поигрывал с исподу громадным, во всю ширину горизонта, покрывалом. Проникнув через окно, багрец метался и на полу в хате, ближе к филенчатым дверям, и на печке, что стояла в комнате с левой стороны от входа, переливался слегка на стенах, на столе. Но больше всего, пожалуй, бросался на Зазыбу. Тот стоял у окна, видный со двора по пояс. Лицо его казалось окрашенным, а глаза, в которых разом отразилось множество пылающих точек, напоминали скорей два выпуклых стекла, чем живые оболочки, способные не только отражать все, что происходило, но излучать и жизнь, и в первую очередь мысль, которая владела им в эту минуту. Хотя горело далеко, но даже на таком расстоянии, через стекло Зазыба почувствовал скоро на своем лице жар, а когда невзначай приложил руку ко лбу, ладонь словно обожгло — таким было впечатление от увиденного. Зазыбе все время мерещилось, что Чубарь где-то бегает там с факелом между копнами, раскидывает с них направо и налево охваченные пламенем снопы. В начале пожара, еще до того, как поднялась на ноги деревня, так оно и было. Но теперь Чубаря в поле никто не увидел бы, если бы и захотел. Там вообще ни одной живой души не было, лишь копны горели — вспыхивали и через некоторое время гасли. Зазыба вздохнул с облегчением, и сразу же какая-то слабость и тайное довольство овладели им. С этим ощущением он оторвался от окна, вернулся на свою половину хаты. Скоро с улицы пришла и Марфа. — Горит? — спросил он таким голосом, будто речь шла о дожде или о чем-то пустяковом. Между тем в деревне были два человека, которых если и не касалось это совершенно, то, во всяком случае, не слишком тревожило. Один из них — Зазыбов Масей. Да, он бегал вместе с матерью на крыльцо глядеть на ночной пожар, готов был даже отправиться тушить его, чтобы поторопились и остальные. Однако касалось его это постольку, поскольку он жил теперь в Веремейках и не мог не видеть всего, что делалось тут, так же как не мог и не слышать, о чем говорили односельчане. Словом, Масей пока не чувствовал себя в родной деревне своим, здесь еще ничего не было сделанного лично им, его руками, согретого душой и сердцем, скорей Масея по поведению его можно было счесть человеком пришлым, который к тому же не собирался долго засиживаться на одном месте и который способен только в малой степени сочувствовать здешней беде. В первый день возвращения в деревню Масей почти не выходил из дома. Не говоря о длинном пути, проделанном им из-под Минска до Веремеек, хотелось отдохнуть даже от бани. Да так и полагалось всегда — отдохнуть после баньки, только бы хватило времени. Ну, а Масею теперь времени было не занимать. Казалось, над Ним вдруг остановилась сама вечность в сравнении с тем, как он жил до сих пор, что от него требовалось ежедневно, как он должен был изловчиться в каждой новой ситуации, чтобы иной раз просто уцелеть, остаться в живых. Настал час, когда вдруг никому до него не стало дела, будто человек получил с этого момента бессрочное освобождение по непригодности своей. Понятно, что соответственно этому положению он и чувствовал теперь, и вел себя. Пока одно выводило его из этого состояния — присутствие отца, отношения с ним, беседы; тогда Масей начинал волноваться, как будто наново переживал свои последние годы. Но это что касалось прошлого. Сегодняшнее, так же как и будущее, его не занимало, по крайней мере, в такой степени, как требовали того время и события. Конечно, отец напрасно без конца упрекал его и беспокоился, что Масей будет делать и говорить в деревне лишнее. Если по правде, так Масей совсем не чувствовал в этом нужды. Одно дело — продолжать по инерции жить недавним прошлым, на то оно и недавнее, особенно его, чудовищно уродливое, иначе и не назовешь, другое дело — сознательно бередить то прошлое, распаляя в себе и в тех, с кем говоришь, ненужную злость. И уж если рассуждать таким образом дальше, так Масей мог бы даже объяснить себе, почему он вообще завел рассказ, который возмутил отца, скорей всего, виной этому было упорное отцовское неприятие, от которого Масею делалось не только обидно, словно бы он нарочно плел невесть что, но которое вызывало в нем желание обязательно настоять на своем, доказать что-то. С матерью Масею было легче. От ее близости, от ее забот приходило то спокойствие, которое, казалось, уже само по себе отметало все уродливое. Масей попытался даже сочинять стихи. Получалось — отогрели под тулупом замерзшего птенца, и он сразу же встрепенулся, запел. Но песня оказалась запоздалой, той, что застряла в горле еще на морозе. Казалось, в душе пробуждалось что-то живое, целебное, а на бумагу легло совсем иное, от чего сам Масей вздрогнул.Удивительно, но другим человеком, который остался в стороне от общих веремейковских хлопот, был Парфен Вершков. Крепкий мужик, которому, казалось, сносу не будет, вдруг почувствовал, что в тот вечер, когда постоял он на деревенском майдане под наведенными немецкими автоматами, начало рваться внутри у него нечто такое, на чем держится живая жизнь. Ночью он лежал в постели мокрый от холодного пота, который неизвестно откуда брался — не было столько воды во всем его теле, словно в хате с потолка выпадала роса и он купался в ней, беспрерывно бредя. Спал он неглубоко, чувствуя свой бред, а в промежутках, когда глаза застил паморочный туман, видел один и тот же сон, верней, не один, а целых три, которые сливались в один. Сперва он, сидя на какой-то липкой коряге, от которой не отвалились комки болотной грязи, закручивал на ногах каляные портянки. Ему было больно, потому что на ногах натерты большие мозоли. Рядом уже стояли сапоги, в которых он должен вскоре отправляться в какую-то длинную дорогу. Но Парфен так и не запомнил из всего сна, который повторялся не раз, натянул ли он в конце концов сапоги. Видение вдруг прерывалось, мозоли на ногах переставали мозжить, а потом наплывали новые картины: будто он присутствует при кончине отца, когда тот помирал давним зимним днем. Обычно старые люди умирают под утро, а его отец расставался с белым светом днем. Парфен действительно был при отце в те минуты. Однако того, что видел теперь во сне, на самом деле не было. Отец умирал без памяти, потому что перед этим долго болел и, наверное, уже не имел сил вернуться в сознание. Парфену теперь мерещилось все наоборот. Чудилось что-то невероятное и жуткое: уже задыхаясь, отец вдруг разлепил веки, укоризненно погрозил сыну пальцем, будто только что доведался о нехорошем поступке. Странно, но Парфен и на самом деле чувствовал себя виноватым, он только все не догадывался, о чем узнал отец, вину свою чувствовал, а в чем она, не мог взять в толк… Третьей частью того сна, если можно так назвать, было уже совсем недавнее. И не выдуманное сонной фантазией, а самое что ни на есть настоящее. Он стоял на площади перед колхозной конторой рядом с придурковатым Тимой, а напротив, похаживая между ними и толпой веремейковцев, говорил какую-то совсем не страшную речь, похожую, скорей, на обыкновенную проповедь, тот жандармский офицер в светло-зеленом мундире с черными обшлагами и красной лентой, продетой в петлицу на груди… Этим Парфенов сон кончался, потому что как раз тут, впадая в бред, Парфен слышал свой голос. Парфен просыпался, проводил рукой по лицу, заросшему щетиной, потом ощупывал подбородок, шею до самых ключиц, вытирал с кожи обильный пот, жалея, что нет рядом полотенца, но разбудить Кулину, которая спала в боковушке, не решался. Приходя в сознание, когда прекращался бред, он понимал, испуганный и удивленный, что случилось с ним такое, чего он еще не мог понять, что-то изменилось навсегда… За завтраком, когда он подносил ложку ко рту, Кулина вдруг сказала, что у него дрожат руки. Парфен даже остановил, задержал ложку, чтобы убедиться самому, и, еще больше пораженный, чем Кулина, вспомнил, что тогда, на площади, вот так дрожали у него колени. Будто не веря себе, Парфен вышел после завтрака во двор, прошелся от крыльца до ворот и, почувствовав неверную походку свою, вздохнул, сказав громко: «Слаб человек!..» — как будто хотел утешить этим философским признанием себя и вернуть былую силу. Зайдя снова в дом, Парфен лег на кровать, но уже, кажется, совсем без сил, как с большого похмелья. Кулина заметила и это, начала хлюпать носом, будто Парфен чем-то обидел ее, потом не удержалась и заголосила, обвиняя его во всем — и что незачем было заступаться за того сумасшедшего, мол, тебе завсегда больше других надо, ты нигде не пройдешь, чтобы не зацепиться за кого, и чем дальше, тем больше. Парфен в тот день больше из хаты не выходил. Когда к ним пришел Браво-Животовский, чтобы заставить хозяина ехать в Белую Глину отстраивать сожженный мост, Кулина сразу же накинулась на него: — Не дадите человеку отлежаться! Стоя на пороге, Браво-Животовский пренебрежительно сказал: — Ну вот, сперва в герои лезете, а потом кости в коленках считаете! Однако, судя по всему, был тоже поражен Парфеновым видом, тут же повернулся и, не слишком гремя сапогами, заторопился вон. После полицая Кулина, будто для приличия, чтобы недужный Парфен не подумал чего, помыкалась некоторое время по дому — по утрам всегда хватает беспорядка, то одно не так стоит, то другое, — потом собралась в Поддубище. Оставшись один в хате, Парфен начал думать. Собственно, он не переставал думать и раньше, несмотря на то, что усталая отчужденность брала свое, однако до того времени, пока не ушла Кулина, ощущал некую внешнюю связанность, достаточно было жене стукнуть чем-нибудь в устье печи или произвести нечаянно какой другой шум в сенцах или в хате, как мысль в его голове обрывалась, будто отсеченная чем-то острым, и он уже не мог заново наладиться на нее, чтобы раскрутить, словно бы какую-то шпульку, до конца; вместо потерянной мысли в голову приходила новая, заполняла все собой, и про старую вскоре даже не вспоминалось, но все время и старые, и новые мысли были связаны не с ним самим, это значит, думалось не про себя, а про других людей — либо про веремейковцев, либо про давних знакомых из других окружных деревень; и как раз, может, потому, что мысли эти были про посторонних, они все имели спокойный лад, про такие не скажешь, что одна неожиданно обожгла сознание, а другая встревожила душу; просто думалось будто издалека, в полузабытьи мерещилось, и только тогда, когда в памяти всплыла дочка, Парфен, кажется, дрогнул душой, снова обрел живую ясность в голове и подробно, день за днем перебрал в воспоминаниях свою поездку на Кубань, где жила дочь; но волноваться за дочкину судьбу не было большой нужды, не верилось, что война отсюда докатится до тех далеких степей, как-нибудь проживет там, а может, еще и мужику бронь дали, так и совсем хорошо у них будет, успокоил он сразу же себя, не давая времени горевать; во всем другом, что приходило Парфену на память, не было той остроты, той нетерпеливости, какие обычно требуют осмысления, напряженной работы мозга. Парфен не боялся смерти. Он не боялся ее так, будто уверен был, что она случится не с ним, а с кем-нибудь. Странно, но чувство это пришло к нему еще в первое утро, когда он нарочно, не веря своей слабости, прошелся по двору от крыльца до ворот и обратно. Тогда он, явно утешая себя, подумал, что помирать вообще не страшно, особенно в такое время, когда люди вокруг гибнут сотнями, тысячами, а может, и мильонами, потому что неведомо, кто из всех имеет большее право жить, раз уж кому-то приходится по причине сложившихся обстоятельств распрощаться с жизнью. Ему только странно стало, как это случилось, что вдруг подступает его очередь, человека, который, по всему, должен бы жить, — он не болел и не воевал. И смерть поэтому казалась ему не ко времени, он даже собрался с духом пошутить мысленно: по теперешним временам и в рай простому человеку не попасть, потому что война небось наделала праведников больше, чем способен вместить рай, недаром говорят, что погибших в битве архангелы пропускают туда без проверки… Своим недавним поступком, который, собственно, стал причиной всему, Парфен не гордился, но и не жалел, что пошел на это… Словом, Парфен был полон смирения и трезвого понимания. Однако теперь он все ясней видел одну подробность, раньше никогда не занимавшую его. Собственно, и подробности как таковой не было. Просто была самая обыкновенная попытка поглядеть со всех сторон на человека как на живое существо, которое родится на свет, побудет в нем, а потом обязательно должно исчезнуть почему-то, уйти в небытие. Поглядеть и понять, что здесь к чему. «Человек рождается, чтобы умереть. И не имеет никакого значения, сколько он должен прожить, — в конце концов, днем больше, днем меньше. Однако неужто человек действительно рождается только для того, чтобы умереть? Видно, промежуток от рождения до смерти, который называется жизнь, дается человеку, чтобы не только жить, но и что-то сотворить — добро, зло… Но почему зло? Значит?..» Возражая себе, Парфен сразу сделался беспокойным, будто поехал по ухабистой дороге, которая вытрясла из него то почти торжественное состояние, совсем недавно, минуту назад, выглядевшее как смирение, доброжелательность и готовность ко всему. «Конечно, — ткалась дальше мысль, — человек должен делать только добро. Зло тут ни при чем. Оно привнесено откуда-то, оно уже результат позднейший, когда с человеком стало делаться что-то ненормальное. Интересно, а как об этом сказано в Евангелии?» И Парфен пожалел, что никогда специально не читал эту книгу, только слышал, как читали из нее попы в церкви. Поэтому ничего, что подтвердило бы его мысль, он не вспомнил и сразу же забыл про Евангелие. «Да, человек должен творить добро, — снова подумал Парфен, — и если бы он творил только одно добро, тогда не хватило бы места в жизни всему несуразному, в том числе и этой войне. А вот людям чего-то неймется, словно и правда искушает и подбивает их дьявол». Про себя, про свой удел в жизни Парфен теперь и не думал. Все внимание его пока занимали общие размышления. Но настало время, и Парфен наконец-то от общих размышлений перекинулся в мыслях на свою личность: интересно было сопоставить, насколько отвечала этому основному требованию — творить добро — его личная жизнь. Странное дело, но большого утешения такое сопоставление ему не принесло. Парфен твердо уверен был в одном — зла он никому не сделал. Жил честно, хорошо относился к честным людям. Но как же это связывалось с тем, что человек, живя, должен делать добро? Честность — еще же не добро! Выходило, что и он, Парфен, жизнь свою прожил не так, как надо!.. Значит, зря ему до сих пор казалось, что для жизни хватит одной честности. Оказывается, человеку мало работать, мало любить близких — этого только и хватает, чтобы прожить самому. Ты любишь — тебя любят. Ты работаешь… Но и работаешь ведь потому, что без работы не будешь иметь куска хлеба… Получалось, таким образом, что Парфену необходимо было еще жить, чтобы оправдать свое появление на этот свет, жить, а не думать о смерти, не успокаивать себя и не искать в этом покое бесстрашия перед ней. Взволнованный, а вернее, внутренне возбужденный своими размышлениями, Парфен ощутил внезапно, что лежать вот так и думать ему больше нельзя, что надо как-то скинуть с себя тяжесть этого оцепенения, найти в себе силы двигаться, говорить!.. Опасаясь делать резкие движения, чтобы не закружилась голова от слабости, он посидел немного на постели, будто еще не зная, что сделает потом, нащупал спущенными ногами обувь, обыкновенные валенки без голенищ, которые назывались у них обрезнями, опорками и в которых удобно ходить, словно в мягких чунях. Валенки стояли на полу, как раз у самых ног, и он без труда сунул в них босые ступни. Теперь надо было подняться. Но та неуверенность, которая заставила его убедиться в своей неожиданной слабости, не давала сделать это, и он, привыкая к страху, повел глазами по хате, где вся утварь и вещи показались ему чужими, словно Парфен каким-то образом попал не к себе. Даже старинная цветная литография, которая была куплена еще отцом в японскую войну на ярмарке в Силичах и которая вот уже много лет висела у них на стене на одном и том же месте, под вышитым ручником, эта литография тоже показалась Парфену незнакомой, откуда-то принесенной сюда, и он остановил на ней взгляд, в котором отразились одновременно и недоумение, и любопытство. На литографии на фоне Московского Кремля был изображен некий розовощекий усатый богатырь в желто-синем кафтане и красных сапогах с загнутыми вверх носами. Богатырь держал в обеих руках российский флаг. Внизу, под ногами богатыря, было две строчки: «Долго будут дети наши помнить славные дела…» Парфен с малолетства знал все эти слова от начала до конца, их читали в этой хате и тогда, когда никто не умел читать — наизусть, услышав однажды от какого-то грамотея, может быть, того самого, который продал на ярмарке литографию, — читали и тогда, когда уже появились у Вершковых свои грамотеи. Однако теперь Парфен будто наново вникал в подпись, что в своем продолжении имела следующий смысл: «…Как отец их, воин славный, побил ворогов неверных и вернулся домой с победным флагом». Задержки этой с разглядыванием литографии как раз хватило Парфену, чтобы забыть о недавнем страхе. Уже совсем не думая о том, что от слабости подкосятся ноги или закружится голова, Парфен оперся руками о край постели, оттолкнулся и сделал несколько порывистых шагов к порогу. Крепости в ногах не было, но и страха, что они не выдержат, подведут, тоже не было. Зато было стремление скорее выйти из хаты, будто ее заполнил отравленный воздух. Нажав большим пальцем на плоский язычок замка, Парфен толкнул — сразу рукой и ногой — от себя дверь, совсем не заботясь, что она распахнется настежь, стукнется другой скобкой замка о стену, и наугад, чуть ли не ощупью вышел на крыльцо. Блеск солнечного утра, что падал на загороженный хлевами двор прямо с неба, сразу словно бы ослепил его, а воздух, который хранил еще во дворе холодноватую свежесть, бодрым хмелем примешивался ко всему, чем жадно дышал он. Все это — и резкий блеск солнечного утра, и хмелем бьющий свежий воздух — моментально подействовало на ослабевший организм, и Парфен прислонился плечом к косяку. Опять, как и в то утро, когда выходил попробовать свои силы, он сказал себе, верней, подумал: «Слаб человек!..» Эти два слова теперь он проговорил с особым удовольствием, будто доброе заклинание, после которого человек находит и силу, и уверенность, открывая вдруг для себя утешение в том, что он только разделяет то, к чему Имеют отношение и чему причастны остальные люди. Из сада пахло яблоками и еще чем-то, что вместе заглушало другие запахи, которые извечно жили на крестьянском подворье, это был знакомый запах, который остался от кисло-сладкого лета. «Пойду-ка я в сад», — спокойно, с какой-то радостью в душе подумал Парфен и, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, оттолкнулся от косяка и медленно спустился по ступенькам с крыльца. Сад был, как говорится, во всей своей спелой красе, которая настает в конце августа да еще продолжается и сентябрь, покуда с летних деревьев не начинают градом падать яблоки; на грушах и яблонях ветви гнулись от красных, желтых и светло-зеленых крепких плодов; на голой земле под деревьями переливались солнечные лучи; вверху, между густыми ветвями, порхали, словно в лесном малиннике, крупные птички, которых уже давно никто не пугал здесьне только нарочно, а и нечаянно. Сад был Парфеновой гордостью, делом его рук, потому что хоть Вершковы — и дед Парфенов, и отец — и считались в деревне хозяевами, имеющими сад, однако только Парфен обиходил его по-настоящему. Дедов и отцов сад (а Вершковы все спокон веку жили на одной усадьбе) всегда стоял запущенный, случалось, что по нескольку лет деревья, съеденные паршой, не приносили плодов, груши и яблони часто вымерзали, как только зима слегка приударит морозом. Парфен же, как только подрос и заимел в доме вес, кажется, первое, что сделал, это выкорчевал осенью дуплистые и малоплодные деревья, а вместо них накупил в имении Шкорняка и привез молодые саженцы. Через десять лет из тех Шкорняковых саженцев вымахали здесь чудесные беры, сапежанки, ильинки, антоновки, плодовитки, путинки да боровинки… Ни одно дерево в Парфеноном саду не повторялось, кроме антоновских. Их было у него три, и стояли они по обе стороны от груши, унизанные тяжелыми, будто из железа отлитыми яблоками, обычно до самого ноября, когда на краю неба начинали громоздиться друг на друга темные тучи, из-под которых медленно выпирали в синюю бездну отроги снеговых облаков. Спас Парфен свой сади в недавние морозы, во время финской войны. Мимо крайних деревьев, что гулко, словно боясь обломиться от тяжести, теряли то и дело по одному яблоку, Парфен обошел с солнечной стороны сад, неспешно направился к забору, что отгораживал усадьбу от загуменной дороги. Там он припал грудью к верхней жерди, перебросил на ту сторону обе руки, повиснув на ней подмышками. Так стоять было удобно и покойно, не ощущалась даже тяжесть в ногах. Сразу же за лужком, что с давних времен оставлялся здесь невспаханным, ширилось поле, которое правым краем шло вдоль большака до песчаного взгорка, словно утыканного приземистыми, выросшими под солнцем сосенками, а левым все время огибало засевные луга, расширяя их светло-зеленый простор, и закруглялось, подходя к большаку, на том же взгорке. Долго стоял Парфен в одиночестве у забора, пока не увидел издали человека. Увидел и обрадовался, хоть и не узнал. Человеком тем был Зазыбов Масей. После настойчивых материных уговоров он все-таки отправился из Поддубища вниз, к суходолу, напился там из криницы воды, особый смысл придав вечному в таком случае: «Ех ipsa, fon te bibere»[43] — потом сделал большой круг по бывшим наделам и повернул к глинищу. В отличие от Парфена Вершкова, который долго не мог узнать Зазыбова сына, Масей еще издали легко догадался, кто это стоит на огороде Вершковых у забора. Не сворачивая к себе в заулок, он миновал, шагая по дороге, выгон, с которым соседствовала усадьба Вершковых, и еще за несколько шагов поздоровался: — Добрый день, дядька Парфен! Тогда и Вершков задал навстречу ему удивленный, но степенный вопрос: — Не Денисович ли? — Да, — улыбаясь, подошел Масей к забору с другой стороны. — А я гляжу, идет кто-то мимо глинища, стою и гадаю себе, вроде и знакомый человек, и незнакомый, а теперь вижу, дак ведь это и правда ты, Денисович! Парфен почувствовал желание говорить без удержу, ему ничто не мешало внутри, поэтому он не стал ждать ответных Масеевых слов, спросил: — Откуда же ты? — Ходил, глядел. — Значит, ты давно в деревне? — Порядочно. — А я и не слыхал, — словно пожалел Парфен. Масей не видал Вершкова несколько лет. Не помнил даже хорошенько, пришлось ли встретиться им в его последний приезд в Веремейки, уже из Минска. Зато в тридцать четвертом году, во вьюжном декабре, они беседовали часто. Благо тогда хватало о чем говорить. В том месяце наконец-то была отменена в стране карточная система на хлеб. А вообще декабрь в тридцать четвертом начался недобро — выстрелом из нагана в здании Смольного. Через неделю уже работала военная коллегия Верховного суда… Были, разумеется, и другие события, которые происходили в декабре тридцать четвертого, — например, страна с огромным подъемом готовилась к выборам в Советы, и среди кандидатов в депутаты назывались первые Герои Советского Союза, летчики, которые спасли из ледового плена челюскинцев; в строй действующих вступил Кузнецкий металлургический завод, к строительству которого, кстати, имел непосредственное отношение «славный русский доменщик» Курако, которого в Веремейках, так же как и в других окрестных деревнях от Унечи до Козельской Буды, знали по девятьсот пятому году, когда он, внук генерала в отставке, поднимал крестьян на восстание против местных помещиков; Совет Народных Комиссаров и Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет с великим прискорбием сообщали народу о смерти кавалера ордена Ленина, «крупнейшего ученого, активного борца за науку» академика Марра… Однако из всего радостного и нерадостного больше всего запомнились отмена карточной системы на хлеб и убийство Кирова. В газетах почти каждый день появлялись сообщения «В Народном комиссариате внутренних дел», где встречались порой знакомые всем имена. Вокруг этих имен тоже велись тогда их беседы. Вершков обычно приходил к Зазыбам в хату, как только хозяева отужинают, и оставался там до первых петухов. В Масеевой памяти застряло от тех вечеров одно высказывание Парфена. Держа в руках газету с очередным списком осужденных врагов народа, Парфен сокрушенно сказал: «В таком деле всегда опасность есть. Хоть как ты ни стережись, хоть каким ты честным да кристальным ни будь, а опасность есть. С кого первого начинать, люди обычно знают. А вот кем кончить, не ведают. Отсюда и беда. Сегодня ты его заберешь, а завтра за тобой другой придет. Так что… Словом, это как просо в мешке, только дырочку маленькую проколупал кто ногтем, и не удержишь, как вода оттуда вытечет». Теперь Парфен удивил Масея. На лице его лежала какая-то неживая, землистая тень, свидетельствующая, наверное, о нездоровье. Почувствовав, что Масей удивлен, даже поражен его видом, старик с горечью подумал: «Значит, вправду мои дела плохи», — а вслух сконфуженно сказал: — Хвораю, Денисович. — Помолчал немного, а потом снова будто спохватился: — Ну, а скажи, Денисович, стоит ли человеку вообще жить? — Как это? — Масей расплылся в искренней, немного растерянной улыбке. — Ну, может, не совсем так я выразился, — поправился Парфен. — Я имел в виду вот что: надо ли человеку долго на свете жить? — Все равно странный вопрос. Я не могу вам ответить на это, дядька Парфен. Да и почему вдруг такой разговор? — Говорю, хвораю вот, дак тоже думаю. А теперя тебя увидел, спросить решил. — Значит, я под настроение попал? — Считай, что так. — И все-таки, дядька Парфен, не знаю, что ответить. Но один мудрый философ, кстати, немец, сказал, что никто из нас не создан для счастья, зато все мы созданы для жизни. Значит, все мы должны жить. Ну а насчет того, долго или недолго жить, это кому как на роду написано. Но Парфена, казалось, уже не интересовали последние Масеевы слова. — Неужто бывают и немудрые философы, Денисович? — вдруг спросил он. — Бывают. — А как фамилия того? — Фейербах. — Нет, не слыхал, — покачал головой Парфен. — Значит, говоришь, немец? — Да. — Гляди ты!.. А теперя вот этот Гитлер! Тоже ведь немец и небось мудрым себя считает. — Да еще каким! Фюрером! — Ну, ладно, черт с ним, с Гитлером! — поморщился Парфен. — Ты все же подумай, Денисович, для чего человеку надо жить, раз ему и в счастье твои философы отказывают? — Да не отказывают, — засмеялся Масей. — Просто не каждому оно выпадает. Тут разные причины случаются. Один болеет, другой шалеет, третий дуреет, а четвертому просто пообедать не на что. — Ну, если бы только так было!.. не поверил Вершков. — Я про другое хочу дознаться. Взять хотя бы вот меня. Ну что хорошего в моей жизни, чтобы долго жить? Для чего моя жизнь? Сколько помню себя, дак только пахал вот это поле. Вспашу, засею, соберу, съедим. Дак стоит ли ворочать да ворочать землю только для одного, чтобы жить? Нет, Денисович, для жизни человеческой есть либо другой смысл, какого и твои мудрые философы не знают, либо тогда и правда, что совсем его нет. Потому и надоедаю тебе. Перед тем как выползти сюда из хаты, я тоже вот так думал. А тут, вижу, ты. Дак с кем поговорить, как не с тобой? А может, и правда, Денисович, что человеку все равно, сколько на этом свете прожить — двадцать лет или все сто? — Если бы так было, как вы говорите, то, конечно, разницы никакой. Но человек не только пашет да ест. — Дак это я только к слову, что он пашет да ест, — встрепенулся Парфен. — Он и топором машет, он и нитку сучит, он и колеса делает. Но раскинь мозгами, Денисович, опять же он все это делает для себя, чтобы жить: топором машет потому, что без дома не проживет, нитку сучит потому, что голому иначе придется ходить, ободья на парах гнет потому, что ездить надо. Так что, сам видишь, не очень великая во всем этом мудрость. — Нет, дядька, — легко засмеялся Масей, — как раз в этом-то вот — чтобы жить, — пожалуй, и вся мудрость заложена. Должно быть, в этом и смысл нашего пребывания на земле. Ну, а что касается вашего пессимизма, так… — Это не пессимизм, как ты говоришь, Денисович, — заторопился Вершков, — это другое. Выяснить хочу, что к чему здесь и откуда. Жизнь человека можно сравнить с быстрой ездой. Только и успеваешь перепрячь иной раз лошадь. А так все мчишься куда-то, пока не очутишься на краю обрыва. Вот тогда и начинаешь думать-гадать: и чего гнал, и пошто торопился? Так и со мной случилось. Всю жизнь не думал, чего живу, а тут вдруг начал. — А неужто, дядька Парфен, в вашей жизни не было ничего такого, что оправдало бы перед вами ее смысл? Я почему говорю, что перед вами? Очень большую мерку для всего берете. Так неужто вы ничего не сделали, с чем жаль было бы расстаться, если бы… и вправду пришлось умирать? — Не помню… Может, и сделал… Может, с дочкой, с внуками связано… — Вот видите! — Но ведь это, если подумать, тоже… — Правильно, — воскликнул Масей, наперед угадав Парфенову мысль. — Однако человек вместе с тем живет и для того, чтобы повториться в другом. В Евангелии написано об этом так: «Правду, правду говорю вам, если пшеничное зерно, упав на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». — Значит, во всем есть смысл? — понял Парфен. — Даже в смерти? — Есть. — Ив войне? — Да. Потому что в войне обычно сражается добро со злом. — Много же, очень много падает этих зернышек на землю, — вздохнул Вершков, — даже стыдно порой, что сам ты еще живешь. Но интересно получается, — сказал он, подождав немного. — Кругом я виноватый. Вроде стараюсь доказать свое, а ты мне, Денисович, все наоборот говоришь. — И проницательно, зорко, будто с горестным недоверием, посмотрел на Масея. — Почему виноватый? — опомнился от этого взгляда Масей. Вершков сокрушенно усмехнулся. — Знаешь, Денисович, лезет всякое в голову. Странно даже… Наверное, и правда скоро помру. Сдается, куда уж проще, однако не мог в одиночку растолковать себе, что такое есть это самое добро. Лежу и не могу в толк взять, будто я того добра сам не видел ни от кого и никому не делал. Вот до чего вдруг дошел, Денисович, за эти дни в болезни. Тоже небось философом становлюсь. Ну да ладно, Денисович, я все про свое да про свое. А как ты? Откуда ты? Сдается ведь… — Было, дядька! — весело, как о какой-то очень давней своей мальчишеской проделке, которая вдруг открылась, сказал Масей. Вершков после этого вдруг сдвинул брови и, отвернувшись, явно с притворством покашлял, словно крякнул досадливо. Он по-прежнему стоял у забора с переброшенными через верхнюю жердь руками, и эта подробность бросилась Масею в глаза особо — конечно, человек стоял так не просто для удобства. Значит, Парфен вышел сюда, не рассчитав сил, а теперь ему нелегко будет вернуться обратно в сад или в хату. Несколько минут назад Масею непривычно было видеть землистое Парфеново лицо, однако совсем нестерпимой стала его жалость после того, как представил он беспомощность старика. А ведь никто в деревне за эти дни и словом не обмолвился о Парфеновой болезни. Потрясенный, Масей теперь посматривал искоса на повернутую его шею с глубокими морщинами и остро, прямо до жжения в сердце думал о том разговоре, который они вели только что друг с другом, будто допустил в нем какую-то непростительную промашку, если не больше. Масей просто не мог позволить себе ничего подобного, потому что всегда почитал Вершкова за умного и рассудительного человека, от беседы, от отношений с которым никогда не утратишь, а, наоборот, приобретешь. Каждый раз, когда Масею приходилось сталкиваться с ним в свои приезды в Веремейки, он восхищался этим человеком и вместе с тем удивлялся, как тот, почти малограмотный крестьянин, умел схватывать большие общественные проблемы и давать им правильное истолкование. Если говорить про народ и про носителей мудрого народного опыта, то Вершков как раз и был одним из лучших, в душе которого скапливалось все наиболее чистое, здоровое, честное и неуступчивое, на чем держится жизненный уклад. Кстати, отца своего Масей тоже относил к этой категории людей, хотя в сравнении с Вершковым тот имел уже большой общественный опыт, недаром столько лет являлся главной фигурой в Веремейках. Странно, что с отцом Масей спорил, доказывал свое, а вот с Парфеном уже будто и не хотел, стеснялся даже. И все-таки он попытался оправдать это свое нежелание. — Понимаете, дядька Парфен, в жизни есть вещи, о которых не всегда хочется лишний раз вспоминать. — Говоря так, Масей был не совсем искренен, по крайней мере, воспоминаний это никак не касалось, зато абсолютно искренне он объяснил дальше: — Отец мой вообще говорит, что теперь разговоры обо всем, что со мной произошло, кроме вреда, здесь ничего не принесут. Так что… Масей не надеялся на ответ, но Парфен вдруг повернулся и без тени какого-то бы ни было неудовольствия поддержал отца: — Денис что попало болтать не станет. Раз говорит, значит, так надо. Ну, а я почему спросил? Дак тоже понять можно. Завсегда ведь, когда нового человека встретишь, так спросишь, где был, что видел. Ну, а раз мы заговорили про твоего отца, Денисович, так я тоже скажу, что думаю. Я, правда, не мастак говорить речи, это не по мне, особенно если и нет надобности в них, однако отец твой правда человек редкий, за ним людям всегда прожить можно. Ты думаешь, он, советуя тебе молчать, заботится об одном тебе или о себе? Нет. Не такой он человек. В этом во всем другой смысл надо искать. Вот если бы каждой деревне в председатели такого человека, а потом каждому району, а после области, ну и так дальше, вот тогда бы и вправду для всех царство свободы настало, тогда бы не страшно было ни стихийного бедствия, как в газетах пишут, ни сволочей. Спроси у наших веремейковцев, тебе мало кто не скажет, что мы и пожили те годы, что за твоим батькой. Конечно, не за одним за ним, это бы уж совсем неправда была, тута главное — власть, она всему причина, но ведь даже и Советскую власть можно либо под себя подмять, либо… Словом, я хочу сказать, что даже при такой доброй власти можно не везде одинаково жить. Вон наши соседние деревни. Они и в колхоз свой по-разному шли, они и в голод, что настал потом, не одинаково жили, чего уж тут греха таить… А у нас в Веремейках тем временем все ладно, все, кажется, по-человечески. А все через твоего батьку — за все он в ответе, все он на себя брал где-то, а в деревне, чтобы в одиночку что взялся решать, дак тоже такого не было. Сперва у людей поспрашивает, а потом уже дело затевает. Так что… Я вот тебе к слову скажу. Ты же отсюда давно уехал, а если и приезжал, дак все равно не про все знаешь. Потому и расскажу, раз уж разговор завели. Батька твой раньше, как и мы все, косы да сохи из рук не выпускал, а потом уж стал председателем у нас. Правда, партийным был всегда. Ну, а тута как раз колхозы начали делать. И к нам в Веремейки приезжает уполномоченный из района. Как теперь помню, Жаботинский по фамилии. И человека с собой в председатели привез. Созвали сход деревенский. Мужики между тем молчат: колхоз — дело; конечно, новое, кто его ведает, куда шею сунешь, в какой хомут. А тута покуда всем неплохо — и земли, спасибо Советской власти, хватает, и живность разная есть, только бы здоровье не подкузьмило. Словом, жить и без колхоза вполне можно. А Жаботинский подгоняет. Наконец заявил: кто против колхоза, тот против Советской власти. Тута наши мужики и зажурилися. Разве ж кто у нас против Советской власти? Начали голосовать: кто за колхоз? Власть Советскою желают все, а руки за колхоз подняли только твои батька да еще три или четыре хозяина из деревни. Видит Жаботинский, дело проваливается. Вскипел и говорит: «Голосование отменяю. Голосуйте так — кто против Советской власти?» Ну, мужиков наших и взорвало. Закричали, загомонили — не хотят подымать рук. «Ну, — говорит тогда Жаботинский, — весьма силен среди вас классовый враг. Надо принять другие меры. Надо провести индивидуальную обработку. Сегодня собрание распускаю, а завтра вызову к себе самых злостных вредителей. Поглядим, что вы тогда запоете мне!» И что ты думаешь, правда, утром начал вызывать к себе некоторых мужиков. Меня тоже не обминул вниманием своим. Говорит: «Я наверное знаю, что у твоего отца в одна тысяча восемьсот девяностом году месяцами работал поденщик, а сам ты в одна тысяча девятьсот двадцать первом году отдал в аренду вдове Игната Самуся надел земли. Теперь мне ясно, почему ты не хочешь вступать в колхоз. Ты являешься классовым врагом, противником Советской власти». Ну, что я отдал когда-то Самусевой Параске кусок земли, это я знаю. Отдал и назад не взял. Отдал насовсем — сына она тогда женила, а это, может, знаешь, родня моей первой женки. И отдал еще потому насовсем, что у меня лишняя залежь была. А вот что касается батьки… Дак тута я и сказать ничего не могу ему. Разве я помню, был ли у моего батьки в одна тысяча восемьсот девяностом году поденщик или не был? Я сам тогда еще под стол без штанов бегал. А Жаботинский мне все угрожает. Ну, а я себе тем временем думаю: нет, ты тута вали на меня хоть что, но приписать классового врага не можешь, потому что никакой я не эксплуататор. Про это все знают в Веремейках. Слышим, и других мужиков уполномоченный разными выдумками пугает. Тогда твой батька потихоньку запрягает лошадей да в район! Ну, и забрали от нас на другой же день Жаботинского, а председателем дозволили выбрать батьку твоего. Он, правда, стопроцентной коллективизации не потребовал от мужиков, однако через полтора года уже все мы сами в колхозе были. Даже раньше. И угрозы, оказывается, не нужны в этом деле, и просьбы. Вот оно часом бывает как. Нет, Денисович, батька твой делать что попало не будет и говорить тоже. Раз он говорит, дак это уже край. Я несколько недель тому назад прямо изводился. Вижу, и наши уже чуть ли не все отступили отсюда, и немцы вот-вот придут в деревню, а его все нет. Как погнал колхозных коров куда-то на Орловщину, так и нема. Думаю, пропадем без него. Так что, Денисович, смекай. Я сам было намедни, что ли, разворчался — и то было не так до войны, говорю, и это лучшего заслуживало. А он мне: «Теперь, Парфен, каждый лиходей может Советскую власть ущипнуть, потому что трудно ей стало, не везде успевает отмахнуться. Теперь честные люди должны заботиться, чтобы помочь ей. Мы ей, а она нам. Потому как без нее нам все равно не будет хорошего житья». Подумал я после горячки, правду говорит Денис. Потому и тебя зараз понять могу, Денисович. Но скажи мне и вот про что… Ай не знаешь? — Ну, а вдруг да знаю? — Дак скажи тогда. Дюже знать хотелось. Дак скажи: кто на этой земле, где мы теперя, жил до нас? Что за народ был и когда это было? Мне тута учитель один рассказывал, будто бы какие-то радимичи до нас жили и по ту, и по другую сторону Беседи. Слыхал же небось, как говорят иногда: родимец тебя забери! Дак неужто и правда жили тута какие-то худые люди? — Как вам сказать, на этой земле действительно когда-то жили радимичи. Пришли сюда откуда-то с древних соседних земель со своим- предводителем Вадимом и поселились между Днепром и Десной, это значит, конкретно на берегах наших рек — Сожа и его притоков Беседи и Ипути. А у Радима был еще брат Вятка. Отсюда и вятичи пошли. Вместе с войском князя Олега ходили радимичи на Царьград, это аж в нынешней Турции, за Черным морем. Видно, они имели немалый флот и были необычайно воинственны, потому что часто отказывались платить дань даже Киеву. В книгах сказано, что на своих «игрищах» они красиво плясали и задушевно пели, выкрадывали себе невест из соседних племен, а жен имели по две, даже по три. При похоронах устраивали большую тризну, а потом покойников сжигали на костре, пепел собирали в ящик и ставили на столбе при дороге. А вот почему слово «родимец» стало таким, что им еще и теперь пугают, я точно не знаю. Может, потому, что радимичи выкрадывали себе невест из других племен, от своих соседей, молоденьких девушек, порой еще совсем подлетков, которые потом вырастали в их домах в красавиц? Скорей всего так. — Значит, то были наши предки? — Но ведь до них тут тоже жили люди. По ту сторону Беседи, в Клеевичах, например, археологи раскопки вели, местные курганы изучали, так нашли стоянку древних людей, которые жили на ней давным-давно, чуть ли не сто тысяч лет до нас. — Может, и в нашем Курганье, — показал Вершков направо от большака, — можно найти такую стоянку? — Может, и можно, — ответил серьезно Масей. Вершков после этого некоторое время молчал, переживая услышанное, потом спросил: — Ну, а радимичи, куда подевались они? — А никуда. Просто смешались с другими племенами. С соседями — дреговичами, кривичами, вятичами, северянами. — Значит, они все-таки остались тута? — Пожалуй, так. — А потом, что потом было? — Княжества были. Сперва Мстиславе кое. Потом Литовское. Слыхал небось — Великое княжество Литовское? Потом здешние земли вместе с Литовским княжеством попали под польскую корону. Но всегда они назывались русскими. Даже в Речи Посполитой и то не утратили своего названия, так и писались: русские земли. — А когда это Вощило бунтовал? Еще и теперя Кричевских баб вощилками зовут. Даже когда и наш кто, случается, берет оттуда за себя девку, дак вощилкой ее за глаза дразнят. — Вощило бунтовал при поляках. Как раз скоро будет двести лет тому восстанию. — Про это еще и теперя разные истории рассказывают. Особенно в Мурином Бору. Значит, и раньше неспокойная наша надбеседская земля была, Денисович? Не давалась? — Выходит, что так, дядька Парфен, — с удовольствием согласился Масей. — Вот видишь, — сказал на это Вершков, будто оправдывал в глазах Масея исторический экскурс, затем просветленно, как бы освобождаясь изнутри, улыбнулся. — Ну, пошли, Денисович, теперя в мой сад. Еще я хочу кое о чем поспрошать у тебя. Да и яблоки с грушами это лето, вишь, какие наросли? Пошли. Вершков даже не стал ждать, пока Масей выразит согласие, как будто заранее был уверен в нем, оттолкнулся руками от забора, круто повернулся и сделал несколько твердых шагов по тропке. И вздрогнул вдруг, запрокинул голову, падая навзничь. Пораженный Масей, почти не чувствуя своего тела, перескочил через забор, кинулся к Вершкову. Даже не наклоняясь над ним и не слушая сердца, можно было без ошибки сказать — Парфен упал на межу мертвый!.. Пожалуй, это был первый человек, который в дни войны умер в Забеседье своей смертью. Падая, он даже глаза успел закрыть словно не хотел чтобы потом увидели их пустоту.
XIV
Веремейковцы выбрались в Белую Глину последними из всех, кому было приказано явиться туда на подводах. Ехали кто на чем — на телегах, на повозках, а кто и прямо на дрогах, положив доску поперек, запрягали лошадей возле конюшни тоже во что придется. Зазыба занял место в обозе сразу же за Силкой Хрупчиком. После него ехал Микита Драница. Микита сегодня почему-то скрытно, прямо загадочно молчал, только крутил, как филин, своей большой головой, зыркая по сторонам, будто его что-то очень беспокоило или мерещилось. Тем временем у Зазыбы было на уме, как бы передать Миките Чубарев приказ явиться в Мамоновку. Там, у конюшни в Веремейках, он не решился подступиться с этим к Дранице, потому что разговор был тогда общий, про пожар, и Зазыба просто побоялся, что Драница испугается, трепанет при всех и сразу же станет известно про Чубаря и про то, что ночной пожар в Поддубище мог быть делом его рук. От самых Веремеек по обе стороны тряской дороги шел лес — сперва старые, уже давно выбракованные, но не поваленные и не вывезенные к руму сосны, потом молодой хвойный подлесок, среди которого на голых проплешинах одиноко горюнились белоствольные березки, потом снова появлялись большие деревья с подсочкой этого года. Колеса пустых телег звучно ударяли о корневища, которые выпирали наружу, и от этого на весь лес, казалось, шел неслыханный грохот и гул, из-за которого человеческое ухо уже не способно было ничего расслышать. Ехать по такой неровной дороге было в самом деле тряско и даже щекотно, поэтому кое-кто, привязав узлом веревочные вожжи к боковой по-дуге, опрометью отбегал недалеко, чтобы вырвать на опушке охапку курчавого светло-бурого вереска себе под зад; а подложив, каждый поглядывал на остальных с вызовом, будто только что совершил нечто геройское или уж в крайнем случае то, что другим невдомек. Держа вожжи в руках, Зазыба почти не погонял лошадь, да и нужды не было в этом, потому что его мышастый, увлекшись общим ритмом скорой езды, старался сам поспевать за передней подводой. Зазыбе только и забот оставалось, что время от времени бросать взгляд на топор, воткнутый в щель между грядок, чтобы тот не потерялся в дороге.
Перед тем как отъехать от конюшни, для разгона веремейковские мужики затеяли беседу. Начал ее Браво-Животовский. Недаром говорят, что на пожаре, кроме всего прочего, можно нагреть также и руки. Браво-Животовский как раз и сообразил использовать момент, благо веремейковцы с утра по-настоящему были возмущены поджогом, даже те, кто обычно отмалчивался в разных обстоятельствах, сегодня злобились в душе, готовые на все. — Теперь сами видите, — словно уговаривая односельчан, начал Браво-Животовский, — без вооруженной охраны нам не обойтись. А то ведь кое-кто из вас подумал небось: сдурел Антон, не за то хватается. А я про вас, про деревню в первую очередь думаю. Винтовка — она… не только волков запахом отпугивает, а и двуногих заставляет вести себя как полагается. Винтовка — сила. — А, забрось ты ее, знаешь куда!.. — вдруг скривился и махнул пренебрежительно рукой Роман Семочкин. Такого от него никто не ожидал, но у него тоже сгорели ночью чуть ли не все копны. — Что толку от твоей этой бельгийской ломачины, если самого тебя с учеными собаками нигде не найти! — Допустим, тогда я действительно проспал, — смущенно замигал Браво-Животовский, будто хотел показать, что без лишних слов принимает Романов укор, хотя в действительности не пошел на пожар, испугавшись. — Но гляньте-ка на дело с другого боку. Допустим, в деревне не один я полицейский, а несколько. Кстати, на Веремейки и так положено на каждые тридцать дворов еще по одному. Да на два поселка. Значит, уже целое войско будет в деревне. — А начальником немцы, не иначе, поставят Романо-вого Рахима, — тоже в отместку Браво-Животовскому, который «проспал» пожар, бросил Силка Хрупчик. — Роман же когда еще хвалился, что его постоялец возьмет всю власть у нас. — Нет, теперь уж это не так, — совершенно серьезно, словно не замечая Силковой нарочитости, возразил Браво-Животовский. — Его в Печи под Борисов земляк забирает. — Вот это земляк, а? — подмигнул Иван Падерин. А Силка Хрупчик добавил: — Ну, а то все нас Роман пугал: ста-а-а-нет мой дружок начальником и всех тогда ба-а-а-б… Ха-ха-ха! — Видать, шишка великая его земляк из Печи? — словно завидуя, почесал затылок старый Титок, которого Браво-Животовский тоже заставил отбывать повинность в Белой Глине. — Да уж… — Но ведь Роман небось так и не сводил его в Веремейках разговеться? — вспомнил Иван Падерин, как будто его до сих пор это заботило. Мужики захохотали. — Дак… А Ганна Карпилова? — подсказал кто-то из толпы. — Ну, до Ганны, я вам скажу… До Ганны хоть кого затащить нехитро, правда, Роман? А вот… — Иван Падерин, видать, надолго завелся. Поэтому Роман Семочкин, перебивая охальника, сказал: — Ты бы, Антон, рассказал хоть, что там деется в волости. А то сам небось ездишь чуть ли не каждый день, а нам ни слова. — Я же не один езжу, — чтобы все слышали, сказал Браво-Животовский. — Вот и Зазыба тоже был раза два уже. Попросили бы его, пускай он расскажет. — А про что мне рассказывать? — пожал плечами Зазыба. — Как про что? Про все расскажи, — как бы подначил его Браво-Животовский. — И про то, как тебя староста выгонял из церкви? — прожигая полицая насмешливым взглядом, спросил Зазыба. Но Браво-Жцвотовского это, как ни странно, совсем не смутило. — Зачем про это? — сказал он спокойно. — Расскажи лучше про вчерашнее совещание. На совегцании-то у коменданта вместе были. — Вместе-то вместе, да каждый в своей роли. Меня же ты возил не иначе как на расправу? — Если бы возил только на расправу, так и расправились бы, будь уверен! — Так я тебе и поверил! Это комендант почему-то быстро отошел, а может, просто не послушал тебя, а то бы… Зазыба почувствовал, что мужики кругом навострили уши, хотя по лицам можно было понять, что ни один покуда не брал чью-нибудь сторону, просто настороженно всматривались, словно в поединок, после которого должно решиться все. Почувствовал это и Браво-Животовский. — Теперь я хоть на голову встану, все равно не поверите, — будто в отчаянии, воскликнул он. — Думаете, если бы не я, так вам бы простили немца того, что в колодец попал? — А что нам прощать-то было? — не меняя насмешливого тона, опять пожал плечами Зазыба. — Не спросив броду, полез какой-то недотепа в воду, так кто ему виноват? — Не очень бы вас и слушали, — блеснул глазами Браво-Животовский. — Как стояли там, на площади, так и прострочили бы с броневика всех! Видно было, что забрало за живое обоих — и Зазыбу, и Браво-Животовского. Поэтому Иван Падерин сказал: — Ладно, мужики, у слепого нечего спрашивать про разбитые горшки. Хорошо, что все обошлось. Ты вот, Антон, лучше скажи нам, кого возьмешь в напарники к себе. Меня или Силку? Но зря Иван старался. — Не лопнула бы от тяжести кила твоя, кабы поносил винтовку, — грубо бросил Браво-Животовский. — Дак… — опешил Падерин, но ненадолго, видно, сообразив, что не всякая обида теперь в счет. — Меня же освободили от винтовки даже по мобилизации. И не от такой тяжелой, как твоя, а полегче, от нашей, мосин-ской. А ты хочешь, чтобы я сам теперь взял? — Не возьмешь ты, возьмут другие. — Дак и Силка тоже… Он хоть, как ты говоришь, и не киловатый, но вряд ли совладает с твоей «бельгийкой» одной рукой. — А ты за Силку не волнуйся. У Силки своя голова на плечах. А насчет винтовки… Если бельгийская тяжела, дадут полегче — либо русскую, либо ихнюю, немецкую. Точного боя. — Не-ет, — замотал головой Иван Падерин, которому, видно, понравился уже этот разговор, он даже забыл, что встревал в него сперва только для того, чтобы развести Браво-Животовского с Зазыбой. — Ни трехлинейки, ни своей немцы никому из наших в руки не дадут. Они даже тебе вот не дали, а сунули бельгийскую. Мол, не слишком разгуляется стрелок, когда всего четыре патрона имеет. Я так думаю, Антон, хоть ты сам, без вербовки, служишь у них, они тебе не целиком доверяют, потому и патронов мало дают. — Ничего, постреляю эти, еще дадут. — Дадут-то дадут, но за ними же надо сбегать в Бабиновичи да попросить. Небось еще и отчитаться заставят. Это что было бы, если бы все в такую даль бегали за патронами? Мол, ты погоди, я вот сбегаю зараз по патроны, а тогда тебя застрелю. Какой бы это дурень тебя ждал, чтобы ты его застрелил? — Думаешь, милиционерам больше давали? — Это когда-а-а! Это в мирное время. Тогда и стрелять не было в кого. А я так думаю, немцы не дураки, мол, хоть вы и добровольцы, да черт вас знает. Сегодня такое настроение у вас, а завтра, глядишь, другое. Дай вам вволю патронов, дак вы… А вдруг вам вожжа какая под хвост попадет? Словом, не доверяют они вам. И Силке не дадут потому самой легкой винтовки, если он и вправду поддастся на твои уговоры. Потому что к нашей трехлинейке или к ихней, с кривым затвором, легче патроны раздобыть — кто украдет, а кто и силой возьмет. Пуляй тогда себе, сколько влезет. Потому и вооружают они вас бельгийскими. Сдается, вы при оружии, а разок-другой стрельнешь, да и все. — Ну, ты контру мне тут не разводи! Много ты знаешь! — А тута и знать много не треба, — совсем не испугался Иван Падерин. — Тута и так все ясно. А пугать меня не стоит. Я про немцев твоих ничего худого не сказал. Свидетели вот есть. Так что… — Так что нечего и болтать. В конце концов, тебя не заставляют в полицию поступать. Я только сказал, что надо уметь защищать свое. А то сегодня жито сгорело, а завтра деревню кто-нибудь подпалит. — Дак ты скажи Адольфу, чтобы еще полицейских прислал. Власть же обязана защищать людей, если она человеческая. Или отдай совсем винтовку, Дранице вот. Нехай он бегает вокруг деревни. — Ага, как там его, ты будешь спать с бабой на постели, а я бегать стерегчи вас, — не понравилось Миките. — Умники нашлись! — Погоди, Микита, — нетерпеливо поморщился Браво-Животовский. — В конце концов, не обязательно в полицию всем идти, — объяснил он остальным мужикам. — Можно самоохрану наладить. — Как это? — Просто будете охранять деревню без оружия, чтобы никто чужой не заходил. А то теперь шляются все, кому не лень. Может, и копны эти поджег какой бродяга. Спал, а когда промерз, захотел погреться. — Ага, — сразу же не поверил Иван Падерин, — мало ему было погреться на одной копне, дак целое поле подпалил. — Тем более! — словно бы не понял Ивана Браво-Животовский. — Надо тогда глаз не спускать. Я же недаром говорю, самоохрану пора организовать. Пускай каждый печется о своем. Может быть, полицай и еще агитировал бы, но вдруг Кузьма Прибытков, который тоже был возле конюшни, крякнул, словно только что спохватился, что зря молчал, потом уставился долгим недоверчивым взглядом на Браво-Животовского и, ткнувши неразлучной палкой в небо, сказал: — Глядите, мужики, чтобы вам с этими Антоновыми штучками-дрючками черта лапой не накрыть. Сперва цапу-лапу, а потом… Теперь Зазыба с усмешкой вспомнил это «цапу-лапу». То, что Браво-Животовский попытался использовать сегодняшний пожар в Поддубище, чтобы возмутить неведомо против кого веремейковских мужиков, Зазыбу не слишком удивило. Сперва он испугался было, помянув недобрым словом Чубаря, которому взбрело в голову сжечь колхозную, а верней, теперь уже крестьянскую рожь и этим дать Браво-Животовскому предлог для такой агитации. Однако, послушав, как отмахивались мужики от каждого предложения Браво-Животовского, в душе засмеялся: зря черт после ночного пожара пробует и болото поджечь! Но Браво-Животовский!.. Зазыба дивился той последовательности, с которой полицай проводил свою линию в Веремейках, стремясь не пропустить ни одного подходящего случая, чтобы укрепиться. Сегодня это проявилось, пожалуй, сильней всех его прежних попыток создать в Веремейках полицейский лагерь. Сегодня же всем вдруг стало понятно и то, что навряд ли скоро удастся ему это — кажется, никто из веремейковцев, в том числе и Роман Семочкин, добровольно не собирался принимать от немцев оружие. Даже безобидное на первый взгляд предложение — создать самоохрану в деревне — мужики встретили без всякого энтузиазма, несмотря на то, что пожар в Поддубище мог заставить их согласиться. Рассуждая таким образом, Зазыба мысленно вернулся к Чубарю, снова связав с ним пожар в Поддубище. Но в душе уже не-было прежнего возмущения этим поступком председателя, даже простого осуждения и то не возникало. Почему-то больше думалось о том, что Чубарь сидит отшельником в этой Мамоновке и ждет, когда он, Зазыба, удосужится да выберет время съездить в Мошевую. Хоть Зазыба тогда и предупреждал, что сначала придется все-таки съездить в Белую Глину, таков приказ, но в душе было ощущение вины. Странно, еще вчера, ища оправдание своему решению, Зазыба и представить не мог, что сегодня почувствует себя виноватым. Кажется, ничего особенного не случилось бы, если бы он, в конце концов, и отказался ехать в эту Белую Глину, мало ли какую причину можно придумать, — например, болезнь. Вон Парфен Вершков… Но, подумав так, Зазыба вдруг смущенно спохватился, потому что не хитростью истолковывалось сегодняшнее Парфенове отсутствие. Вершков действительно тяжело болел!.. «Надо проведать Парфена, а то что же получается!..» Не знал Зазыба, что Вершкова уже не было на свете… Странно, нос этой минуты все, что Зазыба думали чувствовал, не было таким значительным, как прежнее. По дороге в глаза бросалось все, что имело непривычные очертания или хоть как-то шевелилось. За мелким прогоном, на котором стояла уже сплошь дождевая вода — обоз сразу смешал ее с грязью, проехав по ней колесами и протоптав копытами, — начинались дымчатые камышовые заросли. Немного дальше, между лесом и Топкой горой, где обычно веремейковцы ставили в косовицу крутые стога, чтобы после перевезти сено в деревню на санях, по зимнему пути, возвышались дубы. Их было там несколько, может, с десяток или еще меньше, но стояли они близко один к другому, к тому же на фоне хвойного леса, и в километре от них казалось, что там целая дубрава. Дубы все были зимние, считай, редкое явление для здешних краев, и люди их щадили, не тронули даже тогда, когда делили тут бывший панский луг на три деревни… Одевались эти деревья листвой в мае, где-то в середине месяца, и облетали тоже в мае, в тех же самых числах, на протяжении года лишь меняли цвет — от зеленого к желтоватому и наоборот. Странно только было, что они не давали потомства — как выросли когда-то вот такой куп-кой, так и остались все наперечет, словно каждый год роняли с себя одни червивые или совсем бесплодные желуди. Во всяком случае, за целый век — а им уже не меньше ста стукнуло каждому — под их ветвями не проглянул из дерна ни один: побег… Под этими дубами издавна взяли себе за обычай ночевать веремейковские конюхи. Зазыба тоже в молодые годы водил сюда отцовых лошадей. Кстати, отсюда он пошел в деревню и в тз^ ночь, когда цыгане украли жеребую кобылу — из-за этого потом пришлось Зазыбе подаваться к Щорсу. Ох, как давно это было!.. В отряде, который приходил тогда с Унечи в Забеседье, были две пулеметные тачанки и одна пушка на деревянных, видать, самодельных колесах. Направляясь сюда, Щорс хотел набрать в свое войско добровольцев. Однако для пушки неожиданно нашлось боевое дело. Бабиновичские эсеры как раз создали в волости «республику», которая действовала, как они выражались, «на советской платформе», но была «самостийной и незалежной». Уездную власть в местечке не признавали, а представителей ревкома, которые приезжали из Черикова, арестовывали, держа в церковном подвале. Отряд Щорса тоже попытались не пустить за Беседь, поставили боевые заслоны на всех дорогах, которые вели в Бабиновичи. Но напрасно. Довольно было артиллеристам выкатить напротив Прудка пушку и произвести несколько залпов из нее, как «республиканская армия» разбежалась по дворам. И когда Щорсов отряд вступил в местечко, там уже не было не только «республики», но ни одного эсеровского заправилы — куда-то быстренько улепетнули на Черниговщину, может, загодя присмотрев себе убежище. Крестьяне из окрестных деревень долго смеялись над этой бабиновичской «республикой», а жителей еще и теперь порой дразнили на украинский манер «самостийниками». Все это Зазыба увидел своими глазами, потому что к тому времени записался в отряд к Щорсу и, поскольку в империалистическую был пулеметчиком, ездил по деревням на тачанке. Он даже построчил тогда из пулемета, но не целясь: приказ был от Щорса только поверх голов попугать оборонцев «самостийной республики»… Наконец веремейковский обоз выехал по извилистой луговой дороге к броду напротив Гончи, и первые подводы уже переезжали широкую в этом месте, но не очень мелкую Беседь. На том берегу как раз в глубокой колее стоял человек, будто вышедший навстречу. Однако останавливать он никого не собирался, сразу же перед головной подводой сошел на обочину и на поросшем буйной травой высоком бугорчике, даром что обозу не было конца, ждал, покуда проедут остальные. Поравнявшись с ним, Зазыба вдруг узнал того загорелого мужчину, который на совещании в Бабиновичах спрашивал у коменданта Гуфельда, будут ли при немцах преподавать в школах белорусский язык. Зазыба еще тогда проникся интересом к этому человеку, догадавшись, что он не иначе с «идеей», хотел разузнать хоть что-нибудь о нем, но не у кого было спросить. Человек тоже сразу узнал Зазыбу, только взглянул и тут же заулыбался, видно ожидая ответной улыбки, потом торопливо, чтобы, упаси бог, не опоздать, крикнул сквозь тарахтенье колес: — Куда это вы, мужики? — В Белую Глину! — крутя сложенный конец вожжей над головой, похвалился с телеги Микита Драница. — Так вы из Веремеек? — уже вдогонку крикнул мужчина и, соскочив с бугорчика на дорогу, стал догонять обоз. — А я как раз собирался к вам в Веремейки, — сказал он Зазыбе, подсаживаясь с другой стороны к нему на подводу. — Хорошо, что встретил. Не нужно будет лишнего крюка давать да ноги понапрасну бить. А мы с вами, кажется, уже виделись, правда? — Правда, — доброжелательно улыбнулся Зазыба. — В комендатуре? — В комендатуре. А что за надобность вам в Веремейках? — спросил Зазыба, повернув голову, чтобы лучше слышать. — Хотел повидать жену Бутримы, директора вашей семилетки. — Она в эвакуации давно. А что? Зачем она вам? — Видите ли, дело такое. Я Мурач. Может, слыхали? Учителем был в Бабиновичах, а потом, за год до войны, работал в Белынковичах. Так поэтому я Бутриму вашего хорошо знаю еще с довоенных пор. А теперь в плену вместе были, в одном лагере. Вог яи хотел, чтобы жена его туда скорей подошла. — Дак… нету ее теперь в Веремейках. Сразу же, как призвали Бутриму, уехала с детьми в беженцы. — Зазыба помолчал. — Что теперь жалеть, некоторые наши солдатки пошли за мужиками в лагерь, может, и Бутриму увидят. Так что… — А куда они пошли? — Сдается, в Яшницу. — Нет, — мелко покусал нижнюю губу Мурач. — Ваших, веремейковских, в Яшнице не должно быть. Разве те, что пошли по первой мобилизации. А так не должно быть. Крутогорские были собраны в одну дивизию, которая формировалась в Ельце. Все, кто подпал под вторую мобилизацию, с Крючковского гая седьмого июля пошли в Елец, через Большой Хотимск и дальше туда. Поэтому я и говорю, что весьма невелика вероятность, чтобы в Яшнице ваши оказались. Сразу же надо было подсказать женщинам идти в Зерново. — Где это Зерново, я не слыхал? — Возле города Середина-Буда. Железнодорожная станция называется так. Там вот и сделали немцы большой лагерь для наших пленных. — Ну и как там? — Где, — не сразу понял Мурач. — A-а, в лагере? — Да. — Как у черта за пазухой. — Не знаю, каково это, — усмехнулся Зазыба. — Никогда не попадал. — Ну, чего тут знать, — словно разозлился учитель. — Пекло и есть пекло. — Говорите, пекло? А вы как же вырвались? По-моему, из пекла еще никто не возвращался. Даже в сказках это трудно дается. — Меня отпустили. — А почему тогда Бутриму задержали? Зазыба хотя и сознательно задал свой вопрос, однако неприязни к человеку пока не чувствовал. Дело в том, что он не поверил учителю, не поверил в то, что немцы взяли вот так просто, да и отпустили его из лагеря военнопленных. На чем была основана эта вера в обратное, сказать трудно, может, только на прежней симпатии, потому что для Зазыбы этого обычно хватало, чтобы не бросаться в крайности и не менять круто мнение о человеке даже тогда, когда тот, казалось бы, и давал для этого повод. С другой стороны, молчание, внезапная тревога, в которую привел учителя Зазыбов вопрос, тоже свидетельствовали в пользу последнего. Скорей всего учитель решил отвечать так всем, кто спросит у него, тут был для него некий определенный резон, а Зазыба вдруг легко и неожиданно разрушил логику его «легенды». В самом деле, почему только тебя одного отпустили, почему Бутрима не удостоился от оккупантов такой чести? От внутреннего напряжения у Мурача возле уха билась жилка, словно пыталось пробиться клювом из-под кожи маленькое живое существо… Никто Мурача не выпускал из того Зерновского лагеря, что рядом с городом Середина-Буда. Он сбежал. Но кому теперь откроешься, ведь сразу может дойти до немцев и тем недолго арестовать его и снова упрятать за колючую проволоку. В плену Мурач пробыл всего двенадцать дней. Новую колонну, в которой был и он, немцы пригнали на железнодорожную станцию Зерново под вечер. Но перед тем, как пустить пленных в лагерь, наладили киносъемку. Сперва оккупанты усилили конвой — по обе стороны колонны встали дюжие автоматчики, соскочившие с двух крытых грузовиков, что стояли неподалеку от ворот лагеря. На третий грузовик, в кузове которого сверкал линзами киноаппарат, залез, поставив ногу на металлическую приступку, офицер. — Теперь будем раздавать вам хлеб! — сказал он по-русски, картавя. Два других немца, что сидели на боковой скамье, вскочили и стали примериваться к киноаппарату, а третий и вправду достал откуда-то из-под ног у себя буханку хлеба. Признаться, пленные на минуту поверили в это. Думали, одно дело — в дороге, там даже если и хотели бы, то вряд ли накормили бы столько народу. А тут лагерь. Не иначе — при нем работает уже кухня. Может, даже пекарня… Словом, голодным и обессиленным за дорогу пленным на мгновение показалось, что муки наконец кончились, по крайней мере, хоть голодать не придется, раз оказались на месте. На киноаппарат мало кто обратил внимание, ведь в кузове мог стоять просто какой-нибудь прибор, например, артиллерийская буссоль, а тем более никто не подумал, что эта раздача хлеба придумана немцами специально, чтобы снять ее на пленку и потом показывать в какой-нибудь хронике в кинематографах рейха. Рядом с Мурачем стоял колхозник из Сибири Петро Самутин. Прежде он жил в Белоруссии, где-то возле Пухович, а в двадцатом году, перед польским наступлением, подался с младшим братом и матерью в Сибирь к дядьке, который переехал туда еще задолго до революции. Так этот сибирский белорус всю дорогу почему-то успокаивал Мурача. Казалось, его не смущали даже те издевательства, которые учиняли конвоиры над пленными, а временами и просто случаи дикой расправы: как только оголодавший пленный делал запрещенный шаг от дороги, чтобы ухватить на огороде кочан капусты или свеклу, ему вслед гремел выстрел; отставал кто-нибудь, теряя силы, на недозволенные несколько шагов от колонны, снова слышался выстрел. — Это все потому, — растолковывал переселенец, которому почему-то очень хотелось оправдать немцев, — что они вообще порядок любят. Вот дойдем до места назначения, увидишь, сразу же все по-другому станет. Может быть, человек в этом оправдании видел свое спасение. В первую империалистическую ему уже приходилось встречаться с немцами. Артиллерия кайзера тогда стояла в их деревне почти год, до того времени, пока в Германии не совершилась революция. Это были, как он говорил, самые обыкновенные люди. Размещались они в крестьянских хатах и никого даже просто не обижали, не то что насиловали или грабили. Сиали вповалку на полу, постелив солому, и никогда не требовали, чтобы хозяева уступали им свои постели. Кормились кайзеровские солдаты тоже чуть ли не за одним столом с хозяевами, не жалели для детей мармеладу, который получали в посылках из Германии. Самутин бегал тогда с пацанами к пушкам, что стояли на деревенском майдане. Там постоянно похаживал часовой, и дети, высунув языки, дразнили его: «Немец-перец-колбаса, тухлая капуста, съел кобылу без хвоста и сказал, что вкусно». Часовой делал вид, что сердится, снимал винтовку с плеча, клацал затвором и целился, чтобы деревенские сорванцы разбежались во все стороны… Но вот офицер взял из рук солдата буханку и бросил на траву перед пленными. Толпа всколыхнулась, и человек десять, кто сильней и опытней, рванулись к буханке, отталкивая друг друга. Самутин тоже не удержался. Вскоре по траве перед грузовиком катался живой клубок, который напоминал хищников, рвущих в клочья попавшуюся им жертву. Тем временем в кузове, поблескивая объективами, стрекотал киноаппарат. Но спектакль, на который рассчитывали фашисты, не состоялся. Остальные военнопленные не поддались искушению. Они уже поняли, что это заурядная провокация и неизвестно, чем она может кончиться. Даже когда из кузова на траву одна за другой полетели еще буханки хлеба, никто не шевельнулся. Перед грузовиком барахтались все те же десять человек. Офицер, который режиссировал «спектакль», подал рукой знак остановить съемку. — Почему вы стоите? — пожал он плечами. — Вы не хотите есть? Пленные молчали. — Значит, не хотите? — уже визгливо, со злостью крикнул офицер. Ответа не было. Тогда офицер успокоился и с угрожающей усмешкой сказал: — Ну что ж, подождем другую колонну. А вам еще не один раз приснятся эти буханки, потому что у вас был редкий случай отведать настоящего солдатского хлеба. Открылись ворота лагеря, и дюжие автоматчики, сменившие прежних конвоиров, принялись загонять пленных внутрь. Офицер недаром злорадно усмехался — действительно, пленным снились потом те буханки!.. Зерновский лагерь был, как и полагалось, обнесен колючей проволокой, с пулеметными вышками по четырем углам. Утром, когда пленные просыпались на нарах, их даже не ужасало, что многие из соседей и знакомых остаются лежать недвижимо — голод делал свое дело. За две недели мало кто уцелел из пришедших в одной колонне. Тут Мурач и встретил неожиданно Бутриму, и узнал его, хотя тот был очень истощенный и заросший. Они призывались в армию вместе с Крючковского гая и формировались в одной дивизии, но на фронт попали в разных эшелонах, Мурач вдруг ожил душой — было кому довериться, потому что он уже задумал убежать из лагеря. Но Бутрима, у которого хватало сил только пройти из конца в конец лагеря, отказался участвовать в побеге. Сказал: — Беги, Степан Константинович, один. Сам видишь, какой из меня беглец. Ходят слухи, что вскоре начнут водить нас отсюда на полевые работы. Тогда, может, как-нибудь подкормлюсь — где картошинку подберу, где просто травинку. Словом, надежды пока не теряю. А если и правда вырвешься отсюда, передай жене моей или сам в Веремейки наведайся, скажи, мол, так и так, здесь он, в Зернове, пускай придет. И, сделай милость, поищи другого напарника, раз один не решаешься. Кажется, нехитрое дело, но Мурач не стал искать товарища себе для побега: хоть беда у всех и одинаковая, а все равно чужая душа — потемки. Его потряс случай, который произошел в лагере несколько суток назад. Днем пленные обычно держались ближе к ограде, потому что с той стороны, бывало, подбирались мальчишки с железнодорожной станции и окрестных деревень и тайком от лагерной охраны перебрасывали через проволоку то краюху хлеба, то вареную картофелину, то еще какую-нибудь еду, чтоб только была твердая и чтоб перебросить можно. Конечно, надежды большой, что как раз тебе, а не кому другому посчастливится схватить на лету хоть кусочек, не было, но на то она и надежда, чтобы надеяться и на малое. Мурач тоже вышел в тот день к ограде на охоту. И стал свидетелем, как к воротам лагеря, где изнутри стояли часовые, один пленный вел за шиворот другого. — Господин часовой, — сказал он, — это комиссар! За шиворот он держал истощенного человека с восточным типом лица. Но реакция охранника была совершенно неожиданной. Замахнувшись тяжелой дубинкой, которую держал в руке (такие дубинки внутренняя охрана носила при себе), он стукнул вдруг по голове пленного, который подвел к нему комиссара, а потом палка взметнулась в воздухе второй раз и опустилась на голову комиссара. Отвратительное зрелище. Получалось, что поступок какого-то негодяя возмутил даже немца!.. Можно себе представить, задумался бы вот такой человек, если бы хоть краем уха услышал, что кто-то собирается бежать из лагеря. Поэтому Мурач и не стал рисковать. Бежал один в дождливую ночь, когда даже прожекторы, которые включались на вышках, не могли осветить всей территории: дополз до ограждения, разгреб руками под колючей проволокой землю и протиснулся в щель. Видно, дождь к утру смыл следы и заровнял ту щель. Во всяком случае, погони за ним на другой день не было. Так и дошел Мурач, прячась, до Бабиновичей. А в местечке сказал волостному начальству, что его отпустили из лагеря сами немцы; поверили в волостном управлении или нет, а к сведению приняли. Мог ли он сказать теперь иначе и Зазыбе? Хотя, если уж на то пошло, почему тогда не отпустили немцы и Бутриму, откуда эта привилегия? Вместе с тем он верил в порядочность Зазыбы. Не важно, что они не встречались вот так раньше, в советское время, но Мурач еще с тех пор, как учительствовал в Бабиновичах, помнил это имя, особенно по сыну, стихи которого раньше часто печатались в газетах. На недавнем совещании у коменданта, куда он тоже был вызван как представитель местной интеллигенции, Мурач сразу же подумал — не иначе, это отец веремейковского поэта. А теперь случай свел их снова, и они даже на одной телеге едут. Наверное, Мурач все-таки собрался бы с духом и признался Зазыбе, что никто его не отпускал из лагеря, что он сам убежал оттуда. Но на это требовалось время, хотя бы еще несколько долгих, раздумчивых минут. За Гончей дорога пошла легкая, по полевой обочине большака; сразу же за крайними дворами выгулявшиеся лошади оживились и сами побежали резво; снова затарахтели подводы, хотя уже и не так сильно, как недавно в Забеседском лесу. По левую руку от большака далеко простиралось поле, на котором кое-где то группами, то поодиночке чернели человеческие фигуры; ближе к деревне двигались полевой дорогой пухлые возы, груженные то ли сеном, то ли снопами, отсюда было не разглядеть. Справа тоже лежало поле, но совсем узкое, оно горбилось и, словно обрываясь, круто спадало к реке, за которой тонул в зыбком мареве лес с его мглистой и непроглядной далью. Хотя Зазыба и сидел на правом боку повозки, откуда открывался вид на туманное Забеседье, однако все чаще поворачивался назад, желая увидеть то, что делалось теперь возле деревни; Зазыба присматривался: мол, чем в эти дни занимаются люди здесь и так ли делается все, как в Веремейках? Сравнивая таким образом «чужое» со «своим», он словно бы искал для себя опору и оправдание тому, что делал сам и что разными путями заставлял делать других. Наконец Зазыбе стало неловко, что так долго везет чужого человека и не разговаривает с ним, неважно, что тот сам тогда не откликнулся. Формально Зазыба все еще ждал от него ответа. Поэтому спросил: — А что, из лагеря убежать нельзя? Учитель круто повернулся лицом к нему, улыбнулся загадочно, но ответил откровенно и, пожалуй, неожиданно для Зазыбы: — Почему же нельзя? Я-то убежал! — При этом он некоторое время словно испытывал Зазыбу, не сводя с него глаз, видимо желая понять, как тот отнесется к такому признанию. Зазыба тоже улыбнулся. — Я сразу подумал, — сказал он, — что вряд ли так было на самом деле, как вы говорили сперва. Словом, я не очень поверил, что немцы выпустили вас из лагеря. — Почему же? — Да так. — А все-таки? — Ну, не поверил, и все! — Разве что, — как-то неопределенно отнесся к Зазыбовому упорству учитель. Тогда Зазыба еще спросил: — Ну, а раз вы сумели убежать, значит, и другие могут? — В принципе — да, — ответил Мурач. — Но дело в том, что одни уже не могут решиться на побег, просто не имеют физических сил, а другие как будто чего-то ждут. Вот-вот, надеются, что-то переменится. А я не стал ждать. Не стал после того, как понял, что иначе пропаду. Не выживу. Надо знать, какие там, в лагере, условия. Я не зря говорю — истинное пекло. Такое издевательство над человеком даже представить трудно. Надо попасть туда, чтобы знать. И вот этот в общем-то невеселый вывод, как ни странно, придал мне силы. Я решил, если уж помирать, то не так, как помирают в лагере, — с голодухи или от болезни. — Ну, а почему, — спросил Зазыба, — в лагерях оказалось столько народу? — Обыкновенно. Кстати, вы сами воевали когда-нибудь? — Воевал. И в ту германскую, и на гражданской был. — Значит, должны понимать. — Должен-то должен, да не совсем. В> германскую я. на румынском фронте воевал. И лично не помню, чтобы нас очень-то брали в плен. Бывало, конечно, на войне не без этого, но не сравнить… — Ну, на румынском фронте, допустим, — возразил учитель, — румыны да чехи сами сдавались в плен. А вот на других фронтах… Чтобы вы знали, в ту войну наших пленных было в Германии и Австро-Венгрии в общем около трех миллионов. — Но ведь немало их было и у нас, австрийцев да немцев, — ревниво отметил Зазыба. — Это тоже правда. — Ну, а в гражданскую? — Тогда красноармейцев белые редко брали в плен. Сразу шашками, если что. — В том-то и дело. Помню, в девятнадцатом в Армавире наших тифозных много лежало. А белые как раз наступали на город, так какая там паника была в госпиталях, даже тифозные боялись оставаться в городе. Пришлось в горы увозить, спасать. Потому мне и интересно, как это теперь получается, что одно только и слышишь от баб — и там лагерь военнопленных, и там… — Теперь немцы сами разбрасывают листовки, мол, сдавайтесь в плен, будете и сыты, и живы. — Гм, — затаенно усмехнулся Зазыба, — читал я в Бабиновичах в ихней газете про это. Там даже пропуск в плен напечатан. По всей форме. Только вырежь да представь. Но я не про то. Вы же образованный человек, знаете: белые тоже не прочь были, чтобы мы все побросали оружие… — Я понимаю, что вы имеете в виду, — перебил нетерпеливо учитель. — Но и в плен же попадают не потому, что кто-то разбрасывает листовки да пропуска печатает. Все не так просто, как может показаться. Конечно, причины окончательно становятся ясными после войны. Тогда только люди начинают разбираться, что к чему. А пока идет война, мало ли до чего можно додуматься. В ту войну, например, пленных было много, либо когда войска плохо наступали, взять хотя бы генерала Самсонова с его армией, либо когда вообще все повально отступали, как, например, в пятнадцатом году, во время так называемого великого отступления. А про листовки я к слову сказал. Хотя, может быть, и такие субъекты будут среди пленных. В конце концов, такие и в лагере ведут себя не как остальные, стараются устроиться то в санчасть, то на кухню, а то и прямо идут помогать немецким охранникам. Немцы же от услуг не отказываются. Ну, они и лезут в каждую щель, только бы чуть-чуть засветилось где. Но нельзя мерить по ним всех пленных. Вот вы начали разговор про лагеря, мол, почему их много. Не знаю, настолько ли много, как нам кажется, сам я подсчетами не занимался, не имею сведений. Но раз уж зашел такой разговор, расскажу о себе. Расскажу, как сам оказался в плену. Думаю, это даст вам некоторое представление обо всем. Как я уже говорил, сформировалась наша дивизия в Ельце, и, как водится, направили ее на железнодорожную станцию. Мы не знали, что к этому времени немецкие танки прорвали оборону и что мы оказались, по сути, чуть ли не на острие их главного удара. Со станции полки уже своим ходом двинулись на назначенные рубежи. Наш полк во главе с майором Воловичем остановился возле моста на реке Неруссе, почти при впадении ее в Десну. В нескольких километрах по ту сторону Десны еще шли бои, и войска наши находились в междуречье. Я хорошо помню, что Трубчевск тогда не был занят фашистами. Может, даже и Унеча оставалась неоккупированной. Конечно, высшее командование обо всем этом знало лучше, чем мы, солдаты. Однако и большинство красноармейцев ориентировалось в общей обстановке. Во всяком случае, все в нашем полку понимали, что в бой вступить нам прежде всего придется с танками, которые вот-вот выйдут в этом месте к Неруссе. Пока батальоны окапывались вдоль реки, в небе все время висели немецкие самолеты-корректировщики. «Рамы». Говорят, они не целиком немецкие, эти самолеты, выпускают их будто бы у себя итальянцы, но на вооружении «рамы» находятся и у немцев. Я командовал подразделением, и моим бойцам выпало занимать оборону немного в стороне от моста. Окопы рыли, как говорят, на совесть, чтобы можно было стоять в полный рост. Не забыли и про траншею, которая вела от основной линии обороны в лес, находящийся метрах в четырехстах от реки; туда и мы прокопали свой ход сообщения; словом, подготовились, кажется, как и положено при обороне. Но в тот день немецкие танки не появились. Мы услышали их только утром. Танки подходили к реке в тумане. Казалось, вот-вот первая машина выскочит на мост. Но нет. Видно, самолеты-корректировщики хорошо изучили сверху весь этот берег, поэтому немцы имели точные данные о нашей обороне. Наступать они начали только тогда, как рассеялся туман по обе стороны от Неруссы. На наши окопы внезапно оттуда, из-за пригорка, обрушился шквальный огонь. Не иначе, стреляли из танков. Случайно или нет, но окопы моего отделения этот огонь как-то миновал, снаряды почему-то рвались только вокруг. Канонада продолжалась минут двадцать. Снаряды успели буквально вспахать и луг, насколько можно было видеть, и опушку, и лес разворотили далеко в глубину. Наконец все смолкло, верней, сперва действительно смолкло, а потом и совсем сделалось тихо. Откуда-то из-за дороги выскочил наш комбат и побежал, пригибаясь, вдоль окопов, видно, хотел удостовериться, осталось ли что после такой бойни от батальона. Добежал до нас, крикнул, словно глухой: «Подготовиться, сейчас танки пойдут!» Мы головами завертели, отряхиваться стали, поправлять каски, выкладывать на брустверы связки ручных гранат, бутылки с зажигательной смесью. Так и получилось, как предупреждал комбат: танки не заставили долго ждать. За пригорком послышался рокот моторов, и мы увидели, как оттуда начали выползать танки. Двигались они не друг за другом, а фронтально, захватывая по ту сторону реки весь широкий холм. Казалось, что и ринутся так фронтом на наши позиции, чтобы форсировать Не-руссу. Однако уже в следующую минуту они вытянулись клином, направляясь к мосту по одному. Перед самым мостом замедлили движение, словно остерегаясь чего-то. И вот в этот момент наши сорокапятки, замаскированные за кустами, дали первый залп. Другой, третий! Один танк дымится, останавливается как раз против моста. Другие его обходят, торопятся на мост. Снова палят наши сорокапятки. А снаряды почему-то рвутся в стороне… Тогда начинаем мы, стрелки. Бросаем бутылки с зажигательной смесью, гранаты. Несколько танков загорается на дороге, по эту сторону реки. Но мы уже понимаем, что нашими средствами — бутылками да гранатами — не сдержать их. Уцелевшие танки сползают с дороги, ведущей к городу Локоть, мчатся куда-то по лугу… Под их гусеницами гибнут полковые сорокапятки. А вскоре все вокруг пустеет, танки исчезают, и воевать уже будто и не с кем. Выходит, за какие-то считанные минуты оказались мы неожиданно если не в окружении, то отрезанными от тыла. Наконец пришла команда выбираться из окопов. Быстро соединились с другими подразделениями. Вместе двинулись через лес. Там был и полковой обоз. Долго наша колонна пробиралась по узким, малоезженным дорогам, пока, на вторые только сутки, не вышла к какой-то небольшой деревушке. В этом населенном пункте находились штаб дивизии и батальоны других — двух полков с дивизионной артиллерией, и часть эскадронов 4-й кавалерийской дивизии, которая готовилась к прорыву. Сделали и мы привал. Нам тут же выдали по куску сырого мяса — интенданты сообщили, что местный колхоз зарезал специально для нас бычков, — по пятнадцать пачек махорки и еще кое-что из неприкосновенного запаса. Не успели мы поесть, как снова команда — стройся. И вот вся колонна с артиллерией на конной тяге, кажется, только две или три тяжелые пушки прицепили к тракторам, тронулась из деревни. Направлялись почему-то на северо-запад. Помню, заходящее солнце, красное, висело немного левей нашей колонны. За полночь в поле вдруг загорелись скирды. И тут же пошел слух — мол, вражеские корректировщики подают условный знак своим. Действительно, не прошло и нескольких минут, как слышим издалека пушечные залпы, а на дороге начинают рваться снаряды. Артиллеристы задержались, и снаряды угодили в разрыв между головой и концом колонны. Жертв-то на таком расстоянии не было. Зато паники — словно за каждым пригорком, за каждым леском немцы стоят. На рассвете возле деревни Алешенка начали окапываться. Мое отделение оказалось рядом с командным пунктом дивизии. Может, потому, что вышли мы из боя в полном составе и имели еще вполне приличный вид, полковник Еремин остановил свой выбор на нас. «Ваше отделение, — приказал он мне, — передается комендантскому взводу. Охраняйте КП и НП, наблюдайте вон за тем лесом». А в сторону того леса уже двигалась большая группа наших пехотинцев. Вскоре оттуда слышим выстрелы. Похоже, бой там начинается. И вдруг из леса немецкие танки! Штаб дивизии, перед которым не было артиллерии, тут же снялся с места и переместился за околицу, метров полтораста по правую сторону деревни. А мы не получили на этот счет никакого приказа, вместе с комендантским взводом остались на прежней позиции. Во все глаза смотрели на танки. Без артиллерии, конечно, мы не могли задержать их, зато дружно расстреляли все обоймы, целили по смотровым щелям. И когда наконец поняли — вокруг немцы, — нечем было стрелять даже по пехоте. Собственно говоря, брали нас в плен безоружных. Потом уже я часто думал: почему так неожиданно мы оказались у немцев, никто же из нас перед тем и не думал, что все может кончиться пленом? Я говорю о своем подразделении. Немцы тут же приказали сложить винтовки в кучу и погнали нас по той же дороге, которая вела к мосту через Неруссу. Казалось, кружили мы по лесам много, а далеко не отошли. Кстати, мы только теперь, возвращаясь, и разглядели, сколько подбили вражеских танков. И как вы думаете, сколько? Зазыба пожал плечами. — Судя по вашему рассказу, немного. — Напра-а-асно, — повеселел учитель. — Поработали, как говорится, мы неплохо. И на том, и на этом берегу Неруссы осталось около двадцати немецких танков и автомашин. Во время боя это не замечалось, а потом, через несколько дней, когда глянули вокруг, сами диву дались — оказывается, и сорокапятки, пока их не передавили танки, свое дело сделали, и мы, стрелки. — А штаб дивизии вышел из окружения? — спросил Зазыба. — Не знаю. Во всяком случае, среди пленных, кажется, не было никого из штаба. Зазыба вдруг вспомнил, как в 1921 году сам попал в плен к махновцам. Буденновский разъезд, в котором был Зазыба, махновцы атаковали неподалеку от Горелых Хуторов на Украине. Все знали, что в этом районе появлялись буденновские хлопцы, но мериться силами с красными конниками не имели желания, верней, просто не осмеливались. Понятно, что и буденновцы в таких случаях их не подстерегали очень-то. На этот раз махновцы почему-то напали среди бела дня. Прячась в глубоком овраге, сперва дали ружейный залп, потом атаковали верхами. Под Зазыбой упал с простреленной головой конь. Падая, он прижал седоку правую ногу. Пока Зазыба пытался освободиться, махновцы успели перестрелять остальных и навалились на него. Он даже не мог оказать сопротивления. Если бы Зазыба Знал, что не сумеет освободиться из-под лошади, он вел бы себя иначе — как-нибудь изловчился бы, хоть и лежал навзничь, и начал отстреливаться. А так — позорный плен. Сначала плен, потом смерть. Красноармейцы знали, чем обычно кончался для ихнего брата плен. Потому и Зазыба не тешил себя никакой надеждой. Ковылял, привязанный длинной веревкой к седлу, и прощался в мыслях с жизнью. Но махновцы почему-то медлили. Объяснение этому Зазыба получил только вечером, когда привели его в село и заперли в сельрадовской кладовой, поставив снаружи часового. Сами они то ли пировать куда отправились на ночь глядя, то ли, может, снова рыскали по округе в поисках легкой добыли. Зазыба сидел в кладовой и думал. Думал обо всем— о жизни своей, которую так неожиданно загубил, о Ве-ремейках, о том, как будет хорошо людям жить потом} когда повсюду воцарится рабоче-крестьянская власть. За дверью кладовой тем временем, громко топая, ходил туда-сюда стражник: то замурлычет себе под нос что-то неразборчивое, то притворно закашляет, не иначе, чтобы напомнить пленному лишний раз, что он здесь и нечего, мол, думать о побеге. Наконец Зазыба не выдержал, крикнул через дверь: — Что это вы со мной тянете? Кончали бы, а? — А тебе приспичило на тот свет? — засмеялся охранник, как бы обрадовавшись случаю поговорить. — Не торопись, на тот свет успеешь. А мы вот к батьке тебя доставим завтра, пускай он решает, что с тобой делать. Может, еще к нам перекинешься. Пожалеешь жизни молодой, да и согласишься у батьки служить. Такие вот оборотни становятся потом самыми завзятыми, потому что назад пути нету, все равно свои кокнут. — И много у вашего батьки таких? — Оборотней? Много не много, а есть. — А если не поддамся? — Тогда пиши пропало, — засмеялся охранник. Зазыба сплюнул в угол. Хотел сказать рассудительному махновцу в придачу что-нибудь такое, от чего бы не один раз икнулось даже его атаману, но смолчал — от нечистого словом не отобьешься. Вместе с тем Зазыба подумал: значит, у батьки все меньше становится надежных вояк, раз такое значение придает оборотням. Утром Зазыбу погнал впереди лошади другой махновец. Видно, уже недалеко был главный штаб, потому что по дороге часто встречались не только верховые, но и пешие махновцы. Спрашивали: — Кого изловил, Михайло? — Буденновского комиссара, — важно отвечал конвоир. — Куда едешь? — К батьке в штаб, — с еще большей важностью отвечал конвоир, даже у Зазыбы складывалось впечатление, что тот слегка не в своем уме. Но вот за селом им встретилась тачанка, а на ней два пожилых махновца при пулемете «максим». Конвоир спешился, попросил закурить. Тогда Зазыба неожиданно и решился — вдруг выхватил у него из ножен саблю и рубанул его сзади по шее. Махновцы, сидевшие на тачанке, не ждали от пленного такой прыти и на мгновение растерялись. Этого мгновения хватило Зазыбе, чтобы броситься с окровавленной саблей на них… Припоминая теперь, больше чем через двадцать лет, считай, безрассудный поступок свой, который был высоко отмечен командованием Конармии и как бы возведен в ранг подвига, Зазыба совсем не собирался сознательно проводить какие-то аналогии. Но ведь подумать: что его ждало тогда у Махно? Одно из двух — смерть или предательство! На последнее, разумеется, Зазыба пойти не мог, и не потому, что не дорожил жизнью. Просто он так, а не иначе, понимал свои обязанности перед революцией… — Значит, вы еще недавно были на фронте? — спросил Зазыба учителя. — Да. — Тогда скажите, где теперь фронт? — Где-то за Унечей. — Ну, это здесь, в нашей местности. А вообще где весь фронт? — Знаю, что Ленинград немцы не взяли. А вот Смоленск еще в начале августа, говорили, сдан. Значит, немцам прямая дорога на Москву. — И что тогда? — Все может быть. — Значит, конец? — Чего это вдруг? — пожал плечами учитель. — Даже если немцы и Москву возьмут, война на этом не кончится. В крайнем случае, перейдет в партизанскую. Не думаю, что большевики сдадутся просто. Снова уйдут в подполье, опять начнут все сначала. Мало ли история знает случаев, когда захватчиков выгоняли даже после их победы. Весь народ нелегка поработить. Под чужим ярмом никто долго жить не захочет. Особенно теперь, когда научились всему. К тому же немцы сами распускают слухи, что наступать собираются только до Урала. — А потом? — С востока придут японцы. У них же коалиция. — Какая разница для нас, что немец, что японец? — Для нас-то разницы нет, — сказал спокойно учитель. — Захватчики — они все одним мирром мазаны. Но немцы рассказывают, что за Уралом будет замирение с большевиками, будто они некую территорию собираются оставить за хребтом для большевиков. А сами повернут оттуда в Индию через Кавказ или Среднюю Азию. Говорят, у них со Сталиным договоренность уже такая есть. — Сплетни! — Конечно, пропаганда, — кивнул учитель. — Мол, напрасно вы, крестьяне да рабочие, воюете с нами, мы только большевиков от вас прогоним, а тогда оставим всех в покое!.. — Ага, и я читал про это в газете, — подтвердил Зазыба. — Ну вот, оказывается, и в газетах уже пишут. Чушь, известное дело. Но судя по тому, как разворачиваются события, как немцы повсюду наступают, вряд ли удастся нашим до зимы что-нибудь сделать. — Снова надежда на мороз? Но ведь… мороз страшен больше крапиве. Наверное, Мурача Зазыбово замечание навело на какую-то мысль, потому что тот вдруг захохотал. И это недобро укололо Зазыбу. Он даже обозлился: — Чему тут смеяться? — Да нет, это я так, — смутившись, оборвал смех учитель. — Судя по вашему настроению, — отвернулся Зазыба, — так вы и вправду целиком полагаетесь на мороз, небось считаете, что сами отвоевались? — Выходит так, — не стал оправдываться учитель. Но потом все-таки виновато добавил: — Кто отдал оружие, тот не боец. — Ну, а если вдруг дело до того дойдет, что большевики, как вы говорите, перейдут на партизанскую войну? Как тогда? — Мало ли что можно говорить! В конце концов, мы же с вами не внаем, чем они располагают. Может, как раз сейчас войска по всей линии собирают. Да и Москва еще стоит. Так что рано отпевать. — Значит, сидеть сложа руки? — Лично я не собираюсь складывать руки, — каким-то новым тоном, упрямо возразил учитель. — Дело человеку всегда найдется. Доеду вот с вами до Белой Глины, потом пешком пойду в Белынковичи. Назначили туда учителем, на прежнее место. — Будете помогать устанавливать новый порядок на культурном фронте, как говорит комендант? — Новый или старый, однако народ долго в невежестве оставаться не должен, а то когда-нибудь дойдет до того, что никто не отличит нового порядка от старого. Потом все равно ведь детей надо учить. Да и не сам я до учительства своего додумался. Вы же были на совещании, значит, слышали. Школы будут действовать, как и прежде. Правда, в этом году учеба начнется позже. — Но чему же в тех школах должны учить? — Тоже ведь небось слышали… В конце концов если уж на то пошло!.. Меня упрекаете, а сами едете в Белую Глину мост восстанавливать, который разрушили, отступая, красные! Это ведь тоже помощь немцам! Почему тогда вы не откажетесь? — Ну, мост — дело одно, — помолчав немного, трудно рассудил Зазыба, — а учить детей — совсем другое. Мост сегодня есть, а завтра его может и не быть. А вот человек…Как его научишь однажды, так и думать будет все время, понесет вашу науку с собой через всю жизнь. — Поэтому немцы и собираются открывать школы, чтобы… — А вы помогаете! — не дал договорить ему Зазыба. Тогда учитель круто повернулся, прикрыл глаза и сказал, как бы потеряв терпение: — Вот я разговариваю с вами битый час, а еще не понял, чего вы от меня хотите, чего добиваетесь. И то вам не так, и это! В конце концов, вы спрашиваете, я отвечаю. Отвечаю так, как понимаю или хотел бы понимать. Сплетни? Я и сам признаю, что по большей части это одни сплетни. Конечно, мог бы и промолчать. Но опять же вы за язык тянете, поэтому и рассказываю. — Тут он даже засопел от возбуждения. — Ну, а вы сами? Что вы в таком случае умное в ответ сказали, если я одни глупости говорил? Ничего. Вам не нравится, что я собираюсь учительствовать? А что вы посоветуете? Или, может, вы что-нибудь такое знаете, что мне невдомек? Так говорите! Зачем же в прятки играть да ловить людей на словах? Теперь не то слово сказать кому попало очень просто, если только не смекнешь, с кем дело имеешь. Один от тебя одно ждет услышать, другой наоборот. Того и гляди!.. — Да ничего особенного я пока не знаю, — досадливо поморщился Зазыба, давая голосом понять своему собеседнику, что возмущаться, а тем более ссориться все-таки не стоит; между тем в душе обрадовался этой неожиданной вспышке учителя, которая, конечно, шла от человеческой честности, значит, и он не ко всему равнодушен, и его взяло за живое. Мурач сразу же почувствовал смягченность, даже опешил от нее. — У всех нас хватает ума упрекать друг друга, — вздохнул он, опуская глаза. — А у человека между тем всего только одна душа и одна голова. — Голова-то одна… — И та на тонкой шее. А это уж, чтоб вы знали, не такая надежная штука. Зазыба дернул вожжи, чтобы подогнать лошадь, которая без присмотра понемногу отстала от передней подводы, разрывая, таким образом, обоз. — Н-но-о! Лошадь резко перешла на галоп, как-то необычно подскочив в оглоблях, и расстояние между подводами снова начало сокращаться. Тем временем поле с Зазыбовой стороны стало ровней, шире, потому что Беседь наконец отошла ближе к лесу, оголяя обрывистый песчаный берег, весь источенный суетливыми береговыми ласточками. На уклоне дороги, которая уже охватывала подковой большую излучину, поросшую рыжим болотным хвощом, глазам открылся весь веремейковский обоз. Впереди, как и тогда, когда трогались от конюшни в Веремейках, ехал Роман Семочкин. Но теперь с ним на подводе не было Браво-Животовского. Тот где-то на ходу, но уже как миновали Беседь, перебежал к Ивану Падерину и сидел, свесив ноги, на дрогах. «Вот же полицай, даже Падерина заставил поехать! — усмехнулся Зазыба. — И что он там, на строительстве моста, этот Падерин, делать будет со своей грыжей?..» Становилось жарко. Солнце пекло, и только ветер, который возникал больше от быстрой езды, чем сам по себе, в результате перемещения воздуха, не давал устояться вокруг духоте. От уставших за дорогу лошадей несло потом. Издалека уже выныривали коньки крыш белоглиновских хат — с того конца деревни, что огородами заходил в подлесок, который вырос за последние годы на пустыре за большим оврагом, вымытым за многие весны талыми водами. Пожалуй, это была их первая удачная мысль, как помнилось Зазыбе, посадить леей по эту сторону Беседи, в среднем ее течении, а то, кроме дубравы, что раскинулась треугольником за Прудком, да небольшой моховины против Колодлива, на всем правобережье не было ни одного лесного массива. Правда, дальше туда, километрах в двадцати от Черикова, снова подступали боры. Но между ними и Беседью только голые лбы полей. Глядя на крыши белоглиновских хат, которые словно бы выплывали навстречу обозу, Зазыба вдруг спохватился, что путешествие в Белую Глину кончается, а они с Мурачем так и не нашли общего языка. До сих пор разговор их напоминал подземную реку, которая блуждала впотьмах, ища выхода на поверхность. Поэтому в ней было много случайного, проверочного и не совсем искреннего. Теперь то место, которое зовется истоком, было найдено, Зазыба ощутил это в первую очередь по себе, по своей внутренней готовности начать беседу с человеком если не о самом заветном, то хотя бы с большим доверием к. нему. Наконец веремейковские подводы подъехали по белоглиновской улице к Деряжне. Мост на ней действительно был разрушен, из воды торчали пиками обугленные пали, но мельница слева стояла нетронутая, огонь ее не достал. По обе стороны дороги, которая вела к провалу моста, скопилось к этому времени много народу — мужиков из окрестных деревень с топорами, пилами и разным прочим плотничьим инструментом. Распоряжались здесь полицейские и немцы. Правда, немцев было совсем не много, вначале Зазыба насчитал полдесятка, затем обнаружил еще двоих. Бабиновичского коменданта возле Деряжни не оказалось. Зато присутствовал начальник районной полиции Рославцев. Уже вовсю кипела работа. Постукивая топорами, плотники тесали сброшенные с телег бревна. На высоких стропилах в несколько пар пилили доски. Зазыба вдруг заметил, что справа от дороги, где начиналась пойма, выстраивается новый обоз из крестьянских телег. «Наверно, поедут в лес», — подумал он. Однако ошибся. По лицу Браво-Животовского, который отлучался на некоторое время и прибежал снова к своим веремейковцам, можно было понять — где-то что-то случилось. Между тем к Зазыбе подошел Захар Довгаль, председатель колхоза из Гончи. — На чугунке взорвали немецкий эшелон, — сообщил, он, поздоровавшись за руку. — Кто взорвал? — сцросил быстро Зазыба. Захар пожал плечами, но в глазах его Зазыба увидел лукавые огоньки. — Видно, и вас туда направят пути расчищать, — добавил как ни в чем не бывало Довгаль. «Наконец-то и у нас началось!» — радостно подумал Зазыба. А Захар Довгаль, словно угадав его радость, тихо добавил: — С тобой, Евменович, имеет желание встретиться один человек. Я об этом хотел сообщить еще тогда, в Бабиновичах, да не нашел времени, верней, места укромного. Так что слишком не задерживайся там, приходи ко мне в Гончу, а я уж сведу вас. Кстати, узнаешь и про то, кто взорвал эшелон. Зазыба сразу догадался, о ком идет речь, конечно, о Прокопе Маштакове! Значит, райком партии все это время где-то здесь находился, в Забеседье!
XV
Чубарь долго спал в тот день. Именно день, потому что давно уже минуло утро, а он не просыпался, благо в Галкиной хате стояла глухая тишина, будто нарочно для крепкого сна, — напуганная пожаром в Поддубище, хозяйка давно побежала в поле- чтобы, расстелив рядно на полосе, хоть наспех вальком околотить сжатые снопы. Чубаря же эти крестьянские заботы совсем не занимали. Придя ночью из Поддубища, он долго стоял на подворье, глядел в ту сторону, где за лесом, стеной темного ельника, отделяющего Мамоновку от Веремеек, то вскидывалось вдруг вверх, то припадало снова к земле зарево. У него в мыслях не было поджигать Поддубище. Он только собирался догнать Зазыбу, чтобы тот не говорил о нем Миките Дранице — Зазыбо-во сомнение сразу, как тот ушел, передалось и ему, и он понял, что, наверное, все-таки не стоит обнаруживать своего присутствия в колхозе раньше времени. Конечно, делать великую тайну из того, что он вернулся назад, Чубарь не собирался, зачем тогда было вообще идти сюда, но ведь не зря говорят — береженого и бог бережет, тем более что теперь он мог накликать беду и на Аграфену. Во всяком случае, мысль эта пришла к Чубарю вовремя, и он вдруг остро пожалел, что не послушался сразу Зазыбу, а безрассудно возразил, словно бы из злобной мести хотел доказать Денису Евменовичу, что у страха и вправду глаза велики. Схватив винтовку, которая, словно живое существо, лежала у стены под одеялом на постели, он выскочил чуть ли не следом за Зазыбой, однако в сумерках не только догнать, но и углядеть его не успел, будто он сквозь землю провалился. Откуда было знать, что Зазыба не пошел в Веремейки обычной дорогой, а отправился к озеру потайной тропкой. Растерянный Чубарь быстро проскочил дорогу до Веремеек, потом обошел крайние дворы и вышел на дорогу, наезженную мимо деревни. При этом у него не было ясной цели, только досада в Душе, что не догнал Зазыбу, и с этой досадой Чубарь топал до самой гутянской дороги, откуда начинался ржаной клин в Поддубище. Деревня уже, видно, улеглась на покой, потому что ни в одной хате, кажется, не было огня. От перекрестка, который создавали здесь все дороги, можно было мимо глинища свободно добраться до заулка, где стояла Зазыбова хата. Но Чубарь вспомнил, что Зазыба теперь живет не один, что вернулся сын, которого Чубарь никогда не видел, поэтому намерение идти туда отпало быстро. Стоя у межевого столба на скрещении дорог, Чубарь некоторое время колебался, куда ему теперь лучше отправиться. Возвращаться в Мамоновку не хотелось — будто пришел сюда на свидание и тот человек, к которому он спешил, всего только опаздывает, нужно подождать. Однако и стоять тут, как цепью прикованному к столбу, тоже не было резона, потому что светила луна и из деревни даже на таком расстоянии нетрудно было углядеть человеческую фигуру, если бы кому вздумалось. Поэтому Чубарь вскоре отошел к первой копне на углу клина и, прислонившись спиной, остановился там, думая просто постоять несколько минут в затишке. Стал изадумался. До сих пор он ни разу не усомнился, правильно ли сделал, вообще вернувшись в колхоз. Этот факт для него был уже как бы само собой разумеющимся. Казалось, иначе и поступить нельзя в его положении, особенно если учесть, что шел он сюда с более чем определенной целью. Об этом он и Зазыбе уже сегодня объявил. А тут вдруг будто что стронулось в нем, пошатнулась уверенность. Может, причиной этому явилась затаившаяся деревня, его теперешнее одиночество и то, что приходилось прятаться от знакомых людей… Такие натуры, как Чубарь, обычно хорошо чувствуют себя в коллективе. Они одинаково способны руководить коллективом и подчиняться ему. Это все равно как те шестеренки в громадном механизме, которые по отдельности только лежат да ржавеют. Чтобы прийти в движение, им необходима связь между собой, взаимное действие, если вообще можно это сравнивать с людьми. Словом, Чубарь уже готов был даже пожалеть, что встретил за Ипутью полкового комиссара с его бойцами, выходящих из окружения. Если бы тогда проехал он на лошади мимо их военного лагеря, теперь не стоял бы здесь неприкаянным, на веремейковском поле, не было бы нужды думать да беспокоиться о всяких существенных и не существенных вещах, в том числе и о том, что поторопился вызвать к себе в Мамонов-ку Микиту Драницу. Нечего и сомневаться, что он, Чубарь, поблуждав близко или далеко по округе, повернул бы тогда назад к оборонительному рубежу, чтобы попытаться снова выйти к заветным Журиничам, где формировалось ополчение. А так… Возвращаясь в Забеседье, Чубарь не надеялся застать в колхозе большие перемены. Он судил об этом по другим местностям. Не мог даже и представить себе, что колхоза в Веремейках который день уже нет, что в деревне, так же как и в обоих поселках, входящих в колхоз, крестьяне работают порознь, разделив засеянную землю. И уж совсем не пришло бы ему в голову, что на второй день после прихода в Бабиновичи немцев Веремейки обзаведутся полицейским в лице Браво-Животовского. О деревенских новостях Чубарю рассказали сперва Аграфена, а теперь Денис Зазыба. Но всего больше поразила Чубаря ловкость Браво-Животовского. Рассчитывать после этого, что бывший махновец (и об этом Чубарю стало известно от Аграфены), который сам, добровольно стал полицейским, будет молчать о Чубаревом появлении, никак не приходилось. Приняв оружие от немцев, Браво-Животовский сделался врагом. Мысли эти пришли к Чубарю не сразу, не на протяжении одной минуты, а постепенно, одна за другой, по мере того, как он знакомился с обстановкой, сложившейся в его отсутствие, однако последняя мысль возникла только теперь, когда он стоял, прислонившись спиной к копне, и тупо глядел перед собой на темную деревню; это и совершило неожиданную перемену в Чубаревом внутреннем состоянии, в его чувствах. Довольно было вспомнить про Животовщика и про то, что полицай превратился в серьезную и, может быть, пока единственную помеху на его теперешнем пути, как только что пошатнувшаяся уверенность Чубаря перешла в свою противоположность — казалось, только для одного того, чтобы обезвредить Браво-Животовского, стоило вернуться в Забеседье. Незаметно эта злость, направленная на конкретного человека, распространилась и на другие, не менее реальные явления. А через некоторое время, которое исчислялось, разумеется, минутами, не более, она превратилась в ярость огульную, а потому не рассуждающую, пожалуй, уже ни о чем… И загорелось, вернее, было подожжено Поддубище. Внезапно Чубарю вспомнилась беседа с Зазыбой, та ее часть, которая касалась колхозного имущества, по директиве подлежащего уничтожению еще до оккупации, зашла речь, даже спор между ними и об этом хлебе, который Чубарь, по правде говоря, не рассчитывал увидеть в копнах, потому что, уходя из Веремеек, отдал Зазыбе абсолютно ясное распоряжение. Оправдываясь, Зазыба сослался на секретаря райкома Маштакова, однако Чубарь склонен был истолковать неповиновение заместителя по меньшей мере нерешительностью, если вообще не боязнью взять на себя ответственность. Да и при чем здесь Маштаков? В конце концов, секретаре райкома сам знакомил районный актив с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б), и Чубарь помнит, какими комментариями сопровождалась она тогда, поэтому вряд ли мог потом Маштаков изменить мнение. Теперь, когда Чубарь вернулся в Забеседье, ответственность за все колхозные дела опять ложилась непосредственно на него, значит, и спрос будет с него. Находясь целиком во власти чувств, соответствующих этим рассуждениям, которые не успокаивали, а, наоборот, усиливали в нем злость, Чубарь машинально сунул руку в боковой карман толстовки, нащупал коробок со спичками, которые остались еще с тех пор, как он, Шпакевич и Холодилов поджигали на Деряжне мост. Чубарь понимал, что более удобного случая, чем теперь, у него, пожалуй, не будет для такого дела: стоило вынуть из коробка спичку и чиркнуть ею по шершавому боку, чтобы мгновенно запылала первая копна. Чубарь оттолкнулся локтем от жесткой копны, снопы которой были уложены колосьями внутрь, и вышел из укрытия. С поля хоть и не сильный, но дул ветер. Надо было отойти подальше, ну, хоть на середину клина, чтобы оттуда потом погнало пламя по жнивью. Подбрасывая, будто забавляясь, коробок на ладони, Чубарь прошел метров четыреста вдоль гутянской дороги, повернул резко направо и двинулся по жнивью вверх по склону кургана. Для поджога он выбрал чью-то лохматую копну, почти скирду, наверное, сюда были снесены снопы со всей полосы. Рядом, как нарочно приготовленный, жался суслон. Чубарь ударил ногой по нему, подхватил с земли два снопа, разлетевшиеся от его удара, приложил колосками друг к другу. Оставалось только поджечь. Но прежде Чубарь оглянулся по сторонам, будто боялся, что его вдруг застанут за этим делом. Ничего подозрительного вокруг не было. Тогда Чубарь поймал в коробке спичку, чиркнул. Подождав, пока сгорит сера и займется дерево, он тут же поднес огонек к снопам как раз в том месте, где были состыкованы колоски, и легкое пламя сразу же побежало по соломе, а в следующий момент перескочило на копну. Не напрасно этот год рожь долго стояла в поле. Солома, так же как и жнивье, давно уже пересохла, и пожар не заставил себя ждать да много усердствовать. Поняв, что тут, возле этой лохматой копны, больше нечего делать, Чубарь схватил за жесткий конец пылающий сноп и, торопясь, чтобы пламя, которое раздувал ветер, не обожгло руки, побежал с ним к другой копне. Потом, выхватывая новый сноп» он бежал к следующей, все дальше по сжатому клину, стараясь попадать в центр его, благо было светло от луны, и пламя, которое в темную ночь могло бы просто слепить глаза, сегодня совсем не мешало рассмотреть все вокруг. Лицо Чубаря от огня быстро сделалось горячим, руки, хотя он и старался уберечь их от ожогов, уже тоже жгло, будто кожа на них взялась волдырями. Делал Чубарь свое дело спокойно и без недавней злости, как что-то самое обыкновенное, будто собирался готовить под засев вырубку и перед этим подпаливал хворост. Наконец он бросил последний пылающий сноп еще на одну копну, провел по толстовке ладонями, вытирая сажу, и оглянулся на то, что так легко совершил, даже не запыхавшись. Расчет был правилен. Огонь уже охватил не только те копны, которые Чубарь поджег, но устремился по склону вниз, подбираясь все к новым и новым. Казалось, растекалась во все стороны пылающая смола. Больше здесь, в Поддубище, делать было нечего, и Чубарь, поправив толчком, как мешок на спине, винтовку, которая висела наискось, пошел прочь, обходя с тыльной стороны курган. Хотя назавтра в деревне и говорили, что кто-то стрелял на пожаре, однако до самой Мамоновки он винтовку не снимал… Постояв на Гапкином дворе, Чубарь осторожно, чтобы ничем не брякнуть, зашел в дом и повалился, не раздеваясь, на постель. Заснул он хоть и не очень быстро, но в спокойном состоянии, будто не с пожара вернулся, а, по крайней мере, с мельницы, где весь день засыпал в жернова зерно, таская беспрерывно сверху вниз и снизу вверх полные мешки. Чубарь был уверен, что сделал в Поддубище то, что крайне необходимо было сделать и чего в его положении не сделать было никак нельзя. Словом, засыпая, он далек был от мысли, что, спалив рожь, нанес этим вред, так же, как далек он был и от того, что на этот счет может быть у кого-нибудь иное мнение. Однако, несмотря на удовлетворение сделанным, спал Чубарь все-таки плохо. Точней, не так хорошо, как надо было ожидать в его настроении. Потому он и проспал на другой день далеко за полдень: снова, как на пожаре в Поддубище, жгло ему лицо, под закрытыми веками билось нетерпеливое пламя. Но больше всего, кажется, мешал один и тот же сон, даже не сон — какой-то кошмар… Довольно было Чубарю на мгновение забыться, как сразу мерещилось: из-под пылающих копен прыскали, разбегаясь по жнивью во все стороны, полевые мыши, у которых были почему-то человеческие головы, и все на одно лицо, похожее на Микиту Драницу… Наконец, под утро уже, перестало трепетать под веками пламя и Чубарь крепко заснул. Хотя хозяйка и торопилась в поле, однако завтрак собрать на стол не забыла, накрыв еду скатеркой. В сенцах Чубарь помыл руки, ополоснул лицо. Но когда он снова вернулся в горницу, откинул край скатерти и увидел, что лежало под ней — Ганка поставила гладыш топленого молока, положила огурцов, кусок желтого сала да несколько яичек, словом, собрала завтрак, как для косца, — то вдруг понял, что ничего в рот не возьмет, просто не может есть, несмотря на то, что пора было проголодаться, время подошло к обеду. И тем не менее Чубарь не торопился закрывать еду, стоял у стола и смотрел, будто пытался вызвать у самого себя аппетит. «Отъелся», — усмехнулся в душе Чубарь, вспомнив сразу те, еще словно бы недавние денечки, когда приходилось мыкаться с голодным брюхом, слушая, как булькает в нем вода. Но дело было, конечно, не в том, что Чубарь успел отъесться, не так уж давно жил он оседло здесь. Отсутствие аппетита объяснялось иным. Чубарь и сам это скоро понял, пожалуй, еще до того, как со скептическим самодовольством подумал о своем теперешнем сытом положении. Просто не ощущал он больше той жажды ко всему, той здоровой неутоленности, которая бушевала в нем до сих пор, будто отбило внезапно вкус ко всему каким-то дурным запахом или внутренней брезгливостью. «Но почему нет Аграфены?..» — спохватился он, словно только теперь осознав ее отсутствие. Осторожно, чтобы не задеть ненароком гладыш с молоком, Чубарь наконец запахнул краем скатерти завтрак, накрыл так, как было и раньше, и пошел на крыльцо, нагибая под двумя притолоками голову — сперва в хате, потом в сенцах. Солнце светило от улицы, и на двор, куда выходило крыльцо, от конька двускатной соломенной крыши падала искаженная тень. Освещено подворье было ближе к забору, где стоял, словно плаха, широкий пень, на котором хозяева не только дрова рубили, но и петухам головы. Сразу же за забором, шагов через пятьдесят, начинался лес, сплошь сосновый, медностволый, с белыми, как у скелетов, ребрами подсочки. И только на огороде, за баней, высились три кривые березы, которые произрастали от одного корня, образуя внизу, у самой земли, что-то вроде рогатого седла. На березах, облепив ветки по самые макушки, ворошились какие-то птицы, — наверное, скворцы, которым настало время сбиваться в стаи. Из леса послышалось бомканье, но неясное, может быть, приглушенное расстоянием, поэтому отгадать причину его было невозможно. Скорей всего там, в ракитовом яру, который подступал глубоким распадком к дороге, ведущей из Мамоновки в другой поселок — Кулигаевку, паслось стадо, и это бомкала колокольцем на шее чья-то заплутавшая корова. Не слишком высовываясь, чтобы, упаси бог, не попасть на глаза кому, Чубарь широкими шагами пересек двор, направляясь к воротам хлева. В хлеву лежало сено, и там у Чубаря был тайник — на дневные часы, когда каждую минуту в хату мог заявиться непрошеный гость. Собственно, Чубарь мог проводить здесь, на этом сене, и ночи, особенно сегодняшнюю, когда явился из Поддубища поздно. Чубарь уже взялся за щеколду на воротах, как во двор, толкнув руками с улицы калитку, вбежал восьмилетний сынишка хозяйки Михалка. Наверное, он получил от матери наказ следить, когда проснется Чубарь, чтобы показать на столе завтрак, потому что сразу же С этого и начал: — Дядька Чубарь! — Это было обычным его обращением. — Матка говорила, чтобы вы ели, на столе в хате стоит все! Мальчик всегда с неподдельным восхищением поглядывал на Чубаря. И Чубарь это очень ценил, стараясь хоть чем-нибудь подчеркнуть свое расположение к нему. А вот дочка Галкина Верка воспринимала чужого человека в доме иначе. Та не только сейчас, в эти дни, но и раньше враждебно встречала всякий раз появление Чубаря. В свои одиннадцать лет она не так быстро, как ее брат, меняла привязанности. Ее память, так же как и сердце, еще целиком была заполнена отцом, который погиб в декабре тридцать девятого возле озера Муаланьярви. Ясно, что не могла простить девочка матери связи с Чубарем. То, что мать пыталась объяснить детским капризом, недостатками возраста, было проявлением глубокой неприязни, и не только к чужаку, но и к родной матери, правда, с той разницей, что к матери это чувство менялось: достаточно было уйти Чубарю, как она переставала хмуриться и становилась прежней послушной девочкой, стоило Чубарю назавтра снова переступить их порог, и Верка, словно маленькая птичка, топорщилась, начинала нервничать, делалась упрямой, нарочно встревая между Чубарем и матерью, следя не только за каждым их шагом, но и движением. Видно, поэтому Верка с большой охотой всегда бежала за матерью, надо ли корову найти в лугах после пастьбы или еще что сделать, только бы подальше от дома. Между тем Михалку ничем особенным Чубарь и не приманивал, стыдно признаться, даже конфеток в кармане ни разу не принес, однако мальчик льнул к Чубарю, и особенно сильно проявилось его восхищение йм, когда уже в войну Чубарь стал приходить с винтовкой, не важно, что взрослые. охальники в поселке насмехались и говорили грязные слова, дразня малыша «новым папкой»… — А матка с Веркой пошли снопы околачивать, — сказал Михалка. — Кто-то спалил в Поддубице веремейковские копны, дак бабы наши побегли свое спасать. — А вам в Поддубище не давали полосы? — спросил глухим голосом Чубарь. — Не, мамоновцам и кулигаевцам досталось тута, вон, за нашими лугами. Знаешь? — Знаю. — А веремейковцам нарезали тама, в Поддубище, дак ихнее жито кто-то взял да спалил. — Значит, ваше не сгорело? — будто обрадовавшись, спросил Чубарь. — Ага. — А веремейковское сгорело? — Ну! — Вот видишь, — многозначительно усмехнулся Чубарь, намекая, что мамоновское жито уцелело неспроста. Но Михалка по-своему понял эти его намеки. — Пускай бы только попробовали поджечь наше — по-детски запальчиво сказал он. — Ты бы их из винтовки тогда. Вот так — раз-два! — И показал руками, как бы сделал Чубарь. Эта детская запальчивость, так же как и вера в то, что Чубарь расправится с каждым, кто посягнет на мамоновцев или на их добро, поразили Чубаря. Отводя взгляд, Чубарь положил на русую Михалкову головенку ладонь, собираясь погладить, да так и задержался в нерешимости, будто сил не было сделать последнее ласковое движение. — Вот что, — сказал он, — ты лосенка хочешь? — Выскочило у него это совсем неожиданно, но так к месту, будто он все время думал про лосенка и про то, что осиротевшее животное, которое где-то слоняется одиноко, надо обязательно привести сюда, в Мамоновку, показать и отдать малому, потому что вряд ли кто другой, кроме Михалки, мог по-настоящему позаботиться теперь о бедняге. — Какого лосенка? — встрепенулся Михалка. — Ну, обыкновенного. — А какой он? — Потом увидишь. Ты только скажи, хочешь или нет? — А он кусается? — Нет, — засмеялся Чубарь и снова обласкал глазами обрадовавшегося Михалку. Подумал: «Ну конечно, как это я не догадался раньше, надо сейчас же пойти поискать лосенка!» Для него теперь, пожалуй, не было никого дороже этих двух существ — Михалки и лосенка! Тем временем Михалка продолжал радостно мигать голубыми глазами, и это еще сильней подмывало Чубаря на то, на что он неожиданно решился. Но Михалку брать с собой в лес Чубарь не рискнул. Во-первых, Михалково отсутствие встревожило бы мать, вряд ли они успеют вернуться, пока она с дочкой придет с поля, а во-вторых… В конце концов, мало ли что может случиться, тогда уж совесть и совсем замучает. Чубарь заговорщицки подмигнул мальчику. Сказал: — Значит, хочешь лосенка? — и, не ожидая ответа, тут же добавил: — Тогда вот что, ты сторожи тут дом, а я сейчас пойду. — А я? — Ты останешься дома. Я один поищу лосенка, а то матка потом будет нас ругать. Попадет от нее и мне, и тебе. — Ыгы, — насупился Михалка, но, конечно, не потому, что убоялся материных угроз. Спросил: — А хлеб он ест? — Не знаю, — пожал плечами Чубарь. — Наверное, ест… — Тогда возьмите хлебца с собой. Хлебом и приманите. Покажите ему мякишек, он и пойдет за вами. Это даже лучше, чем веревкой ловить. Наверевке дак может упираться, а так нет. Я вон своей Чернавке, когда маленькая была, всегда давал мякиш. Ходила все лето за мной, пока к зиме не выросла. А на кого он похож, лосенок? — Ну вроде теленка. Такой. — А вы его сами видели?
— Как тебя вот. — Ладно, приводите, — солидно, будто давая разрешение, на которое до сих пор не отваживался, сказал Михалка. — А я загончик на огороде сделаю. Нехай будет стоять в нем. Только погодите, я хлеба сейчас принесу. Мальчик опрометью кинулся через двор в сенцы, из них в горницу и так же быстренько вернулся с краюхой в руках. Увидев краюху, Чубарь подумал, что и для себя не мешает взять хлеба, раз уж уходит из дому. Но, взяв из Михалковых рук краюху, подумал и о другом: в конце концов, вряд ли придется приваживать лисенка. — Ну, смотри тут! — Чубарь обошел хлев сзади, где между борозд стояла засохшая березка, по которой цеплялась вверх стручковая фасоль, и потихоньку зашагал в другой конец усадьбы. Птицы — а это действительно были скворцы — с шумом взлетели с берез при появлении на огороде человека, закружили черной тучей над поселком. С огорода в лес вели маленькие воротца, сколоченные из нетолстых жердей, и Чубарь, отодвинув заржавелый железный засов, толкнул их сапогом. Очутившись за усадьбой, он окинул взглядом дорогу на Веремейки, словно хотел убедиться, что сегодня уж никого не дождется оттуда, потому что вряд ли решится даже Драница идти к нему среди бела дня, потом втянул голову в плечи, словно хотел стать поменьше и понезаметней, и, мягко ставя ноги на слежавшиеся сосновые иглы, зашагал вдоль изгороди. Хотя подсочка на соснах высохла, а в жестяных лейках стояла рыжая вода, которую налило дождями, по опушке, как в жаркое лето, разносился запах смолы. Правда, он был не таким густым, как бывает, когда по деревьям течет сама живица, зато проявлялся, кажется, еще сильней. С приходом осени в природе вообще происходит словно бы обновление, тогда и вода в реках делается светлее, и запахи вокруг ощущаются более явственно, даже воздух и тот, кажется, просматривается насквозь без единой пылинки. Смолистый запах прежде всего и почувствовал теперь Чубарь, потому что тот царил тут, пожалуй, единовластно. Вереск в счет не шел. Его здесь было мало, всего несколько кустиков на всю боровину. Но вот Чубарь пересек дорогу, которая из Мамоновки шла к Беседи. Глазам сразу же открылась большая просека, которая появилась тут в прошлый раз, когда леспромхозовцы трелевали лес к руму. Теперь на просеке всюду синел мышиный горох, будто его специально посеяли здесь. По гороху басовито гудели шмели, порхали птицы. Посреди просеки возвышалась могучая ель. Лесорубы почему-то не тронули ее, может, как раз по той причине, что это была елка, и одна на весь квартал, так зачем делать ею пересортицу? Увидев уцелевшее дерево, Чубарь даже лицом просветлел, словно встретил давнего знакомого. «Не скоро вырастет снова лес, а если и вырастет, вряд ли доведется кому из тех, кто теперь уже в годах, стать свидетелем его обновления. И только смолистые пни да она вот будут напоминать, что когда-то шумела здесь, гнула вершины под ветром ладная боровина. Деревья — те же люди, даром что не способны думать, ходить да сожалеть о своем временном нахождении на этом свете. А судьба их, пожалуй, одинакова с человеком. Постоят, пошумят — и хватит! Если не сами истлеют, так сгодятся на какое дело. На дерево найдется человек с топором, а на человека — свое лихо, а то, глядишь, и сам человек пойдет на человека, как и в эту вот войну!..» Думая так, Чубарь незаметно для себя прошагал почти половину просеки. На краю ее в зарослях орешника, прикрытого сверху еловыми ветвями, стояли шалаши. Они имели вид особого человеческого жилья, но без людей. Только в одном шалаше на сене лежала красноармейская пилотка. Чубарь достал ее, подцепив дулом винтовки, подержал и снова бросил на место. За этим шалашом виднелась яма, полная ваты и окровавленных бинтов. «Значит, был привал какой-то медицинской части», — догадался Чубарь. Обычно, не успеет такая часть разместиться, как вокруг уже вырастают знакомые с детства холмики, разве что без крестов да пирамидок. На одну такую стоянку Чубарь набрел еще за Ипутью. И тогда прежде всего бросились в глаза ему близ дороги шалаши. Но те были сделаны с расчетом не на один день — каждый шалаш, будто раскрученным рулоном, накрывался и с боков, и поверху еловой корой, так что внутри человеку не страшна была не только обычная морось, проливной дождик не мог пробить кору. Чубарь собирался даже заночевать в одном из шалашей. Но вскоре ощутил трупный запах. Стоило Чубарю пошарить глазами да посоображать, как стало ясно: здесь оперировали раненых, и все ампутированное санитары сбрасывали в яму, и вот кто-то раскопал ее, эту яму, — может, волк или бродячая собака. Переночуй-ка теперь один в шалаше!.. Сообрази» это — а перспектива на самом деле была йе только незавидная, но и жуткая, — Чубарь ужаснулся, сиганул прочь от этих шалашей. Неотвязная мысль, что где-то бегают звери-людоеды, заставляла его долго передергиваться. Правда, днем страхи не донимали, зачем же винтовка при себе, зато всякий раз под вечер, как только случалось искать приюта под открытым небом, первая тревожная мысль была об этом… Но теперь могилок возле шалашей не было. Словно бы успокоенный этим, Чубарь вернулся к своим поискам. Он хорошо ориентировался вокруг, пожалуй, был один участок во всем забеседском лесном пространстве, который Чубарь неплохо-таки знал, не один раз шагал здесь из Веремеек в Мамоновку. Поэтому ему не составило большого труда отыскать именно то место, где он убегал через ельник от лосенка. Разумеется, надеяться, что животное все еще стоит да ждет его, не приходилось, однако Чубарь еще в Мамоновке рассудил: конечно, сирота будет блукать поблизости, если не увязался за кем другим. Но напрасно. Сколько ни слонялся Чубарь вокруг знакомого ельника, даже следов нигде не заметил. Как будто в то утро лосенок и не прибегал сюда. Но ведь Чубарь вел его за собой! Надо было выбираться ближе к озеру, хотя отсюда начинались болота и до самого берега туда пришлось бы идти по грязи. Поэтому Чубарь побрел краем. Но, кроме птичьих следов-крестиков, по-прежнему ничего не встречалось и тут. Нащупав в кармане краюху, которую вынес ему Михалка, Чубарь отщипнул мякиш и кинул издали в рот. Странно, но и теперь есть все еще не хотелось. И он некоторое время жевал мякиш без всякого вкуса, пока нечаянно не проглотил его. Потом снова машинально полез в карман, отщипнул тремя пальцами от краюхи, положил в рот. Этого занятия ему как раз хватило, чтобы добраться до следующей дороги, что пролегала из Веремеек в Гончу почти параллельно мамоновской. Тут Чубарь наконец остановился под березой, которая низко склоняла старые ветки, создавая из них готовый шалаш. Вверху над дорогой однообразно шумели деревья, а где-то в чаще кричали, будто торговки на рынке, сороки, которых кто-то пугал или дразнил снизу. «Что, если наведаться к лупильне?» — подумалось Чубарю, и он вдруг обрадовался — не тому, что снова получил надежду отыскать лосенка, а самой идее идти дальше, предлогу двигаться.

Больше чувствуя, чем сознавая свою неприкаянность, Чубарь хоть и очень медленно, но все дальше отходил от березы; топча прошлогодний бурелом, он лез напрямик и почти наугад, потому что примерно знал, как попасть отсюда на ту гриву, где была хатка-лупильня, главное, не взять теперь, шагая наугад, слишком вправо, потому что тогда обязательно окажешься близко от деревни, а то и вовсе выйдешь к крайним хатам; этот инстинкт будто был дан Чубарю еще раньше, поэтому он, не слишком волнуясь, двигался все время с поправкой на такой оборот дела. Только в одном месте лришлось круто свернуть — там начиналась молодая сосновая поросль, через которую невозможно было даже проползти. Увидев ее, Чубарь, сохраняя направление, тут же соскочил в узкую межевую канаву, самое дно которой было завалено высохшей хвоей. Пошел он по этой канаве, словно по глубокой борозде в поле, непривычно ставя ноги пяткой к носку, словно по протянутому канату. Наконец канава вывела к болотине, поросшей по краям высокой и мягкой волнистой травой, какая случается в глухой тени. Тут сосновые заросли сходили на нет, и дальше можно было снова идти без помех. Обходя не сгоревшие, может, когда-то погашенные ливнем груды хвороста, что чернели, будто старые костры в ночном, на травянистых пригорках, Чубарь оказался между болотиной и рослым можжевельником. А дальше уже должны были пойти те засевные луга, по которым добирался до хатки-лупильни Чубарь и тогда, в первый вечер, как вернулся из своего вынужденного путешествия. Повсюду земля выглядела будто истыканной, но не теперь, а давно, потому что успела затвердеть. Колдобины были не глубокие, в одну лопату, зато широкие, словно логовища, которые часто увидишь посреди крестьянского двора, а то и прямо на деревенской улице в дождевой луже. Такое могли натворить по своей охоте только дикие кабаны. Но вряд ли это были они. Другой раз Чубарь, может, и не заметил бы этих старых колдобин, но теперь они почему-то словно лезли в глаза, и он даже остановился на пригорке, будто удивляясь. Вот уж правду говорят, что вольному времени не занимать! Тут он и увидел на ладной прогалине среди можжевеловых кустов лосенка, а сзади, в нескольких шагах от лосенка стоял, нависнув над ним, волк… Лосенок стоял в очень неудобной позе — на коленках, будто перед этим кто пихнул его и передние ноги от толчка подломились. Но хищник почему-то не нападал на выслеженную жертву, как будто тешась его беспомощностью. Чтобы не ускорить драму, которая вот-вот должна была разыграться здесь, Чубарь замер на месте, ощутив моментально, как отяжелели ноги. Правой рукой он медленно снял с плеча винтовку, неслышно подхватил выше патронника левой и уже готов был прижать прикладом к плечу, чтобы целиться, как вдруг волк шевельнулся и как-то странно, будто ломаясь в хребтине, вильнул задом, словно падая. Волк был очень стар, поэтому не только потерял сноровку по-звериному напасть на свою жертву, но даже трусцой подбежать к ней. Это был тот старый волк, которого намедни видел Зазыба, когда возвращался из Бабиновичей. Где-то в тех местах немощный зверь и встретил лосенка. И вот они ходили друг за другом по лесу — слабый волк, неспособный убить свою добычу, чтобы утолить давний голод, от которого уже кишки в брюхе ссохлись, и беспомощный, дрожащий лосенок, который все не давался ему, каждый раз готовый вскочить на ноги и сделать несколько неверных шагов. Но этих шагов как, раз и хватало, чтобы спастись. Между тем волк сделал несколько судорожных движений, сотрясаясь при этом всем телом — от хвоста до головы, потом облизнулся, словно мазнул по шерсти куском сырого мяса, и замер. Почти на такое же расстояние ушел от него лосенок. Видно, он уже хорошо изучил повадку своего мучителя, поэтому сразу же, как тот перестал двигаться, шмякнулся на передние коленки, принимая прежнюю позу. Чубарь все еще не выдавал себя, хотя давно смекнул, что даже если и наделает шума, то все равно не повредит лосенку, не ускорит событий. Тем более не собирался он после всего, что видел, стрелять. Рассудил: «Надо ли вообще убивать этого несчастного волка?». При этом он вспомнил и того убитого кем-то зверя, что лежал далеко отсюда во ржи. Затем вспомнил убитого им военврача Скворцова… Вспомнил и содрогнулся. Зачем? А вспомнив и рассудив так, опустил винтовку, постоял немного., словно бы в удивлении, что случается в жизни и такое, торопливо сбежал с пригорка в низину. Не разбирая под ногами частых колдобин, он заторопился к тому месту, где следили друг за другом волк и лосенок. Но, выйдя на прогалину, Чубарь даже искоса не поглядел на волка, будто в расчет его не брал или наперед знал, что после будет тошно от одного вида гноящихся глаз его. Без всякого опасения он подошел к лосенку. Увидев Чубаря, тот не вскочил и не кинулся прочь, наоборот, совсем свалился наземь, будто и вправду понял, что с человеком пришло спасение.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Иван Чигринов известен всесоюзному читателю главным образом как автор двух крупных романов, посвященных событиям начала Великой Отечественной войны, — «Плач перепелки» и «Оправдание крови». Но между тем писателю, получившему заслуженное признание самой широкой читательской аудитории, писателю, как мы говорим, «военной темы», в 1941 году не было еще и семи лет. Иван Чигринов принадлежит к тому поколению белорусских прозаиков, которое принято сейчас называть «средним». Этот «возрастной» критерий носит одновременно и конкретно-временной и исторический характер. Детство, годы воспитания души, исторически совпавшие с великой войной (а у Чигринова еще и с немецкой оккупацией), наложили свой неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь каждого советского человека, а в данном случае — самым существенным образом сформировали творческую индивидуальность писателя. В 1975 году, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», Иван Чигринов назвал войну «первым и главным событием в его жизни». «Каждый из нас, — писал он, — будет привносить в изображение войны что-то свое, воссоздавая ее общую картину. О минувшей войне, на мой взгляд, еще не все сказано». К большим эпическим произведениям Ивана Чигринова привел не только традиционный в литературе опыт писателя-рассказчика, но и отнюдь не традиционный опыт исторической жизни, выпавший на долю его поколения. Пятнадцать лет назад рассказ «За сто километров на обед» Чигринов начал таким, во многом полемическим зачином (который, кстати, в контексте литературного развития 60-х годов воспринимался как прямой и обоснованный выпад против характерного для тех лет настроения инфантилизма, выразившегося, в частности, в апологетике граждански незрелого героя): «Нам, детям войны, было в ту пору (речь идет о 1943 г. — Г. Е.) лет по десять — ну, кому-то больше, кому-то меньше. Но мы тогда уже все знали, и мне иногда кажется, что знали гораздо больше, чем теперь, когда каждому из нас по тридцать лет». Осмелюсь повторить старую, но не устаревшую мысль — лучшие произведения о войне всегда современны и доступны любому читателю. Позволю себе рассказать случай из своей литературной практики, связанный с именем Ивана Чигринова. Мне предложили выступить перед школьниками и рассказать о творчестве Чигринова. Каково же было мое изумление, когда, переступив порог читального зала библиотеки, я увидела перед собой вместо ожидаемых девяти- или десятиклассников — школьников… семилетнего возраста. Признаться, я растерялась — ведь у Чигринова нет, ну, просто совсем нет произведений для ребят. И уже возникло было предательское намерение поменять предмет разговора, как вдруг вспомнился рассказ «За сто километров на обед». Последнее обстоятельство и решило исход нашей встречи, наверное, во многом уникальной встречи совсем еще маленьких граждан с большим, «взрослым» искусством писателя, который скорее всего никогда и не помышлял о столь юной аудитории. Прежде всего пришлось отважиться и задать самый простой и самый бытовой вопрос любопытному черноглазому мальчугану (правда, у меня мелькнула беспокойная мысль, что мальчуган этот не достиг даже семилетнего возраста, что и подтвердилось вскоре): «А далеко ли ты, малыш, ходишь на обед?» На что последовал незамедлительный ответ: «Из комнаты в кухню». Тут же мы подсчитали количество метров, при разных вариациях их получалось никак не больше пяти. Теперь можно было смело рассказывать о том, как дети сорок третьего года в только что освобожденной от фашистов восточной Белоруссии ходили за сто километров на обед в детский дом: из своей голодной деревни, где худо ли, бедно ли, но мате-дом: из своей голодной деревни, где худо ли, бедно ли, но матери все-таки были, — на обед к государству, к Советской власти. Ситуации в рассказах Чигринова (и смена ситуаций), как правило, построены на противоречивой и неожиданной психологической детали; при простоте и строгости стиля деталь эта вызывает всегда точный эмоциональный эффект, если можно так сказать, происходит прямое попадание. Есть такая деталь и в рассказе «За сто километров на обед». В своей дальней дороге дети встречают пленного немца и у этого запуганного, тощего существа отбирают котомку со съестным (немцу подавали сердобольные белорусские бабы). Немец отдает свой скудный харч безропотно, а дети, распотрошив его торбу, возмущаются, ругают фрица за то, что тот насобирал так мало. Слушатели мои сидели затаив дыхание. И лишь черноглазый мальчуган печально проронил: «Так ему и надо, фрицу, но фрица этого тоже жалко». Вот тут-то и пришла моя очередь удивляться безошибочной детской интуиции и — мастерству писателя. Перечитывая сейчас рассказы Ивана Чигринова (а все они написаны в основном в шестидесятые годы), невольно воспринимаешь их (сквозь опыт уже прочтенных и написанных позднее романов) не только как самостоятельные произведения (а они, разумеется, вполне самостоятельны и законченны, со своим локальным сюжетом, со своим строго очерченным кругом характеров), но и как своеобразную «пробу пера», как подступ, как творческую лабораторию будущих романов. И дело тут не только в совпадении или даже в перенесении некоторых ситуаций, а порой и имен действующих лиц, но и в общей настроенности писателя, в той задаче, которую он перед собой ставит, — постижение психологии народа, жившего и сражавшегося в условиях оккупированной Белоруссии. Вспомним рассказ «Гадание на обручальных кольцах», в котором речь идет о родинах, сопровождающихся традиционными народными обрядами, песнями, гаданиями. Начало августа 1941 года. Немцы еще не вступили в Веремейки, но все последние дни оставшиеся в деревне женщины и старики живут в тягостном предчувствии надвигающихся грозных событий. И вдруг «такая радость — родился человек, пускай и в такое лихолетье, как сейчас, в войну». Пожилая женщина, Зазыбова Марфа, отправляется на родины: там, в своей хате, она все время чувствовала гнет неизвестного, того, что предстоит испытать, а здесь, на этой гриве, всего в полукилометре от дома, ничего похожего не переживала: достаточно было увидеть, что все в деревне оставалось нерушимым и что ничего страшного пока не случилось. И вот даже Сахвея Мелешонкова родила». Потом, позднее, в романах, этот мотив, мотив нерушимости народной жизни, станет одним из центральных. Истоки народного подвига, истоки советского патриотизма писатель ищет на большой исторической глубине — в привязанности человека к родной земле, политой кровью и потом многих поколений крестьян, трудившихся на ней и погибших за ее независимость. Иван Чигринов для отображения войны, избирает свой угол зрения — в его романах читатель не найдет крупных сражений, побед, партизанских диверсий, но зато очень пристально, с максимально близкой дистанции увидит человека, внутренние побуждения и движения его души, которые, в конечном итоге, и привели к великой победе. Среди рассказов Чигринова встречаются и такие, что тематически связаны с современностью, с сегодняшним днем. Но их немного. Свою приверженность военной теме писатель весьма интересно, в своеобразной метафорической форме объяснил в 1979 году, отвечая на вопросы корреспондента газеты «Лiтаратура i мастацтва»: «Современность… Все мы создаем ее… Но ощущение такое, что когда-то, данным давно, я попал в большой дождь, он все идет, идет и идет, и не прекращается, а на мне некая тяжелая ноша, и я, так сказать, не могу поднять головы и посмотреть, появилось ли уже солнце или нет. Посудите сами. Детство — война, сразу — война и сразу боль, и память, мы же хорошо помним, как рвались снаряды в поле, как люди умирали от ран, как приходили похоронки… Боль памяти породило время труда. А это значит, что я все время нахожусь на войне, живу с одними и теми же людьми, живу их психологией, их радостями, их горем, их борьбой. Словом, если некоторые писатели по многу раз отходили от войны, мне никак не удается уйти от нее. И недаром я сравнил это с положением человека, попавшего в большой и «длинный» дождь». Иногда говорят, что каждый писатель пишет всю жизнь свою единственную книгу. К Ивану Чигринову это относится в большой степени, так как его идейные и эстетические интересы находятся в одной — даже и тематически — плоскости. Читателям данного издания представлены два романа Ивана Чигринова, составившие дилогию, — «Плач перепелки» и «Оправдание крови». Третья часть эпопеи о войне — «Свои и чужие» — закончена и скоро будет опубликована. События, изображенные и романах «Плач перепелки» и «Оправдание крови», происходят в течение краткого исторического времени и в ограниченном историческом пространстве. В сущности, все они «укладываются» в август — сентябрь 1941 года и совершаются главным образом в пределах вымышленной деревни Веремейки. Более того, из этих двух месяцев подробно изображены лишь несколько дней, самых значительных в жизни действующих лиц и потому позволяющих рассмотреть характеры глубоко и внимательно. Пожалуй, первое, что привлекает внимание в романах, можно определить как точность хронологических границ. От начала августа 1941 года и до исхода шестидесятого дня войны — таков временной отрезок действия в первом романе, с шестидесятого дня войны и до конца сентября 1941 года — во втором. Историческая конкретность времени подчеркивается и скрупулезной географической точностью: юго-восток Белоруссии, река Беседь, деревня Веремейки… Но роман нс стал бы романом, если бы автор ограничился фактической достоверностью изображенных событий. История, как правило, не поддается рационалистически выпрямленному изображению, а приобретает свою подлинную многозначность и многосодержательность лишь при метафорическом осмыслении. Художественный мир романа един, но существует в нескольких измерениях. «Все это — и стремительный марш отдельных полков кавалерийской группы Городовикова, и отступление 13-й армии — происходило в пределах одного календарного месяца, но почему-то казалось, что время тянулось необыкновенно долго, может, потому, что оно вдруг стало восприниматься как что-то почти неуловимое и тем более неопределенное… Так возникает в романе параллелизм в изображении времени: точность и неуловимость, конкретность и неопределенность. Но в этом внешнем несоответствии нет надуманности художественного парадокса, несоответствие неизбежно, так как оно реально возникает на стыке объективного стремительного развития событий и несовпадающего с ним замедленного, в большой степени еще довоенного образа мыслей и жизни героев романа, находившихся до августа 1941 года все еще в стороне от главных событий войны. Расположенная в глухомани деревня Веремейки еще не втянута в ее круговорот, но привычный ритм жизни уже нарушен. Вчерашним действием (колхозные работы, наступившая страда) время уже не может быть заполнено, завтрашнее действие еще не родилось. Замедлившее свой темп время создало своеобразную обстановку, пробудило в человеке рефлексию — мысль. Под внимательным взором писателя краткое «сегодня» стало наполняться историческим опытом, который, может быть, объяснит и завтрашний день. Границы романа раздвигаются, и события двухсотлетней давности (основание Веремеек после восстания Василя Ващилы) естественно вписываются в его нарочито замедленный мир. Незаметно, исподволь замедленность оборачивается настороженностью, внутренней напряженностью. Активная работа мысли создает своеобразную атмосферу «накануне», «на пороге». Иван Чигринов широко пользуется приемом параллелизма для воссоздания сложности момента: неопределенность — катастрофичность. Картина дополняется все новыми и новыми аналогиями. «Сегодня перепелка не иначе как плакала. То ли гнездо ее разорили, то ли другая какая беда заставила оглашать тоскливым зовом окрестность… Зазыба почувствовал это и с грустью подумал: если птицы так плачут, то как же должны голосить люди, у которых горя несравненно больше, а теперь так его и вовсе через край?» Внешняя безыскусность сопоставления обманчива, ибо это сравнение только начинает собой длительный ряд вариаций, все более и более углубляющих первоначальный образ. Выстраивается своеобразная лирико-эпическая аналогия — человек и природа, природа и человек. Изображение одушевленной, страдающей вместе с народом природы — один из принципов поэтики И. Чигринова. Во многих критических статьях, анализировавших романы Чигринова, звучала мысль о том, что эпичность в них является результатом глубокого, пристального внимания писателя к отдельной человеческой судьбе, к истории души. Меньше исследована его поэтика, лирическое начало в его творчестве. А между тем ее принципы имеют свою богатую и древнюю традицию, истоки которой можно найти еще в древнерусской литературе. Другим питающим ее истоком является, конечно, фольклор, народное творчество. Опираясь на известные слова К. Маркса, можно сказать, что фольклорная мифология — не почва, а только арсенал, откуда современный писатель черпает поэтические средства, но эта могучая и животворная криница одухотворяет, поднимает повествование от страшной в своей будничной жестокости войны в сферу возвышенного — речь идет уже о бессмертии природы и народа. Романы Чигринованевозможно представить себе без эпизодов, связанных с плачем перепелки, с судьбой маленького лосенка-сироты, с жизнью природы. Живой кажется Чубарю трепещущая в затишье молодая осинка: «Казалось, на нее дует кто-то невидимый из огромной пасти или, что еще хуже, поджигает огнем или травит ядом ее корни в черной почве. И каждый раз, когда Чубарь видел эту непонятную лихорадку незадачливого дерева, ему становилось Не по себе, хотелось подойти к осинке и, жалея, придержать руками, чтобы помочь успокоиться…» С необъяснимым любопытством наблюдает председатель колхоза за «умными и самоотверженными» муравьями, которые, не обращая внимания на человека, заняты своим неутомимым трудом. Думается, что в некотором смысле перерождение Чубаря, превращение его из «винтика» и «шестеренки» в свободную, сознательную личность, в подлинного гуманиста (а именно таким представляется будущее образа согласно логике его развития в написанных двух романах) связано с приобщением его к естественной основе бытия человека — к природе. Не случайно, может быть, так настойчиво сталкивает писатель председателя колхоза с осиротелым беззащитным лосенком: «По эту сторону канавы, всего шагах в шести, растопырив по-телячьи передние ноги, застыл лосенок. В темно-вишневых глазах его Чубарь ясно увидел что-то невыразимо трогательное и доверчивое, в грудь даже ударила горячая волна, которая возникает в минуту неожиданной, нежеланной нежности». Безусловно, становление Чубаря происходит в опыте войны — в эпическом ключе, но одновременно и в столкновении с израненной, беззащитной природой — в лирическом. Природа и человек сливаются в одно нерасторжимое целое: не только природа приобщается к сиюминутности человека, но и человек — к бесконечности, неистребимости природы. «Оправдание крови» начинается непосредственно в лиро-эпическом ключе: «Маршевая немецкая колонна давно уже прошла мимо Кандрусевичевой хаты в Веремейки, а в деревне мало кто видел ее: почти все взрослое население было в Поддубище. Первой углядела немцев старая аистиха, одиноко и беспомощно, словно подвешенная, маячившая над гнездом возле кладбища. Она была очень голодна, немощна и вообще этот год постоянно недоедала, редко когда снималась с березы, чтобы поискать в траве на кладбище или на краю болота пищу, поэтому в голодном забытьи немецкая колонна внизу показалась ей вертлявым ужом». Этот своеобразный зачин сразу создает эмоциональный настрой у читателя. Высвечиваются как бы две параллельные линии: факт — немецкая колонна — тут же переосмысляется в метафорическом плане — «вертлявый уж». И. Чигринов легко и незаметно умеет переключить повествование из бытового, эмпирического плана — в символический. Это связано с тем, что писатель идет к обобщениям не через широту и объемность картины, а через глубину — историческую, психологическую, эмоциональную. Зазыбе почудился плач перепелки, когда он стоял у окна своего дома, вслушиваясь в тревожную военную ночь: ожидал услышать грохот немецких танков и мотоциклов, но пока еще только плакала перепелка — так в маленькие Веремейки врывается грозное время. Плач природы воспринимается как шквал всеобщего горя. Силы природы выступают как бы вместе с человеком и — за человека. Вот почему так важна И. Чигринову сцена, где предатель Рахим убивает старого лося, — ею заканчивается первый роман и ею же начинается второй. Предатель стреляет не просто в чудесное животное, но в то, что оно собою олицетворяет, — добро, красоту, самое жизнь. А заканчивается «Оправдание крови» тем, что Чубарь ищет лосенка, находит его и спасает: «Без всякого опасения он подошел к лосенку. Увидев Чубаря, тот не вскочил и не кинулся прочь, наоборот, совсем свалился наземь, будто и вправду понял, что с человеком пришло спасение». Есть в романах И. Чигринова и еще одна возможность лири-зации эпоса, связанная с категорией художественного времени. Эпос в традиционном понимании подразумевает окончательное завершение, результат. Романы «Плач перепелки» и «Оправдание крови» — о прошлом, которое стало историей. Но И. Чигринов пишет о минувшем как о сегодняшнем, как о том, что происходит и формируется сейчас, на наших глазах: отсюда, возможно, и отсутствие некоторой эпической дистанции, подчеркнуто детализированное видение, скрупулезное растягивание нескольких дней на часы, минуты, мгновения. Писатель изображает как бы не то, что было и прошло, а то, что происходит сегодня. Такой способ изображения времени приводит к созданию непосредственно эмоционального сопереживания. Когда человек поет песню, он страдает и радуется в момент исполнения, он переживает все те чувства, которые заключены в слове, в звуках, — в это, теперешнее, а не в прошедшее мгновение. Вот так и в романах И. Чигринова создается художественная иллюзия теперешнего осуществления событий, движения характеров, душевных импульсов. «Так это ж я на поминках его плясала!» — кричит Дуня Прокопкина, и кажется, что эта солдатская жена кричала не тогда, не тридцать шесть лет назад, а сегодня, теперь, рядом с нами. Романы И. Чигринова написаны в строго объективной манере, обогащенной лиризмом. Именно лиризм привносит в объективное повествование новое эстетическое качество непосредственного свидетельства и глубоко искреннего эмоционального переживания. На наших глазах как бы творится таинственный эффект «соприсутствия» в войне, отодвинутой от нас временем и уже целым поколением людей, родившихся и духовно сформировавшихся после войны. При этом художественная правда реализуется на нескольких уровнях изображения. В романах развиваются параллельно, почти нигде не смыкаясь событийно, две линии. Каждая из них сопряжена с одним характером. Первая связана с Денисом Зазыбой, вторая — с председателем колхоза Родионом Чубарем. Зазыба, его заместитель, находится в деревне, Чубарь в пути: сначала к фронту, а затем — к Веремейкам. И если круг общения Зазыбы в основном неизменен (односельчане), то встречи Чубаря случайны и на первый взгляд последовательность их неуловима. Характер Зазыбы уже сформировался, и в романе лишь раскрывается его внутренний мир. Ни недавно перенесенное личное несчастье (несправедливый арест сына), ни тем более первые неудачи и поражения в войне не могут поколебать внутренней убежденности Зазыбы в исторической справедливости Советской власти. Вот. почему вызывает сомнения иллюзия Зазыбы, пусть даже кратковременная, относительно немецкого коменданта Адольфа Гуфельда. Но, пожалуй, это единственная непоследовательность, нарушающая логику характера. Другое дело — медлительность и осторожность Зазыбы, здесь, безусловно, воплотились некоторые, отнюдь не второстепенные черты крестьянской натуры. Он является «носителем мудрого народного опыта». Неторопливый ритм сельских — случайных и неслучайных — сходок подчеркивает иллюзию устойчивости, якобы сохранившейся и в безвременье, но нервные всплески отдельных реплик создают ощущение тревоги. «Бессознательная круговая порука», существовавшая до сих пор в Веремейках, поколеблена: казалось бы, еще ничего не случилось, но, в сущности, уже все предрешено. Еще Парфен Вершков в состоянии относиться к Роману Семочкину как к «человеку», но слово «дезертир» уже произнесено, а на пороге слово еще более страшное — «предатель». Мораль веремейковцев, бесхитростно делившая род человеческий на «своих» и «чужих», оказалась несостоятельной, ибо один из «своих» стал предателем. Более того, он не вдруг. оказался в этом новом качестве, а всегда был таковым. И проявился в этом качестве еще тогда, когда убил беззащитную старуху. Человек, лишенный нравственного стержня, становится глухим к морали. Если в изображении нарушенного ритма деревенской жизни автор стремится к предельно объективному повествованию, то в линии Чубаря принята иная точка отсчета — субъективные впечатления героя. Но композиционно эта часть построена таким образом, что личное не мешает, а, напротив, способствует выявлению объективного. Здесь автор прибегает к своеобразному приему, который, пожалуй, вообще редко используется в художественной литературе. Чубарь живет сразу как бы в двух измерениях, двух плоскостях. Одна плоскость — быстро текущее время, связанное с появлением в жизни Чубаря все новых и новых людей. Другая — время замедленное, то самое, в котором живут земляки Чубаря, веремейковцы. Благодаря такому временному наслоению создается впечатление, что председатель колхоза все еще не приобщился к чему-то главному, происходящему сейчас в стране, что он еще находится где-то в стороне от магистральных событий. Судьба оставила ему, как и жителям деревни, возможность осмыслить то, что было, есть и будет. Таким образом создается естественная атмосфера для изображения эволюции характера. Недаром так часто повторяется слово «впервые»: «Кажется, впервые за всю свою сознательную жизнь Чубарь мог подумать о том, кто он, откуда пришел в этот мир и как жил»; «Сегодня Чубарь впервые своими глазами увидел войну с ее жертвами, так как до сих пор… он смотрел на нее будто издалека… Теперь она становилась для него и страшной явью, и тягостным воспоминанием»; и наконец, возвращаясь в деревню, Чубарь «впервые» был взволнован, увидев знакомые места. Все эти «впервые» отмечают новые ступени развития характера. В «Оправдании крови» появляется новый герой, в первой части романа только упомянутый. Это Масей, сын Дениса Зазыбы. Незадолго перед войной он был осужден. В суматохе первых дней войны ему удалось пробраться в Веремейки. Герой этот во второй части эпопеи еще не до конца ясен. И это не удивительно. Перу Ивана Чигринова вообще не свойственна торопливость: прежде чем делать какие-то определенные выводы, прежде чем дать герою возможность совершить какой-то окончательный поступок, писатель рисует обстоятельный бытовой и психологический портрет. Масей Зазыба пока присматривается к жизни. Беседуя с отцом, матерью, Парфеном Вершковым, с жителями деревни, Масей как бы ищет способа своего оптимального участия в войне. Как сложится его дальнейшая судьба — мы не знаем. Видимо, это тема следующего романа. А вот Парфен Вершков во второй книге раскрыт автором до конца. Надо сказать, что это вообще один из самых интересных своей жизненной подлинностью образов романа. Кульминационный поступок Парфена, поступок, который и окончательно определил его как личность — решение принять на себя вину за смерть немецкого солдата, чтобы спасти Веремейки от погрома, — подвел черту под его жизнью. И не случаен, видимо, в сюжетном развитии романа «Оправдание крови» тот факт, что последним человеком, с которым Парфен Вершков разговаривал перед смертью, был сын Зазыбы, Масей. Развернутый внутренний монолог Парфена не только предшествует его прощальному диалогу с Масеем (диалогу — прощанию с жизнью), но и связан с ним единой мыслью, мыслью о смысле жизни, и не в абстрактном понимании вечной проблемы, а в сугубо конкретном, данном, историческом, связанном именно с Парфеном, именно с Масеем, то есть с выбором единственно правильного пути в определенных обстоятельствах, в обстоятельствах войны. Размышляя над собственной жизнью, Парфен приходит к выводу, что жил он честно, но перед судом своей совести признается, что для жизни мало одной честности. «Честность — еще не добро!». Свое недовольство собой (можно сказать — святое недовольство) Парфен Вершков передает Масею как своего рода завещание, как предупреждение о будущем. И, конечно, недаром буквально за несколько часов до встречи с Парфеном Масей вдруг неожиданно по-новому увидел свою родйую деревню — издали Веремейки были похожи на изогнутый лук. ’Тетива этого своеобразного лука давно была туго натянута, даже слишком близко сводила оба конца дуги, а стрела все не вылетала. Не вылетала, может быть, потому, что не имела перед собой верной цели. Пораженный своим открытием, Масей еще не думал, что она с равным успехом может пронзить и его, может, она вообще предназначена для него с самого начала, как только прикоснулась одним концом к тетиве, а другим легла на самый изгиб древка; но вот он наконец представил это и почувствовал толчок в сердце, словно и вправду стрела догнала его». Это метафорическое сравнение, рожденное, без сомнения, народной, фольклорной образностью, вызывает широкий и идейно точный круг ассоциаций, связанный не только с судьбой Масея, с его предстоящей борьбой против фашизма, и не только с судьбой жителей деревни Веремейки, но и с народным подвигом в Великой Отечественной войне. Состояние «накануне», «на пороге» приходит к своему логическому завершению, внутренне оно уже сгустилось, сконцентрировалось до возможности перехода в иное, новое качество — туго натянутая тетива вот-вот дрогнет, и стрела пронзит верную цель. Все это будет, а пока писатель подробно описывает процесс вызревания нового качества. Он внимательно исследует психологию крестьянской души, в которой непосредственная действенность предваряется длительным и основательным раздумьем. Именно по этой причине несколько дней двух военных месяцев смогли стать благодатным материалом для двух крупных романов. По этой же причине медленно и постепенно назревает и разрешается один из важнейших конфликтов романа-эпопеи, конфликт не внешний, но тем не менее достаточно драматический, носителями которого являются главные герои: Зазыба и Чубарь. Спор, начавшийся между председателем колхоза и его заместителем в первом романе, имеет свое продолжение и во втором, когда возвратившийся в Веремейки Чубарь предлагает Зазыбе действовать. Правда, и Чубарь уже не совсем тот, что месяц назад; приобретенный опыт, безусловно, раздвинул границы его понимания жизни вообще и военной ситуации в частности, но этот опыт не стал еще руководством к действию, хотя уже и породил в нем внутреннее сопротивление самому себе, которое особенно явственно проявилось после того, как он все же поджег колхозный хлеб, не посчитавшись с мнением Зазыбы, что надо сохранить хлеб во что бы то ни стало для своих людей, в том числе для будущих партизан. Тактическую ошибку Чубаря Зазыба видит ясно и отчетливо. Смысл ее сводится к тому, что Чубарь понимает войну изолированно от контекста народной жизни, неистребимой и вечной в своей сути. Потому-то и смотрит Зазыба на Чубаря, «человека, в чистоте намерений' которого не приходилось сомневаться», «с каким-то острым, почти щемящим чувством, кажется, впервые четко осознав громадную разницу между своим и его возрастом», смотрит как на своего сына. «Но кровь героев, — упрямо доказывает Зазыбе Чубарь, — помогает зреть идеям… — Хватило уже крови и без моей для идей, — спокойно ответил на это Зазыба. — Кровь здесь не поможет. Надо сделать так, чтобы не мы немцев боялись, а они нас. И не кровью своей мы должны напугать их, а оружием. Я вот так понимаю дело и хочу, чтобы ты наконец понял это». Оправдание крови может быть только в борьбе, и в борьбе победной. «Я хоть сейчас готов смерть принять, но чтоб от этого польза была. А что с того будет, если я пожертвую собой, а делу не помогу?» — говорит Зазыба, и эта мысль совпадает с авторской. А это значит — борьба должна быть разумной, и в этой борьбе надо беречь людей и народное богатство во имя людей, и, стало быть, допускать напрасные жертвы не только бессмысленно, но и преступно. Как победить, сохранив жизнь максимально возможному количеству людей (незаменимых, невосполнимых), — об этом романы Ивана Чигринова «Плач перепелки» и «Оправдание крови». Именно здесь, на мой взгляд, надо искать сокровенные истоки народного гуманизма писателя, его стремление увидеть войну через судьбу и душу отдельного, неповторимого человека, готовящего себя к великому подвигу борьбы и победы. Когда читаешь романы Ивана Чигринова, невольно вспоминаешь толстовский образ, которым охарактеризовал великий писатель внутреннее состояние русских солдат накануне Бородинского сражения, — «скрытая теплота патриотизма». В «Плаче перепелки» и «Оправдании крови» нет описаний победоносного движения наших войск, которым закончится Великая Отечественная война, но есть та «скрытая теплота патриотизма», которая и привела — сквозь поражения, сквозь неизбежные и трагические утраты — к 9 мая 1945 года. Осенью 1978 года Иван Чигринов работал на 33-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая в Нью-Йоркском университете с лекцией о современной советской литературе, писатель ответил на вопрос, почему в Советском Союзе так много пишут о войне. «Опыт минувшей войны, — сказал он, — не только пережитый опыт. Это и наука на будущее». Один из героев дилогии, старик Кузьма Прибытков, ведет свою затейливую и в то же время горестную речь о судьбе Белоруссии в войнах: «Москва, она как приманка. С войной на Москву ходили и в старину. Да все через нас, все через Беларусь… Я так вот думаю иногда, что очень уж чудно размещена эта Беларусь наша, будто господь бог с умыслом ее положил так. Все через нас войной на Москву, все через нас. Кажется, кабы кто перенес ге в другое место, так и нам бы лучше зажилось в одночасье. А земля хорошая, может, даже лучше, чем тот рай». Белорусская земля… Немыслимыми, нечеловеческими страданиями заплатила она за наше сегодня, которое в 1941 году было далеким и неизвестным будущим. Оправдание народной крови и в том, что сейчас, спустя десятилетия, живет и созидает белорусский народ, живет и духовная память народа в его культуре, в его литературе. Белорусская проза давно перешагнула границы не только своей республики, но и Советского Союза. Имена белорусских прозаиков — Василя Быкова, Ивана Мележа, Алеся Адамовича, Ивана Шемякина — прозаиков, на протяжении многих лет неизменно верных военной теме, известны во всем мире. Свое достойное и оригинальное место занимает в этом ряду и Иван Чигринов.Галина ЕГОРЕНКОВА
В 1981 году издается 15 книг
библиотеки «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
A. Бакунц. Альпийская фиалка. Повести. Рассказы. Перевод с армянского. Я. Брыль. Стежки, дороги, простор. Повести. Рассказы. Перевод с белорусского. B. Гейдеко. Горожане. Роман. Рассказы. П. Загребельный. Евпраксия. Первом ост. Романы. Перевод с украинского. П. Кадыров. Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского. В. Личутин. Повести. П. Нилин. Знакомство с Тишковым. Повести. В. Орлов. Гамаюн. Молдавские повести. А. Рыбаков. Тяжелый песок. Роман. К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том 1. К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том 2. Г. Тютюнник. Холодная мята. Повести. Рассказы. Перевод с украинского. И. Чигринов. Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Переводе белорусского. Эльчин. Смоковница. Повести. Рассказы. Перевод с азербайджан с к ого.
С 1981 ГОДА ИЗДАЕТСЯ НОВАЯ, РОЗНИЧНАЯ СЕРИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЖУРНАЛУ «ДРУЖБА НАРОДОВ» — «БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»
В 1981 году в этой серии выйдут следующие книги:
Л. И. Брежнев. Малая земля. Возрождение. Целина. Ю. Балтушис. Проданные годы. Роман. Перевод с литовского. О. Гончар. Тронка. Циклон. Романы. Перевод с украинского. С. Сартаков. Хребты Саянские, т. 1. С. Сартаков. Хребты Саянские, т. 2.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Председатель редакционного совета Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя Леонид Теракопян
Заместитель председателя Александр Руденко-Десняк
Ответственный секретарь Елена Мовчан
Члены совета Сурен Агабабян, Ануар Алимжанов, Лев Аннинский, Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко, Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук, Алим Кешоков, Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе, Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко, Александр Овчаренко, Борис Панкин, Инна Сергеева, Петр Серебряков, Юрий Суровцев, Бронислав Холопов, Иван Шамякин, Камиль Яшен
INFO
С (Бел)2 Ч 58
Ч 70302-025/074(02)-81*442-81 подписное
Иван Гаврилович ЧИГРИНОВ ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ ОПРАВДАНИЕ КРОВИ
Приложение к журналу «Дружба народов» М., «Известия», 1981, 608 стр. с илл.
Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой Редактор И. Юшкова Художественный редактор И. Смирнов Технический редактор В. Новикова Корректор Г. Страхова
Сдано в набор 9/XII — 80 г. Подписано в печать 22/V-81 г. Формат ЭДХЮвЧзз. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Латинская». Печать высокая (с фотополимерных форм). Печ. л. 19,00. Усл. печ. л. 31,92. Уч. изд. л. 35,73. Зак. 1877. Тираж 235.000 экз. Цена 2 руб. 50 коп.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл., 5
Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5
…………………..
Scan Kreyder — 09.06.2016 STERLITAMAK FB2 — mefysto, 2024

Последние комментарии
37 минут 45 секунд назад
45 минут 43 секунд назад
1 день 12 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 20 часов назад