Славное дело. Американская революция 1763-1789 [Роберт Миддлкауф] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Роберт МИДДЛКАУФ Славное дело Американская революция 1763-1789

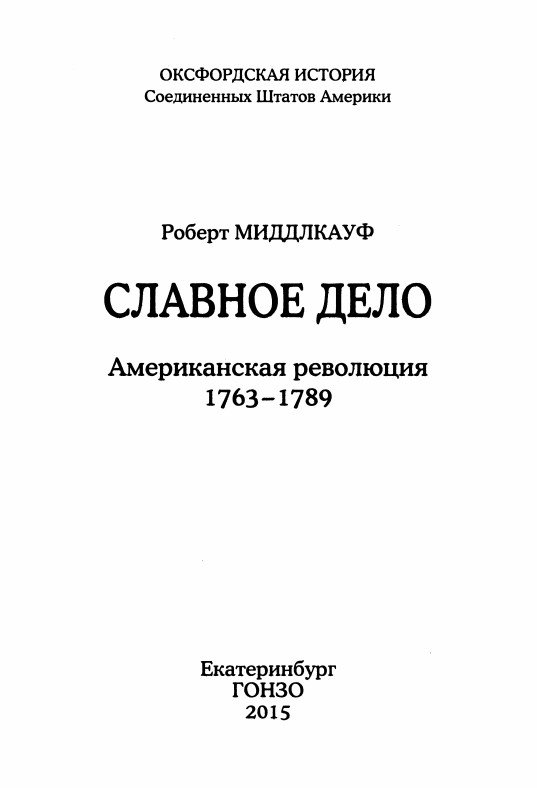
Посвящается Холли
Предисловие к исправленному изданию
Начав эту книгу, я был чрезвычайно взволнован возможностью написать масштабное повествование о великом событии в истории Соединенных Штатов Америки и всей западной цивилизации. Я до сих пор ощущаю это волнение и глубже, чем раньше, верю в потенциал нарративной истории. Это издание следует изначально взятому курсу, и все изменения, которые я в него внес, лишь расширили мой рассказ по сравнению с первым изданием. Основной акцент книги по-прежнему делается на политической жизни в годы революции, политической жизни в очень широком смысле слова. Однако изменения по большей части попадают в категорию социальной истории. Эти исправления касаются следующих частей: раздел в главе 1 — о британском военно-фискальном государстве; в главе 6 более подробно обсуждается народная реакция (беспорядки и мятежи) на меры, принимавшиеся Британией в 1746–1776 годах; в главе 14 — информация о первых призывах к независимости весной 1776 года; в главе 20 появилось гораздо больше информации о военной медицине; в главе 21 продолжено обсуждение роли женщин в революции, а также добавился раздел об американских индейцах; в главе 22 теперь есть небольшое размышление о различиях в том, как воевали британцы и американцы; в главе 26 можно найти новые соображения о ратификации конституции; а завершает книгу новый эпилог. Я также добавил в библиографию источники, опубликованные после издания книги в 1982 году. Подготовить это издание мне помогало множество людей: профессиональные историки, читатели и студенты. Среди них мне бы особенно хотелось отметить десять своих бывших аспирантов: это Рут Блох, Э. Уэйн Карп, Жаклин Барбара Карр, Кэролин Кокс, Чарльз Хансон, Ричард Джонсон, Кэролин Кнапп, Марк Качия-Ридл, Чарльз Ройстер и Билл Янгз. Все они своими книгами и статьями расширяли мой кругозор, особенно в том, что касается революции и американского общества. Долгие годы мои студенты программы бакалавриата здесь, в Беркли, тоже оказывали мне содействие и поддержку. Я не могу перечислить их поименно, но хотел бы, по крайней мере, засвидетельствовать их духовную помощь. Я также многим обязан историкам, писавшим об Американской революции, и постарался выразить признательность их трудам в библиографии, хотя этого недостаточно, чтобы показать, как сильно я у них в долгу. С того момента, как эта книга впервые увидела свет, я три года встречался еще с одной группой людей, интересующихся революцией — блестящими офицерами ВМС и морской пехоты США, принимавших участие в семинарах о стратегии и политике в военноморском колледже в Ньюпорте (Род-Айленд). Их интерес ко всем аспектам Американской революции, а не только к истории армии и флота очень заразителен. Я также признателен их преподавателям, проводившим семинары, — профессорам Уилтону Фаулеру, Роберту Дженнету и Нилу Хейману. Несколько лет назад меня очень поддерживал еще один офицер — генерал Джон Гэлвин, не так давно вышедший в отставку с командного поста в НАТО. Генерал Гэлвин также исправил ошибку, которую я допустил в обсуждении битвы при Лексингтоне. Студенты младших курсов в Джуниата-колледже под руководством доктора Дэвида Хсиюнга в течение двух лет отправили мне множество полезных предложений, за что я очень благодарен им и их преподавателю. Покойный К. Ванн Вудворд был общим редактором «Оксфордской истории США», когда я работал над первым изданием. Я не смог бы перечислить, сколько всего он сделал для меня, причем с исключительным вниманием. Никогда не забуду его доброту и изобретательность, а также вдохновение, которое я почерпнул в его собственных трудах. Многие годы в издательстве Oxford University Press я пользовался мудростью Шелдона Мейера, Леоны Кейплесс и, при подготовке настоящего издания, Питера Джинны и его ассистента Фурахи Нортон. Старший выпускающий редактор Джолин Аусанка с большим мастерством и заботой работала над выходом переработанного издания. Я чрезвычайно признателен ей за то, что она так хорошо справилась со столь трудной задачей. Дэвид Кеннеди, ныне редактор всей серии «Оксфордской истории США», всегда ободрял меня. Как и всегда в моей работе, больше всего мне помогала моя замечательная супруга Беверли. А моя дочь Холли, которой посвящается эта книга, остается чудесным источником вдохновения.Беркли,сентябрь 2004 годаР. М.
Пролог Прочные истины
«Цель путешествия, — писал доктор Джонсон миссис Трейл, — упорядочить воображение реальностью и не гадать, каковы могут быть вещи, а увидеть, что они представляют собой на самом деле». В словах Джонсона слышится желание эпохи увидеть, каковы вещи в действительности, избегая опасных выдумок о них. Его Англия и значительная часть дореволюционной Америки с подозрением относились к тому, что он называл «фантастическими идеями» — к иллюзиям грез и мечтаний. Великий американский современник Джонсона, Бенджамин Франклин, еще в молодости оставил размышления о природе реальности, чтобы жить как разумное существо в контакте с миром, который он познавал посредством чувств. Франклин был практичным человеком. Практичные люди обычно не совершают революций; этим занимаются мечтатели. И все же Бенджамин Франклин стал революционером вместе с несколькими миллионами других американцев. Его действия наводят на мысль об одной из иронических особенностей Американской революции: ее источниках в культуре людей, приверженных прочным реалиям жизни, практичных и прагматичных, как Франклин, которые в 1776 году отвергли верноподданство империи во имя «здравого смысла», как назвал Томас Пейн свою великую брошюру, превозносящую идею независимости Америки. Это подводит нас к другой иронии: то, что Томасу Пейну и большинству американцев в 1776 году казалось здравым смыслом, за каких-нибудь десять лет до этого ими же было бы сочтено редкостным безумием. «Здравый смысл» Пейна — проповедь под видом политического трактата — убедил американцев, что их давняя связь с Англией нелепа, противоречит законам природы, человеческому рассудку и даже «всеобщему порядку вещей». А что касается института, которому они всегда хранили верность — монархии, то она была нелепа и неестественна, как и традиционная связь с метрополией. Монархия, согласно Пейну, имела языческое происхождение, она была придумана дьяволом для укрепления идолопоклонства. Слова Пейна достаточно легко воспринимались большинством американцев; те были словно новообращенные прихожане, и он давал им ровно то, что они хотели услышать. Они провозгласили свою независимость через полгода после появления его эссе, ссылаясь в качестве оправдания на законы природы и Бога. Законы природы и всеобщий порядок вещей охватывают множество вопросов, и американцы революционного поколения едва не растратили себя, пытаясь определить свои рубежи. Раньше им не часто приходилось заниматься чем-то подобным. Кроме того, пока не разразился кризис в отношениях с Англией, основные принципы казались вполне ясными, включая и всеобщий порядок, который начинался с силы гораздо более могущественной, чем монарх, — он начинался с Бога. Почти все американцы — от кальвинистов Новой Англии, искавших в Писании Господню волю, до рационалистов из Виргинии, изучавших божественную механику в природе, — соглашались с тем, что все определяется Провидением. Провидение управляет как величайшими, так и самыми ничтожными событиями в жизни людей; Провидение руководит всеми процессами во вселенной, от вращения планет до полета птицы. Люди могли иметь разное мнение о значении происходящего с ними, ведь кое-что казалось удивительным и даже необъяснимым: ранние смерти, эпидемии, засухи, чума, войны, зло, а также и добро. Таким вещам люди могли изумляться, даже называя их божьей карой, несчастьем, чудом или тайной. Однако они не сомневались, что эти вещи всегда имели значение. Но Бог, придававший миру порядок, наблюдался не только во внешних проявлениях. Его присутствие можно было почувствовать то в прохладной тишине виргинских церквей, то на сдержанных собраниях квакеров, то в строгих молитвенных домах в деревнях Новой Англии. В спокойном ли рационализме арминиан, суровой жесткости кальвинистов или воодушевлении энтузиастов, божественное ощущалось всегда. Некоторым власть Бога казалась нестерпимой, другим Его милость приносила облегчение, а иным «величавая мягкость» Бога, как поразительно выразился проповедник Джонатан Эдвард, свидетельствовала о соединении Его величия и милости. Пожалуй, на каком-то этапе жизни большинство людей испытывали это чувство божественного начала, придававшего значение вечному порядку вещей. Возможно, лишь немногие сохраняли религиозную страсть надолго, но они не утрачивали веры в роль Провидения. Наверное, большинству американцев Провидение наиболее явно виделось в прогрессе их растущего и процветающего народа. Они называли себя преуспевающим народом и впечатляли европейских путешественников той непринужденностью и живостью, с которыми принимали свой рост и успех. В них не было самодовольства, но был, как заметил один европеец, «энтузиазм». Это слово намекало на то, что они могли быть опасны и склонны к религиозным причудам. Многие наблюдатели называли их плодовитыми, разумея как товары, так и детей, производимых в удивительных количествах. Нередко поминались истертые деньги, каковыми они и вправду были из-за многократной смены владельцев на оживленных американских рынках. Умножение деловых успехов и населения не удивляло американцев, которые давно питали в отношении себя большие надежды. Наследникам людей, считавших себя основателями Нового Света во славу Всевышнего, успех (прибавление и рост в мирских вещах) казался просто воздаянием по заслугам, чем-то принадлежавшим им по праву и частью вечного порядка вещей. Во второй половине XVIII века этот порядок еще распространялся на повседневные дела, особенно на работу и семью. Работа казалась сродни священнодействию. Это был долг, возложенный Богом и одобряемый Им как нечто правильное и добродетельное. То, что каждый должен иметь ремесло или призвание, ни у кого не вызывало сомнений. Ремесло следовало совершенствовать, призванию усердно служить, ведь, как говорил Франклин, «многое надлежит сделать», и даже если у тебя «слабые руки», «берись как следует за дело, и ты получишь хорошие результаты». Конечно, высшие цели этих хороших результатов были уже не так очевидны, как когда-то, скажем, основателям колоний. Но целью жизни оставалось прославление Бога. Обучение этому являлось задачей всех облеченных властью и начиналось с родителей, в особенности отцов, управлявших домом и всеми в нем. Они исполняли волю Бога, и их слово было законом. Они отвечали за многое: пропитание, дисциплину, достойное поведение как домочадцев, так и самих себя. Порядок, начинавшийся с божественного и проявлявшийся в жизни людей, распространялся и на правительство. Во второй половине столетия никто в Америке не считал Корону непосредственным инструментом Бога. И все же королевское правительство было санкционировано Господом, и люди не ставили под сомнение существовавшую форму правления, хотя часто протестовали против ее представителей, с которыми сталкивались ежедневно. Структура правительства, соглашались они, должна отражать структуру общества. Добродетельные, знатные и социально компетентные должны руководить. Такое устройство вроде бы всегда существовало и должно было сохраняться, что казалось американцам особенно желательным, поскольку, как они знали, оно соответствует старинным положениям британской конституции — самой прекрасной основы правления из когда-либо придуманных человеком. Американцы дивились давней истории защиты (и даже поощрения) свободы британской конституцией. И она защищала свободы американцев наравне с англичанами, что являлось замечательным достижением на фоне деспотизма прежних империй и тирании, царившей в большей части Европы. Публичная и частная жизнь, согласно этим общепринятым воззрениям, являлась частью неизбежного и неизменного порядка. Однако то, во что верили колонисты, похоже, разошлось с реальностью, которой они так восхищались. В Новом Свете многое отличалось, и здесь возникало свежее, хотя и не совсем новое общество. Идеи о неизменном порядке преобладали и в Англии. Из-за этого сходства Англии и Америки революцию, ее истоки и ее трансформацию так сложно понять, ведь это была кровопролитная война народов, имевших много общего и долгое время неразделимых.1. Гигант в оковах
I
Когда Георг III взошел в 1760 году на трон, английские подданные вновь воодушевленно запели. Из их груди вырывались слова «Правь, Британия!», написанные за двадцать лет до того и первоначально имевшие форму патриотической поэмы:II
Большинство подданных Георга наверняка были расстроены отставкой Питта, ведь он принес им славу, могущество и радость. Остальная Европа относилась к этому иначе. Европейцы, возможно, страшились Питта, но не восхищались им. И вообще, к Англии и англичанам они питали чувства, далекие от восхищения. Энергия и мощь Англии, конечно, были достойны уважения, но кроме этого европейцев мало что привлекало в этих грубоватых любителях говядины и пива, думавших, казалось, лишь о том, чтобы разорвать цивилизованный мир на части. Сколь бы сильно ни было влияние англичан, утонченной Европе они казались немногим лучше варваров. Да, они побеждали в войнах, их купцы ходили на своих кораблях по всему миру, они почти всюду занимали ведущие позиции в торговле, но, несмотря на все успехи, европейцы не баловали их щедрой похвалой или восхищением. В конце концов, англичане были народом без культуры. Ни один европеец не коллекционировал картины английских художников и не отправлял сыновей учиться в Англию[2]. Великой нацией считалась Франция, а не Англия. Европейские аристократы восторгались французской культурой, собирали французские произведения искусства и книги, покупали французскую мебель, чтобы комнаты считались хорошо обставленными. Модники и модницы носили французскую одежду и говорили по-французски, а не по-английски, если только не являлись англичанами. Французские философы задавали интеллектуальные стандарты для всей Европы, рукоплескавшей их смелости и воображению. Европа находила во Франции еще много всего достойного подражания: французская наука, подарившая миру «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» и Академию, поражала образованных людей во всем мире; торговцы и чиновники завидовали французским дорогам и каналам и особенно растущим благосостоянию и населению. Над всей этой силой, культурой и великолепием господствовала великая монархия, не скованная ограничениями, как Ганноверская династия в Англии[3]. В глазах европейских аристократов английская монархия действительно выглядела бледной имитацией настоящей монархии. Веком ранее англичане обезглавили одного короля и вынудили бежать другого. Европе они представлялись беспокойным сборищем, одержимым парламентским правлением с биллями о правах и вольностями, низводившими монархов до уровня мэров. Они были непредсказуемым народом, явно склонным к ограничению правительства и диким заморским авантюрам в ущерб европейских империй. Несмотря на всю причудливость этих фантазий, они содержали важную истину: энергия англичан была грозной и часто находила выражение в войнах, торговле и доминировании. По способности к росту, концентрации мощи и потенциала, употреблении силы ради экспансионистской политики ни одна нация в 1760 году не могла сравниться с Англией: ни Германия и Италия, которые не были даже государствами, а лишь безнадежно разделенными, постоянно борющимися за влияние и неспособными объединиться княжествами; ни Пруссия, имевшая прекрасного лидера, но лишенная таких ресурсов, как железо, сталь и уголь; ни Австрия, которой недоставало промышленности и торговли; ни Испания — некогда мощная, но теперь истощенная держава с растраченными богатством, силами и разлагающимся государственным аппаратом; ни Португалия, превратившаяся в английского сателлита; ни Голландия, парализованная федеративной системой правления; ни явно слабая Швеция; ни Польша — вялая, коррумпированная и раздираемая на части хищными соседями. Да и Франция, несмотря на ее развитие и вкус, ее философию, искусства и стиль, тоже в 1760 году была слабее, чем Англия. Привилегированное дворянство и потворствующая своим прихотям церковь контролировали архаичный государственный аппарат. Французы заплатили за эту древнюю роскошь в войне с Англией, когда вся Европа увидела, что слава Франции не трансформируется в военную и политическую мощь, достаточную для того, чтобы совладать с самонадеянными англичанами, которые, без сомнения, были дикарями Европы, но (также без сомнения) побеждали во всех концах света. Со своим снисходительным отношением европейцы, конечно, многого не замечали. Английская культура не была варварской. Ей не хватало воображения и дерзновенности, которые придавали французской культуре ее выдающуюся живость. И все же внешняя утонченность французской аристократии не объясняла взлета искусства и литературы этой страны. Конечно, французские аристократы покровительствовали искусствам, но то же самое делали и англичане; ни те ни другие не определяли их развитие и не вырабатывали стандартов вкуса и восприятия. Французы обладали более тонким вкусом, чем англичане, достаточно взглянуть на огромные загородные дома английских аристократов, чтобы убедиться: размеры, шик и излишества прельщали Уолполов и Пелэмов (типичных представителей знати) как ничто иное. В этом смысле чувства французов определенно были более цивилизованными, как могли бы сказать комментаторы XVIII века. Чего английской культуре не хватало, так это почти повсеместного французского блеска. Дома английской знати обычно были велики и холодны, но георгианская архитектура также отличалась красотой, а нередко еще и достоинством и сдержанностью. Французская живопись устанавливала европейские стандарты; англичане в основном ограничивались портретами. Во Франции творчество, казалось, процветало; в Англии Рейнольдс со своей толпой помощников тщательно выписывал бесстрастные английские лица, упорно соблюдая художественные условности. Гейнсборо, работавший в одиночку и бросивший вызов общепринятому стилю ради собственной индивидуальности, вызывал неудовольствие критиков и общественности. Острый взгляд Хогарта оставался недооцененным. Но все же в живописи, архитектуре и особенно в прозе и поэзии англичане не столь уж отставали, как это мнилось европейцам[4]. Если высокая культура Англии не отличалась варварством, которое приписывала ей модная Европа, то о ее обществе, от низших слоев до высших классов, этого сказать нельзя. Английской жизни все еще была свойственна определенная дикость, плохо сочетавшаяся с жаждой прогресса и развития. Преступников здесь вешали публично, и казни часто становились поводом для торжеств. Спустя полгода после коронации Георга III огромная толпа лондонцев собралась в Тайберне посмотреть на казнь лорда Феррерса, осужденного за убийство своего управляющего. Лорд Феррерс пожелал взойти на эшафот в свадебном костюме, и весь Лондон приветствовал его решение, ибо было хорошо известно, что он ступил на путь к виселице в день женитьбы. Хотя главную роль в подобных случаях редко играли аристократы, такие зрелища все равно пользовались неизменной популярностью. И редко кто поднимал голос против. Как замечал доктор Джонсон, народ Англии имел право видеть, как законные наказания применяются против преступников. А преступников в Лондоне и на проселочных дорогах было немало. У многих они вызывали страх и восхищение. Воспетые в народных песнях, запечатленные в эскизах Хогарта (наряду с другими слоями английского общества) и мастерски воссозданные в романе Филдинга «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого», они чаще всего избегали петли. Конечно, среднестатистический гражданин редко сталкивался с разбойниками, а вот с грязью, болезнями и ветхостью жилья он определенно был знаком не понаслышке. Английской жизни были свойственны элегантность и красота, находившие выражение в георгианских домах и сельских пейзажах, тогда еще полных цветов, зелени и лесов, нетронутых автострадами и застройщиками. Но при этом как в провинции, так и в Лондоне трущобы были равно уродливы. Внимательный путешественник Джон Бинг описывал темные хижины Олденминстера как «грязные снаружи и убогие внутри»[5]. Болезни в этот антисанитарный век распространялись очень быстро, причем не только среди бедноты, но и среди богачей и знати, которые невежеством и нечистоплотностью не отличались от всех прочих. Наверное, неудивительно, что богатые утешались распутством и мотовством, а бедные — джином и мятежами. Средние классы сбились вокруг Джона Уэсли и ривайвелизма и, пожалуй, страдали не так уж сильно. Это мрачная картина общества, раздираемого преступностью и страдающего от плохого жилья, болезней, антисанитарии и беспорядков. Впрочем, социальные условия на протяжении по крайней мере десятилетия после коронации Георга III улучшались. Это объяснялось появлением промышленности и ростом национального благосостояния. Английское предпринимательство проникало во все районы земного шара — в Азию и Индию, в Вест-Индию и отдаленные концы Средиземноморья. Механизмы торговли также улучшались, налоговые процедуры постепенно становились более рациональными, а банки помогали концентрировать финансовые средства. Всеми признавалась важность эффективного транспорта, строились более совершенные дороги, мосты и каналы. В этих обстоятельствах укреплялась промышленность; прибыли от торговли смогли дать начальный импульс, а новые коммерческие практики позволили высвободить ресурсы для развития. Вероятно, вследствие этого жизнь обычных людей немного изменилась, но в общем и целом лишь меньшинство извлекло выгоду из возникновения промышленного производства[6].III
И меньшинство, в особенности аристократическое — крупные землевладельцы, продолжало господствовать. Земля оставалась ключом к общественному положению, политической власти и престижу. Естественно, что это общество землевладельцев и их слуг, привыкшее к медленному ритму жизни, сезонным работам и тому, что каждый год напоминал предыдущий, приспособившееся и по большей части удовлетворенное сложившимися между классами отношениями, не слишком высоко ценило воображение и перемены. Привязанные к земле, они верили в свое положение и, хотя то не всегда было простым, по-видимому, довольствовались или, в худшем случае, смирялись с ним. Они приветствовали улучшения в области транспорта и связи: мосты и дороги облегчали жизнь. Они поначалу не противились развитию коммерции, тем более что она, казалось, предлагала новые источники дохода и, возможно, освобождение от налогов на землю. Прогресс в сферах транспорта, коммерции и производства ценился теми, чью жизнь он улучшал, и игнорировался основной массой селян, до которых из-за удаленности не добирался. Но другие виды перемен и реформ натыкались на упрямое сопротивление, показывающее, сколь глубоко традиционным и консервативным было английское общество XVIII века. Общественные меры, принимавшиеся в середине столетия, демонстрируют разнообразные предубеждения против перемен. В 1751 году в парламент поступил билль о натурализации иностранных протестантов; он достиг комитета прежде, чем протесты из лондонского Сити и прочих мест убедили Генри Пелэма, первого лорда казначейства, отказаться от него. Через два года появился сходный законопроект, касавшийся евреев. Этот «еврейский билль» заслужил чрезвычайно дурную славу, несмотря на его ограниченные цели. Его основные положения предусматривали, что евреи могут быть натурализованы посредством частных актов, где слова «истинной верой христианина» были исключены из требуемых клятв на верность монарху и главе англиканской церкви. В американских колониях аналогичный закон был принят без сопротивления. Английский же билль просочился через апатичный парламент, но уже на следующий год был отменен в результате сильнейшей волны протестов. Осторожный Пелэм пытался объяснить, что только богатые евреи смогут позволить себе воспользоваться этой лазейкой и что капиталовложения этого ничтожного меньшинства станут существенным вкладом в бюджет. Эти сдержанные и разумные аргументы не смогли пробить укоренившихся предрассудков и религиозного консерватизма[7]. Религиозный консерватизм примерно в те же годы был одной из причин сопротивления другой реформе — переходу на григорианский календарь в 1752 году. До его введения новый год в Англии начинался 25 марта. Использовавшийся в стране юлианский календарь отставал на одиннадцать дней от григорианского, который давно уже был принят в континентальной Европе. Это расхождение мешало всем, кто имел контакты за пределами Англии, а наибольшие неудобства испытывали купцы и дипломаты. Граф Маклсфилд, президент Королевского общества, использовал престиж науки, чтобы поддержать законопроект, который должен был привести английский порядок летоисчисления в соответствие с нормами XVIII века, и парламент нехотя согласился. Новый закон оставался в силе, но Пелэм и другие лидеры парламента то и дело слышали злобные крики об осквернении дней памяти святых, которые по новому календарю, конечно же, выпадали на другие даты. Настроение и образованность народа прекрасно отражала фраза «Верните нам наши одиннадцать дней!» (дни с 2 по 14 сентября были пропущены)[8]. Попытки уменьшить потребление джина натолкнулись на противодействие иного рода. В 1736 году Уолпол обложил запретительными пошлинами производителей и продавцов джина. Дешевое пойло подрывало экономику, разрушало семьи и серьезно истощало низшие классы общества. Закон о джине, имевший благие цели, но составленный плохо и практически неприменимый, почти не снизил объем потребления напитка и падение нравственности бедноты. Когда через пять лет Уолпол покинул свой пост, джин разливался так же свободно, как всегда. Картиной «Переулок джина» (1751) Хогарт предупреждал о его тяжелом воздействии на простых лондонцев. Вскоре парламент вновь предпринял меры в этом направлении, добившись большего успеха, но опять не встретив поддержки населения[9]. Под этими любопытными эпизодами с натурализацией, календарями и джином скрывался сильнейший консерватизм, позволяющий сделать вывод о том, что они были вовсе не следствием помрачения рассудка, а вполне характерными проявлениями глубинных культурных инстинктов. Перегибы XVII века (антиномизм, фанатизм и кровопролитная гражданская война) не оставили после себя нравственной усталости или социальной апатии, но усилили подозрительность ко всему вдохновенному, необычному и новому, особенно (хотя и не только) в повседневном поведении, религии и политике. Конечно, в Англии XVIII века были чудаки, фанатики и политические радикалы, но все они считались аутсайдерами, бившимися головой о стену общественного порядка, преграждавшую путь всему незнакомому и непривычному. Английский воздух уже не был пропитан мифами о привидениях, эльфах, феях, ведьмах и гоблинах. Он не благоволил, как сто лет назад, пророкам и сектантам, желавшим, чтобы весь мир накрыл прилив Святого Духа. Этот процесс очищения атмосферы начался, когда она была еще полна фантазий, а люди еще лелеяли нелепые мечты о Новом Иерусалиме, который бы воплотился в Англии. Эти мечты дали одним силы обезглавить Карла I и создать республику — священное содружество, другие, вдохновившись, строили чудесные планы нового порядка. Но в этой опьяняющей атмосфере были и те, кто съежился и отступил, и едва ли кто-то был более скептически настроен к романтике и иллюзиям, чем Томас Гоббс. Когда Гоббс в 1651 году назвал предрассудки пережитками прошлого и заявил, что современное ему сознание отличается рациональностью, в этом, возможно, было больше надежды, чем реализма. В прошлом, которое (по Гоббсу) счастливо миновало, люди связывали невидимые силы с «богом или дьяволом». Особенности собственного разума или события природы, казавшиеся необъяснимыми, становились понятны, когда люди «обоготворяли… собственный ум под именем Муз, свое невежество — под именем Фортуны, свое сладострастие — под именем Купидона, свое неистовство — под именем фурий»[10]. Но подобные объяснения давно утратили свою убедительность. Восемнадцатым веком правили разум и свет знания, наряду с приземленными, основательными, надежными и естественными реалиями.IV
Характерный для XVIII века взгляд на природу правительства и то, чем оно должно заниматься, точно отражал предубеждения этой консервативной культуры. Не было ничего даже отдаленно напоминавшего современную идею о том, что правительство должно способствовать благосостоянию и интересам общества. Конечно, правительство XVIII столетия не было настроено враждебно к этим целям, но от него ожидали чего-то другого, гораздо более ограниченного. Правительство существовало для сохранения «королевского спокойствия», как гласили общее право и древняя традиция. Это понятие включало в себя не только поддержание общественного порядка, преследование и наказание преступников; оно предполагало также принятие мер (или воздержание от каких-либо действий, если это было необходимо) к тому, чтобы все шло, как раньше. Сохранение королевского спокойствия являлось основой внутренней политики; внешняя политика, как правило, подразумевала аналогичную установку для национальной безопасности. На деле единственной неизменной проблемой в международных делах перед Американской революцией был вопрос о Ганновере, интересы которого Британия поддерживала с момента коронации Георга I. Все правительство было королевским. Работа всех в нем, от самого мелкого чиновника общины до самого влиятельного министра, совершалась именем монарха; это была личная, а не институциональная служба, хотя, конечно, она была фактически институционализирована в сложной и неуклюжей структуре правительства. Наверху активную роль играл сам король. Он являлся главой исполнительной власти — тех министров, которые осуществляли полномочия монарха. В известных пределах король выбирал служивших ему министров. Эти пределы, в сущности, сводились к желанию лидеров парламента участвовать наравне с другими в работе правительства и к их способности заручиться поддержкой членов обеих палат. Королю нельзя было навязать ту или иную команду или даже отдельного человека, и выдающиеся лидеры обычно не противились просьбе монарха составить министерство, готовое выполнять его распоряжения, но, конечно, при условии, что они сами могли работать с угодными королю кандидатами. Мощным источником влияния и в конечном итоге правительственной власти была палата общин, состоявшая из 558 членов: 80 из них делегировали графства, четверых — университеты, а остальные представляли города и боро. Причины, по которым люди хотели заседать в палате общин, многое говорит об английской политике. Очевидно, что немногие приходили туда с важными политическими идеями или хотя бы с целью послужить некоему организованному общественному или экономическому интересу. Они стремились туда ради власти и статуса, или чтобы решить какую-то местную задачу, или потому что этого от них ожидали родные. Поскольку большинство парламентариев были движимы столь мелкими целями, а страна в целом соглашалась с отсутствием фундаментальных задач, неудивительно, что политика обычно сводилась к вопросу, который Чарльз Диккенс вложил в уста лорда Будла в «Холодном доме»: «Куда девать Нудла?» Озадаченный тем, что все меняется, и вынужденный подыскивать место для каждого достойного человека, лорд Будл предвидел, что «у Короны при формировании нового Министерства будет ограниченный выбор — только между лордом Кудлом и сэром Томасом Дудлом, конечно, лишь в том случае, если герцог Фудл откажется работать с Гудлом, а это вполне допустимо, — вспомните о их разрыве в результате известной истории с Худлом. Итак, если предложить Министерство внутренних дел и пост Председателя палаты общин Джудлу, Министерство финансов Зудлу, Министерство колоний Лудлу, а Министерство иностранных дел Муллу, куда же тогда девать Нудла? Пост Председателя Тайного совета ему предложить нельзя — он обещан Пудлу. Сунуть его в Министерство вод и лесов нельзя — оно не очень нравится даже Квудлу. Что же из этого следует? Что страна потерпела крушение, погибла, рассыпалась в прах… из-за того, что никак не удается устроить Нудла!»[11] Лорды Будды тогдашнего политического строя справедливо придавали большое значение распределению должностей; в конце концов вся система зависела от обеспечения потребностей друзей и приверженцев. Будл, конечно, переоценивал масштаб катастрофы, которая постигла бы государство в случае неустройства Нудла, — страна не рассыпалась бы в прах, но это могло случиться с кабинетом министров, а учитывая свойственную такого рода политике близорукость, соблазн рассматривать кабинет министров как всю страну вполне понятен. Вообще-то, хотя парламентское правительство не вполне представляло страну, оно все-таки воплощало в себе (хотя и не всегда выражало) интересы землевладельческой части общества. Независимо от серьезности перестановок министров и правительств, это его качество оставалось неизменным. Уильям Питт — один из редких изобретательных людей на этом поле — вошел в правительство в 1757 году и покинул его в 1761-м; Ньюкасл занимал всевозможные посты более сорока лет. Его уход через год после Питта не пошатнул систему. Такие же или примерно такие же люди появлялись, играли свои роли, уходили, а затем, возможно, возвращались, но правительство продолжало делать все то же, что и обычно, равно как и парламент. Действия парламента в сфере, которую сейчас назвали бы национальными интересами, были довольно убоги. Он не являлся ни правителем, ни источником энергии и энтузиазма, который мог бы навязать свою волю стране. Стране больше всего шло на пользу, когда ее оставляли в покое, а свободы могли бы расцвести, когда бы не назойливые парламентарии. Помещики заботились о себе сами и таким образом служили стране и королю.V
Всякий британский монарх XVIII века принимал эту систему и охотно в ней работал. Никто не восхищался ей больше, чем Георг III, который в характерной речи признался, как сильно его «воодушевляют» «красота, великолепие и совершенство британской конституции, установленной законом»[12]. Он написал эти слова в 1778 году, пробыв королем уже восемнадцать лет и набравшись достаточного опыта в роли главы исполнительной власти в этой смешанной форме правления. Георг III взошел на трон, не будучи готовым к этой роли, хотя, в отличие от своего деда Георга I, родился в Британии и получил хорошее образование. Однако в короли он не годился не из-за образования, а из-за своего темперамента и того, что плохо понимал людей или, как говорили в XVIII веке, человеческую природу. Хотя он многое узнал о людях за время своего долгого правления, ему никогда не удавалось разобраться в тонкостях их поведенияtitle="">[13]. Георг III, первый сын и второй ребенок принца Уэльского Фредерика, родился в 1738 году в Норфолк-хаусе на Сент-Джеймской площади, и детство его было тяжелым и одиноким. Его мать Августа Саксен-Готская была, вопреки общему мнению, неглупой, но очень пугливой женщиной и не позволяла сыну общаться с другими детьми из тех соображений, что они «плохо образованы» и порочны. Единственным компаньоном Георга в юные годы был его брат Эдуард. Наблюдательная леди Луиза Стюарт заметила однажды, что принц был «тих, скромен и легко конфузился». Отношение родителей к нему без сомнения способствовало тихости и скромности, поскольку они не скрывали того, что больше любили его брата. Георг постоянно видел, как они баловали Эдуарда, и рос замкнутым. На него обычно не обращали внимания, по крайне мере в компании Эдуарда, а когда он пытался что-то сказать, его иногда упрекали «нежной» репликой: «Попридержи язык, Георг, не говори, как дурачок»[14]. Если в доме и был дурак, так это Фредерик — отец Георга III, который в возрасте 39 лет все еще развлекался тем, что разбивал ночами чужие окна. Фредерик, однако, многим мог вызвать к себе расположение: он был хорошим мужем (хотя и не очень отзывчивым отцом), покровительствовал искусствам и в известной степени интересовался наукой и политикой. Его интерес к политике вполне естествен для человека, которого готовили к королевскому трону. Фредерик не слишком мудро повел себя в этой ситуации, поссорившись с отцом, Георгом II, и перейдя в оппозицию. Вокруг него в Лестер-хаусе собралась группа сторонников из числа лиц, отодвинутых от власти и с нетерпением ожидавших, когда король умрет и принц займет его место. Они были неприятно удивлены в 1751 году, когда умер Фредерик, а не его отец. Принцу Георгу в 1751 году, когда он немедленно попал в центр всеобщего внимания, было тринадцать лет. Его образование, наблюдение за формированием его разума и мнений были признаны чрезвычайно важными. Король мог бы забрать мальчика у матери, но не сделал этого. Принц оказался в еще большей изоляции, чем прежде: его мать опасалась намерений короля и всячески оберегала сына от всех влияний, кроме самым тщательным образом проверенных. В 1755 году главным источником влияния на него стал шотландец Джон Стюарт — граф Бьют, советник (а не любовник, как некоторые шептались) матери Георга. Принцесса Августа представила Бьюта своему сыну, и на протяжении следующих пяти лет он был гувернером и другом принца. Дружба между ними, судя по всему, завязалась легко, отчасти потому, как можно предположить, что Георгу не хватало внимания и доброты, в которых Бьют ему не отказывал. Но, несмотря на теплоту, они не общались на равных. Бьют имел превосходство: он был на 25 лет старше, очень категоричен, бесспорно умен и отвечал за образование принца. Хотя Бьют обладал всеми необходимыми знаниями, хорошим учителем его назвать трудно. Разумеется, он направил разум принца на изучение впечатляющего числа наук и следил за тем, чтобы Георг продолжал ранее начатые занятия. Георг в это время читал книги и знакомился с предметами, выходившими далеко за рамки того, что обычно ожидалось от английского джентльмена. Когда Бьют стал гувернером принца, тому было семнадцать лет. Он имел как минимум начальные знания французского, немецкого, латыни и (в меньшей степени) греческого, математики и физики. Он довольно много, хотя и поверхностно, читал по истории и в силу своего происхождения изучал фортификационное искусство. Его предыдущие учителя не преминули привить своему наставнику необходимые для монарха светские навыки, связанные с верховой ездой, фехтованием, танцами и музыкой. И конечно же, принц получил основательное религиозное образование в соответствии с вероучением англиканской церкви. Бьют следил за тем, чтобы его подопечный не бросал этих занятий и лично контролировал, чтобы он тщательнее изучал английский язык и историю. За это время принц впитал немало знаний о британской конституции и искусстве управления государством, хотя не понимал ни того, ни другого. В неумелых руках Бьюта неуверенная и весьма косная личность принца сделалась еще более косной, но не более уверенной, хотя он стал гордым и нетерпимым к тем, чьи взгляды расходились с его собственными или со взглядами его учителя. Сам Бьют многое знал, но не разбирался в людях и человеческом поведении. Его гордыня усилила гордыню принца; его склонность судить других по абстрактным принципам (ему не хватало опыта, на который полагаются более мудрые люди) закрепила эту же тенденцию в принце. Учитель и ученик и тогда и позже часто путали негибкость с личной силой и твердостью характера. Неудивительно, что в результате учебы у Георга не развились необходимые для монарха качества: благоразумие и умение в полной мере принимать в расчет чужие принципы и интересы, не поступаясь при этом собственными. Георгу III было двадцать два, когда он взошел на трон в 1760 году. На протяжении следующих нескольких лет он держался за свои предрассудки и за Бьюта с упорством, которое объяснялось свойственным ему (и Бьюту) непониманием политического мира. Он реформирует их мир, думал он, и сделает добродетель своим соправителем. Фракционная политика, основанная, конечно же, на интересах, а не на идеологии, отвращала его, и он хотел ее каким-то образом изменить. Если разочарование вскоре развеяло эти мечты, то негибкость короля никуда не делась, и хотя он научился играть в эту игру (и даже временами демонстрировал замечательное мастерство), ошибки молодости и привязанность к Бьюту породили подозрения в парламенте и омрачили нестабильностью более десяти лет из его правления.VI
Раздоры в парламенте случились в самое неподходящее время — в начале американского кризиса. Очевидно, что английские политические отношения лучше работали в периоды спокойствия, нежели кризиса. Они больше отражали взгляды удовлетворенных, имущих граждан, чем неимущих, и своей инерцией защищали свободы человека, определенные отрицательно. Но как еще было определить свободу? К счастью, статичный порядок мешал переменам, которых никто из значительных людей (то есть людей с землей и связями) все равно не хотел. Если бы эти вершащие дела люди могли открыто заявить, какими допущениями они руководствуются в жизни, они бы сказали, что мир, в сущности, идеален и неизменен. И действительно, их собственный мир очень мало менялся в XVIII веке, по крайней мере до Американской революции. Их допущения казались верными многим в деревнях и общинах Англии, а также и в Лондоне. Английские местные власти были весьма энергичны, но росли в изоляции и не координировались сверху. По большей части Корона и парламент игнорировали вождей боро и корпораций, общин, квартальных съездов мировых судей в графствах и пр. Парламент, по крайней мере, признавал их существование и на протяжении столетия принял сотни законодательных актов, касавшихся муниципалитетов. Но манера, в которой это делалось, соответствовала господствовавшим идеям о надлежащей роли правительства в жизни страны. Парламент еще в начале XVII века начал принимать «местные акты», применимые не ко всему королевству, как общие законы, а к определенным населенным пунктам. В результате этих местных актов были созданы местные органы особого назначения (Statutory Authorities for Special Purposes) — уполномоченные по канализации, официальные опекуны бедных, дорожные фонды и уполномоченные по благоустройству (отвечавшие за освещение, охрану, мощение, уборку и облагораживание улиц). В годы Американской революции таких органов было свыше тысячи; постепенно их количество достигло 1800, а их полномочия распространялись на большую территорию и большее количество людей, чем у всех муниципальных корпораций вместе взятых. Эти организации отличались от всех прочих видов органов местного самоуправления общин, графств и боро, поскольку каждый из них создавался специальных актом парламента для выполнения одной функции, прописанной в учредительном документе, в определенном месте. Уполномоченные по канализации строили и обслуживали в сотнях населенных пунктов канавы и водостоки, отводившие ливневые воды; они также возводили различные сооружения, чтобы отвоевывать сушу у моря. Зеленые равнины на юге Англии в известном смысле явились результатом работы этих органов, которые осушали их и сдерживали воду, превращая болота в живописные и плодородные поля и пастбища. Большинство из сотен этих органов действовали независимо от других местных властей; опекуны бедных, помогавшие неимущим, бродягам, бездельникам и прочим презираемым слоям общества XVIII века, являлись примечательным исключением. Они обычно были связаны законами с властями общины, а иногда графства или боро. Однако они не имели связей (ответственности или притязаний) с каким-либо органом министерства: их счета не подвергались аудиту, они не публиковали отчетов, их действия никем не проверялись, и однако же, они имели право арестовывать, задерживать и наказывать находившихся в их юрисдикции бедняков. Эта свобода действовать безответственно вытекала из формы их образования и из безразличия законодателей. Такие особые органы являлись результатом не тщательно продуманной политики парламента или правительства, а инициативы заинтересованных местных групп. Местные акты, посредством которых они учреждались, не проходили полноценных слушаний ни в одной из палат, а лишь обсуждались на небольших собраниях депутатов от графств и боро, которые они затрагивали. Таким образом, эти особые органы, такие как муниципальные корпорации и квартальные съезды, не проверялись Тайным советом или судом ассизов и фактически игнорировались порождавшим их парламентом. Вот так, без направляющей политики и без центрального руководства, и управлялись муниципалитеты — за бедными присматривали, улицы благоустраивали, болота осушали, дороги строили и ремонтировали, а также оказывали или не оказывали ряд других важных услуг. Результатом этого стала, как удачно выразились Уэббы, «анархия местного самоуправления»[15].VII
Возможно, деятельности особых органов и была свойственна некая анархия, но фактически параллельно с ними, в рамках традиционного порядка, новое военно-фискальное государство брало под контроль важную часть жизни общества. Эта часть касалась войны и всего, что для нее требовалось. Перестройка государства началась после Славной революции 1688 года и продолжалась на всем протяжении XVIII века. После 1688 года средства, которыми оно пользовалось, в корне изменились. Возникла крупная бюрократия, государство собирало все больше денег, армия и флот получили огромное влияние, накопился беспрецедентный государственный долг. Общим для всех этих изменений элементом были, конечно же, деньги. Если бы жители Англии услышали слова Бенджамина Франклина о том, что неизбежны только смерть и налоги, они бы наверняка согласились. Смерть еще можно было отложить, но не налоги, ведь войны стоили дорого и требовали немедленной оплаты[16]. Земельный налог уже давно обеспечивал основную часть необходимых государству доходов. Но к концу Войны за испанское наследство, в 1713 году, земельного налога перестало хватать. Что было неудивительно, ведь запросы государства возросли, а парламент, в котором преобладали землевладельцы, искал другие источники, хотя при этом ставку земельного налога все же поднимал. Акцизы покрывали дополнительную потребность в деньгах (или ее часть) на протяжении большей части XVIII века, включая годы американской войны. Акцизы на целый ряд товаров — мыло и соль, пиво и крепкие напитки, сидр, бумагу, шелк и многое другое, что использовали как рядовые, так и влиятельные граждане, — стали важнейшим источником налоговых поступлений. Такое средство сегодня считалось бы регрессивным, но эти акцизы сравнительно просто собирать, а список облагаемых ими потребительских товаров всегда можно расширить. Впрочем, это расширение иногда вызывало протесты, как показали бунты из-за сидра в середине столетия[17]. Таможенные сборы, то есть торговые пошлины, также росли вместе с оживлением торговли в XVIII веке. Британские купцы отправляли свои корабли по всему миру задолго до Американской революции. То, что они привозили назад, можно было обложить пошлинами, хотя если они оказывались слишком высоки, то это приводило к контрабанде. Притоку средств от таких налогов, в зависимости от успехов войны на море, были свойственны приливы и отливы. В большинстве случаев Королевский флот проявлял себя как эффективный защитник британских кораблей, но временами терпел неудачи[18]. Все эти усилия по финансированию военных действий столетия оказались недостаточными. Вероятно, никто в парламенте и не верил, что они доставят необходимые средства. Правительство все больше и больше полагалось на займы, и в результате финансовое бремя перекладывалось на частные источники разного рода, такие как банки и акционерные компании. Английский банк был основан в 1694 году как частная компания и через два года начал выпускать акции, по которым выплачивал дивиденды. Банк оказался эффективным источником займов правительству практически с момента его основания. Долг перед ним и другими кредиторами неуклонно рос; в 1763 году, когда Британия заключила мирное соглашение с Францией, он достигал 130 миллионов фунтов[19]. Все эти средства, поступавшие как от налогов, так и от займов, шли на поддержание военно-фискального государства. Вместе с военными потребностями (Британия после Славной революции вела войны с Францией и ее союзниками на протяжении трех длительных периодов: с 1688 по 1697, с 1702 по 1713 и с 1739 по 1763 год) усложнялась и административная структура. Было создано или расширено непомерное, как должно было временами казаться, число ведомств. Их названия были вполне знакомыми: таможенное, акцизное, солевое, казначейство, адмиралтейский совет, министерство финансов. Однако количество занятых клерков, копиистов и бухгалтеров удивляло. Так, в таможенном ведомстве в 1690 году работало 1313 человек, через двадцать лет уже 1839, а в 1770 году, накануне Американской революции, — 2244. Акцизное ведомство за эти годы разрослось с 1211 до 4066 человек. Количество налоговых инспекторов с 1690 по 1782 год утроилось. Войны XVIII века способствовали этому росту, как ничто другое[20]. Вся эта организация, растущая сложность администрации, увеличение сборов, открытый контроль над Английским банком и накопление долга требовались для сопоставимой трансформации британской армии и флота. За сто лет после 1688 года обе этих организации увеличились втрое[21]. Их рост был неровным: наиболее быстрыми темпами он шел, что неудивительно, в военное время, а в мирное происходило некоторое сокращение, особенно в армии. Но война в этом столетии приняла почти постоянную форму, так что умножение вооружений и кораблей казалось неотвратимым. Приток и отток солдат на военной службе в течение столетия превосходил изменение числа матросов. Британия на протяжении нескольких поколений полагалась на иностранных наемников, когда вступала в борьбу на европейском континенте, и эта практика сохранилась и в XVIII веке. Наемникам приходилось платить только во время боевых действий, а поскольку, когда война заканчивалась, их можно было не содержать, армия экономила ресурсы. Флот в мирное время делал нечто подобное, списывая команды и консервируя корабли. И все же капиталовложения в постройку судов были очень значительны; армия не требовала сопоставимых расходов. Разногласий по поводу использования этих сил в XVIII веке почти не было. Цель флота казалось большинству министров очевидной — защищать родные острова от вторжения, которого обычно опасались, и небезосновательно, со стороны Франции. Из этой миссии следовало, что основная его часть должна находиться во «внутренних водах». Внутренние воды не всегда означали порты Ла-Манша, и почти никогда не относились к ним после 1730 года. Примерно в это время адмирал Эдвард Вернон, а вскоре и адмирал Джордж Ансон утверждали, что условия у «западных подходов» (область от мыса Клир на побережье Ирландии до мыса Финистерре) гораздо лучше подходили для обороны родины. Их доводы строились на том, что преобладавшие юго-западные ветры могли мешать или даже парализовать движение кораблей в проливе. Эти ветры, а зимой еще и вызываемые ими штормы разбрасывали корабли по проливу, а иногда и топили их, делая оборону невозможной[22]. Эта традиционная функция флота не мешала адмиралтейству отправлять корабли в другие части света. Британская империя была велика и стала еще больше после триумфа в войне с Францией в середине века (1756–1763). Но главное применение флота ни тогда, ни после не связывалось с продвижением при помощи флота торговли и развитием колоний. Флот на самом деле не думал о своей миссии в терминах какой-либо масштабной политики или стратегии. Было бы неверно говорить, что флот вообще не думал, но правда заключается в том, что он не имел ни институционального аппарата, ни привычки к долгосрочному планированию. Тогда как государственные организации переживали трансформацию, флотское руководство хотя и разрослось, но не обзавелось планирующим штабом. У адмиралов мог быть секретарь и пара клерков или, возможно, мичман, помогавшие им наводить порядок в делах, но не более того. Адмиралтейский совет занимался повседневными вопросами, в первую очередь материальнотехническим снабжением кораблей и людей. Первый лорд адмиралтейства представлял флот (или, точнее, адмиралтейство) в кабинете министров, но ни он, ни какой-либо совет не предлагали концепций или стратегий развития флота. Тогда почти не существовало научной или профессиональной литературы о природе войны в море. Были руководства по навигации, артиллерийскому делу и судостроению, но это практически все. Та сложность и те перемены, которые легко обнаруживались в военно-фискальном государстве, явно встречали свои ограничения во флоте[23]. Впрочем, это можно сказать и об армии. Армейская жизнь строилась вокруг полка. Руководители полков и армий, которые они составляли, являлись аристократами, и большинство из них имели лишь поверхностный интерес к науке войны или познания в ней. Офицеры владели патентами на чины (которые купили они сами или их отцы) и за редким исключением заботились только о самых актуальных вопросах жизни полка. Поскольку в вопросах обороны правительство в основном полагалось на местное ополчение и иностранных наемников, то в регулярной армии внимание редко акцентировалось на такого рода профессионализме, который позже стал естественным[24]. К середине XVIII века военно-фискальное государство приняло зрелую форму. Заимствования и сложная структура сборов и налогов доказали свою эффективность, а административный аппарат — от клерков, писарей, налоговых инспекторов и целого ряда прочих должностей вплоть до министров — укоренился и превратился в привычный порядок. А Британия научилась вести войну и интегрировала инструменты ее ведения в старую политическую систему патронажа и иерархии.VIII
Фраза из книги Уэббов также подходит для описания ситуации в американских колониях до Американской революции. Все они, кроме Джорджии, были основаны в XVII веке, а к XVIII веку, хотя и оставаясь под контролем Британии, по большей части вели свои дела самостоятельно. Основные принципы их формальных отношений с короной были известны, но объективная ситуация — фактическая их автономия — нет. Расхождение между реальностью и тем, что воображали в Англии, неудивительно: расстояние между двумя странами было огромным, а связь несовершенной, кроме того, не существовало и просвещенной колониальной администрации, которая помогала бы им объясняться друг с другом. Колонии основывались с санкции короны, и власть правительства в них всегда осуществлялась именем короля, хотя весьма неоднозначно в трех частнособственнических колониях — Мэриленде, Пенсильвании и Делавэре — и довольно слабо в Коннектикуте и Род-Айленде — двух корпоративных колониях. Менять то, что существовало так долго, казалось нежелательным. Административная структура, на которую Корона опиралась, чтобы «править» колониями, была старой и не отвечала задачам управления обширными владениями в Новом Свете. В Англии до 1768 года административную работу фактически выполняли Тайный совет и государственный секретарь Южного департамента. Основные обязанности (или интересы) Тайного совета находились в другой области, а главной заботой государственного секретаря Южного департамента являлись отношения с Европой. Секретарь советовался с торговой палатой — совещательным органом, который в основном занимался коммерческими вопросами[25]. Эта структура порождала путаницу (поскольку порядок ведения колониальных дел не был четко определен), а различия между самими колониальными правительствами способствовали ей, равно как и проблема связи между правительствами, разделенными Атлантическим океаном. Относительно твердой рукой в этой структуре была торговая палата, направлявшая информацию от колоний секретарю и передававшая его инструкции губернаторам и другим чиновникам в Америке. На некоторое время в начале XVIII века палата утратила свое значение, поскольку некоторые английские чиновники успешно ему сопротивлялись, но в 1748 году ее президентом стал граф Галифакс, укрепив тем не только ее, но и собственную роль. В 1757 году Галифакс вступил в Тайный совет; его назначение уменьшило неразбериху, потому что он оставался во главе министерства финансов. Когда Галифакс в 1761 году ушел в отставку, палата потеряла свое влияние, а колонии — умелого администратора. Управленческий порядок так никогда больше не вернулся к уровню, достигнутому в середине столетия. Важнейшим шагом в сторону восстановления такого порядка между отставкой Галифакса и Американской революцией было создание в 1768 году поста секретаря по делам колоний. К сожалению, этот пост вызывал зависть других министров, а занимали его некомпетентные лица. В какой-либо другой момент британской истории административная неэффективность (даже глупость) и незнание существа дела не сказались бы так сильно. Но только не в конце XVIII века. Административные органы не формировали политику по важнейшим вопросам, но только способствовали ей информацией и советами. И у них была обязанность обеспечивать взаимодействие колонистов и кабинета министров. Хорошо задуманная структура, укомплектованная просвещенным и сведущим персоналом, могла предотвращать возможные ошибки влиятельных лиц и помогать вырабатывать успешную политику. В число тех, кто определял колониальную политику, входил парламент, хотя важные аспекты его отношений с колониями и властные полномочия в отношении них оставались в XVIII веке неясными. Парламент, конечно, определил экономические отношения Англии с колониями рядом законодательных актов, большинство из которых были приняты в XVII веке. Законы о навигации и торговле позволяли вести колониальную торговлю только на судах, принадлежавших британским и колониальным владельцам и эксплуатировавшихся ими, а также ограничивали ее и другими способами, которые в основном шли во благо британских купцов. В XVIII веке до начала революционного кризиса парламент безуспешно пытался остановить импорт иностранной патоки в колонии и вводил предельные нормы производства шерстяных вещей, шляп и железа. Но никто тогда толком не изучал, в какой мере парламент мог содействовать колониям, когда же этим занялись, то данная тема вызвала множество споров. Общепринятым допущением в Англии, причем совершенно непроверенным, было то, что в отношениях с колониями все ясно. В конце концов колонии есть колонии, то есть «зависимые» страны, «возделываемые саженцы», «дети» метрополии и «наши подданные». Слова, которыми описывали колонии и их подчиненное положение, отражали определенные реалии. Колониальная экономика давно складывалась в соответствии с потребностями Англии; зависимость в экономической жизни была несомненной, хотя и не абсолютной. Более того, эта зависимость имела и теоретическое основание — меркантилизм, который описывал государственную власть с точки зрения экономических отношений имперского центра с его колониальными придатками. Меркантилизм развился из «бульонизма», придававшего главное значение золоту, в сложный набор тезисов о валюте, торговом балансе, производстве и сырье. Независимо от акцентов распространенные в Англии середины XVIII века воззрения отводили колониям явно второстепенную роль, по какой бы шкале не измерялась их важность[26]. Хотя политические мыслители гораздо меньше интересовались колониями, политические реалии казались столь же очевидными, сколь и экономические. Метрополия отправляла губернаторов, действовавших от имени короля; парламент принимал для колоний законы; Тайный совет проверял законы, принятые колониальными ассамблеями, а монарх сохранял право вето. В Америке действовало английское право, да и большинство политических институтов были английскими. Чувство превосходства и снобизм, скрывавшиеся подо всей этой теорией, были гораздо важнее формальных заявлений меркантильной или политической мысли. Ведь это чувство пронизывало, казалось, все слои англичан, знавших о существовании Америки. И вполне возможно, что американские колонисты в своей странной манере разделяли, в том числе на подсознательном уровне, взгляд, что они в чем-то неравны англичанам за океаном, и самые образованные из них стремились быть космополитами, следили за лондонской модой и копировали английский стиль. Это подражание подтверждало господствовавшее мнение, что очертания колониальной субординации верны и должны оставаться неизменными.2. Дети рожденных дважды
I
Негибкость английского правительства и политического воображения не стесняла американские колонии XVIII века. Колонии клялись в верности (и хранили ее) тому же королю, что и сама Англия, но поскольку их опыт так сильно отличался от опыта метрополии, то эта связь, а равно и связи с имперскими органами власти не ограничивали их. Расстояние до Англии и медленная скорость передачи информации приводили к тому, что эти узы, «политические оковы», как позже назовет их Томас Джефферсон в Декларации независимости, оставались слабыми. Этому же способствовали и крепкие политические институты в материковых колониях — провинциальные ассамблеи или законодательные собрания и правительства округов и городов, упорядочивавшие их деятельность. К 1776 году американцы почти полностью перешли к самоуправлению. И все же кризис, поразивший английские колонии в ходе Американской революции, был конституционным. Он поставил вопрос о том, как люди должны управляться или, как говорили американцы, могут ли они, будучи свободными людьми, управлять собой сами. Существовал конфликт между отдельными колониями и правительством метрополии; более того, в нескольких колониях случались даже восстания против конституционной власти; и возможно, что в колониях имела место давняя, хотя и скрытая неприязнь к внешнему контролю. Однако все предшествовавшие возмущения отличались от революции. Прежде всего, им не хватало масштабности и судорожного характера революции. Но важнее то, что они не затрагивали на глубинном уровне нравственных чувств простого народа. Напротив, конфликт, разорвавший Британскую империю в период с 1764 по 1783 годы, черпал силу в сокровенных моральных страстях американцев практически любого класса и статуса[27]. То, почему американцы участвовали в революции, сильно связано с тем, какого рода людьми они были. Во-первых, американцы были разделенным народом, рассредоточенным по тринадцати колониям материка. Они не имели общего политического центра, а Лондон находился слишком далеко, чтобы играть такую роль. Когда возникали проблемы управления, колонисты, естественно, рассчитывали на свои провинциальные столицы, а многие, вероятно, никогда не думали о масштабах больших, чем рамки собственного города или округа. В бизнесе они часто заглядывали дальше, но их экономики почти не сближали их. Если американец выращивал табак или рис, он отправлял его за границу; если он выращивал зерно, молол муку или пек хлеб, то он чаще всего торговал на местных рынках, хотя значительная часть этих товаров продавалась в Вест-Индию. Если он был богат и носил дорогую одежду, обставлял дом элегантной мебелью, пил хорошее вино, ездил в красивой карете и много читал, то, скорее всего, пользовался английскими и европейскими товарами. Если ему требовалось производственное оборудование, то он снова обращался к Англии. Он и его собратья потребляли множество английских промышленных товаров: изделия из хлопка, оружие, всевозможные детали и инструменты. А если он предпочитал местную продукцию, то обычно зависел от того, что производилось в его собственной колонии. Объем межколониальной торговли был сравнительно невелик[28]. Разделение колоний не стоит и преувеличивать, ведь были и силы, сближавшие их. Их экономики в XVIII веке начали постепенно объединяться. Купцы в крупнейших городах все чаще взаимодействовали друг с другом, хотя, конечно, наиболее важными для них оставались связи с зарубежными странами. Фермеры, товары которых предназначалась для иностранных рынков, иногда продавали их (как правило, зерно) торговцам из близлежащих колоний. И все-таки основная часть продукции колонии расходилась на местных рынках или отправлялась заморским купцам. Поскольку каждая колония практически не зависела от других, их политическое сотрудничество не особенно развивалось и редко кто пытался сблизить колонии друг с другом. Когда же такие попытки предпринимались (обычно для решения общей проблемы, такой как отношения с индейцами или война), они не приводили к успеху. На Олбанский конгресс 1754 года, проведенный накануне Франкоиндейской войны (как называлась Семилетняя война в Америке), съехались делегаты из шести колоний. Они долго обсуждали грандиозные планы по созданию союза колоний, которые предложили Томас Хатчинсон из Массачусетса и не кто иной, как Бенджамин Франклин из Пенсильвании, и выработали собственный план. Добравшись до законодателей, этот план отправился туда же, куда и другие подобные предложения — в небытие[29]. Колонии в середине века, по-видимому, не могли достичь единства даже в простых вопросах или, во всяком случае, не выказывали такого желания. Замкнувшись на местных интересах, все они держались за собственные институты или оглядывались на Британию. В общем и целом казалось, что никакой кризис не будет достаточно сильным, чтобы сплотить их.II
Впрочем, у колоний были общие культурные стандарты, строго говоря, не американские, но многим обязанные Англии. В большинстве своем политические и правительственные институты на всех уровнях следовали английским моделям; «официальный» язык, то есть язык, используемый руководящими органами и лидерами колоний, был английским; господствующие церкви — английскими; основные общественные ценности — тоже английскими. Тем не менее эта культура не отличалась идеальной однородностью. Рост численности населения и физическая экспансия ослабили английское господство; культура сохраняла английский склад, но присутствие крупных неанглийских сообществ разрушало ее английскую структуру. Крупнейшей неанглийской группой являлись чернокожие — рабы, насильно вывезенные из Африки и Вест-Индии. Всего в материковых колониях в 1775 году их насчитывалось около 400 тысяч, что составляло 17 процентов населения. Большинству белых хозяев они казались близнецами: черные, кучерявые и неотличимые друг от друга на лицо. На самом же деле, конечно, они были мужчинами и женщинами, вырванными из культур, которые несколькими столетиями ранее обзавелись собственными отличительными особенностями. Африканские общества оставались неведомы Европе до XVI века, и даже после этого они очень медленно заимствовали достижения европейских наук и технологий. Однако западноафриканские короли быстро поняли важность огнестрельного оружия, а также удивительно умело обеспечивали европейский спрос на подневольный труд благодаря контролю за давно процветавшей внутренней торговлей рабами[30]. Второй по размеру после африканцев группой неанглийских иммигрантов были шотландо-ирландцы — ольстерцы из Северной Ирландии. Эти люди являлись потомками более ранних мигрантов — тысяч шотландцев и англичан, переехавших в Ольстер в XVII веке, когда англиканские короли, а позже лорд-протектор Оливер Кромвель изгнали ирландских католиков со своих земель, заменив их благонадежными протестантами[31]. Эти бенефициары религиозных преследований вскоре стали их жертвами. После Славной революции английский парламент, тщательно охранявший интересы англиканцев, заставил ирландских коллег запретить пресвитерианцам занимать гражданские и военные посты под началом короны и уволить тех из них, кто занимал должности судей и почтмейстеров. Пожалуй, еще более пресвитерианцев оскорбляли налоги, которые они должны были платить англиканской церкви. Возможно, большинство и снесли бы эти унижения, но англичане вскоре практически лишили их возможности зарабатывать на жизнь, введя дискриминирующие меры против шерсти, скота и льна из Ирландии. Этот удар оказался слишком сильным и заставил многих бедных, отчаявшихся и предприимчивых ирландцев переехать в Новый Свет. Первой остановкой для прибывавших сюда в XVIII веке была Новая Англия. Здешние конгрегационалисты признавали шотландо-ирландцев частью протестантской общины и, что тоже важно, считали их полезными для размещения на пограничных землях, недавно разоренных индейцами. Шотландо-ирландцы были упорными и находчивыми людьми, догматичными и несгибаемыми в своей вере, а главное, учитывая тогдашнее состояние страны, свирепыми в бою. Как-никак, они вынесли долгие годы преследований и кровопролития, которым подвергали их английские монархи. Поэтому шотландо-ирландцев приветствовали, например, в Вустере — пограничном городе, куда они начали прибывать в 1713 году. Следующие несколько лет их соотечественники селились на западном берегу реки Коннектикут, в южной части Нью-Гэмпшира, у залива Каско в штате Мэн, словом, в отдаленных и незащищенных районах. Эти иммигранты приезжали в Америку не обремененные деньгами и собственностью. Некоторым было очень тяжело начинать: к западу имелась плодородная земля, но они не располагали средствами для ее освоения, строительства домов, покупки инструментов и скота. Неудивительно, что многие прибывавшие бедняки оставались неимущими. Некоторые жители Новой Англии сочувствовали им, например преподобный Коттон Мэзер, но большинство предпочли бы отправить шотландо-ирландцев куда-нибудь еще, ведь помощь бедным обходилась недешево. В последующие двадцать лет прибывавшим порой настоятельно рекомендовали уехать, не разрешали оставаться в Бостоне. Так, в 1729 году возмущенная толпа в Бостоне силой препятствовала высадке ирландцев. Уже оказавшиеся в Новой Англии шотландо-ирландцы тоже терпели нападки. Например, те из них, кто оказался в Вустере, попытались в 1738 году построить церковь, но протестантские соседи снесли ее. Еще через несколько лет большинство шотландо-ирландцев Новой Англии сдались и отправились искать более гостеприимные места. Прйезжавшие из Новой Англии или прямиком из Ольстера находили приют в срединных колониях (Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк), а после 1740 года их поток устремился через город Нью-Йорк и Филадельфию на запад, где они селились вдоль рек Делавэр и Саскуэханна. Другие отправлялись еще дальше — к Огайо и нынешнему Питтсбургу. По мере того как эти земли заполнялись, шотландо-ирландцы продвигались южнее — в западную часть Мэриленда, Виргинию, обе Каролины и Джорджию. Некоторые выбирали более прямой путь в южную глушь — через Чарлстон, единственный крупный порт в южных колониях. Во всех этих районах ольстерцы занимались земледелием и животноводством, выращивали зерно и приобретали имущество, постепенно укрепляя свое положение между индейцами и Востоком. Пока шотландо-ирландцы прибывали и отправлялись вглубь материка, в Новом Свете появились иммигранты иного рода, наверное, не отличавшиеся такой же стойкостью и, возможно, религиозным рвением, но обладавшие особенными навыками, которым не было равных в Америке. Они явились из Германии и включали множество лютеран, реформатов (кальвинистов), моравских братьев и, в меньшем количестве, меннонитов. Небольшое количество их соотечественников прибыли уже в XVII веке: в 1683 году они основали в Пенсильвании поселение, позже названное Джермантаун. Основатель колонии Уильям Пенн способствовал этой ранней миграции. Он хотел привлечь страдавших от гонений европейцев; немцы с их тихой преданностью религии и земледелию казались особенно подходящими кандидатами и, без сомнения, являлись лучшими фермерами в колониях[32]. Пенн доставил одну группу, которая организовалась во Франкфуртскую компанию — организацию, собиравшую людей и денежные средства. За ней вскоре последовала вторая группа, возглавленная Иоганном Кельпиусом — милленарием, который мечтал о конце этого света и начале лучшего. Один из его последователей, питавший такие же надежды и якобы боговдохновенный, предсказывал начало тысячелетнего царства Христа в 1694 году. Хотя оно не наступило, их вера осталась твердой, и эти немцы не растеряли религиозного пыла и усердия в земледелии. В XVIII веке до революции по меньшей мере 100 тысяч немцев устремились в Америку, селясь, как и шотландо-ирландцы, на западе и постепенно продвигаясь вниз по долине реки Шенандоа. Большую часть из них приняла Пенсильвания, и к 1775 году немцы составляли около трети ее населения. Также к середине века их крупные общины распространились на юг — вплоть до Джорджии. Эти люди походили друг на друга больше, чем кто-либо еще, но между ними были и различия: швейцарские меннониты жили обособленно, равно как и окунанцы и швенкфельдеры — сектанты из Силезии. Две крупные группы — лютеране и реформаты — придерживались традиционных христианских взглядов на войну, в отличие от моравских братьев и меннонитов, которые отличались склонностью к созерцательной жизни, пассивностью и не интересовались политикой. Это были самые большие группы белых иммигрантов в XVIII веке. Но были и другие, некоторые из них явились сюда в XVII веке: голландцы, шведы и финны в срединных колониях; горстки евреев в городах; разбросанные по разным местам валлийцы, ирландцы и французы — всего не более нескольких тысяч человек. Среди поздних мигрантов были шотландцы, из которых примерно 25 тысяч прибыли прежде революции. Горные шотландцы отправились в Новый Свет позже всех — в 1760-е годы, спасаясь от нищеты. Они селились в срединных колониях и в Каролинах[33]. Все эти народы (шотландо-ирландцев, немцев, голландцев, шотландцев и прочих) объединяла одна общая черта. Они эмигрировали из-за безнадежного положения на родине, но также, что не менее важно, из-за присущих им определенных качеств. Миллионы их соотечественников остались в Европе, страдая от религиозных гонений и бедности и живущих плодами тощих земель и милостями жирных лендлордов. Неизвестно, были ли уехавшие крепче оставшихся, но очевидно, что они не могли дольше терпеть угнетения. Они сопротивлялись или бежали и, по крайней мере, в этом смысле являлись чудаками — девиантами, отрезавшими себя от более удобной жизни.III
Иммиграция не только слегка разбавила английский состав общества, но и способствовала росту численности населения Америки. Естественный прирост населения этого плодовитого народа играл еще большую роль на всем протяжении XVIII века. Сравнение статистических данных дает некоторое представление о том, насколько взрывной характер он носил. В 1700 году в тринадцати колониях проживало около 250 тысяч человек, а к моменту обретения независимости — уже два с половиной миллиона, то есть как минимум в десять раз больше. Этот рост был неодинаков в разных колониях и в разные годы или десятилетия. По самым надежным оценкам численность населения удваивалась каждые двадцать или двадцать пять лет, что совершенно поразительно[34]. В основном этот рост происходил в сельской местности, на фермах и в деревнях, где проживало свыше 90 процентов всех американцев. Города также ширились. За тридцать лет до 1775 года население Филадельфии выросло с 13 000 до 40 000 человек, Нью-Йорка — с 11 000 до 25 000, Чарлстона — с 6800 до 12 000, Ньюпорта — с 6200 до 11 000. Лишь численность населения Бостона в этот период оставалась неизменной на уровне около 16 000 человек. Все эти города являлись морскими портами, и торговля поддерживала их существование. Каждый из них обслуживал внутренние области континента, которые отправляли им сельскохозяйственные излишки и потребляли промышленные товары, импортируемые из-за рубежа или, в отдельных случаях, выпускаемые здешними маленькими мастерскими[35]. Увеличение количества жителей Америки способствовало постепенному, хотя и неравномерному расширению экономик колоний. Эта экспансия объяснялась не только устойчивым ростом численности населения, но и урбанизацией и продвижением на запад, активизацией сельскохозяйственного производства, перевозок и зарубежной торговли. Южные колонии росли быстрее северных, преимущественно за счет ввоза рабов в XVIII веке. Развивались различные виды торговли. В 1688 году колонии поставили в Британию 28 миллионов фунтов табака, а в 1771 — уже 105 миллионов. Чарлстон в Южной Каролине отправил в 1774 году в восемь раз больше риса, чем в 1725 году. В общей сложности стоимость колониального экспорта в Британию в 1775 году семикратно превышала этот показатель по сравнению с началом столетия. Экспорт зерна, мяса, рыбы, а также ряда других предметов потребления неуклонно шел вверх. Импорт товаров из Британии, Вест-Индии и Европы такжеувеличивался, в некоторых случаях очень значительно[36]. В какой мере эта экспансия отражала реальный экономический рост, нельзя сказать с уверенностью, если под экономическим ростом понимать увеличение производства или дохода на душу населения. Историки-экономисты говорят нам, что в XVIII веке произошло увеличение объема производства на единицу труда. Технологический прогресс, хотя и скромный по более поздним стандартам, тоже сыграл в этом свою роль, равно как и зарубежный спрос на продукцию колоний, в которых ресурсы использовались более эффективно. Но важнейшими факторами экспансии являлись расширение площади земель на человека (в результате продвижения на запад) и увеличение числа рабов, способствовавшее приросту труда и капитала[37]. Рост численности населения и расширение экономики, продвижение на запад и, в меньшей степени, урбанизация обусловливали постоянное изменение обществ английских колоний. Войны с французами и испанцами в XVIII веке обострили чувствительность к резким подъемам и спадам, способствуя так называемой «переменной нестабильности»[38]. Общества, переживающие так много перемен, трудно поддаются описанию. Хотя о них многое известно, их структура и внутренние механизмы не до конца понятны. Кроме изменчивости, они характеризовались тенденцией к стратификации классов. На одном конце общества высшие классы постепенно отделялись от всех остальных за счет богатства и образа жизни. На другом конце низшие классы, немногочисленные, но по-настоящему бедные, особенно были заметны в городах. Крупнейшая группа колонистов относилась к среднему классу фермеров, владевших и обрабатывавших собственную землю. В сельской местности отдельные землевладельцы владели сотнями тысяч акров. Эти помещики-магнаты чаще всего не жили на принадлежавших им землях. Крупнейшими были Пенны, владевшие более чем сорока миллионами акров, но и Картере*гы в Каролинах, Калверты в Мэриленде и лорд Галифакс в Виргинии претендовали на несколько миллионов акров. За несколько лет до начала революции эти гранды получали со своих земель выручку, сравнимую с доходами главных английских аристократических семей[39]. В городах тоже имелись свои богачи. Большинство из них были купцами, хотя некоторые совмещали коммерцию с занятием правом, а кто-то занимался производством. Например, Брауны в городе Провиденс открыли кузнечный цех, а также, подобно некоторым другим в Новой Англии, изготавливали свечи из спермацетового масла, которое добывалось из кашалотов. Железоделательные производства были многочисленны в Пенсильвании, и для тех их владельцев, кто участвовал в общей зарубежной торговле, изготовление чугуна являлось одним из самых выгодных видов предпринимательства[40]. Коммерция генерировала основную часть прибыли в городах. К середине XVIII века ряд торговцев в главных городах, используя связи по всему гигантскому атлантическому региону как в границах, и за пределами Британской империи, заработали себе не только состояния, но и репутации, по крайней мере в местном масштабе. Все чаще их связывали брачные союзы, причем не только в своих колониях. Так, Редвуды из Ньюпорта, Ирвинги из Бостона, Аллены, Шиппены и Фрэнсисы из Филадельфии, Деланси из Нью-Йорка и Изарды из Чарлстона приобрели семейные связи в других колониях[41]. Крупные землевладельцы в долине реки Гудзон в Нью-Йорке и богатые плантаторы в Мэриленде, Виргинии и Южной Каролине владели, возможно, даже более значительными состояниями. Некоторые из этих плантаторов имели тысячи акров, из которых сами они возделывали лишь небольшую часть, а остальное сдавали в аренду. Эти земельные магнаты составляли сельскую аристократию, причем некоторые сознательно подражали английским образцам. Некоторые видные землевладельцы были обязаны своим взлетом хартиям и земельным патентам XVII века. Хартии оставались бесполезны более ста лет после их первоначального пожалования, хотя они предусматривали уплату их держателям феодальных сборов — ренты и налога. Однако держатели не могли бы собрать по ним средства, потому что населения, подпадающего под соответствующие обязательства, в XVII веке еще практически не было. В XVIII веке, когда произошел взрывной рост населения, владельцы этих бумаг (например, Пенны и Калверты) наконец получили причитающееся. Несколько «феодальных лордов», множество крупных купцов, плантаторов и богатых юристов поднялись на самый верх социальной лестницы. Существуют свидетельства того, что долговременный «тренд», начавшийся за 75 лет до Американской революции, повлек за собой растущую концентрацию богатства в подобных группах. Один историк утверждает, что богатейшие пять процентов бостонцев увеличили свою долю облагаемого налогами состояния с 30 до 49 процентов в период с 1687 по 1774 год. В Филадельфии сопоставимая группа нарастила этот показатель с 33 до 55 процентов. Проблема с этими данными состоит в том, что в 1774 году облагаемое налогом состояние оценивалось иначе, чем в 1687 году[42]. Несколько историков недавно представили немало другой интересной статистики, которая в основном показывает, что в XVIII веке возникла социальная стратификация. Чтобы взглянуть на ситуацию с иной стороны, можно привести такой пример: в Бостоне и Филадельфии более бедная половина общества владела лишь пятью процентами облагаемых налогами имуществ. Еще один историк, прибегнув к измерениям другого рода, установил, что в Филадельфии с 1720 по 1770 год доля населения, не платившего налогов, возросла с 2,5 до 10,6 процента. По его оценке, к 1772 году один из четырех взрослых жителей Филадельфии являлся бедным по меркам того времени; в этой группе половина получала то или иное государственное вспомоществование или проводила часть года в работном доме, приюте для неимущих или Пенсильванском госпитале для бедных, а другая половина имела так мало собственности, что налогов не платила[43]. Сухая статистика не раскрывает всей унылости жизни этой городской бедноты. Нет сомнений, что некоторые голодали; другие жили в ужасающей тесноте и антисанитарии; некоторые не получали медицинской помощи при болезни. Начиная как минимум с 1750-х годов среди этих бедных появились люди нового сорта — ветераны войн середины века и, вероятно, еще больше тех, кто пострадал от нестабильности в результате войн и ускорившегося роста численности населения. Неудивительно, что они протестовали, когда находили для этого силы, выходя на улицы и требуя хлеба, а также, по-видимому, некоего общественного признания их проблем. Хлебные бунты в городах доставляли их участникам очень мало хлеба или чего бы то ни было еще. Ни один из этих бунтов в XVIII веке не был крупным и не угрожал власти утратой контроля. В самих городах (хотя они и являлись важными институтами колониальной экономики) жило сравнительно мало людей. Как минимум 90 процентов жителей колоний приходилось на города и деревни с населением меньше 8000 человек. А большинство из этих 90 процентов проживали на фермах и в селах. Обнищавшие городские слои составляли лишь очень небольшую часть местных уроженцев. На фермах и плантациях жило больше бедняков, чем в городах, но даже там они не были многочисленны[44]. Хотя большинство обрабатывавших землю американцев являлись ее собственниками, безземельные работники имелись во всех колониях. Многие брали в аренду землю, на которой работали, и чувствовали себя почти столь же независимыми, как фригольдеры, которыми они надеялись стать. Наибольшее количество арендаторов проживало в трех колониях — Нью-Йорке, Виргинии и Мэриленде. На первый взгляд кажется, что феодализм в Новом Свете существовал хотя бы в некоторых частях этих колоний. Внешне ни одна другая область английской Америки не выглядела более феодальной, чем долина Гудзона в Нью-Йорке. Там возводились крупные усадьбы, а шесть самых впечатляющих из них располагались к востоку от реки. Их собственники, землевладельцы, возможно, временами воображали себя феодальными «баронами» Старого Света, поскольку, подобно им, пользовались некоторыми привилегиями и послаблениями. Например, часть из них имела патенты, позволявшие им устраивать манориальные суды, отправляя уголовное и гражданское правосудие. Некоторые согласно условиям своих патентов контролировали охоту и рыболовство, рубку леса и помол зерна. Были даже и такие, которые могли назначать в своих поместьях священника. Большинство заявляли права на выморочное имущество, и почти все могли изымать за долги собственность, если арендаторы не уплачивали ренту. Землевладельцы также могли принуждать арендаторов несколько дней в году строить или чинить заборы и дороги[45]. Практика часто расходилась с этими притязаниями, поскольку осуществление этих прав оказывалось нерегулярным, а в некоторых случаях и вовсе невозможным. Манориальные суды устраивались редко, несмотря на дозволения хартий и патентов, их функции выполняли суды округов. Что касается других прав, то они чаще всего не осуществлялись или не имели большого значения.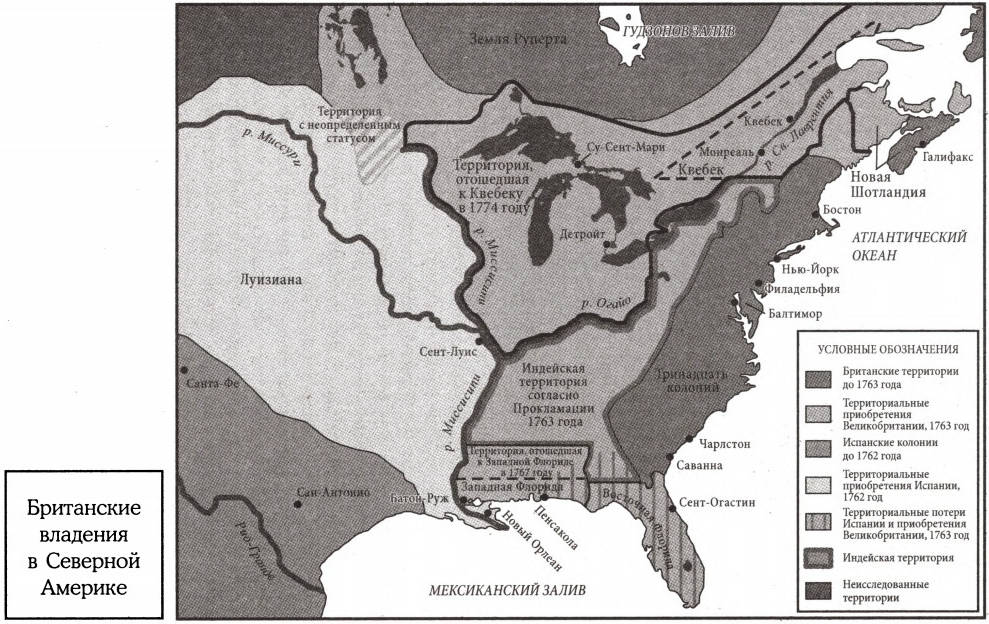
Положение арендатора не было завидным, хотя многие к нему стремились. Арендаторы работали на земле больших поместий в долине Гудзона и уплачивали ренту, выказывая также определенное почтение к важному человеку, вершителю дел. Однако доля арендаторов была не такой уж тяжелой, как можно предположить — гораздо легче, чем у европейских крестьян, по рукам и ногам связанных своими обязательствами. Хозяева долины Гудзона имели больше земли, чем могли использовать, и в XVIII веке английское правительство, желавшее получать свою долю от арендных доходов, давило на них, принуждая вводить эти земли в оборот. Силу убеждения подкрепляло также появление незаконных поселенцев из Коннектикута и Массачусетса. Землевладельцы пытались превращать этих сквоттеров, не плативших ничего, в арендаторов, с которых, возможно, удалось бы что-то получить. Хозяева освобождали их от уплаты ренты на первые годы, а также ссужали орудиями труда и скотом[46]. Эти методы работали или, по крайней мере, привлекали арендаторов. Однако арендаторы обычно надеялись стать фригольдерами и подписывали договоры об аренде, только чтобы с чего-то начать, а не с целью вечно пребывать в зависимом статусе. Они возделывали землю, копили, а затем покупали собственные участки. К началу революции землевладельцы долины Гудзона уже привыкли к удивительной частоте обновления состава арендаторов. Арендаторы в Мэриленде, особенно у собственников маноров, находились в ином положении, нежели арендаторы в Нью-Йорке. У них почти не было надежды подняться до фригольдеров, они могли десятилетиями жить на одном месте, обычно в бедности, возделывая одну и ту же землю. Некоторые наследовали ее от родителей, живших и умерших в тех же поместьях, другие арендовали участки по соседству с отцовскими. Лишь немногие имели землю в собственности и еще меньше было тех, кто владел одним или двумя рабами. Жителям восточного берега, где росла пшеница, приходилось легче, чем тем, кто выращивал табак, однако жизнь и тех и других проходила в печальных условиях: большие семьи ютились в маленьких домах, возделывали землю, имея лишь примитивные орудия и немного скота, а зачастую еще и обремененные долгами[47].
IV
Ни одна политическая система никогда в совершенстве не выражает потребности общества. Ни одно общество в английских колониях не создало политической конструкции, которая бы вызывала всеобщее доверие. Их правительства выросли из английских источников, таких как хартии, патенты и предписания Короны, а многие их лидеры назначались в Англии монархом или (в XVIII веке в Пенсильвании и Мэриленде) крупными землевладельцами. Были и другие обстоятельства, отличавшие американскую политику и придававшие ей форму и содержание, в том числе и более важные, чем связь с Англией. Во верх тринадцати колониях возобладало представительное правительство, а представительство почти всегда связывалось с землей. Поскольку даже к середине XVIII века приобрести землю все еще было довольно просто, большинство белых взрослых мужчин могли голосовать на провинциальных выборах. Требование непосредственного владения (неограниченное право собственности) не всегда предъявлялось к избирателям. Лизгольд принес право голоса в Нью-Йорк, где на выборы приходили тысячи арендаторов[48]. Как и английское правительство, американское делало назначения, поддерживало мир и большую часть времени заботилось о соблюдении порядка. Но этим оно не ограничивалось. В колониальных ассамблеях имелись свои лорды Будлы, хотя американские Будлы лордами никогда не являлись. Эти важные особы, как правило, ораторствовали в нижних палатах, где к 1750 году сосредоточилась реальная власть. Американских Будлов волновало отнюдь не только распределение политических постов. Политические «хлеба и рыбы» в колониях были невелики, да и раздавал их какой-нибудь государственный секретарь в Англии или иногда губернатор королевской колонии. Будлы в Америки охотились за добычей покрупнее — за землей, которая годилась не только для плантаций, но и для спекуляций. Они также заключали контракты, например, на поставку припасов и обмундирования, требовавшихся в частых войнах XVIII века, или брали подряды на строительство дорог, мостов, верфей и других сооружений, необходимых для развивающейся экономики. Все это свидетельствует о том, что у членов колониальных правительств была масса дел по сравнению с их английскими коллегами, а тринадцать маленьких парламентов, как любили называть себя ассамблеи, служили оживленными аренами, на которых они выплескивали свою энергию. Поскольку на карте стояло столь многое, в ассамблеях часто разворачивались серьезные конфликты. И действительно, в годы перед революцией большинство их решений принималось в шумной и бурной атмосфере разногласий. Однако не все колонии были расколоты или страдали от такой фракционности. В Виргинии — одной из ведущих колоний — выборы иногда вызывали оживление, но политика там отличалась спокойствием. Всем заправляла элита землевладельцев, которые чаще всего действовали в интересах широкой общественности и лишь иногда — в своих собственных. Так же спокойно политическая жизнь протекала и в Нью-Гэмпшире за двадцать пять лет до принятия Акта о гербовом сборе (The Stamp Act) в 1765 году, потому что дела там вершили Беннинг Уэнтворт и элита. С 1741 по 1767 год Уэнтворт и аристократы из числа его родственников и друзей доминировали в политике Нью-Гэмпшира, как никакая другая группа где-либо еще. Щедро раздавая земли и оказывая политическое покровительство, Уэнтворт опирался на довольный совет и судебную власть, помогавшие ему руководить администрацией. Нижняя палата тоже научилась им восхищаться, поскольку ее члены получали землю (однажды — целый поселок) и лестное внимание. Уэнтворт не просто покупал любовь своих избирателей, но отстаивал их интересы, особенно те, что касались торговли мачтами, древесиной и кораблями. Эти отрасли требовали столько рабочих рук, что Нью-Гэмпширу иногда приходилось импортировать зерно. Защищая соответствующие интересы, Уэнтворт вынужден был нарушать инструкции, требовавшие от него следить за соблюдением прав короля на колониальные леса. Уэнтворт, похоже, никогда не испытывал беспокойства по этому поводу, как и другие жители Нью-Гэмпшира, где установилось надежное и стабильное правительство[49]. Политическое спокойствие, царившее в Виргинии и Нью-Гэмпшире, а также еще одном или двух местах, отличало их от других колоний. По соседству с Нью-Гэмпширом, в Массачусетсе, политика шла традиционным для большинства колоний курсом борьбы фракций за власть. В Массачусетсе, как и почти везде, вихрь противостояния кружился вокруг губернатора, который обычно вел незавидное существование. Один из таких губернаторов начала столетия — Джозеф Дадли — заслужил свою судьбу, чего нельзя сказать о его преемниках, Сэмюэле Шуте, Уильяме Бернете и Джонатане Белчере, на долю которых выпала даже более ожесточенная борьба с местными кликами. Уильям Ширли, служивший губернатором с 1741 по 1757 годы, наслаждался политическим миром, потому что все внимание было приковано к войнам с Францией. Эти войны позволили ему заручиться покровительством и наладить контракты, чем он пользовался, обезоруживая оппозицию[50]. В Пенсильвании даже война не мешала политическим группировкам терзать друг друга на протяжении большей части XVIII века. Как и в Массачусетсе, здешний губернатор привычно сносил многочисленные удары. Но у губернатора Пенсильвании имелись свои особенные проблемы: он представлял интересы отсутствовавшего владельца колонии — одного из наследников Уильяма Пенна, не позволившего обложить налогом его крупные земельные владения. Накануне волнений 1760-х годов разочарование Томасом Пенном, который стал владельцем колонии в 1746 году, достигло такой остроты, что Бенджамин Франклин и другие попытались убедить монарха взять управление колонией в свои руки[51]. Сделать это Франклину не удалось, но его усилия едва ли способствовали политическому спокойствию. Ньюйоркцы нашли другие причины для разделения на фракции, которые боролись друг с другом не мёнее яростно, чем с королевским губернатором. Род-Айленд избрал своего губернатора и обходился практически без королевских чиновников, не считая таможенной службы. Но группировки все равно появились, усилив репутацию этой колонии как вечно недовольной. Мэриленд и Северная Каролина многим отличались от Род-Айленда и друг от друга, но время от времени они тоже (вместе со своими губернаторами) погрязали в борьбе группировок[52]. Политические группировки питались за счет постов и ресурсов, сосредоточенных в руках власть имущих. Кроме того, они черпали силы из конфликтов, но не разрывали на части политическое общество. Они признавали наличие границ и то, что за них нельзя выходить, ведь иначе политическая система может рухнуть. Существовали правила, по которым разыгрывались фракционные игры. Эти правила запрещали прибегать к насилию против оппозиции. Колониальные Будлы достаточно хорошо знали историю, чтобы понимать опасность использования силы. В XVII веке большинство крупных колоний пережили восстания. Такие волнения тревожили людей следующего века, помнивших также о гражданской войне в Англии. Они понимали, что на кону стоит очень многое — политические посты, еще неосвоенный континент, да и сам общественный строй. Возможность нажиться подталкивала многих способных людей к беспринципным действиям и подливала масла в огонь политических распрей. Но эта же возможность помогала удерживать их в рамках, не давала зайти слишком далеко и заставляла воздерживаться от необратимого подрыва основ. Таким образом, фракционность стала формой стабильности этого века. Те самые силы, которые вызывали конфликт, как это ни парадоксально, способствовали и политическому порядку. Например, в колониальных избирательных округах большинство белых мужчин могли голосовать. Многочисленный электорат мог делать предвыборные кампании напряженными, однако это давало людям ощущение включенности в политическую систему. Правительства со своими значительными полномочиями, возможно, искушали людей на попытку взять их под контроль, но также играли и роль сдерживающего фактора, вынуждающего свыкнуться с реальностью взаимоотношений между различными институтами общества. Чувство этих взаимоотношений в XVIII веке было слабее, чем в момент основания колоний, но все-таки оставалось важным. В его основе лежала вера в то, что государственные учреждения связаны со всеми другими институтами — семьей, церковью, даже школой и колледжем. Природа этих связей оставалась неясной, но их наличие не вызывало сомнений. Деловых людей, без сомнения, успокаивала живучесть аристократического лидерства, ведь практически каждый колониальный орган возглавляли «лучшие люди». Это руководство, из поколения в поколение привлекаемое из обеспеченных классов, являлось для простых людей свидетельством постоянства общественных и политических институтов. Таким образом, колониальной политике и обществу были одновременно свойственны некоторые противоречия и удивительные согласие и единство. Несмотря на доминирование собственников и предпринимателей, экономика оставалась колониальной — подвергавшейся регулированию из-за рубежа, которое, помимо прочего, имело целью ограничить ее рост. Тем не менее она росла. Общество на рубеже революции оставалось преимущественно английским по своему составу, однако уже ассимилировало большое число мигрантов с европейского континента. Политическую систему, приблизительно копировавшую английские представительные институты, возглавляли губернаторы, которых, за исключением Род-Айленда, назначали в метрополии. Но все-таки местные интересы выходили на передний план в большинстве сфер, несмотря на противоречившие этому инструкции губернаторов. И хотя стремление к самоуправлению часто толкало американских колонистов к фракционности, они соблюдали правила, делавшие политику приемлемой.V
В религии особенно после 1740 года обнаруживаются похожие противоречия. В девяти колониях существовала государственная церковь, то есть та, которая получала часть налогов. Однако большинство страстно верующих оставались за ее дверьми и не собирались стучаться в них. Они следовали зову Святого Духа и презирали формальность и рационализм (считая их грехом) официальных органов. Даже эти энтузиасты во многом отличались друг от друга. Предметом споров становились таинства, квалификация духовенства, образование детей и порядок богослужения[53]. Конгрегационалисты в XVII веке селились в Новой Англии и в XVIII веке, стремясь к чистоте, продолжали настаивать на своем варианте для себя, хотя и не для других. В новом столетии им пришлось соперничать со все более влиятельными группами англиканцев, квакеров и баптистов, боровшихся за освобождение от уплаты налогов конгрегационалистам и тем самым проявлявших общую неприязнь к ним. Помимо этой неприязни, их мало что объединяло. Да и внутри отдельных групп отнюдь не царила гармония. Ожесточенные споры угрожали их единству, особенно после Великого пробуждения — религиозного возрождения 1740-х годов, пошатнувшего многие привычные устои протестантизма. Баптисты, например, разделились на «частную» и «общую» ветви, а борьба между старым и новым направлениями раздирала установленный порядок. Тем не менее конгрегационалисты доказали свою стойкость, особенно в Массачусетсе и Коннектикуте, где они получали общественную поддержку даже в XIX веке[54]. Церкви Новой Англии кажутся пресными в сравнении с церквями срединных колоний. Там к середине XVIII века царило религиозное разнообразие, в итоге способствовавшее установлению свободы вероисповедания, но на протяжении большей части столетия дух терпимости лишь едва ощущался. Даже квакеры, сыгравшие ведущую роль в основании Пенсильвании в конце XVII века и державшиеся друг за друга, будучи преследуемыми в Англии, часто спорили друг с другом в Америке. В любом случае, прошло лишь двадцать лет XVIII века, когда другие секты и церкви в этой колонии уже насчитывали больше членов. Однако, несмотря на малочисленность, квакеры продолжали доминировать в правительстве, пока в середине века войны и пресвитерианцы не лишили их власти. Пресвитерианцы пополняли свои ряды за счет выходцев из Новой Англии и Северной Ирландии. Жители Новой Англии и шотландо-ирландцы в Америке проявили ничуть не больше уживчивости, чем в Англии. Немало пресвитерианцев насчитывалось в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре, а также в Пенсильвании, и всюду они находили разные причины для борьбы, помимо национальности. Квалификация священников, принятие догм, управление — все это вызывало горячие споры. В 1741 году их разделил пожар Великого пробуждения, когда «пресвитерианцы новой стороны» основали собственный синод в Нью-Йорке, а представители «старой стороны» собрались под началом синода в Филадельфии. Новая сторона, благоволившая новым мерам возрождения, продвигалась из долины Гудзона на юг в Северную Каролину, а когда схизма 1741 года сменилась объединением в 1758 году, пресвитерианская церковь имела больше членов, чем какая-либо другая в срединных колониях. Если бы «старая сторона» не была столь вялой, то пресвитерианцы могли бы обратить в свою веру еще больше людей. Филадельфийский синод, потрясенный схизмой 1741 года, так никогда полностью не пришел в себя. Самой сложной задачей было заново собрать раздробленное духовенство, что, возможно, удалось бы сделать при условии учреждения семинарии для подготовки священников. Некоторое время после 1741 года казалось, что «старая сторона» имеет возможность слиться с немецкой реформатской церковью в Пенсильвании. Трудно сказать, было ли это лишь надеждой или чем-то большим, да и в случае успеха проблемы пресвитерианцев могли лишь удвоиться. Однако это также могло бы способствовать усилению попыток к обращению шотландо-ирландских иммигрантов, направлявшихся в западную Пенсильванию и во многих случаях продвигавшихся оттуда по долине реки Шенандоа в Виргинию и Каролины[55]. Немцы в Пенсильвании не смогли бы достучаться до шотландо-ирландцев, даже если бы попытались. Отрезанные в XVIII веке от многого иными языком и культурой, немцы оставались по большей части изолированы от окружающих. Немецкие реформаты и лютеране сталкивались с тяжелыми проблемами при создании своих церквей. Те, кто эмигрировал в Америку, похоже, не имели твердых религиозных убеждений, а поскольку приезжали они по отдельности, часто в качестве связанных обязательствами слуг, поначалу у них не было церкви, к которой они могли бы присоединиться. Немецкие миряне в Старом Свете обычно не играли ведущей роли в церкви, и в Америке им трудно было найти священников, которые бы их сплотили. Другие немецкие церкви (меннониты, окунанцы и моравские братья) являлись самыми многочисленными, лучше организованными и прочно держались друг друга в Пенсильвании[56]. Эта колония также стала прибежищем целого ряда других реформистских сект разных национальностей — немцев, голландцев, шведов, небольшого количества французов и евреев. Ни одна из этих групп не могла сравниться с квакерами и пресвитерианцами по численности или влиянию. Это было под силу единственной крупной национальной группе — английской в лице англиканской церкви. Англиканская церковь в Пенсильвании, как и в прочих местах, оставалась почти не затронутой возрождением. Но даже в Пенсильвании слышались голоса недовольства, исходившие из сообщества, которое впоследствии станет известно под названием методистов. Хотя в Нью-Йорке можно было видеть многие из религиозных групп, имевшихся в Пенсильвании, здесь они шли иным религиозным путем. Пресвитерианцы продвигали свою веру дальше — в Нью-Джерси и на юг, но большинство других церквей и сект этого не делали. Хотя плюрализм в Нью-Йорке не привел к торжеству безразличия, религиозному рвению он тоже не способствовал. Великое пробуждение не тронуло сердце Нью-Йорка. Небольшое оживление ощущалось на Манхэттене и Стейтен-айленде, но в прочих местах возрождение провалилось. Генри Мюленберг, посетивший лютеранскую церковь в Нью-Йорке в 1750 году, заметил, что «проще быть пастухом во многих местах Германии, чем проповедником здесь…»[57]. Проповедники голландской реформаторской церкви могли бы согласиться с этой оценкой. И возможно, они бы предпочли безразличие той озлобленности, с которой шла борьба в их паствах. Противников возбуждали не великие богословские принципы, а жажда власти. По разные стороны оказались Америка и Нидерланды — английский язык против голландского в делах церкви и руководство местной конгрегации против Классиса в Амстердаме. Раскол произошел в 1754 году и сохранялся до революции. Схожий конфликт примерно в это же время разворачивался в Нью-Джерси[58]. В южных колониях почти все, что было связано с религией, находилось в руках англиканской церкви, включая налоговую поддержку общества, но после 1740 года ей пришлось узнать, что религиозные энтузиасты были не прочь бросить вызов ее господству. Шотландо-ирландские пресвитерианцы, сместившиеся дальше по долине к окраинам, не восхищались образом жизни крупных плантаторов и не собирались вечно платить налоги для поддержания веры, которую они не разделяли. Более бедные и гораздо менее политически грамотные баптисты жили тихими общинами простых мужчин и женщин, твердо намеренных молиться по-своему и избегать греховных излишеств, которые они наблюдали среди состоятельных англиканцев. Даже внутри самой государственной церкви все больше людей, пробужденных возрождением, находили старые взгляды и традиционные проповеди неудовлетворительными. Не отдавая себе в этом отчета, они в своем поиске священного опыта двигались к методизму[59].VI
Хотя американцы начали бунтовать против англичан сразу в нескольких сферах, их религия играла важную роль в каждой из них, причем она была важна даже не особенно ревностным, даже безразличным. Дело в том, что религия больше чем что-либо другое в Америке определяла культуру. А как бы сильно колонии ни различались, они обладали общей культурой — ценностями, идеалами, мировоззрением, которая удерживала их вместе в кризисный период волнений и войны. Разумеется, церкви в колониях отличались друг от друга. Но глубинные их сходства еще более поразительны: в их руководстве настолько доминировали миряне, что складывалась приходская демократия, духовенство было намного слабее, чем в европейских церквях, а религиозная жизнь характеризовалась акцентом не на литургиях, а на личном опыте. Последняя особенность проявлялась не столь явно в англиканской церкви, но даже в ее храмах богослужение сильно напоминало практики Низкой церкви. Миряне брали на себя ответственность за всевозможные дела церквей. Им приходилось это делать, иначе церкви вряд ли могли бы существовать. В Америке не было готовых церковных приходов и щедрых пожертвований, в ней не хватало опытных священников и возможностей для их обучения. Миряне брали на себя инициативу в создании церквей с самого зарождения колоний и никогда не отказывались от нее, хотя священнослужители тоже мигрировали через океан. Благодаря руководству мирян, а также по другим причинам общество оставило глубокий отпечаток на религии. Даже в Новой Англии, где конгрегационалистские церкви пользовались гораздо большей автономией, чем в срединных или южных колониях, окружающее общество не переставало напоминать о себе. Довольно рано в XVIII веке города начали настаивать на своем праве если не назначать священников, то хотя бы утверждать выбор церкви. Слова Коттона Мэзера свидетельствуют о том, что верующих прихожан это немало беспокоило: «Многие люди [жители города, но не члены церкви] не готовы позволить церкви иметь приоритет перед ними в выборе пастора. Они кричат: „Мы должны утверждать его!“»[60] Коттон Мэзер писал до Великого пробуждения и лишь о самом очевидном процессе, в результате которого миряне ослабляли влияние священников и верующих. В какой мере на религиозную жизнь влияли экономический рост и увеличение численности населения, не столь понятно, но скорее всего это влияние на господствующие церкви было неблагоприятным. Дело в том, что расширяющаяся экономика и умножающееся население ломали институциональную субординацию или затрудняли ее. В конце концов, что мог традиционный приход сделать с невоцерковленными за его пределами и что он мог поделать с теми людьми, которые переезжали, делали карьеру, не чувствовали себя привязанными к укоренившимся институтам и, по-видимому, равнодушно относились к их стандартам? Если старые церкви часто оказывались неспособны совладать с ростом и мобильностью, то более новые секты, особенно «отделенных» и баптистов, это не смущало. То же можно сказать и о церквях, охваченных возрождением и впитавших его посыл о том, что истинной религией является переживание Святого Духа, второе рождение. Великое пробуждение возвращало целое поколение к стандартам реформированного протестантизма, преобладавшего в годы основания Америки. Оно оживило ценности, сосредоточившие в себе больший акцент на личном опыте и меньшую озабоченность традиционной церковной организацией. В то же время оно привело к сосредоточению на нравственности и правильном поведении, породило социальную этику достаточно гибкую, чтобы настаивать на правах сообщества, которое поддерживало притязания индивидуализма. Пробуждение, так же как мобильность, экономический и демографический рост, подпитывало приходскую демократию. Священники, страстно желавшие посодействовать возрождению религии, вынуждены были чуть ли не умолять людей обратиться в их веру. Они обнаружили, что их успех как священнослужителей измерялся количеством новообращенных — отсюда их роль просителей, роль, делавшая их зависимыми от чужих поступков и потому неизбежно ослаблявшая их авторитет в общине. Политические идеи американцев в 1760-е годы вытекали не из конгрегационной демократии и не из ривайвелистской религии. Большинство американских идей представляли собой часть великой традиции «общего блага» — радикальной идеологии вигов, возникшей в результате нескольких волнений в Англии XVII века: гражданской войны, кризиса 1679–1681 годов и Славной революции 1688 года. Если не вдаваться в тонкости, эта либеральная теория описывала два вида угроз политической свободе: общее нравственное разложение людей, которые будут приветствовать приход злых деспотичных правителей, и посягательство исполнительной власти на законодательную, к которому власть всегда прибегала, чтобы подчинить свободу, защищаемую смешанной формой правления. Американская революция показала, что эта радикальное понимание вигами политики глубоко укоренилось в сознании американцев. В Британии с анализом вигов соглашались разве что инакомыслящие маргиналы. Его широкое принятие в Америке объяснялось как одно из последствий дисбаланса в политической структуре, в которой исполнительная власть была по закону наделена большими полномочиями, но которой в реальности не хватало авторитета. «Раздутые притязания и съежившиеся способности», как описал эту институциональную ситуацию один историк, вызывали ожесточенную фракционную деятельность, объяснявшуюся, по-видимому, лишь теми формулами радикальной теории и практики вигов, которые связывали свободу со сбалансированным правительством, а деспотизм — с чрезмерно влиятельной исполнительной властью и моральным разложением[61]. Эта интерпретация, конечно, частично верна, но и определенно слишком проста в своей сосредоточенности на фактах институциональных отношений. Свойственные вигам радикальные политические взгляды находили в Америке широкую поддержку, потому что оживляли традиционные опасения протестантской культуры, которая всегда граничила с пуританством. Нравственное разложение, угрожавшее свободному правительству, не удивляло народ, предки которого покинули Англию, спасаясь от греха. Сознание важности добродетели, бережливости, трудолюбия и призвания лежало в основе их морального кодекса. Чрезмерный контроль правительства и угроза развращения под влиянием праздных непутевых чиновников или карьеристов всегда упоминались среди важнейших причин их эмиграции в Америку. Дело в том, что ценности республиканцев XVIII века ранее вдохновляли их коллег, живших в XVII веке. Они сформировали американское мировосприятие, склонное к осмыслению политики в их терминах. Таким образом, радикальные представления вигов XVIII века оказались убедительными для американцев потому, что они глубоко проникли в их культуру еще в предыдущем столетии. Поколение, совершившее революцию, состояло из детей тех, кто родился дважды, наследников этой религиозной традиции XVII века. Возможно, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин и многие последовавшие за ними руководствовались не религиозными чувствами, но всем им была свойственна предрасположенность к страстному протестантизму. Они не могли вырваться за рамки этой культуры, да и не пытались. Они вдохновлялись американским морализмом, окрашивавшим все их политические взгляды. После 1760 года они столкнулись с политическим кризисом, который стал мучительной проверкой этих взглядов. Их реакция — действия людей, почувствовавших, что провидение разделило их ради великих целей, — придала революции значительную часть ее энергии и идеализма.3. Начало: сверху вниз
I
Английские министры, начавшие закручивать гайки в борьбе против американских контрабандистов в 1760 году и надеявшиеся заставить американцев выполнять свою долю имперских обязательств, не знали народа, с которым имели дело. Точнее, они не знали его достаточно хорошо и имели слабое представление о его упрямстве и способности к принципиальным действиям. Эти министры совершили несколько удивительных для довольно опытных тактиков ошибок, самой большой из которых стало то, что они принимали решения, игнорируя взгляды американцев, а также не желали идти на компромисс, когда эти взгляды открыто выражались. Процесс управления американцами, казалось, почти лишил этих английских министров политического чутья, поскольку они забыли о необходимости гибкости и согласования позиций. Огромное расстояние, разделявшее Америку и Британию, конечно, притупляло политическое восприятие; управление людьми, которых они никогда не видели, делало политическую атмосферу настолько разреженной, что многие политики даже с острым нюхом теряли след американских интересов. В любом случае, эти «невидимые» люди были колонистами. Британская конституция отводила им подчиненное положение (по крайней мере, так думали министры короля). То, как выражались эти министры, да и почти все, кто писал или размышлял о колониях, свидетельствует об их довольно размытых представлениях о предмете. Колонии, по их мнению, являлись «плантациями», «насаждениями» и иногда «детьми» английского родителя. Все эти термины подразумевают, что за ними наблюдали и ухаживали, ими управляли, их воспитывали и заставляли слушаться, если они плохо себя вели. За этими словами стоит идея о том, что колониям надлежало исполнять желания Англии. Колонии были обязаны своим основателям, и не в последнюю очередь — обязаны подчинением и послушанием. Построение общественной политики на основе чувства абстрактной справедливости — опасная практика для любого правительства. Английские правительства 1760-х годов не отличались особенной гибкостью, и когда их американские планы оказались под угрозой, они приходили в ярость. Очевидные для них принципы нарушались, и казалось, что колонии предали те отношения, еще недавно вполне удовлетворявшие властей предержащих. Ничего принципиально важного вроде бы на кону не стояло, когда кабинет министров нового короля, номинально возглавляемый одним из великих английских политических деятелей XVIII века — герцогом Ньюкаслом, начал знакомить короля, взошедшего на трон в октябре 1760 года, с ближайшими задачами и насущными проблемами Англии. Война с Францией уже велась не так активно, как еще год назад, но мир пока не наступил. Ощущалась утомленность войной: ее чувствовал и Ньюкасл, и его друг Бьют, и король. Но только не Питт, который до сих пор играл ведущую роль в общественной жизни страны; вскоре он даже начал призывать к войне против Испании[62]. Нервный, нерешительный и постоянно обеспокоенный своим здоровьем, Ньюкасл, как и следовало ожидать, не мог ни на что решиться. Он боялся Питта и восхищался им; он хотел остаться на своем посту; он хотел угодить королю. Он сорок лет занимал государственные должности, заседал в парламенте и служил двум монархам. Когда в октябре 1761 года Питт покинул правительство, а Ньюкасл остался, его удерживало именно желание продолжать то, чем он занимался так долго. Питт ушел из-за отказа короля начать войну, хотя к октябрю правительство уже знало о том, что французы и испанцы достигли соглашения, ставшего возможным благодаря их общей ненависти к Британии. Через три месяца Британия все же объявила войну Испании, что привело к новым триумфальным победам. К лету 1762 года Ньюкасл, почувствовав, что он полностью утратил доверие короля, покинул правительство. Кабинет министров, к радости короля, возглавил Бьют. Бьюту не хватало упорства Ньюкасла и выдающихся способностей Питта. Будучи советником короля до вхождения в правительство, он в известной мере пользовался властью, не обремененный ответственностью. Этот период был, наверное, самым приятным в его жизни. Он, шотландец, обучал юношу, которому предопределено было стать королем. Его советы принимались с благодарностью, при этом он, малозаметный, оставался вне линии огня. Сейчас же, став министром короля, он оказался открыт для критики. Грязное хихиканье, сопровождавшее сплетни о том, что он был любовником матери Георга, звучало теперь особенно громко, а ему оставалось лишь демонстрировать невозмутимость. Бьют вскоре узнал, что хотя миротворцы благословенны, их не любят, потому что после составления вводных статей мирного соглашения, положивших конец войне с Францией, он испытал на себе гнев Питта и лондонской толпы. В феврале 1763 года мирный договор в своей окончательной форме был подписан, а в апреле Бьют ушел в отставку настолько благопристойно, насколько это оказалось возможным. Перед уходом Бьюту удалось принять одно важное решение, повлиявшее на английскую политику и американские колонии, хотя, возможно, было бы правильнее сказать, что это сделал возглавляемый им кабинет. В начале 1763 года, по-видимому в феврале, министры решилиразместить в Америке постоянный контингент королевских войск — регулярную армию. Сам король Георг III способствовал этому шагу вполне конкретными и обстоятельными действиями, причем не из интереса к колониям, а потому, что, подобно всем представителям ганноверской династии до него, желал добра армии. В конце концов это была его армия, а в 1762 году, когда война подошла к концу, ее будущее выглядело неопределенно. В ходе Семилетней войны она разрослась и обеспечивала средствами к существованию многочисленных офицеров, оказывавших королю и его министрам важную политическую поддержку. Немало полковников заседало в парламенте, и вместе со своими подчиненными они образовывали опору короны. Что было делать с этими полезными офицерами теперь, когда воцарился мир и правительству требовалось сокращать всевозможные расходы? Молодого короля волновали такие вопросы, и поэтому неудивительно, что в сентябре 1762 года он писал своему другу Бьюту: «Несколько дней я работал над оценкой состояния войск накануне заключения мира и надеюсь послать ее сегодня вечером. Десять полков, сформированных в начале войны, сохранятся, однако расходы станут на несколько сот фунтов меньше, чем… в 1749 году»[63]. Король еще четыре месяца продолжал работать над оценкой армии, количества полков и средств, необходимых для выплаты им жалованья. Американские колонии учитывались в его расчетах только потому, что их можно было принудить к содействию в содержании королевских вооруженных сил[64]. Бьют понимал озабоченность короля и наверняка разделял ее, но и у него, и у чиновников казначейства хватало и других забот. Канада, западные территории и Флорида страдали от «проблем» с индейцами, которые требовали решений, граничивших с войной. Для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности были необходимы войска. Министерство торговли (The Board of Trade), лучше всех прочих осведомленное о колониях, давно призывало перейти от местного к имперскому контролю над отношениями с индейцами. Защиту белых американцев, как не раз давало понять министерство, лучше всего удалось бы обеспечить за счет регулирования торговли с индейцами (и недопущения эксплуатации индейцев белыми торговцами, что являлось частой причиной конфликтов) и прекращения захвата белыми индейских земель. Участие империи в решении индейского вопроса невозможно было представить без использования британской армии[65]. В течение следующих нескольких лет британским чиновникам пришли в голову и другие способы применения регулярной армии в Америке. Так, некоторые полагали, что она могла бы собирать таможенные пошлины и контролировать американское общество. Эти мнения еще не приняли отчетливой формы в 1763 году, но уже казалось, что здравый смысл и имперский замысел предполагают наличие армии в Америке, поэтому соответствующее решение выглядело достаточно очевидным. Принимая во внимание давнюю историю нелюбви англичан к регулярным армиям, можно сказать, что парламент на удивление легко согласился с решением о размещении войск в Америке. В любом случае, этот вопрос не стал критическим и не потребовал тщательного изучения или дебатов. Вероятно, здравый смысл опять-таки приглушил сомнения: в Америке дикая местность действительно окружала малонаселенные приграничные территории английских колоний. В Канаде имелось французское население (недавние враги, едва ли лояльные Британии); на западе жили индейцы, которых ценили как торговых партнеров и страшились за их жестокость; на юге, во Флориде, находились испанцы, доверять которым следовало не больше, чем французам. Да и сами англоамериканцы, несмотря на их преданность, не хватали звезд с неба в искусстве дипломатии и вполне могли спровоцировать конфликт со своими западными соседями. Как еще можно было гарантировать безопасность и стабильность, если не размещением славных британских солдат вдоль дуги от Канады до Флориды? Казалось, сам здравый смысл предписывал такое решение. Что же касается традиции, отказывавшей монарху в услугах регулярной армии, то эта традиция была гораздо более убедительной на британских островах, чем за их пределами. Итак, парламент — орган, всегда полагавший себя исполненным здравым смыслом и заботой о правах подданных, предпочел забыть о своих сомнениях и тихо согласился[66].II
Когда Джордж Гренвиль сменил в 1763 году Бьюта, он не собирался возвращаться к этому вопросу. Нет никаких свидетельств, опровергающих то, что он поддерживал нахождение королевских войск в Америке. В общем и целом его можно назвать классическим английским политиком, хотя, пожалуй, он был умнее и намного честолюбивее большинства коллег. Он имел богатые политические связи — его брат Ричард (граф Темпл) долгие годы занимал видное место в английской политике; более того, два брата являлись яркими представителями успешной в политическом отношении английской семьи, чье влияние на протяжении поколения распространилось от нескольких избирательных округов на парламент. Джордж Гренвиль, родившийся в 1712 году, попал в парламент в 1741-м и оставался в нем до самой смерти в 1770 году. Через три года после избрания в палату общин ему предложили войти в кабинет министров, и он согласился, что, возможно, подтверждает не только его связи, но и способности. Гренвиль вновь вступил в должность при мощной коалиции Ньюкасла и Питта, приведшей Британию к великим победам в Семилетней войне. Его брат также состоял в правительстве, но ушел в отставку в октябре 1761 года вместе с Питтом, когда тот не смог убедить монарха и парламент объявить войну Испании. Гренвиль служил секретарем Северного департамента, а затем первым лордом адмиралтейства. Он активно поддерживал Бьюта. Когда Бьют покинул свой пост, Гренвиль возглавил казначейство и стал первым министром короля. Он был опытным политиком, но перед ним стояли задачи, к которым этот опыт подготовил его лишь отчасти. В Англии намечались первые признаки движения за реформирование палаты общин. Ни Гренвиль, ни кто бы то ни было другой не мог сделать палату общин более представительным органом в 1763 году, и кроме того, эти «признаки» можно было трактовать по-разному. Лондонская чернь грозила волнениями и восстаниями, хотя и не вполне понимала, чего хотела в тот или иной момент. Гренвилю и министрам эти простые лондонцы казались мятежными и безответственными отбросами общества, только и умеющими, что причинять всякий вред. Джон Уилкс — публицист, политик и повеса — как раз тогда становился любимцем толпы, почувствовавшей в нем силу, которую можно было бы нацелить на реформирование представительных институтов, которые на самом деле таковыми не являлись. На юге наблюдались волнения иного толка в так называемых «сидровых графствах» (прозванных так в честь их главного продукта), где люди сильно возмущались налогами на сидр[67]. Уилкс, чернь и сидр казались пустяками Гревилю, который большую часть своего министерского срока думал о других вещах. Американский запад по-прежнему создавал проблемы, поскольку решение о размещении там войск само по себе не решало насущных проблем с собственностью на земли и отношениями с индейцами. Вопрос о том, что делать с бывшими французскими территориями, годами занимал как имперских, так и местных чиновников. Факты говорили сами за себя: изголодавшиеся по земле американцы продвигались в эту область, не считаясь с индейцами и руководителями, пытавшимися помешать им захватывать земли индейцев. Земельные компании конкурировали между собой в Лондоне и столицах колоний за гранты, которые, как они надеялись, должны были обеспечить им исключительное право собственности и права на продажу. Индейцы настойчиво сопротивлялись и относились к этим жадным белым с закономерной неприязнью[68]. Среди белых американцев самыми агрессивными и жадными были жители Виргинии. На основе хартии XVII века эта колония продолжала претендовать на обширную область вверх по течению Огайо. Небольшие группы и одиночки из Виргинии проникли в эту местность за двадцать лет до Семилетней войны, за ними последовали другие, особенно после того, как здесь стало безопасно благодаря великим победам 1758 года. Самые амбициозные виргинцы собрались вместе в 1747 году и образовали Огайскую компанию; через два года эта группа (в основном плантаторы, среди которых оказался юный Джордж Вашингтон и несколько Ли) получила королевскую хартию, даровавшую им 200 тысяч акров к югу от современного Питтсбурга. Эта хартия удовлетворила их и, казалось, открыла путь к крупным прибылям посредством спекуляции. Война и нежелание части незаконных поселенцев платить за то, что пока удавалось взять бесплатно, мешали благородному желанию Огайской компании разбогатеть. Кроме того, в этот регион устремились и другие американцы, намеренные использовать его ресурсы, в частности торговцы мехами из Пенсильвании, имевшие несколько иные представления о правах собственности на девственные земли. Французы и их индейские союзники тоже нарушали планы виргинцев, отправляя сюда торговцев и настраивая индейцев против англичан. Война, конечно, ограничивала действия людей с обеих сторон[69]. Когда французы наконец были разбиты, скваттеры вернулись к прежним границам и даже перешли их. Полковник Анри Буке, разделявший ненависть большинства уроженцев запада к индейцам, все же пытался сдерживать белую экспансию. Буке двигал не альтруизм, а предчувствие того, что если белые американцы продолжат селиться на землях, которые индейцы считали своими, то беды не миновать. Буке заручился поддержкой суперинтендантов по делам индейцев Уильяма Джонсона на севере и Джона Стюарта на юге, которые отчитывались перед министерством торговли за вторжения белых на земли индейцев[70]. Министерство торговли было неравнодушно к такой информации. Годом ранее оно даже безуспешно пыталось остановить незаконный захват индейских земель. В декабре 1761 года оно взяло в свои руки контроль над землями, находившимися в ведении губернаторов колоний, и запретило им жаловать земли даже внутри колоний, если это нарушало права индейцев. Теперь губернаторам приходилось отправлять все прошения о предоставлении земли министерству, которое, находясь за три тысячи миль, решало, кому дать согласие, а кому отказать[71]. Эти меры не позволили сдержать заселение запада, особенно после поражения французов. К началу весны 1763 года министерство торговли и государственный секретарь Южного департамента, формально контролировавший дела колоний, согласились о необходимости мер (вероятно, в форме королевской прокламации) для сохранения недавно приобретенного запада за индейцами[72]. Индейцы, не знавшие о существовании таких инстанций, как министерство торговли и государственные секретари, понятия не имели об этих благих намерениях. Зато они знали, что генерал Джеффри Амхерст, призванный из запаса в 1763 году, перестал снабжать их, а точнее, перестал пытаться подкупить их раздачей подарков, одеял, тканей, безделушек и инструментов. Они также были в курсе, что, несмотря на усилия армии, белые поселенцы проникали в их земли, а белые торговцы продолжали надувать их при обмене. К маю 1763 года терпение индейцев лопнуло, и они начали кровавое восстание под предводительством вождя племени оттава Понтиака. К июлю они не оставили камня на камне от пограничных поселений в Виргинии, Мэрйленде и Пенсильвании, а также захватили все британские военные гарнизоны к западу от форта Питт, кроме Детройта. Сам форт Питт пережил немало ужасных дней, а его осаду снял полковник Буке после кровопролитного сражения при Буши-Ран. Буке не полагался целиком на регулярных солдат и их ружья — по-видимому, он также пытался распространять среди индейцев оспу. Суперинтенданты по делам индейцев Джонсон и Стюарт использовали более традиционные (и более эффективные) методы: подкуп с целью отделить большинство ирокезов от Понтиака и убедить южные племена сохранять нейтралитет[73]. Новости об этом волнении, получившем название восстание Понтиака, укрепило официальные власти в Британии в их намерении запретить движение американцев на запад. Многие годы американские и сведущие британские чиновники предупреждали, что колонии рискуют развязать войну с индейцами. Теперь, когда это случилось, с официальными мерами нельзя было дольше тянуть. Но без проволочек не обошлось: лишь 7 октября 1763 года кабинет Гренвиля выпустил королевскую прокламацию, закрыв для белых запад Америки между горами Аппалачи и рекой Миссисипи. Этой прокламацией также учреждались три новые колонии: Квебек, Восточная Флорида и Западная Флорида, созданные из французских поселений в долине реки Св. Лаврентия и областей, на которые раньше претендовала Испания и которые достались Британии по мирному соглашению после Семилетней войны[74]. Прокламация не положила конец восстанию Понтиака; этого удалось добиться напряженными усилиями британских солдат и американских ополченцев, хотя бои продолжались до конца 1764 года. Не остановила она и продвижение белого человека на запад. Британские войска периодически пытались запретить эмиграцию, но это лишь вызывало ненависть поселенцев, торговцев мехами и земельных спекулянтов. Так, виргинцы, поселившиеся в долине Канаха почти двадцатью годами ранее и изгнанные восставшими индейцами, требовали, чтобы им дали вернуться на свои фермы. По условиям королевской декларации они не могли этого сделать, и командующие британскими частями старались их сдерживать. Эти фермеры и многие другие первопоселенцы были глубоко возмущены; в конце 1764 года и начале 1765-го сотни из них перешли через горы в Канаху. Другие согласные с ними мужчины и женщины, теперь презрительно относившиеся к британским солдатам, не сумевшим защитить границу, решили игнорировать прокламацию. Результатом этого стала неуклонная миграция в западную Виргинию, Мэриленд, югозападную Пенсильванию, а затем и северо-западную Пенсильванию[75]. Большинство других проблем, более знакомых министрам, сводились, как считал кабинет Гренвиля, к слову «деньги». Это, конечно, сильное упрощение, однако потребность в деньгах играла значительную роль в каждом важном решении, принятом Гренвилем касательно колоний, да и, если на то пошло, другими кабинетами до 1776 года. Один только взгляд на государственный долг в 1763 году заставил бы содрогнуться любого министра. На 5 января 1763 года, согласно счету министерства финансов в Банке Англии, консолидированный долг составлял 122 603 336 фунтов — это была огромная сумма. Более того, годовые проценты составляли 4 409 797 фунтов. Через год долг увеличился почти на семь миллионов, а к январю 1766 года — через шесть месяцев после отставки Гренвиля — еще на семь[76]. Обслуживание долга являлось проблемой, требовавшей немалого внимания, а его (или хотя бы части) погашение временами казалось нереальным. Когда Гренвиль возглавил кабинет, торговля в Британии находилась в упадке, что было следствием окончания войны и сокращения расходов. Введение новых или увеличение существующих налогов не выглядело привлекательным: рядовые англичане уже и так теряли терпение, неся бремя поддержки раздутого правительства и «славной войны». И их легко понять: земля давно облагалась высокими налогами, и облегчения не предвиделось. Землевладелец, конечно, мог считать, что ему повезло; по общему мнению, он являлся одним из избранников божьих. Поэтому, возможно, ему не следовало чересчур возражать, когда его деньги тратились на защиту интересов его страны во всем мире. Но что насчет простого человека, который утешался лишь пивом и табаком? Пиво сильно подорожало во время войны, ведь государство получало от его продажи свыше полумиллиона фунтов в год. Табак тоже приносил деньги в казну, как и многие другие вещи: газеты, сахар, бумага, лен, рекламные объявления. Если бедняков касались не все эти налоги, то их, как и налоги на дома, купчие, должности, бренди и другие крепкие напитки, большинство из которых приносили государству четверть от своей стоимости, остро ощущало джентри и некоторые представители среднего класса. Если человек владел домом, то он платил налог не только на него, но и на каждое окно в нем; если он решал отправиться подышать свежим воздухом в своей карете, возможно, скрываясь от мытарей, то ехал в ней с гнетущей мыслью о том, что эта карета тоже облагается налогом[77]. Англичане обычно спокойно терпели посягательства на их кошельки, хотя к концу войны они иногда возмущались очень сильно, вплоть до протестов. Например, в Эксетере в мае 1763 года, вскоре после подписания мира, прошли демонстрации против налога на сидр, принятого парламентом, несмотря на большое сопротивление. Люди развесили украшенные крепом яблоки над дверьми большинства церквей с надписью «Сбор первых плодов мира». В тот же день по улицам прошла процессия из нескольких тысяч человек: «Возглавлял ее мужчина на осле и с надписью на спине “Избавь нас Бог от акцизы и от лукавого”. На шее осла висело ожерелье из яблок в крепе, а за животным шли тридцать или сорок человек, у каждого из которых в руках был белый прут с нанизанным на него яблоком в крепе. За ними ехала телега с виселицей, на которой болталось чучело лорда Бьюта. Далее следовала бочка сидра, которую несли мужчины в траурных одеждах, и тысячи улюлюкающих и кричащих людей». Чучело Бьюта в итоге сожгли на костре под одобрительные возгласы толпы[78]. Эта демонстрация — одна из многих в сидровых графствах — была симптомом недовольства налогами и показала, чего можно ожидать после их увеличения. Ее посыл не прошел мимо Гренвиля, который в любом случае считал, что войска, расквартированные в Америке для защиты американцев, должны ими же и финансироваться. В парламенте ему возражали немногие, а в министерстве — никто. Однако оставался вопрос, как наилучшим образом вытянуть деньги из американцев, известных своим умением уклоняться от уплаты таможенных пошлин и нежеланием тратиться на собственную оборону. Джордж Гренвиль не собирался взимать с колоний деньги для выплаты гигантского долга правительства или даже процентов по нему. Но он искренне считал, что они должны помогать финансировать войска, призванные защищать их, хотя и не предлагал полностью возложить эту обязанность на американцев. Защита колоний была в интересах империи, а не только американцев, поэтому Британия соглашалась нести свою часть бремени по обеспечению дислоцированных в американской глуши вооруженных сил. Более того, согласно оценкам предполагаемых расходов (более 200 тысяч фунтов в год на двадцать батальонов на континенте и в Вест-Индии), Британии пришлось бы взять на себя основную долю расходов[79]. Кабинет Гренвиля решил ввести некоторые новые налоги для колоний, которые по расчетам экспертов казначейства обещали приносить (всего лишь!) 78 000 фунтов в год. Эту сумму, как утверждало казначейство, можно было получить, сократив старую (запретительную) пошлину на импортируемую в колонии иностранную патоку с шести до трех пенсов за галлон. Казначейство и Гренвиль произвели эти расчеты, основываясь на допущении, что эту новую пошлину получится собирать. Это допущение было очень смелым[80]. Сбор таможенных пошлин в Америке никак нельзя отнести к достижениям Британии в XVIII веке. Не давалось ей и претворение в жизнь многих торговых норм, которые колонисты предпочитали обходить. Гренвиль знал печальную историю таких попыток; министерство торговли, таможня и казначейство докладывали ему постоянно. Старый закон о патоке нарушался, можно сказать, систематически уже тридцать лет. Колониальные торговцы давали взятки сборщикам, чтобы те смотрели сквозь пальцы на то, как они ввозят контрабандную патоку из французской и голландской Вест-Индии. Ее цена в 1763 году составляла примерно пенс за полгаллона, хотя иногда контрабандисты платили меньше, если пользовались труднодоступными портами. Во время войны с Францией и индейцами нарушение законов, регулирующих товарооборот, стало, по-видимому, более частым. Война обычно корежит нормальные стандарты и практики, а что касается торговли, то в этой сфере нормальный порядок вещей даже и без войны предполагал нарушение закона. Американцы заявляли, что у них есть достаточные основания для таких действий: их винокурни в Массачусетсе, Род-Айленде, Нью-Йорке и Филадельфии нуждались в патоке для изготовления рома; фермерам, выращивавшим зерно и скот, а также пекарям и мясникам, перерабатывавшим эти продукты, требовались рынки для их продажи. Британская Вест-Индия не производила (возможно, не могла производить) достаточно патоки, чтобы винокурни не простаивали, ром тек рекой, а торговля била ключом, поэтому колонистам приходилось обращаться к иностранным производителям. Купцы из полдесятка колоний отправляли в Вест-Индию древесину, бочарные клепки, рыбу, говядину, свинину, бекон, лошадей и прочие разнообразные товары в обмен на патоку. После перегонки в ром она потреблялась местными жителями и обменивалась на рыбу, отправлялась в Африку и в другие места. Почти вся эта продукция Новой Англии и средних колоний запрещалась к ввозу в Британию, а пшеница облагалась высокими пошлинами. Закон в этом смысле был кривоват и мог работать лишь за счет сложного обмена в самом сердце колониальной экономики. Закон, вводивший запретительные пошлины на иностранную патоку, приняли по наущению плантаторов из британской Вест-Индии, некоторые из них заседали в парламенте и заставляли считаться со своим богатством[81]. Пренебрежение законом о патоке началось практически сразу же после его принятия в 1733 году. Другие виды нарушений (отправка товаров из запретного перечня в Европу и импорт европейских товаров напрямую в обход Британии) тоже имели место уже в первой половине XVIII века. Война открыла соблазнительные возможности, и несоблюдение законов участилось — за счет взяточничества, мошенничества и коррупции. Британия пыталась остановить эту торговлю, но безуспешно, пока королевский флот не смог выделить достаточное количество кораблей. В 1756 году, когда незаконный обмен товарами участился, губернатор Пенсильвании Роберт Хантер Моррис, полный решимости положить конец торговле филадельфийских купцов с врагом, собственнолично взламывал по ночам местные склады, надеясь обнаружить контрабанду. Через четыре года, в 1760-м, британский флот взял ситуацию под контроль и контрабанда почти прекратилась. В тот год купцы из Филадельфии потеряли тридцать судов с грузом на 100 тысяч фунтов[82]. Меры, применявшиеся для борьбы с контрабандой в годы войны, нельзя было сохранять в мирное время (кроме всего прочего, контрабандисты начали действовать иначе после окончания войны), да и кабинет Гренвиля хотел, чтобы торговля приносила доход для содержания армии в Америке. Вскоре после того как Гренвиль сменил Бьюта, он, прислушавшись к рекомендациям чиновников казначейства, решил, что патоку можно обложить налогом. Однако до проведения соответствующего закона через парламент Гренвиль предпринял некоторые шаги для устрожения таможенного контроля. По совету таможенной комиссии в июле 1763 года он приказал, чтобы сборщики таможенных пошлин отправились в колонии или освободили свои посты. Этот приказ вызвал массовое недовольство сборщиков, большинство из которых жили-поживали в Англии и радовались щедрому жалованью, пока их заместители брали взятки в американских портах. Сборщики предпочитали жить в Англии, а не в американских провинциях, поэтому вполне понятно, что многие из них уволились, не пожелав выполнять свои обязанности за три тысячи миль от дома[83]. Избавившись от бесполезных людей, Гренвиль обратился к главной задаче — продвижению законопроекта через парламент. Это он сделал с легкостью — удивительной оттого, что американцы не были представлены в парламенте, органе, основанном на праве людей признавать налоги, вводимые только своими собственными представителями. Никто не напомнил парламентариям об этом старом праве, когда они принимали акт, вводящий различные сборы, призванные обеспечить существенный доход. Никто не обратил внимания на то, что налоги в Англии всегда являлись даром народа. Закон о доходах 1764 года (или «сахарный закон», как его часто называли) содержал эти слова — традиционную формулировку, которая не вызвала никакой реакции в парламенте. Отсутствие сопротивления в парламенте можно объяснить по-разному, но политический темперамент последнего — самая очевидная и в каком-то смысле самая важная причина. В парламенте лидерами, не занимая никаких должностей, были Ньюкасл и Питт. Они и другие опасались разногласий между собой. Американский вопрос грозил стать яблоком раздора. Кроме того, они (да и вообще вся оппозиция Гренвилю) чувствовали себя измотанными и деморализованными после проигранной его кабинету борьбы вокруг приказов об аресте, закончившейся в феврале 1764 года. Ободренный этой победой, Гренвиль представил сахарный билль, не встретивший даже слабых возражений со стороны оппозиции. К 5 апреля 1764 года он вступил в силу[84]. Если говорить по существу и не формально-юридическим, а простым языком, который был понятен американцам, то Сахарный акт не просто понизил сбор на иностранную патоку до трех пенсов за галлон. Да, это являлось его ключевым положением, но он содержал еще несколько не менее важных. Он вводил другие пошлины, как для регулирования торговли, так и для возврата доходов; в нем перечислялись товары, которые разрешалось поставлять только в Британию, например пиломатериалы, очень ценившиеся в колониальной торговле. Из всех пунктов закона негодование колонистов не в последнюю очередь вызвали те, что предусматривали процедуры для соблюдения и обеспечения выполнения обязательств. Купцам и капитанам кораблей отныне приходилось особенно тщательно составлять декларации и перечислять грузы на борту своих судов. В большинстве случаев они должны были получить соответствующие бумаги до погрузки и разгрузки, в противном случае им грозили обвинения в нарушении закона. Слушания могли проходить в колониальных судах, как это предполагали законы о мореплавании, но не исключался и вариант адмиралтейских судов, что оставлялось на усмотрение чиновников, ответственных за обеспечение таможенного режима. Загвоздка таилась в различиях между этими судами: в колониальных судах дела слушались присяжными из числа колонистов, которые не слишком строго относились к контрабанде и другим подобным нарушениям. Адмиралтейские суды, напротив, проходили без присяжных, а судья, выносивший решение и определявший меру пресечения, являлся королевским назначенцем. Особенно несправедливым (во всяком случае, по мнению колонистов) было то, что в таком суде действовала презумпция виновности предполагаемого нарушителя. Ему самому приходилось доказывать свою невиновность, и даже в случае успеха он обязан был оплатить судебные издержки и не имел права на компенсацию[85]. Эти парламентские законы были приняты в крайне неудачное для колонистов время. Колонии (и, в меньшей степени, Британию) постепенно охватывал экономический спад, начавшийся на закате 1760 годов, когда война подходила к концу. С прекращением боев в Америке количество заказов на продовольствие и снаряжение для королевской армии резко сократилось (с предсказуемыми последствиями для американского бизнеса). Вскоре перемены к худшему ощутили на себе все слои общества, особенно фермеры, которые привыкли продавать урожай военным магазинам. К 1763 году спад уже был очень значительным. Экономические бедствия редко получают рациональное объяснение, и тяготы 1760-х годов вскоре оказались связаны в умах американцев с новыми имперскими мерами, в том числе Сахарным актом и Денежным актом, даже вопреки тому, что первые признаки спада появились до их принятия[86]. Озабоченность экономической ситуацией имела еще одно следствие: она усиливала склонность американцев выражать свои протесты скорее в экономическом, чем в конституционном плане. Хотя среди них находились люди, указывавшие на то, что обложение налогами колонистов органом, в котором они не представлены, нарушает давнее право британских подданных, внимание большинства протестовавших американцев привлекало то, что новая политика ударяет по их кошелькам. (Конечно, еще больше американцев оставались и вовсе безучастны, вероятно, не имея представления о том, что происходит в парламенте и как это влияет на них. Их политическое образование вполне закономерно началось с путаницы непонятных вопросов, приводя к нерешительным и порой беспорядочным или несогласованным действиям.) Даже такой проницательный наблюдатель, как Бенджамин Франклин, не сразу увидел, что предвещают налоговые планы Гренвиля. Франклин равнодушно воспринял слухи о налоге на патоку, дошедшие до Филадельфии в 1763 году. Будучи спокойным и рациональным человеком, Франклин иногда мог приписывать рациональность тем, кто ею не отличался. В ноябре 1763 года он узнал от своего друга Ричарда Джексона (члена парламента и представителя Пенсильвании в Англии), что, вне всякого сомнения, «парламент будет собирать с плантаций 200 000 фунтов в год»[87]. Колониальная торговля, как сообщал Джексон, начнет облагаться налогом, а поскольку остановить парламент не представлялось возможным, он не собирался пытаться это сделать. Но он хотел добиться того, чтобы пошлина на патоку составила полтора пенса за галлон. На эти новости Франклин ответил разумным замечанием («Меня не очень беспокоит то, какие схемы вы придумываете, чтобы на нас заработать») о том, что парламент вряд ли решится сильно обременить американский бизнес, потому что в таком случае пострадал бы и бизнес английский. Франклин оставался уверен в своей правоте несколько месяцев (он не торговал патокой и не занимался производством рома), хотя высказывал мнение, что парламенту следовало бы вводить налоги на предметы роскоши вместо необходимых вещей. Но его успокаивала вера в то, что парламент не станет как-либо мешать английскому предпринимательству, а поскольку «то, что вы получаете от нас в виде налогов, вы теряете в торговле», вероятность введения тяжелых налогов казалась небольшой. К началу лета 1764 года он утратил веру в рациональность английской политики и вскоре присоединился к тем, кто намеревался принудить парламент отменить Сахарный акт. Те колонисты, которых непосредственно коснулся Сахарный акт, относились к парламентским налогам менее терпимо. Однако первоначальная реакция купцов свидетельствует о том, что они не вполне понимали намерения парламента и сомневались, как на них отвечать. По окончании войны с Францией многие купцы наверняка рассчитывали вернуться к старым договоренностям со сборщиками пошлин — вне зависимости от того, какие шаги сделает парламент. Давать взятки было выгоднее, чем платить пошлины, и уж явно лучше, чем совсем оказаться отрезанными от торговли. Без взяток и коррупции сборщику пошлин «приходилось голодать»[88], как едко заметил нелюбимый контрабандистами Томас Хатчинсон. Купцы, ожидавшие, что голодающие сборщики придут к ним с протянутой рукой, как в старые добрые времена, были неприятно шокированы еще до того, как Сахарный акт прошел через парламент. Новые чиновники, отправленные Гренвилем в колонии, дали купцам понять, что возврата к старым порядкам ждать не стоит, и пообещали, что теперь торговые пошлины будут собираться. А военные корабли, присланные к американским берегам для поддержания законов о торговле и мореплавании, исполняли свой долг с устрашающим рвением[89]. Торговать без попустительства таможенников и под надзором недружественного флота в прибрежных водах было трудно, но возможно. Например, патока, ввозившаяся купцами города Провиденс в нарушение Сахарного акта, перегружалась в шаланды и лодки, а затем доставлялась в маленькие бухты рядом с городом. Эту обременительную и рискованную работу приходилось делать ночью. За определенную плату даже подделывались документы на груз, но это тоже было небезопасно. Брауны из Провиденса прибегли к этим способам в 1764 году, что стоило им немало денег и нервов. Казалось, всюду снуют доносчики, готовые в любой момент сообщить таможенникам, что где-то поблизости идет перегрузка или что на судне подложные документы. Некто Уильям Мамфорд из Провиденса («этот трус Уильям Мамфорд», как выразился Николас Браун) в конце весны 1764 года оспаривал законность документов нескольких кораблей, из-за чего тамошние купцы решили заставить его замолчать[90]. Нью-йоркские купцы продемонстрировали, что могут сделать с доносчиком находчивые и влиятельные люди. Этим доносчиком был Джордж Спенсер. Его арестовали за долги, провели по городским улицам, на которых жители швыряли в него мусор, затем посадили в тюрьму и отпустили лишь после того, как он дал обещание уехать из города[91]. Насилие, совершенное против Спенсера, было оправдано законом. Имели место и другие случаи применения насилия, в иных местах, причем в нарушение закона. Сильнее всего от него страдали, кажется, королевские власти в Род-Айленде, потому что его экономика полностью зависела от патоки, производимой в иностранной Вест-Индии. Кроме того, в XVIII веке Род-Айленд все еще славился удивительными экстравагантными персонажами (некоторые называли их дикарями), которые вели свое происхождение от самого начала истории колонии в XVII веке. Каковы бы ни были их корни, родайлендцы то и дело доставляли хлопоты британскому флоту: так, в декабре 1764 года газета Newport Mercury возмущенно сообщала об инциденте, в котором лейтенант отряда, взошедшего на борт колониального судна, заподозренного в контрабанде, заколол шпагой одного из членов экипажа. Из других источников можно узнать, что этого лейтенанта спровоцировали: на него напал матрос с топором, а в ходе завязавшейся драки нескольких мужчин из абордажной команды выбросили за борт[92]. В описанном случае офицер флота подрался с частными лицами, что нельзя назвать беспрецедентным событием для Англии или Америки. Гораздо более сложное и, несомненно, более угрожающее противостояние вспыхнуло в том же году между королевской шхуной «Сент-Джон» и несколькими жителями, шерифом и двумя членами совета (так называлась верхняя палата законодательного выборного органа Род-Айленда). Из подробностей этого столкновения можно упомянуть насильственную вербовку на «Сент-Джон», контрабанду патоки родайлендцами, кражу кур несколькими членами экипажа и яростные стычки между матросами и гражданскими. Развязка этого противостояния произошла, когда шхуна попыталась отплыть от Ньюпорта, а двое советников отдали приказ открыть по ней огонь из установленных в гавани пушек. Этот инцидент был не просто безобразным, а чем-то гораздо худшим, ведь гражданские чиновники приказали начать артиллерийский обстрел корабля военно-морского флота Великобритании[93]. А вот еще более важный эпизод, в котором участвовал Джон Робинсон — сборщик таможенных пошлин в Ньюпорте. Робинсон — один из новых назначенцев в рамках реформы Гренвиля, прибыл сюда в начале 1764 года, и местные купцы сразу же попытались навязать ему соглашение, какое они заключали со сборщиками раньше: 70 тысяч фунтов в год за то, чтобы не обраща+ь внимания на ввоз незаконных грузов. Робинсон, как честный человек, ответил отказом на это щедрое предложение, решив стоять на страже закона. Он вскоре обнаружил, что добиться исполнения закона в местном адмиралтейском суде проблематично, потому что и судья и прокурор, который вел дело, были родайлендцами с множеством дружеских связей. Дружили они и с купцами. В качестве услуги этим важным особам судья назначал слушания в срочном порядке, пока Робинсон был в отъезде, а прокурор попросту не являлся. Судья закрывал дело за отсутствием доказательств. Если же иногда суд все-таки собирался, выносил обвинительный приговор и конфисковывал судно, оно затем продавалось обратно владельцу за бесценок. В конце концов, покупать на аукционах корабли, изъятые у друзей, было бы как-то неприлично[94]. Робинсон считал такое поведение возмутительным, пока однажды в апреле 1765 года не узнал истинный смысл этого слова после конфискации шлюпа «Полли» за то, что в документах не был указан груз патоки. Судно арестовали в Дайтоне (Массачусетс). Робинсон оставил его там под охраной и отправился назад в Ньюпорт, чтобы нанять команду, которая бы привела «Полли» в Ньюпорт для ее принудительного отчуждения. Никто в Дайтоне не соглашался взяться за работу. Более опытному чиновнику это могло бы послужить намеком на то, что от «Полли» можно ждать неприятностей. Пока Робинсон отсутствовал, его планы нарушили «бандиты», снявшие с «Полли» паруса, оснастку, якоря и, конечно же, патоку. Вдобавок они посадили корабль на мель и просверлили дыры в днище. Когда ничего не подозревавшая команда Робинсона прибыла в Дайтон, чтобы увести «Полли» в Ньюпорт, их убедили поискать себе другое занятие. А когда туда приехал сам Робинсон, чтобы проследить за операцией, местный шериф его арестовал, поскольку владелец «Полли» потребовал 3000 фунтов компенсации за поврежденный корабль и похищенный груз. Владелец «Полли» жил в городе Тонтон (Массачусетс) в восьми милях от Дайтона, и Робинсон прошел этот путь пешком под стражей шерифа и под радостные крики толпы. Следующие два дня он провел в тюрьме, потому что никто не хотел вносить за него залог. К тому моменту, как друзья в Ньюпорте узнали о его злоключениях и вызволили чиновника, он был чертовски зол. Робинсон, человек упрямый, честный и не отличавшийся фантазией, тоже порой оступался, хотя и упорно старался работать, как хороший чиновник. Каковы бы ни были его ошибки, его трудно обвинить в пренебрежении законом, как других представителей таможни и особенно флота. Принимая Сахарный акт, парламент не предполагал, что флот начнет арестовывать мелкие суденышки, бороздившие воды каждого порта, перевозя небольшие грузы с одной стороны на другую. Эти лодки (баржи, плоскодонки и прочие) не предназначались для открытого моря и не отходили далеко от берега. Парламент не собирался заставлять их шкиперов заполнять бумаги, составлять перечни товаров. Морские офицеры не понимали намерений парламента или не слишком задумывались о них. Они начали захватывать эти суда на реке Делавэр, в портах Нью-Йорка, Филадельфии, Чарлстона, Провиденса, Ньюпорта — везде, где только могли. Некоторые из них видели в этом законе возможность набить карманы колониальными трофеями; незаконные грузы, которые они захватывали, конфисковывались и продавались, а флот получал свою долю. Имея такой соблазн, командиры флота не желали вникать в тонкости намерений парламентариев или протестовавших колонистов, которых эксплуатировали «на основании закона»[95]. Купцы в колониальных портах, конечно же, мстили и весьма изобретательно портили жизнь флотским. Они старались делать так, чтобы те не могли найти лоцманов, когда их корабли заходили в порт, и предлагали большее жалованье морякам, которых флот надеялся нанять. А когда выдавался шанс, они подстрекали группы людей к тому, чтобы срывать насильственную вербовку и всячески мешать представителям королевских ВМС на берегу[96]. Эти стычки были незначительными и являлись примером организации в мелком масштабе. Торговцы также пытались создавать и более серьезные объединения. Бостонские купцы, несколько лет неформально встречавшиеся еще до этих событий, начали обсуждать общие проблемы ведения бизнеса. В апреле 1763 года, когда до них дошли слухи о расширении пошлин на патоку (за целый год до принятия Сахарного акта), они создали общество по содействию торговле и коммерции и поручили постоянному комитету из пятнадцати членов составить «состояние торговли» — анализ, на основе которого они хотели доказать, что пошлины на патоку наносят ущерб торговле колоний, островам, выращивающим сахарный тростник, и самой Англии. В отчете о состоянии торговли, изобилующем впечатляющей статистикой и торговыми данными, утверждалось, что патока «не вынесет вообще никаких пошлин», так что технический анализ в нем сочетался с предсказанием коммерческой катастрофы[97]. Бостонские купцы отправили нескольких своих представителей для встречи с такими же группами из Сейлема, Марблхеда и Плимута, и довольно скоро все эти ассоциации подали петиции в законодательное собрание штата с просьбой отправить английскому министерству официальный протест против введения пошлин. А в начале следующего года 250 экземпляров «Состояния торговли», выпущенных под названием «Доводы против возобновления Сахарного акта»[98], были отправлены представителю колонии в Англии с приказом распространять их и протестовать против предлагаемых пошлин. Купцы в других колониях тоже не сидели сложа руки в последние месяцы 1763 года. Родайлендцы, прекрасно понимая, каковы будут экономические последствия нового закона, начали действовать самостоятельно, без указки из Бостона. Губернатор Хопкинс, сам занимавшийся торговлей и тесно связанный с предпринимателями города Провиденс, написал «Эссе о торговле в северных колониях Великобритании в Северной Америке», поскольку газеты сочли бостонский документ чрезвычайно важным. Купцы из Провиденса предоставляли дополнительные данные о торговле в Род-Айленде, а губернатор затем составил «Ремонстрацию» против расширения пошлин на патоку, которую легислатура решением специальной сессии отправила в Англию. Купцы города Нью-Йорк встретились в январе 1764 года, призвали законодателей колонии выразить протест, а также связались со своими партнерами в Филадельфии, которые тоже организовались[99]. Эти организации не имелиединой позиции. Большинство из них заостряли внимание на несправедливости Сахарного акта и его потенциально разрушительном воздействии на торговлю. Парламент не осознавал, что Новая Англия и срединные колонии не платили за импорт из Британии, экспортируя товары местного производства. Вместо этого они импортировали патоку из французской Вест-Индии, перегоняли ее в ром, который обменивался на рабов из Африки, представлявших собой товар в сложной торговой цепочке с южными колониями и той же Вест-Индией. Рыба, лошади, мясо и зерно тоже ввозились во французскую и британскую Вест-Индию. Этот обмен приносил не только патоку, но и деньги, «кредит», обычно в форме расписок или векселей, которые использовались в торговле с Британией для оплаты ее товаров: одежды, металлических изделий, чая, мебели, пива и всевозможных предметов первой необходимости и роскоши[100]. Понятно, что колониальные законодательные органы, начавшие посылать петиции и меморандумы осенью 1764 года, тоже беспокоились об экономических последствиях акта. К концу зимы девять из них отправили сообщения в Англию через своих губернаторов и их представителей. Все они утверждали или намекали на то, что парламент злоупотребил своими полномочиями в сфере регулирования торговли. Конечно, британские плантаторы в Вест-Индии выиграли бы от прекращения товарообмена с французской частью островов, но ни метрополии, ни колониям это бы не пошло на пользу[101]. Если по вопросу влияния Сахарного акта на торговлю эти законодательные собрания держались общего мнения, то о связанных с этим правах они говорили с гораздо меньшей уверенностью. Ни одно из них не признавало «право» парламента вводить налог для получения дохода в Америке, но лишь два (Нью-Йорк и Северная Каролина) настойчиво отрицали это право. Генеральная ассамблея Нью-Йорка выражала свое «удивление» тем, что парламент рассматривает такое «новшество», и сообщала о том, что ее избиратели требуют «освобождения от бремени всех налогов, которые они не ввели сами». По ее мнению, такое «освобождение от бремени недобровольных, принудительных налогов должно являться важным принципом всякого свободного государства. Без такого права… не может быть свободы, счастья и безопасности; оно неотделимо от идеи собственности, ибо кто может называть что-то своим, если оно может быть отнято по усмотрению другого? Таким образом, представляется естественным правом человека, что даже завоеванные государства, обязанные периодически платить оговоренную дань, никогда не принимали столь унизительного и удручающего условия нести любое бремя, которое их завоеватель решит возложить на них в будущем. После уплаты дани долг считался погашенным, а все остальное они могли считать своей собственностью». И ньюйоркцы считали ниже своего достоинства просить «об этом освобождении как о привилегии. Они основали его на фундаменте более достойном, прочном и стабильном, они отстаивают его и гордятся им, как своим правом»[102]. Законодатели Северной Каролины тоже противились Сахарному акту, считая его посягательством на их «право» вводить собственные налоги. Возможно, какой-то особенно волевой (и прозорливый) человек приложил руку к этим протестам легислатур Нью-Йорка и Северной Каролины. Ни одна из этих колоний позже не претендовала на лидерство, и эти заявления о правах кажутся некой аномалией. Американцы в конторах и легислатурах если и не были совсем растеряны, то, во всяком случае, плохо представляли себе, с чем столкнулись. Раньше им не приходилось иметь дела с парламентом, решившим обложить их налогами. Они пользовались своими правами, не задумываясь о них[103]. Разумеется, лишь немногие американцы поднялись на борьбу против Сахарного акта. А те, кто это делал (купцы и представители колониальных легислатур), по большей части вполне комфортно чувствовали себя на вершине колониального общества. Время от времени они ощущали поддержку со стороны людей менее влиятельных, чем они сами. Во время кризиса, который вскоре должен был разразиться из-за Акта о гербовом сборе, эти лидеры чаще обращались к таким людям и при этом более пристально изучали их права. Их пример оказался назидательным для тех других — ремесленников, лавочников и всевозможных рабочих. То, что началось наверху, останавливаться там явно не собиралось.4. Кризис, вызванный Актом о гербовом сборе
I
Пока колонисты проводили свои операции против пошлин на патоку, самые вдумчивые из них беспокоились о возможности введения в Америке еще одного налога. Это объяснялось тем, что Джордж Гренвиль 9 марта 1764 года, в день выдвижения предложений о новых пошлинах на патоку, предупредил, что для покрытия государственных расходов, «возможно, потребуется взимать с колоний и плантаций некоторые гербовые сборы»[104]. Гренвиль не слишком распространялся об этой идее, но сказал, что отсрочит принятие необходимых законов, чтобы дать колониям возможность выступить со своими возражениями. Однако эти возражения не должны были включать сомнения в праве парламента облагать колонии налогами: таковое право, по мнению Гренвиля, он имел, и премьер-министр не собирался принимать во внимание противоположные доводы. Еще до окончания года Гренвиль понял, что отказ прислушиваться к такому возражению не утихомирит разгневанных американцев. Впрочем, поначалу, когда слухи о гербовом сборе только начали достигать колоний, американцы не протестовали, а просили больше информации. В доходивших до колоний сообщениях не хватало точности, поскольку они передавались через вторые или третьи уста и звучали весьма расплывчато. Гренвиль сообщил так мало, что его слова не сильно исказились, но на первый взгляд особенно удивительным выглядит то, что он не пожелал сказать больше. К весне начали распространяться слухи о том, что Гренвиль взял паузу, чтобы колонии не только предоставили информацию, но и предложили новую схему налогообложения. Томас Уэйтли — один из секретарей казначейства — упомянул, что Гренвиль, возможно, ждет от Америки идею менее обременительного сбора средств. Агенты Массачусетса и Виргинии написали своим нанимателям, что Гренвиль может предпочесть оставить этот вопрос на усмотрение колоний при том условии, что деньги в итоге будут поступать. Но в отчетах этих лиц, как и в мартовском заявлении Гренвиля, было что-то таинственное и даже нереалистичное: в них не упоминалось ни сумм, ни планов по разделению налогового бремени между колониями (ведь в каждой из них все-таки имелись собственные законодательные власти)[105]. Чтобы прояснить намерения Гренвиля, несколько представителей от колоний попросили его о встрече. Он почтил их своим вниманием 17 мая 1764 года, и они, возможно, ушли от него более умудренными людьми, но дополнительной информации почти не получили. Когда у него попросили копию законопроекта, Гренвиль ответил, что не может ее предоставить, потому что таковой еще не составлен. Когда его спросили, что будет облагаться налогом и в каком размере, он ответил расплывчато в том смысле, что это будут примерно те же товары, что и в Британии, но что о ставках налога пока ничего нельзя сказать, поскольку они не определены. Также Гренвиль не положил конец домыслам о том, что принятие закона откладывается ради того, чтобы позволить колониям предложить альтернативные способы налогообложения. Он ни подтвердил, ни опроверг мысли о том, что готов воспринимать свежие идеи. И все же, несмотря на свою немногословность, ему удалось дать понять, чего он на самом деле хотел: заблаговременного одобрения колониями общей сути предложения. Возражения, которые он вроде бы приветствовал, могли быть приняты лишь после того, как колонии дадут свое согласие. Без сомнения, он бы «самым тщательным образом рассмотрел» их предложения о тех или иных видах налогов, но сам, казалось, был настроен на введение налогов парламентом[106]. Неудивительно, что агентов колоний, а следом и их законодательные собрания все это сбивало с толку. Усугубляло ситуацию и вызывало определенный скептицизм в искренности слов Гренвиля о готовности принять во внимание мнение американцев еще и то, что он не поставил губернаторов колоний в известность о своем решении попросить парламент подготовить Акт о гербовом сборе. Обычно, когда принимались решения, затрагивавшие колонии, государственный секретарь Южного департамента, действующий по распоряжению кабинета министров (или, официально, Тайного совета), передавал новости губернаторам колоний. Традиционно информация распространялась именно так, хотя, конечно, применялись и иные способы. Однако на этот раз Гренвиль отверг привычные процедуры, хотя Томас Уэйтли запрашивал нескольких колониальных чиновников о характере юридических документов, использовавшихся в колониях: эти документы должны были облагаться налогом[107]. Уэйтли имел веские причины, чтобы задавать такие вопросы, поскольку его начальник поручил ему подготовить билль и представить его парламенту. Уэйтли, ставший барристером после Кембриджа и Миддл-Темпла, обладал необходимой квалификацией для составления такого законопроекта. Более того, он был чрезвычайно предан Гренвилю. Невежество министров в вопросах колониальной жизни оказалось настолько вопиющим, что потребовалось проделать большой объем работы. Уэйтли выполнил ее с такой самоотдачей, которая наверняка порадовала Гренвиля. Прежде чем представить кабинету предварительный проект в начале декабря 1764 года, он детально обсудил его со многими департаментами и чиновниками, включая министерство торговли и его сведущего секретаря Джона Паунолла, руководителей таможенного ведомства, а также английский комитет по гербовому сбору. Кроме того, Уэйтли обращался к американским и английским официальным лицам в колониях, хотя здесь его усилия были не столь систематичны. Он консультировался с Джоном Темплом — главным таможенным инспектором по северным колониям — и менее важными чиновниками в Массачусетсе, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Уэйтли также написал как минимум одному влиятельному частному лицу в Америке — Джареду Ингерсоллу в Коннектикуте. Ингерсолл и Темпл хорошо знали колонистов и безуспешно пытались убедить Уэйтли в том, что идея о гербовом сборе для Америки — ошибка. Ингерсолл — прямолинейный янки, очень далекий от радикализма, чрезвычайно откровенно ответил на вопросы Уэйтли о настроениях американцев. Их мысли, писал он в июле 1764 года, «полны самых мрачных предчувствий от этого шага, вследствие чего вы можете догадаться, легко ли будет собирать налог такого рода. Трудно сказать, сколько можно изобрести способов уклонения от уплаты налога, возложенного на страну без согласия ее законодательных органов и противоречащего, по мнению большинства ее жителей, основополагающим принципам их естественных и конституционных прав и свобод». Вторя другим колонистам, Ингерсолл добавлял, что если колонистов попросить обеспечить часть дохода, то они охотно согласятся, но если парламент навяжет им хотя бы умеренный налог, то он не берется предсказать, «каких последствий можно или, точнее, нельзя ожидать»[108]. Уэйтли не ожидал предупреждений о том, что гербовый сбор способен спровоцировать недовольство в Америке, и отмахнулся от них. Гренвиля подобные ответы не могли обеспокоить, хотя ранее он дал понять, что единственный аргумент, к которому он не станет прислушиваться, это сомнение в праве парламента вводить налог, которое высказывали в своих письмах и петициях Ингерсолл и другие. Вообще-то такие доводы были только на руку Гренвилю. Чего достойные парламентарии не терпели, так это утверждений, будто они не вправе осуществить задуманное. Представители колоний в Англии понимали, что если они будут продолжать говорить то, что им поручили американцы, то добьются результата, прямо противоположного желаемому — принятия акта. Но что им оставалось делать? Английские купцы, торговавшие с Америкой, опасались конфликта, набиравшего силу на их глазах, но тоже не решались доказывать правоту колоний и их конституционных доводов[109]. Незадолго до начала сессии парламента в феврале 1765 года уже отчаявшиеся агенты колоний отправили четырех своих коллег встретиться с Гренвилем последний раз. Это была впечатляющая группа: Бенджамин Франклин, успевший прославиться своими экспериментами с электричеством; недавно приехавший из Америки Джаред Ингерссол; Ричард Джексон — член парламента и представитель Коннектикута, Массачусетса и Пенсильвании; и Чарльз Гарт — еще один парламентарий и представитель Южной Каролины, прозорливый и находчивый. Гренвиль принял их благосклонно и почти сразу сказал, что сожалеет о причинении американцам столь больших неудобств, но считает справедливым, чтобы они платили за свою оборону, и не видит лучшего способа, чем налог, введенный парламентом. Представители повторили то, что слышали уже, наверное, все: американцы предпочитают самостоятельно вводить налоги. Ричард Джексон совершенно ясно изложил причину такой позиции: парламентский налог подорвет представительное правительство в Америке. Кормясь за счет парламентского налога, тамошние королевские губернаторы потеряют всякий стимул созывать местные ассамблеи. Гренвиль, конечно же, заявил, что не ставит такой цели, и отверг возможность такого сценария[110]. Примерно в этот момент встречи Гренвиль спросил представителей, могут ли они «договориться о том, какую пропорцию должна будет собирать та или иная колония», если им разрешат собирать деньги через ассамблеи[111]. Этот вопрос был назван бессмысленным, что было в общем-то справедливо[112]. Кабинет Гренвиля сам был ответствен за установление данных пропорций, и для этого в его распоряжении имелся целый год, если, конечно, его действительно интересовал ответ. Из-за сомнений в наличии намерений позволить колониям самостоятельно вводить налог для содержания войск вопрос вполне заслуживал того, чтобы им пренебречь. Гренвиль это прекрасно понимал и наверняка задал вопрос, сколь бы глупым он ни казался, лишь для того, чтобы развеять иллюзорные надежды представителей на то, что они смогут заставить его отклониться от выбранного курса. Убедить Гренвиля отказаться от идеи гербового сбора было не по силам ни представителям колоний, ни кому-либо другому. Шестого февраля 1765 года он внес резолюцию 1764 года на рассмотрение палаты общин. Последовавшие дебаты и голосование показали, что выступать против было бы опрометчиво. Только Уильям Бекфорд на обсуждении в палате общин отрицал право парламента вводить налог, большинство других членов считали его неоспоримым. Гнев против колонистов, посмевших бросить вызов абсолютному суверенитету парламента, был столь всеобщим, что противники предлагаемого налога формулировали свои доводы очень (но, как оказалось, недостаточно) осторожно[113]. Ничто из сказанного не смогло существенно повлиять на голосование. А самая яркая речь в защиту позиции американцев, которую произнес полковник Исаак Барр, пожалуй, даже укрепила парламент в его мнении. Барр разразился своей тирадой в ответ на язвительный выпад Чарльза Тауншенда: «И что же, теперь эти американцы, дети, которых мы взлелеяли заботой, которым потакали так, что они достигли силы и богатства, и которых мы защищали своим оружием, не пожелают внести свою скромную лепту, чтобы облегчить тяжелое бремя, лежащее на наших плечах?»[114] Реакция Барра была очень бурной:Они взращены вашей заботой? Вовсе нет! Это ваше угнетение вытеснило их в Америку. Они бежали от вашей тирании в тогда еще неосвоенную и недружелюбную страну, где им пришлось выдержать самые разные трудности, какие только выпадают на долю человека, в том числе жестокость свирепого врага — самого коварного и, не побоюсь этого слова, самого грозного из всех народов на Земле. И все же, движимые принципами истинной английской свободы, они переносили все тяготы с радостью, ведь у себя на родине они страдали от рук тех, кто бы должен быть их друзьями. Вы считаете, что вы им потакали? Нет, они выросли вопреки вашему пренебрежению. Как только вы начинали заботиться о них, эта забота выражалась в отправке к ним чиновников, чтобы управлять ими. Эти заместители заместителей какого-нибудь члена палаты шпионили за ними, очерняли их действия и не давали им покоя; эти люди своим поведением отвращали от себя сынов свободы; некоторые из них были рады оказаться за границей, чтобы не предстать перед судом в родной стране. Вы защищали их свои оружием? Напротив, они благородно взяли в руки оружие ради вашего блага, проявляя доблесть в неустанной обороне страны, чья земля, даже обагренная кровью, отдавала все свои скромные сбережения для вашего обогащения. Поверьте мне и запомните мои слова: тот же дух свободы, что двигал ими в начале, будет поддерживать их и впредь. Но объяснять это было бы неблагоразумно. Видит Бог, что в этот раз говорить меня заставляет не жар партийных страстей, а искреннее веление сердца[115].Американцы, слушавшие речь полковника Барра, сочли ее «благородной» и смаковали впечатления от первой реакции парламента: члены палаты сидели «некоторое время, совершенно изумленные» и не могли или не хотели произнести ни слова[116]. Но вскоре голос вернулся к парламентариям, и когда Барр и его товарищи разошлись, чтобы не голосовать по предложенному закону, они поддержали налог 245 голосами против 49. Подобные маневры не могли остановить Гренвиля и солидарных с ним общинников. Первое чтение штемпельного билля состоялось 13 февраля, а два дня спустя второе чтение вообще не вызвало разногласий. В этот день, 15 февраля, оппозиция, которой помогали колониальные представители, сделала все, что могла, и потерпела жалкое поражение. Чарльз Гарт предложил петицию, составленную на основе протестов жителей Южной Каролины, в которой обходился стороной вопрос о праве парламента облагать колонии налогом. Лондонский купец сэр Уильям Мередит подал петицию от Виргинии, а Ричард Джексон — сразу несколько от Коннектикута и Массачусетса. В палате общин отказались даже принимать их, заявив, что палата не рассматривает петиции против финансовых законопроектов и, в любом случае, не собирается потворствовать просителям. Это решение подтолкнуло генерала Генри Конвея отметить сложившийся парадокс: в 1764 году палата общин дала колониям время, чтобы подготовить возражения против акта, чтобы в 1765 году отказаться их рассмотреть. Но палату общин не интересовали парадоксы, логика и вообще ничто, кроме принятия закона. После второго чтения сопротивление уже казалось невозможным, и билль легко преодолел третье чтение, а затем, 22 марта, получил одобрение короля[117]. Те члены парламента, которые сопротивлялись принятию Акта о гербовом сборе, сделали все, что от них зависело, и в некоторые моменты выглядели очень достойно, как, например, полковник Барр со своим ответом Чарльзу Тауншенду. Оппозиция выиграла состязание по риторике, но проиграла голосование, то есть именно ту часть парламентского действа, которая имеет значение. Одобрившие акт проголосовали так отчасти из-за раздражения налоговым бременем, которое приходилось нести уже слишком долго, а отчасти в результате убежденности, что справедливость требует от колоний финансово участвовать в обеспечении своей обороны. Их голоса были получены достаточно просто, если верить протоколам дебатов; большинство возражений не стали предметом обсуждения. Палата общин решила очень быстро, и Гренвиль, убедившийся в наличии необходимой поддержки, спокойно позволил оппозиционерам распевать свои грустные песни, а затем протолкнул законопроект с легкостью, граничившей с пренебрежением.
II
Одобрение короля стало последним этапом в продвижении Акта о гербовом сборе, но вскоре он спровоцировал в Америке невиданный кризис. Бунты и волнения лета и осени 1765 года оказались в каком-то смысле самыми интересными особенностями этой истории, но организация протеста и трансформация местной политики под влиянием кризиса имели также большее значение. А самым важным было формирование конституционной позиции колоний — выразительной и свидетельствовавшей о развитии самосознания колонистов. Новости о гербовом сборе достигли колоний в первой половине апреля. Первые полтора месяца колониальная пресса о законе почти ничего не писала, и уж конечно, ни один государственный институт не готов был возглавить оппозицию. Однако в мае официальный орган — палата горожан Виргинии — начал действовать: 31 мая ее члены одобрили ряд резолюций, в которых говорилось, что конституция предоставляет право налогообложения только народу или его представителям и что это право принадлежит виргинцам в силу того факта, что они британские подданные, живущие по британской конституции. Подтекст был очевиден: парламент — орган, в который они не посылали своих представителей, не имел полномочий облагать их налогом[118]. На первый взгляд, это действие не кажется потенциально опасным, но именно таким оно и оказалось. То, что взрыв произошел в Виргинии, было своего рода исторической случайностью или, по крайней мере, событием, в котором случай (или непредвиденные обстоятельства) сыграли необычайно важную роль. Впрочем, случай здесь мог быть всего лишь хитроумным расчетом нескольких политических интриганов, от лица которых выступал Патрик Генри. Генри представил виргинские резолюции в самом конце сессии законодательного собрания после того, как большинство его членов разъехались по домам. Когда Генри взял слово, чтобы предложить свои резолюции, в зале оставалось лишь 39 членов из 116. В 1765 году Патрику Генри было 29 лет. Этот щеголь любил музыку и танцы и привлекал юных леди своей решительностью и шармом. Для столь молодого человека он был очень хорошо известен, поскольку прославился борьбой против платежей англиканским священникам в Виргинии, которая получила название дела Парсона[119]. Дело Парсона началось из-за цены на табак. В середине XVIII века табак занимал в экономике Виргинии доминирующее положение, совершенно немыслимое сегодня. Табак был тогда важнейшей сельскохозяйственной культурой, выращиваемой на плантациях, хотя некоторая диверсификация уже началась. Собранный и высушенный табак отправляли в Англию для продажи или последующей отправки на европейский континент. Большая часть обрабатываемых земель в Виргинии отводилась под табак, над которым от рассвета до заката в поте лица трудились тысячи чернокожих рабов. Плантаторы днем контролировали производство и продажу, а по ночам мечтали о расширении и росте доходов[120]. Векселя, выписанные под хранившийся на местных складах табак, использовались вместо денег, а во многих частных контрактах оговаривалось, что оплата должна производиться табаком, а не деньгами. Правовые акты также иногда требовали оплачивать долги табаком. Например, в соответствии с законом 1748 года англиканскому священнику полагалось получать 17 280 фунтов табака в год. В 1758 году случилась засуха, из-за которой урожай табака оказался очень скудным, так что дефицит взвинтил цены примерно до четырех с половиной пенсов за фунт, что было почти втрое выше обычного. Эта инфляция угрожала интересам должников, которые, конечно же, взяли кредиты, когда табак стоил дешевле. Эти дебиторы (в основном табачные плантаторы) требовали защиты от законодателей Виргинии, и те в ответ приняли акт, согласно которому долги, подлежащие оплате табаком, можно было в течение одного года уплачивать наличными по курсу два пенса за фунт табака, что значительно превышало обычную его цену. Этот закон, получивший название Двухпенсового акта, не был направлен против священников, однако они явно пострадали, ведь их жалованье принято было платить табаком. Этот закон ударил по кошелькам всех кредиторов, но они почти не жаловались, как, впрочем, и большинство священников, но те, что возмущались, делали это очень громко. Не удовлетворившись протестами, они отправили в Англию преподобного Джона Камма с поручением убедить Тайный совет отменить закон. Были проведены слушания, представлены аргументы и переданы петиции, после чего в августе 1759 года Тайный совет аннулировал акт. По мнению виргинцев, это решение было неудачным, в особенности потому, что члены Совета также постановили, что впредь законы, принятые в нарушение предписаний правительства, будут считаться недействительными с самого начала. На практике данное постановление делало самоуправление проблематичным. Духовенство еще больше испортило колонистам настроение, когда отдельные его представители подали судебные иски, требуя в полном размере свое жалованье по прежней ставке в 17 280 фунтов табака, а чрезвычайные обстоятельства, такие как засуха и инфляция, их мало интересовали. Первые два иска, которые слушались в окружных судах колонии, священники проиграли. Третий иск, который подал преподобный Джеймс Мори из округа Луиза, заслушивался в округе Хановер. Суд (по неизвестным причинам) решил в пользу Мори, и теперь присяжные должны были назначить сумму возмещения ущерба. Чтобы помочь присяжным принять справедливое решение, округ нанял Патрика Генри, который выступал в качестве защитника, то есть представлял интересы местных жителей[121]. Поскольку Генри тогда еще не был большим знатоком права, он пренебрег юридическими тонкостями ради блестящего нападения: духовенство, по его словам, являлось врагом колонистов и заслуживало не компенсации, а наказания за то, что начало это дело. В конце концов именно духовенство не пожелало соблюдать закон. Что же касается британского правительства, то оно, аннулировав Двухпенсовый акт, посягнуло на свободу колоний. Апофеозом его выступления стало смелое заявление о том, что «король, отменяя столь благотворные законы, превращается из отца своего народа в тирана и утрачивает всякое право рассчитывать на подчинение подданных»[122]. В этот момент раздались крики «измена!», но председатель суда полковник Джон Генри — отец Патрика, не симпатизировавший священникам и королям, позволил сыну продолжать, даже не сделав замечания. Преподобный Мори, страдая, наблюдал за тем, что присяжные слушали речь, одобрительно покачивая головами. По-видимому, Генри говорил действительно убедительно: присяжные назначили Мори роскошную сумму в один пенни. Это дело прославило Генри на всю Виргинию, но он укрепил свою известность сотнями других эффектных речей. А восхищенные им жители округа Луиза избрали его в палату горожан на специальных выборах, проведенных весной 1765 года. Генри впервые выступил в палате 20 мая, а десять дней спустя этот еще неопытный, но уже знаменитый деятель представил виргинские резолюции. Основные события 30 и 31 мая хорошо известны, но несколько важных аспектов принятия виргинских резолюций не вполне ясны. Неопровержимы два факта: в зале оставались 39 из 116 членов (остальные разъехались по домам), и эти 39 человек приняли пять резолюций (причем отнюдь не единогласно) 30 мая. После этого Генри покинул палату, видимо, удовлетворившись этим достижением. Однако на следующий день пятая резолюция была отменена совсем небольшой остававшейся там группой[123]. Текст первых четырех резолюций напечатан в The Journal of the House of Burgesses:Решено, что первые поселенцы этой королевской колонии и доминиона Виргиния принесли с собой и передали потомкам, а также всем прочим подданным Его Величества с момента заселения вышеуказанной колонии, все свободы, привилегии, права и льготы, которыми когда-либо владели и пользовались жители Великобритании. Решено, что двумя королевскими хартиями, дарованными королем Яковом I, вышеупомянутые колонисты объявлены вправе рассчитывать на все свободы, привилегии и льготы граждан и естественных подданных, во всех отношениях, как если бы они родились и проживали на территории Англии. Решено, что налогообложение народа им самим или им же избранными его представителями, которые знают, какие налоги народ может вынести, и способны предложить самый простой способ их сбора, а также уплачивают их сами в полной мере, является единственной гарантией против чрезмерно обременительного налогообложения и отличительной особенностью британской свободы, без которой древняя конституция не могла бы существовать. Решено, что подданные Его Величества этой его самой старой и верной колонии беспрерывно имели это бесценное право жить по таким законам, уважающим их внутреннюю политику и налогообложение, которые принимаются с их согласия и одобрения их суверена или его представителя; и что данное право никогда ими не утрачивалось и всегда признавалось как королями, так и народом Великобритании[124].Годом ранее состоялось гораздо более многочисленное заседание палаты, в ходе которого были одобрены утверждения примерно такого же характера. Отсюда возникает вопрос, отчего же теперь эти резолюции вызвали столь сильные разногласия? Возможно, ответ связан с составом сторонников резолюций. Патрик Генри был весьма молодым человеком, как и большинство поддерживавших его делегатов. А вот в число его оппонентов входили одни из самых выдающихся членов палаты, например Пейтон Рэндольф, Джон Робинсон, Роберт Картер Николас, Ричард Бланд, Джордж Уайт, которые были старше и, по-видимому, совсем не симпатизировали выскочке из округа Луиза и его молодым сторонникам и не одобряли их подстрекательских речей[125]. И вот мы подходим к речи Генри в поддержку резолюций. Ее копии не сохранилось, но отдельные фрагменты известны, их передал неизвестный французский путешественник, наблюдавший за событиями 30 и 31 мая из вестибюля палаты. Как он рассказывает, Генри начал в возвышенном стиле, заявив, что «в прежние времена на Тарквиния и Юлия нашлись свои Бруты, на Карла нашелся Кромвель, и он нисколько не сомневается, что и сейчас добрый американец встанет на защиту своей страны»[126]. В этот момент Джон Робинсон, спикер палаты, прервал Генри, назвав его речи мятежными. Генри немедленно попросил прощения у Робинсона и всех собравшихся и заверил их, что готов доказывать верность Георгу III «до последней капли крови». Возможно, страсть завела его слишком далеко, сказал он. Страсть и «неравнодушие к гибнущей свободе своей страны». Генри отступил, но не сдался. Между тем определенный эффект уже был достигнут, потому что палата разделилась. Молодые люди отстояли свою точку зрения в четырех резолюциях и успешно протолкнули пятую. Однако в «Журнале» палаты о ней нет ни слова, и установить ее точное содержание вряд ли удастся. Возможно, она звучала примерно так (текст взят из бумаг Генри):
Решено, в силу вышесказанного, что генеральная ассамблея этой колонии имеет исключительное право и полномочие облагать налогами и сборами жителей этой колонии и что всякая попытка наделить такой властью кого-либо, помимо вышеупомянутой генеральной ассамблеи, очевидно способствует разрушению британской и американской свободы[127].Несколько колониальных газет напечатали эту резолюцию, сообщив читателям, что она была принята. Newport Mercury напечатала не только ее, но также шестую (или седьмую) резолюцию:
Решено, что подданные Его Величества, жители этой колонии, не обязаны подчиняться какому-либо закону или указу, призванному обложить их налогом, за исключением законов или указов вышеупомянутой генеральной ассамблеи[128].Newport Mercury, однако, опустила третью резолюцию, вошедшую в журнал палаты. Maryland Gazette напечатала все семь, а большинство других газет приводили тексты шести или семи[129]. Последняя резолюция (шестая в Mercury и седьмая в Maryland Gazette) звучала наиболее грозно и вызвала споры в палате. Французский путешественник настолько заинтересовался происходящим, что записал общий смысл последней резолюции:
Всякий, кто устно или письменно посмеет утверждать, что какой-либо человек или люди, помимо генеральной ассамблеи этой колонии, имеют право вводить налог на ее жителей, будет считаться ВРАГОМ ЭТОЙ КОЛОНИИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА[130].Даже отважные фанатики, остававшиеся в Вильямсбурге в конце мая, не хотели связываться с чем-то настолько опасным, но первые четыре резолюции, без сомнения, отражали преобладающее мнение делегатов, хотя их и смущала инициативность таких молодых людей, как Патрик Генри. Эти последние дни мая обнажили поколенческий раскол в палате, хотя он не был глубоким, а других значительных разногласий в этом органе не наблюдалось. Конечно, имели место различия политические и общественные, однако они не проникли в официальные институты. Разумеется, эти способствующие расколу интересы появились вовсе не в палате горожан. Кстати, там, как и вообще в правительстве и политике Виргинии, доминировал интерес табачных плантаторов — жестких производителей, владевших землей и рабами и поставлявших главный продукт колонии в Англию и на европейский континент. Если палата была едина, то же самое можно сказать и о колонии в целом, потому что эти люди определяли весь курс ее жизни. В колонии существовали разные группы интересов (например, диссентеры на западе, баптисты, пресвитерианцы и методисты), но эти радикалы духа еще не пробились в руководящие ряды. Каждая газета, писавшая о событиях в Виргинии, представляла их еще более вызывающими, чем они были на самом деле. Палата представителей приняла четыре резолюции; в Мэриленде напечатали шесть, а в Род-Айленде — семь. А истории, которые пересказывались в частных письмах и обсуждались в тавернах, в приходах, на городских собраниях и в залах суда, вносили все новые и новые искажения. В них неизменно упоминалась бравада Генри, но не его отступление.
III
Поскольку в Виргинии были сделаны официальные шаги, повсюду нарастало давление, подталкивавшее людей к аналогичным действиям. До конца 1765 года нижние палаты восьми других колоний одобрили резолюции, денонсирующие Акт о гербовом сборе и отказывающие парламенту в праве облагать налогами американские колонии. А в октябре состоялся конгресс против Акта о гербовом сборе, собравший представителей девяти колоний, в ходе которого были приняты аналогичные декларации колониальных прав[131]. Эти заявления отличались ясностью и убедительностью, из чего можно сделать вывод, что в их отношении легко удавалось достичь полного согласия. Вообще почти в каждом случае такая реакция на Акт о гербовом сборе позволяла приобрести политическое преимущество в долговременной борьбе. Там, где локальные противоречия были достаточно глубокими и острыми, акт еще больше усиливал конфликт. Ни один из этих законодательных органов не принял резолюции до осени 1765 года. Большинство из них завершили весенние сессии к тому времени, как появились виргинские резолюции, и ни один из них не смог собраться с силами проявить столь же мощную инициативу. Пример Виргинии, а также летнее общественное оживление помогли им начать активные действия осенью. К началу 1766 года политика большинства колоний уже существенно отличалась от той, что была характерна для них в марте 1765 года, когда принимался Акт о гербовом сборе. Массачусетс (где начались акты насилия и политика сильно трансформировалась) может служить поучительным примером политического противостояния, которое сначала сдерживало протест, а затем (когда он вспыхнул) усугубило конфликт. Действительно, давняя политическая вражда способствовала как минимум одному проявлению необузданного насилия — нападению на дом Томаса Хатчинсона — и общей неприязни к стремлению парламента вводить налоги на колонии. Дело в том, что эти политические разногласия в провинциях давали противникам налогообложения возможность запятнать своих врагов обвинениями едва ли не в измене Америке. Однако поначалу (весной 1765 года) политические раздоры и странный состав альянсов в Массачусетсе вызывали только паралич[132]. Самый серьезный политический раскол в Массачусетсе в 1765 году был связан с начавшимся ранее, еще в 1757 году, противостоянием между Джеймсом Отисом и Томасом Хатчинсоном. Слово «противостояние» для описания конфликта между Отисом и Хатчинсоном, пожалуй, слишком мягкое; они по-настоящему враждовали. Как это до сих пор нередко случается в политике, яблоком раздора послужил политический пост: сначала кресло в губернаторском совете, которого жаждал Джеймс Отис из Барнстейбла, а затем должность верховного судьи, о которой мечтали они оба. Отис надеялся, что в 1757 году палата изберет его в совет, а когда этого не случилось, он обвинил Томаса Хатчинсона. Эти двое и раньше оказывались противниками, например, когда проводились выборы в совет: Отис поддерживал действующего губернатора Томаса Паунолла, который опасался, что Хатчинсон претендует на его место[133]. Отис не придавал большого значения своему разочарованию вплоть до того момента, когда Фрэнсис Бернард сменил Томаса Паунолла на посту губернатора в 1760 году. Колонисты Массачусетса хорошо представляли себе, кто такой Фрэнсис Бернард, еще до того как увидели его своими глазами. Он был весьма типичным для колоний ставленником, назначение которого объяснялось его связями «дома». В его случае влиятельным английским покровителем выступал лорд Баррингтон — родственник Бернарда и секретарь по военным делам. Бернард ранее служил губернатором Нью-Джерси и считал это назначение недостойным своих способностей или, по крайней мере, не отвечающим его финансовым чаяниям. Бернарду требовались деньги, чтобы содержать свою растущую семью; из своего у него имелись разве что амбиции. К сожалению, ему не хватало не только денег, но и ума[134]. Бернард прибыл в колонию с инструкциями приводить в исполнение Сахарный акт, то есть бороться с контрабандистами. Есть причины считать, что он одобрял эти приказы, ведь губернатор получал треть от средств, вырученных от продажи конфискованных товаров. Бернард сразу же показал свой вес, пусть и небольшой, решив остаться в стороне от группировок Отиса и Хатчинсона, чтобы объединить свои интересы с Тингом в палате представителей. Тинг имел определенное влияние в палате, но ни один губернатор не выжил бы без дружбы со сторонниками Отиса или Хатчинсона. Бернард пробыл в Массачусетсе не больше месяца, когда возникла одна из тех ситуаций, от которых у политиков случаются кошмары. Она состояла в необходимости произвести назначение на пост, к которому стремились двое более сильных соперников (Отис и Хатчинсон), — пост верховного судьи, освободившийся после смерти Сэмюэля Сьюэлла. На тот момент пятидесятивосьмилетний Отис являлся спикером палаты и пользовался большим влиянием в ней, а также среди фермеров внутренних колоний. Он утверждал, что Уильям Ширли (губернатор с 1741 по 1756 год) обещал назначить его на этот пост в верховном суде, как только появится вакансия. Вакансия в сентябре открылась, но Фрэнсис Бернард по вполне понятным причинам не чувствовал себя обязанным выполнять обещание Ширли. Разочаровать Джеймса Отиса и его родственников и сторонников означало напрашиваться на неприятности, поэтому Бернард, мечтавший просто о спокойном и выгодном губернаторском сроке, медлил в нерешительности[135]. Кроме Отиса на эту должность претендовал, конечно, только Томас Хатчинсон, которому в 1760 году было 49 лет. Он, как и Отис, происходил из массачусетской семьи. Истэблишмент Массачусетса не считал ее вполне безупречной, ведь одной из ее основательниц являлась прапрабабушка Томаса Энн Хатчинсон — знаменитая антиномистка, которую изгнали из колонии в 1638 году. Томас Хатчинсон не имел духовных пристрастий и вряд ли мог заслужить изгнания: солидный выпускник Гарварда, осторожный и успешный купец и непревзойденный совместитель. Совместителем в Массачусетсе XVIII века не обязательно был священник, владеющий несколькими бенефициями; Хатчинсон собирал государственные должности. В 1760 году он был членом совета, вице-губернатором колонии, командующим Касл-Айленда и судьей по наследственным делам в округе Саффолк. Эти должности приносили ему 400 фунтов стерлингов в год[136]. Большой аппетит Хатчинсона вдохновил его семью следовать его примеру (только такое вдохновение и принималось во внимание в этом клане XVIII века). Его шурин Эндрю Оливер был секретарем провинции, судьей суда общегражданских исков в округе Эссекс и членом совета. Двое других его родственников по браку, Питер Оливер и Бенджамин Линд, являлись судьями верховного суда и советниками. Этот список нетрудно было бы продолжить. Губернатор Бернард, возможно, счел, что оставить без пропитания это прожорливое племя неправильно, но, скорее всего, он думал, что Хатчинсон в качестве верховного судьи будет строже к контрабандистам, чем Отис. Так или иначе в ноябре Бернард назначил Хатчинсона, и борьба началась — борьба с семьей Отис, их сторонниками, включая многих купцов, а также большинством палаты, настроенной против администрации Бернарда — Хатчинсона[137]. Отису не составило труда сплотить вокруг себя врагов администрации, ведь Бернард и местный адмиралтейский суд вели грязную игру, подавляя контрабандистов. По закону конфискованное имущество полагалось делить на три равные части, из которых одну получал губернатор, вторую — чиновники, проводившие изъятие, а третью — провинция. Однако на практике провинция получала свою треть не в полном объеме, потому что из нее платили еще и осведомителям. По справедливости такие расходы следовало бы распределять поровну.Неизвестно, руководствовались ли Отис и поддерживавшие его купцы соображениями справедливости, когда после начала противостояния с администрацией они убедили палату представителей подать иск от провинции с требованием причитавшейся ей полной трети. Это дело тянулось весь 1761 год и оставалось открытым в 1762 году, когда вышестоящий суд во главе с судьей Томасом Хатчинсоном отменил постановление суда низшей инстанции и вынес решение против провинции[138]. Пока слушалось это дело, шел еще один процесс, имевший большое значение для интересов купцов. Он касался распоряжений о содействии — ордеров на обыск, с помощью которых сотрудники таможни приводили в исполнение навигационные акты, накладывая арест на товары, с которых не были уплачены таможенные пошлины. Эти ордеры потеряли силу со смертью Георга П, и их необходимо было продлить. Перед массачусетскими судами встал вопрос о законности распоряжений, отданных судом высшей инстанции. Этот суд не мог претендовать на юрисдикцию канцлерского суда, в рамках которой английский суд казначейства обычно издавал свои распоряжения, ведь он все-таки не мог привлекать к ответственности таможенное ведомство. Оксенбридж Тэчер, представлявший купцов вместе с Джеймсом Отисом-младшим, отметил этот момент в своих осторожных доводах против распоряжений о содействии после того, как Джеремайя Гридли, выступавший от имени таможни, заявил о приоритете нужд государства над личными свободами. Младший Отис пренебрег подобными юридическими тонкостями и апеллировал к конституции: распоряжения о содействии, по его мнению, нарушали основополагающие конституционные принципы, так что даже парламент не имел право их издавать. Томас Хатчинсон сохранял хладнокровие во время этой напряженной схватки и затем, проконсультировавшись с властями в Англии, признал законность распоряжений[139]. Одно противостояние породило другое: стороны обменивались язвительными замечаниями насчет контроля за политическими постами, применения таможенных законов и массы других вопросов. В 1763 году Бернард, безуспешно пытавшийся залечить гноящуюся рану неподходящим средством, предложил Отису-старшему вакантную должность судьи в округе Барнстейбл. Отис согласился и принялся работать в свойственной ему независимой манере. Бернарду больше повезло на следующий год, когда он смог сдержать назревавшее в палате недовольство Сахарным актом[140]. Неудивительно, что «народная» фракция, возглавляемая двумя Отисами, чувствовала себя совершенно подавленной накануне утверждения Акта о гербовом сборе. Когда легислатура собралась в январе 1765 года, всего лишь за месяц до внесения Акта о гербовом сборе в парламент, она обнаружила, что новые разочарования ему сулят не губернатор Бернард или Томас Хатчинсон, а Джеймс Отис-младший. Дело в том, что Отис предпринял одну из его странных перемен курса: сначала он проголосовал за губернаторского ставленника Ричарда Джексона, чем помог тому стать представителем колонии, а затем поддержал назначение Томасу Хатчинсону дополнительного жалованья как верховному судье, хотя успешно сопротивлялся этому тремя годами ранее. Если такое поведение шокировало палату, то следующие действия Отиса потрясли всех, кто его знал. Весной Отис опубликовал два памфлета, которые вроде бы опровергали ту конституционную позицию, которую он выразил прежде в «Правах британских колоний» (1764)[141]. В этих двух новых работах признавалось главенство английского парламента, право парламента облагать колонии налогом и, что наиболее странно, утверждалось, будто бы колонии представлены в парламенте де-юре или даже де-факто. Оцепенение, которое эти аргументы вызвали среди его друзей, возможно, удивило Отиса, который никогда не считал, что он отказался защищать права колоний. И в некотором смысле он был прав. Обе позиции основывались на том допущении, что парламент есть орган, решительно исправляющий собственные ошибки, а именно к этому Отис и призывал его годом ранее в «Правах британских колоний». В то время он искусно обосновывал права колоний, теперь же в статьях 1765 года он несколько скорректировал баланс, указав на верховенство парламента. Для Массачусетса и для палаты допущения Отиса не имели ни малейшего значения. Было похоже, что он обратился в парламентскую ортодоксию, и это его превращение в сторонника английской политики отнюдь не делало его святым в глазах бостонцев; более того, на деле город решил, что он тоже может «поиграть в отрешение», и в мае избиратели проголосовали так, что Отис едва смог попасть в палату. Бостонские газеты, никогда не скупившиеся на резкие суждения, писали, что британское правительство купило Отиса с потрохами. Это обвинение казалось правдоподобным (хотя и не являлось верным), и потрясенный Отис поспешил опровергнуть его в своей статье, которую Boston Gazette напечатала в середине мая. В тот же день Сэмюэль Уотерхаус (таможенный чиновник, писавший для другой газеты) зашел слишком далеко и куснул Отиса эпиграммой под названием «Джеммибуллеро» — пародией на военный марш «Лиллибуллеро». Вот что прочли бостонские избиратели:5. Ответная реакция
I
Американцы за пределами Массачусетса так ловко последовали жестокому бостонскому примеру, что, казалось, ни в каком примере они и не нуждались. Так или иначе выступление в Бостоне стало показательным и привлекло внимание всей Америки. Недовольство Актом о гербовом сборе охватило самые разные слои общества и, как и можно было ожидать, настигло сборщиков налога и их близких. К концу октября почти все распределители гербовых марок отказались своих постов; многие из них опасались за свою жизнь и собственность; из оставшихся двух Уильям Хьюстон из Северной Каролины уволился к 16 ноября, а другой — Джордж Ангус, занимавший должность в Джорджии, — прибыл в Америку лишь в январе 1766 года. Еще до начала событий он сообразил, какая судьба его ждет, незамедлительно принял присягу, передал гербовые бумаги сборщикам таможенных пошлин и покинул колонию[155]. К моменту прибытия Ангуса в Джорджию злоба и недовольство в народе достигли значительных масштабов. Для отмены сборов в ход шли любые меры, но даже простыми угрозами людям удавалось добиться прекращения распространения гербовых бумаг. В крайне редких случаях им приходилось применять силу, чтобы заставить распределителя подать в отставку. Так, Джеймс Макайверс из Нью-Йорка уволился еще до получения им документов и марок. Макайверс был купцом, чей бизнес и имущество находились в городе Нью-Йорке. Работа по сбору налога отвращала его не больше, чем других коллег, однако он не хотел потерять дом и магазин с товарами, которые он оценивал в 20 тысяч фунтов стерлингов. Макайверс боялся разделить судьбу Оливера и 22 августа, через неделю после бостонских беспорядков, уволился. В своем письме к заместителю губернатора он кратко описал свои мотивы: «Поднималась буря, и вскоре она бы меня настигла»[156]. В близлежащем Нью-Джерси Уильям Кокс задержался на несколько дней дольше, до 3 сентября, пока предчувствие надвигающейся бури не убедило его покинуть свой пост. Губернатор Нью-Джерси Уильям Франклин, сын Бенджамина, выразил свое неудовольствие данным поступком Кокса, который, по его мнению, трусливо скрылся без какой-либо веской причины. Губернатор говорил, что Коксу никто не угрожал и не мешал выполнять обязанности. Очевидно, что губернатор не читал газет, в которых говорилось, что Коксу не помешало бы застраховать жилье[157]. Ныо-гэмпширский распределитель марок Джордж Мизерв стал жертвой более прямых угроз и действовал особенно быстро. Когда британский парламент утвердил Акт о гербовом сборе, Мизерв находился в Англии, получил назначение и отправился в плавание домой. Корабль еще не достиг берега, когда Мизерв осознал, какую ошибку он совершил. Сначала лоцман в бостонском порту вручил ему письмо от нескольких джентльменов из Портсмута, в котором они советовали для его же собственной безопасности отказаться от должности перед возвращением в город. А затем толпа людей в Бостоне, убежденная в том, что на борту были гербовые марки, запретила кому-либо сходить на берег. Мизерв проторчал на борту до 10 сентября, пока люди на берегу наконец узнали, что на корабле марок нет. Он уволился еще до того, как оказался на суше, и сообщил об этом местным жителям, которые встретили эту новость с радостью и пронесли его до трактира, где устроили празднование. Конечно, увольнение в Бостоне не имело силы в Нью-Гэмпшире. Во всяком случае, несколькими днями позже его заставили публично отказаться от обязанностей в Портсмуте, а затем проделать это и в третий раз в январе. На публике Мизерв делал то, что от. него требовали, а в частных беседах приписывал все свои несчастья «чертову мятежному настроению», которое охватило народ[158]. Это настроение повсеместно обретало все более жестокие формы. Как и в Массачусетсе, беспорядки принимали особенно серьезный оборот в тех колониях, где уже существовало политическое противостояние и где одна из сторон считалась причастной к Акту о гербовом сборе. Действительно, в нескольких случаях одной из фракций удавалось переложить ответственность за Акт на плечи противников, тем самым обвиняя их в сговоре с министерством с целью покушения на американскую свободу. Томас Хатчинсон испытал на себе последствия данной тактики и сокрушенно высказывался о ее бесчестности. Он, как сторонник парламентского правления, обнаружил, что его противники воспользовались его убеждениями как доказательством поддержки им действий парламента. Хатчинсон был человеком, уважающим тонкости юридических дискуссий; он знал, что можно выступать за сохранение парламентского правления и при этом критиковать закон о гербовых сборах как нецелесообразный. Однако толпа, разграбившая его дом, была, так сказать, весьма грубым инструментом: она или ее лидеры имели к нему старые счеты и были твердо убеждены, что Томас Хатчинсон поспособствовал принятию акта. В Род-Айленде не было своего Тома Хатчинсона, но имел место серьезный политический раскол, обусловивший реакцию на Акт о гербовом сборе. Род-Айленду всегда было свойственно инакомыслие, эта колония всегда служила пристанищем для странных и своенравных личностей или, как говорили некоторые, для «фанатиков и лунатиков», но в канун революции ее политики довольно сильно напоминали других своих американских коллег. Однако условия, в которых они действовали, в других колониях могли вызывать зависть и отвращение, ведь они руководствовались хартией XVII века, утверждавшей создание фактически независимого правительства. Практически все должности оказывались выборными, включая губернаторскую, а чтобы получить право голоса, человеку достаточно было иметь землю, оцененную лишь в 400 фунтов. Это значит, что три четверти взрослого мужского населения при желании могли участвовать в выборах[159]. Власть сосредотачивалась в генеральной ассамблее — двухпалатном законодательном органе, который обычно стоял выше губернатора и суда. Естественно, что контролировать генеральную ассамблею стремились очень многие. К 1750-м годам в Род-Айленде утвердились две фракции, боровшиеся за политическую власть. Провиденс служил штаб-квартирой для фракции Хопкинса, названной так по имени лидера Стивена Хопкинса — быть может, самого талантливого политика колонии. Ньюпорт оказался центром конкурирующей фракции Уорда, также получившей свое имя в честь ее руководителя Сэмюэля Уорда. Сами по себе эти два города тоже соперничали за торговлю и доходы. Провиденс вступил в период бурного роста тридцатью годами ранее и к 1750-м годам принялся соревноваться за экономическое превосходство с Ньюпортом, расположенным от него к югу. По некоторым критериям Провиденс имел более выгодное расположение в сравнении с Ньюпортом: ему подчинялись более обширные близлежащие территории, где производились продукты питания и сырье на экспорт. И так как рынок этих товаров расширялся, то рос и порт, через который они отправлялись. Ньюпорт же располагал лишь землями округа Нарра-гансетт по другую сторону залива. Провиденс имел возможность вести торговлю с югом Массачусетса и Коннектикутом, так же как и с большей частью Род-Айленда. Торговцы из Провиденс даже начали поставлять в Ньюпорт свечи, ром, бочки и канаты. Обе фракции обращались к одним и тем же экономическим группам в городах и на селе: купцам, торговцам, ремесленникам и мелким фермерам, которые все были связаны друг с другом. Таким образом, борьба Уорда и Хопкинса в определенной степени являлась состязанием за экономическое влияние между двумя городами с их сателлитами, которые стремились привести к власти правительство, способное дать им значительные экономические преимущества. Генеральная ассамблея имела право предоставлять производителям монополии; она могла тратить государственные средства на дороги, здания, мосты, маяки и прочие сооружения; она распределяла налоги между городами. И неудивительно, что когда всем заправляли Провиденс и северные города, налоговые счета на юге и в Ньюпорте неуклонно росли, а когда главную роль в законодательном собрании играл Ньюпорт и юг, то несладко приходилось уже Провиденсу и северянам. К тому же контроль над генеральной ассамблеей означал и доступ к политическим трофеям. В середине XVIII века ассамблея назначала более 150 мировых судей, а кроме них в ведение ассамблеи подпадали еще шерифы, некоторые посты в ополчении и другие должности. Такие возможности, дающие политическое и экономическое преимущество, а также наличие одной из самых демократичных конституций способствовали бурному разгулу фракционности. На выборах шла ожесточенная борьба, нередки были случаи с наполнением избирательных урн фальшивыми бюллетенями. Иногда избирателей подкупали голосовать за «верного» кандидата, а некоторых подкупали не голосовать вообще. К примеру, в 1758 году проголосовали только 400 из 600 полноправных граждан в Ньюпорте; «одна треть промолчала, — заметил Эзра Стайлс, — онемев по совету важных друзей»[160]. Сама ассамблея тоже не отличалась порядком: то и дело звучали громкие обвинения, заключались сделки, вспыхивали неприглядные стычки. По всей видимости, большинство жителей Род-Айленда с удовольствием наблюдали за этой политической шумихой; политики же исполняли свои роли воодушевленно, быть может, даже с излишней самоуверенностью. Однако не всем нравились ссоры политиков и явная нестабильность электората. Маленькая, не больше пятнадцати человек, группа в Ньюпорте с презрением относилась к род-айлендскому политическому курсу. Двумя ее самыми заметными участниками были Мартин Говард-младший — выходец из зажиточной семьи, выдающийся юрист, англиканец, человек горделивый и обладающий темпераментом аристократа, присущим только провинциалам, а также доктор Томас Моффат, еще в 1730-е годы переехавший в Ньюпорт, чтобы оказаться поближе к епископу Беркли. Из иных можно упомянуть Джорджа Рома — представителя английского торгового дома; генерального атторнея Огастеса Джонстона и Питера Харрисона — архитектора, спроектировавшего Редвудскую библиотеку и синагогу Туро. Большинство этих мужчин и их сторонников являлись англиканцами и в основном чувствовали особое родство с Англией, а некоторые, казалось, жаждали карьерного роста и приобретения влияния[161]. Эту клику тори, как их нередко называли, объединяла неприязнь к грубой фракционности Род-Айленда, к особенностям политического устройства среди «стада», как именовал его жителей Томас Моффат. Они намеревались изменить это устройство, обеспечив отмену хартии 1663 года, а также склонив парламент к установлению в колонии королевского правления. Об их презрении к хартии красноречиво свидетельствует ее характеристика Мартином Говардом — «не более чем пародия на порядок и власть»[162]. Открыто о своих стремлениях клика тори заявила в письме, опубликованном в газете Newport Mercury 23 апреля 1764 года и подписанном Z.Y. В письме критиковалось народное правительство Род-Айленда и утверждалось, что только парламент способен положить конец позорным беспорядкам партийной и фракционной борьбы. Спустя шесть недель газета по просьбам читателей повторно напечатала текст поручения Карла I архиепископу Лоду, которое в XVII веке давало ему право отменять колониальные хартии. Намек был очевиден: право отменять колониальные хартии имело давнюю историю[163]. В августе в Mercury появился автор О. Z. (неизвестно, почему Говард и Моффат отказались от подписи Z. У.). Письма О. Z. печатались вплоть до марта 1765 года. Он давал советы насчет разведения овец, выращивания в колонии конопли и льна, так как считал это делом гораздо более полезным, чем протесты против Сахарного акта и постоянное оспаривание верховенства парламента. Конопля казалась О. Z. особенно привлекательной, ибо английское правительство поощряло ее производство премиями, намного превышавшими всякие торговые пошлины[164]. Едва ли кого-то в Род-Айленде могли ввести в заблуждение все эти увлекательные темы: было ясно, что реальной целью О. Z. являлась критика правительства хартии. В любом случае, О. Z. в скором времени раскрыл свои намерения и в рассуждении о политике и правительстве поставил в пример Пенсильванию, где законодательное собрание недавно хотело заменить правление крупных собственников на королевское управление. О. Z. не рассказал о другом событии: в октябре приспешники тори, воодушевленные действиями Пенсильвании, отправили Джозефа Харрисона с личным прошением об отмене хартии. В ноябре Мартин Говард также попытался уговорить Бенджамина Франклина (которому он приписывал «близость к влиятельным людям» в английском правительстве) взять на себя роль выразителя этих роялистских интересов[165]. Попытку отмены хартии оказалось не так легко сохранить в тайне в таком небольшом городе, как Ньюпорт. Клика тори выдала свой секрет, открыто одобрив стремление пенсильванцев к королевскому управлению. Скоро об их намерениях стало широко известно, и их деятельность привлекла нежелательное внимание: к сентябрю их заклеймили как «клуб» заговорщиков «против свобод колонии»[166]. Эти обвинения вскоре сделались более конкретными и стали казаться особенно зловещими, когда анонимные авторы в газетах начали ставить в вину клике поддержку Акта о гербовом сборе. 4 ноября 1764 года губернатор Хопкинс уведомил ассамблею о том, что против хартии была отправлена петиция. Несколькими неделями позже губернатор сопроводил свое послание развернутой критикой в «Исследовании прав колоний». В своем «Письме от джентльмена в Галифаксе» Мартин Говард отвечал губернатору прямо, колко и насмешливо, но также предлагал вариант конституции, в которой бы права колонии жестоко урезались. С этого момента типографиям пришлось хорошо смазывать печатные станки, так как памфлеты и эссе полились рекой. Хопкинс опубликовал «Галифакское письмо» в колонках Providence Gazette и получил поддержку от Джеймса Отиса, имевшего родственников в Ньюпорте, в статье под названием «Защита британских колоний от клеветы джентльмена из Галифакса в его письме род-айлендскому другу». Ни один из них не смог остановить Говарда, который выпустил статью «В защиту письма джентльмена из Галифакса», но «Краткие замечания» Отиса на «Защиту клеветы из Галифакса» скатились от обсуждения конституционных вопросов до элементарных оскорблений клики тори. Он называл их «скучной, жалкой, грязной, пакостной кучкой воров, попрошаек и каторжников или их потомков, понаехавшим со всех четырех сторон света сборищем турок, евреев и прочих безбожников, вкупе с горсткой христианских и католических изменников, объединившихся в Ньюпорте в клуб, едва насчитывавший дюжину членов. Вот откуда происходят письма из Галифакса, петиции за изменения формы правления в колонии, клевета на всех добропорядочных колонистов и королевских подданных и прочие злодеяния, на которые способно сердце человека»[167]. К весне 1765 года гнев, направленный на Говарда, Моффата и их друзей не скрывался, а их мотивы — замена хартии королевским правительством с посягательством англичан на колониальные свободы — прояснились. Грубые предположения о том, что эти господа из Ньюпорта каким-то образом стояли за Актом о сахаре и ужесточением правил торговли, убедили многих. По этой причине мысль об их причастности к разработке Акта о гербовом сборе отнюдь не казалась притянутой за уши. Тем не менее, когда весть об акте достигла Ньюпорта, обошлось без насилия, хотя чувства свободолюбивых горожан несомненно были задеты. Их ярость в скором времени должна была себя проявить — но не в связи с Актом о гербовом сборе, а из-за британского военноморского флота. Ранее в том же году началась жестокая принудительная вербовка во флот, что поспособствовало росту недовольства жителей Ньюпорта. Флот нуждался в матросах и был не слишком разборчив в методах. В мае, после череды рейдов, заставивших замереть торговлю, так как суда сторонились Ньюпорта, где их экипажи могли подвергнуться насильственной вербовке, королевский военный корабль «Мейдстоун» неосмотрительно отправил катер в док, где толпа примерно из пятисот человек захватила его и сожгла[168]. В конце июня газета Newport Mercury перепечатала виргинские резолюции, включая две самые сенсационные, которые не были приняты, а там и 14 августа Бостон продемонстрировал всем назидательный пример того, как можно убедить распространителя гербовых марок уйти в отставку. Это был немаловажный урок, и в Ньюпорте его тщательно выучили. И хотя политические волнения в Ньюпорте имели давнюю и, судя по всему, почтенную историю, там не было готовых к восстанию толп, какие собирались на северной или южной окраинах Бостона. В Ньюпорте оппозиция против Акта о гербовом сборе была организована Сэмюэлем Верноном и Уильямом Эллери — купцами, которые проявили себя как находчивые люди, не боявшиеся действовать самостоятельно. Сначала они собирались повесить чучела распространителя марок Огастеса Джонстона, а также Томаса Моффата и Мартина Говарда, по всей вероятности ожидая, что отставка Джонстона не заставит себя долго ждать. Эти планы не удалось сохранить в секрете, и Говард с Моффатом, узнавшие, что их чучела собираются повесить 27 августа, обратились к губернатору Уорду с просьбой предотвратить демонстрацию. Уорд полагал, что все дело сильно раздуто, но все-таки предостерег Вернона и Эллери от дальнейших действий. Однако этих двоих было не так просто отговорить, к тому же они, возможно, уже просто не могли остановить начатую кампанию. Четыре дня спустя Providence Gazette напечатала специальный выпуск, в котором рассказывалось о выступлении городского собрания против Акта о гербовом сборе, а также о том, что Огастес Джонстон пообещал не исполнять свои обязанности против желания народа. На самом деле Джонстон не делал такого заявления, но отказ от него мог сделать его врагом в глазах жителей. Следующие несколько дней Джонстон держал язык за зубами[169]. Двадцать шестого августа, за день до запланированного повешения чучела, Newport Mercury опубликовала подробный отчет о восстании против Эндрю Оливера в Бостоне; там же содержалось заявление Мартина Говарда в защиту свободы мнений — довод, с помощью которого он надеялся предотвратить запланированное выступление. Его аргументы, однако, не достигли своей цели, и следующее утро стало началом четырехдневных беспорядков в Ньюпорте. Демонстрации начались утром во вторник 27 августа с казни чучел на виселице, впопыхах установленной на Куин-стрит рядом с ратушей, где позже в тот же день должна была состояться встреча фригольдеров. На чучелах красовались плакаты с надписями, которые не оставляли сомнений в том, что именно означило это представление. Чучело Джонстона было подписано просто как THESTAMPMAN. Доктору Моффату повезло меньше — плакат на его груди гласил, что он «БЕСЧЕСТНЫЙ, УРОДЛИВЫЙ, ХИТРЫЙ ЯКОБИТ ДОКТОР МЕРФИ»[170]. Этим именем Джеймс Отис назвал его в одном из своих оскорбительных памфлетов, и, судя по всему, оно к нему прилипло. Это не единственное, что было написано на фигуре Моффата, но самым броским элементом, наверное, стал свисающий с его плеча ботинок с выглядывающим оттуда дьяволом, что было явным подражанием бостонцам. На чучеле Говарда тоже имелись надписи, включая и придуманную Отисом: «РАБОЛЕПНЫЙ, КОВАРНЫЙ, БЕСЧЕСТНЫЙ НЕГОДЯЙ И ПАРАЗИТ МАРТИН СКРИБЛЕРИУС»[171]. Но самый ужасный штрих внесли именно местные жители: шеи Говарда и Моффата связывала веревка, на которой висел плакат со следующей надписью: «Мы имеем наследственное неоспоримое право на веревку, а еще мы поддерживали выращивание конопли»[172]. Вернон, Эллери и Роберт Крук (еще один купец), вооруженные дубинками, сторожили эти чучела до позднего вечера, когда толпа, подкреплявшаяся посланными торговцами «обильной крепкой выпивкой и чеширским сыром», собралась и сожгла их после заката[173]. Удостоившиеся этих почестей Джонстон, Говард и Моффат к тому времени уже покинули город, получив предупреждение о грозящей им опасности. В следующие три дня выяснилось, что эти угрозы не были пустыми. В среду, на следующий день после сожжения чучел, Говард, Моффат и Джонстон вернулись в город, но вместе с ними прибыли и новости о бунте против Томаса Хатчинсона в Бостоне. Той ночью в Ньюпорте толпа трижды нападала на дом Говарда (в восемь и в одиннадцать утра и в два часа ночи) и два раза — на дом Моффата. Оба здания постигла участь дома Хатчинсона, и к окончанию погрома от них мало что осталось. Дом Джонстона обошли стороной — он все еще пользовался некоторыми симпатиями в народе, а его друзья вступились за него перед толпой с обещанием, что Джонстон уволится на следующий же день. Следующим утром, в четверг 29 августа, Джонстон вернулся и публично объявил об отставке, однако толпа еще не до конца исчерпала свой порыв. Один из ее активных лидеров, английский моряк Джон Уэббер, хвастался на улицах своей руководящей ролью, а также предпринял слабо завуалированную попытку вымогательства, которая оскорбила его купцов-покровителей. Эти купцы обратились с жалобой на Уэббера к шерифу; заключенный Уэббер был доставлен на королевский корабль «Сигнит» для содержания под стражей. В результате сторонники Уэббера начали угрожать погромом (в особенности купеческим домам и складам), так что купцам пришлось отправить несчастного шерифа вызволять Уэббера с «Сигнита». Вернувшись на улицы Ньюпорта, Уэббер подтвердил свою непокорность возобновлением угроз. Запаниковавшие купцы дали ему денег, чтобы утихомирить, а шериф, к тому времени уже совершенно униженный и загнанный в угол, предложил Уэбберу перемирие. В тот день никто из участников не отправился в постель со спокойной душой. Уэббер встал на рассвете и еще раз пообещал уничтожить своих бывших спонсоров. К этому моменту Огастес Джонстон, теперь уже бывший распределитель марок, но все еще действующий генеральный атторней, вернулся в город. Джонстон всегда отличался смелостью и теперь, несомненно, пребывал в крайнем гневе. Столкнувшись с важно расхаживающим по улице Уэббером и услышав его угрозы, Огастес Джонстон решил проблему Ньюпорта, просто-напросто отправив наглеца за решетку[174]. В Коннектикуте, так же как и в Род-Айленде, политические фракции ухватились за Акт о гербовом сборе как за возможность навредить ненавистным конкурентам. Но тогда как в Род-Айленде группы Уорда и Хопкинса объединились против приспешников тори, которых они воспринимали как угрозу для правительства хартии, в Коннектикуте две фракции решили использовать кризис, чтобы уничтожить друг друга. Эти две фракции иногда называют «новосвет-никами» и «старосветниками»; новосветники поддерживали великое пробуждение 1740-х годов, а старосветники были его противниками. Начало этому противоборству дала религия; изначально новосветники и старосветники не интересовались политикой. Они приобщились к ней постепенно благодаря попыткам утихомирить их энтузиазм и вследствие действия некоторых других факторов[175]. Великое пробуждение,естественно, ужаснуло некоторых солидных горожан, так же как и вдохновило некоторых других. Это было пугающее, даже оглушительное событие: тысячи мужчин, женщин и детей были убеждены, что их вдохновляет Святой Дух; возрожденцы отвергали местных священников как необращенных, из-за чего церкви разделялись, а люди повсеместно впадали в крайности. Почтенные горожане, контролировавшие легислатуру, да и вообще большинство важных ведомств, попытались остановить то, что представлялось им общим помешательством. В 1742 года им удалось протолкнуть статуты, запрещающие деятельность бродячих проповедников, а также делавшие кафедры недоступными для нерукоположенных. В следующем году они отменили давно действовавший статут о религиозной терпимости[176]. Эти действия привели новосветников в замешательство и фактически заставили их начать мыслить в политическом ключе. Разгоревшийся в следующем десятилетии горячий спор в Йельском колледже, противниками в котором стали ректор-новосветник и Первая церковь Нью-Хейвена, заставил их задуматься о политике. Обсуждавшийся в Йеле вопрос был в первую очередь связан с планом Томаса Клэпа, ректора, или главы Йеля, назначить профессора теологии, который должен был проповедовать истинную веру факультету и студентам. Таким образом Йельский колледж превратился бы в церковь, что в глазах Клэпа являлось замечательным обстоятельством, так как преподобный Джозеф Нойес из Первой конгрегационалистской церкви в Нью-Хейвене проповедовал в характерной холодной и пресной манере. Йельский колледж был важным учреждением, и борьба, которая продолжалась до 1756 года, когда Клэпу удалось добиться своего, еще больше разделила колонию[177]. Земля и деньги также послужили расколу. Выпущенная в 1662 году Коннектикутская хартия постановляла, что западной границей колонии должен считаться Тихий океан. Настаивать в 1750-х годах на законности такого рубежа, определенного отчасти в результате характерных для XVII века заблуждений относительно американской географии, было не совсем разумно, что отмечали некоторые жители Коннектикута. Тем не менее в 1754 году была учреждена «Компания Саскуэханны» — организация земельных спекулянтов с экспансионистскими взглядами, которая планировала колонизацию верхней части долины Вайоминг. Одна из проблем компании заключалась в том, что долина Вайоминг являлась частью Пенсильвании. Другая проблема состояла в том, что легислатура критически отнеслась к компании и ее притязаниям[178]. В 1750-х годах члены легислатуры и губернатор были старосвет-никами. Старосветники проживали во всех уголках колонии, но их большинство было сосредоточено в западной ее части и особенно в округе Фэйрфилд. Новосветники тоже распространились довольно широко, но и у них были свои места скопления — в основном в восточных округах Уиндем и Нью-Лондон. Большинство акционеров «Компании Саскуэханны» также жили в восточных графствах и преимущественно являлись новосветниками[179]. Джаред Ингерсолл, распределитель гербовых марок в Коннектикуте, был старосветником, выпускником Йельского колледжа, юристом и в прошлом королевским атторнеем в округе Нью-Хейвен; он также хорошо знал и любил Англию. Он критиковал планы Томаса Клэпа по превращению Йеля в церковь новосветников и выступал против притязаний «Компании Саскуэханны» на долину Вайоминг. Неудивительно, что Джаред Ингерсолл приобрел в колонии вполне определенную репутацию, а новосветники его откровенно ненавидели[180]. Хотя Ингерсолл и предвидел неприятности от Акта о гербовом сборе, он все равно во время своего пребывания в Англии принял должность распределителя гербовых марок. Должно быть, уверенности ему придали первые отклики, поступившие из Америки, после того как там в конце мая 1765 года стало известно о его назначении. Почта доставила Ингерсоллу множество писем из всех городов Коннектикута с просьбами принять на службу местных представителей. Многие из этих писем были написаны в характерной подобострастной манере, например: «Быть признанным достойным для Вашей службы было бы величайшей честью; я бы принял эту любезность с огромной благодарностью… и надеюсь, что в моих силах убедить Вас, насколько это позволяет мое несравнимое с Вашим положение, что я Ваш самый искренний друг и покорнейший слуга»[181]. Вскоре после своего возвращения из Англии, 28 июля, Ингерсолл убедился в том, что все эти «искренние друзья» оказались весьма непостоянны в своем желании содействовать ему. Местное недовольство новыми налогами только начинало выражаться публично, частично спровоцированное виргинскими резолюциями. Конечно, имелись и другие причины: никто не был восторге от обязанности платить налоги, а жители Коннектикута, и без того уже сильно обремененные долгами и просрочившие выплаты на многие тысячи фунтов, содрогались от мысли об очередном требовании. Этим и объясняются выступления против Акта о гербовом сборе и его местного представителя Ингерсолла, ставшего объектом злобных нападок. Старые враги Ингерсолла воспользовались его шатким положением, чтобы расквитаться за прежние обиды. Нафтали Даггетт, йельский профессор теологии и новосветник, нанес ему сокрушительный удар на страницах Connecticut Gazette. Несомненно, что Даггетт ненавидел Акт о гербовом сборе, считая его посягательством на права американцев, но Ингерсолл оказался для него желанной мишенью еще и из-за его борьбы в 1750-х годах за профессорскую кафедру. Даггетт описывал Ингерсолла как человека вероломного, который в оправдание принятия должности распределителя гербовых марок задает такой вопрос: «Но разве не приятнее вам видеть в этой должности вашего собрата, нежели иностранца?» Даггетт заклеймил Джареда Ингерсолла предателем, и когда очередной критик указал на то, что инициалы J. I. также являются инициалами Иуды Искариота, его «предательство» стало казаться еще более достойным порицания[182]. Ингерсолл и несколько его самых стойких друзей отвечали на это, как только могли, однако страсти накалялись. Первое проявление жестокости было связано, похоже, не с Ингерсоллом, а с его помощником, преподобным Натаниэлем Уэльсом из Уиндема. В один из дней после 15 августа толпа окружила дом Уэльса и предостерегла его от поездки в Нью-Хейвен для получения полномочий от Ингерсолла. Уэльс тут же сдался и написал Ингерсоллу, что решил все-таки не занимать пост. Другим представителям этого распределителя повезло меньше, особенно если они упрямились и не желали отказываться от должности. В Нью-Провиденсе толпа угрожала заживо закопать служащего, когда тот отказался уволиться. Они положили этого храбреца в гроб, заколотили крышку и спустили в могилу, после чего стали забрасывать гроб землей; только услышав отвратительный звук падающей на доски земли, он попросил отпустить его и подал в отставку[183]. Основной мишенью толпы, ведомой так называемыми «Сынами свободы», был, конечно, главный злодей Коннектикута — Джаред Ингерсолл. 21 августа «Сыны» повесили его чучело в Норвиче, а на следующий день — в Нью-Лондоне. Уиндем и Лебанон последовали их примеру 26 августа, Лим — 29 августа, а в Вест-Хейвене сожгли «ужасного монстра, двадцатифутового великана, чья голова светилась изнутри»[184]. В Нью-Хейвене, где жил Ингерсолл, никаких чучел не сжигали, но одним сентябрьским вечером толпа окружила его дом, угрожая сносом, если он не согласится уйти с должности. Ингерсолл вышел к толпе и объяснил, что не может этого сделать, пока правительство Коннектикута не примет какую-то определенную сторону; до тех пор он обещал не исполнять своих обязанностей и даже разрешил людям уничтожать присылаемые ему марки. Очевидно, следуя примеру того, как бостонцы обошлись с Эндрю Оливером, толпа обычно как-нибудь связывала чучело Ингерсолла с дьяволом, либо же на таковую связь указывали ораторы на собраниях. Граф Бьют также неизменно упоминался на этих выступлениях, в основном как главный инициатор закона о гербовом сборе. В Нью-Лондоне, например, оратор назвал Питта Моисеем, а сборщика налогов Ингерсолла «зверем, которого граф Бьют прислал сюда, чтобы все перед ним преклонились». Это было путаное, но действенное напоминание о страхе перед антихристом[185]. Бостонские «Сыны» дали пример для подражания: теперь же их коннектикутские последователи ввели собственные новшества. В нескольких городах «Сыны свободы» проводили инсценированные судебные процессы со скрупулезными разбирательствами, напористыми допросами и смехотворными аргументами защиты. В Лиме, например, «Сыны» обвинили «Джареда Марочника» в заговоре с целью «убить и уничтожить собственную мать, Американу»; орудием убийства должна была стать «марка, пришедшая из древних и ныне захваченных Бьютом земель в Европе»[186]. В защиту говорилось, что, поскольку судьба его матери была «совершенно определена, и другого выхода не было, ему лично пришлось стать палачом, ибо таким образом он мог сэкономить восемь процентов от ее состояния, которые иначе прикарманил бы кто-нибудь другой». Конечно же, с такой защитой обвинительный приговор был неизбежен и гласил, что узника следует привязать «позади повозки, провезти по главным улицам города, а также публично высечь плетью на каждом углу и перед каждым домом; затем его надлежало доставить к виселице и вздернуть на высоте 50 футов, пока не наступит смерть». Ингерсолла также заочно судили в Лебаноне[187].II
Пока в Америке нарастало сопротивление, в Англии усиливались настроения как за применение закона, так и за его отмену. Если бы кабинету министров во главе с Гренвилем удалось остаться у власти, то он бы постарался собрать налог во всех колониях, но Джордж Гренвиль был отстранен от должности 10 июля — за три с половиной месяца до вступления акта в законную силу. Гренвиль был вынужден уйти по нескольким причинам. Он стал лично неприемлем для короля после того, как сыграл свою роль в попытке парламента удалить мать короля из регентского совета. Этот совет был составлен на случай болезни короля, чтобы управлять государством до его выздоровления или же — в случае его смерти — до достижения совершеннолетия его наследником. Болезнь сразила Георга III в начале 1765 года (вопреки слухам, он не сошел с ума), и документ, учреждающий совет, был предложен в связи с опасением его скорой кончины. Члены кабинета убеждали короля в том, что палата общин не согласится с включением его матери в совет. Когда билль дошел до членов палаты, имя матери все-таки там значилось, и он был утвержден. Король был смущен, раздражен и винил премьер-министра Джорджа Гренвиля, который на самом деле отказался давать какие-либо рекомендации по поводу назначений в совет. Этот инцидент, а также череда неудачных событий, связанных с Гренвилем, определили решение короля, и он избавился от кабинета, когда представилась возможность[188]. Новое министерство представляло собой очень шаткую конструкцию. У лорда Рокингема, который возглавил его как первый лорд казначейства, имелись сторонники, так называемые виги Рокингема, но они не могли похвастать ни постоянством, ни особым влиянием. Самому Рокингему не хватало опыта, и он был практически беспомощен в парламентских дебатах. Однако хотя его кабинет не отличался замечательными принципами или политикой, у Рокингема, тем не менее, имелись некоторые идеи насчет того, что нужно предпринять в колониях. Более того, он мог спросить совета у Эдмунда Берка — члена парламента от Бристоля и его личного секретаря. И все же трудно было рассчитывать, что этой опоры будет достаточно, чтобы правительство надолго оставалось у власти, а Рокингем — во главе его. Это и стало проблемой двух новых коллег Рокингема, государственных секретарей Конвэя и Графтона, которые хотели, чтобы его место занял Питт. А еще два министра — лорд-канцлер Нортингтон и министр военных дел Баррингтон — являлись «друзьями короля», работавшими еще в предыдущем кабинете. Учитывая все это, сложно представить себе более бесперспективное начало[189]. Не успели виги Рокингема приступить к исполнению своих обязанностей, как на их головы свалилась проблема Америки. Торговля находилась в состоянии упадка долгие месяцы, поскольку американцы сократили потребление британских товаров, пытаясь добиться отмены Сахарного акта, и британские купцы в полной мере испытали на себе, насколько трудно востребовать долги в период экономического кризиса. Эти купцы вскоре заявили о своих проблемах в череде жалоб на торговую и общественную политику. Пока торговцы утирали горькие слезы, приостановивший работу парламент наслаждался летней тишиной, но в октябре даже парламентарии вынуждены были прислушаться, когда до них начали доходить тревожные вести о бесчинствующих толпах бунтарей в Америке. Когда же стали очевидными масштаб беспорядков и их влияние на распределителей гербовых марок, это вызвало негодование. Еще до возобновления работы парламента поведение американцев описывалось словами «измена», «анархия» и «мятеж». А когда в декабре заседания возобновились, многие члены парламента выступили против отмены Акта о гербовом сборе, пребывая, очевидно, в уверенности, что таковая создаст опасный прецедент, способный подорвать британское влияние в колониях. Король разделял их страхи, хотя, казалось, не испытывал гнева по отношению к американцам, возбуждавшего членов парламента. Сообщения о протестах и беспорядках скорее печалили его и наполняли мрачными предчувствиями. Например, он писал министру Конвэю: «Меня все больше и больше огорчают доклады о положении дел в Америке. Невозможно сказать, к чему приведет такое настроение»[190]. В обращении Георга к возобновившему работу парламенту 17 декабря 1765 года почти ничто не выдавало беспокойства. Король, конечно же, не писал свою речь сам: этой деликатной работой занимался кабинет министров, который позаботился о том, чтобы король не сказал чего лишнего, особенно про рост американского сопротивления. Поэтому в его обращении содержалось весьма общее описание ситуации в Америке без конкретных примеров, а лишь со смутными отсылками к «важным вопросам». Палата общин отвечала не более определенно, она могла сдержать свой гнев, но не гнев Гренвиля, речи которого во время этих декабрьских заседаний были очень желчными. Эдмунд Берк, который в личной переписке язвительно назвал Гренвиля «большим дельцом», несколько дней спустя рассказал, что Гренвиль обращался к палате каждый день, добиваясь принятия своей поправки с выражением негодования по поводу бунтов. Палата выслушала его, проголосовала против поправки и 20 декабря прекратила работу для проведения специальных выборов, чтобы заполнить свободные места[191]. Кабинет министров в эти декабрьские дни делал гораздо больше, чем просто вкладывал неопределенные выражения в уста короля и отражал атаки Джорджа Гренвиля. Поскольку кабинет не имел твердой опоры в парламенте и его дальнейшее существование зависело от успешного преодоления кризиса, спровоцированного Актом о гербовом сборе, он стал искать внешней поддержки, а именно поддержки купцов и производителей в городах по всей Англии, переживавших застой в бизнесе. Купцы охотно внимали Рокингему и уже в начале декабря организовали встречу в Лондоне, чтобы спланировать национальную кампанию за отмену акта. При поддержке Рокингема и Берка лондонские купцы сформировали комитет и начали писать друзьям и коллегам, а вскоре и другим подобным комитетам в Англии и Шотландии. Барлоу Трекотик, богатый купец, выросший в Новой Англии, возглавил лондонскую группу и показал себя превосходным руководителем. К концу января 1766 года многие торговцы частным образом написали своим представителям в палате общин, а парламент получил несколько десятков заявлений и петиций от больших групп[192]. Эти призывы были сформулированы так, чтобы не идти вразрез с конституционными принципами. Колонисты с их разговорами о своем представительстве в нем и так уже посягнули на эти принципы; купцы, которые были если и не умнее, то, по крайней мере, осторожнее, больше напирали в своих петициях на благополучие экономики. Сложившаяся ситуация, прогнозировали они, могла только ухудшиться, если ничего не предпринять; лондонский комитет даже предупреждал об угрозе «полного разрыва» торговых связей с Северной Америкой. Все что-то знали о спаде в коммерции; купцы также сообщали о банкротствах, вызванных Сахарным актом и Актом о гербовом сборе, и о трудностях сбора долгов в Америке. Не было никакой точной оценки объема просроченных выплат, но предполагалось, что потери могут достичь нескольких миллионов фунтов стерлингов[193]. Даже с такой мощной поддержкой работы у Рокингема было по горло. Когда парламент вновь собрался 14 января, он и кабинет министров решили попытаться добиться отмены Акта о гербовом сборе. Ранее они уже обдумывали идею о поправках, например, о разрешении каждой отдельной колонии платить налоги в их собственной валюте. Разворачивавшиеся события открыли кабинету глаза на то, что лишь отмена закона способна положить конец беспорядкам в Америке. Учитывая негодование парламента, вызванное мятежами американцев, которые бросали вызов его верховенству, Рокингем решил воспользоваться недовольством английских купцов и производителей. Если бы он смог продемонстрировать, что следствием отказа от отмены спорного закона может стать экономический крах, то у него бы появился неплохой шанс избавить свод законов от Акта о гербовом сборе. Проблема заключалась в том, чтобы решить, как быть с неприятным фактом неповиновения парламенту. Колонии отвергали его верховенство, говоря, что у парламента нет права облагать американцев налогами, поскольку американцы в нем не представлены. Конечно, парламент являлся высшим органом в империи и мог принимать законы, касающиеся колоний. Законотворчество было одним из его основных прав как центра власти, однако это законотворчество не включало в себя права на налогообложение, которое принадлежало представительным органам. Какие бы разграничения между законодательством и налогообложением не проводили колонисты, факт оставался фактом: они посягнули на право, которым парламент всегда дорожил. Как же можно смягчить или, еще лучше, предать забвению этот вызов? И действительно, как, если, к отчаянию Рокингема, эти вопросы поднял сам Уильям Питт, от которого виги Рокингема ждали помощи в решении проблем, но никак не их создания? Питт вступил в дебаты вскоре после их открытия 14 января, причем «вступил» — слишком слабое слово, чтобы описать то, какую сенсацию произвела его речь. Он начал очень тихо, так, что его почти не было слышно, а затем, сказав, что он не слышал королевского обращения, попросил зачитать его вновь. Как и в декабре, кабинет министров подготовил для короля одни лишь туманные речи, чем Питт и воспользовался, чтобы сообщить палате и сидящему рядом с ним Джорджу Гренвилю, что «все основные шаги», сделанные предыдущим кабинетом, «были абсолютно неверны!». Разделавшись с кабинетом Гренвиля, Питт поддержал конституционную борьбу американцев. «Я считаю, — сказал он, — что у этого королевства нет права собирать налоги в колониях. Но в то же время я отстаиваю власть этого королевства над колониями, ее главенство и превосходство, независимо от правительства или законодательства». С точки зрения Питта, американцы имели те же права, что и англичане, были связаны английскими законами и точно так же защищались ее конституцией. И ключевым здесь было право быть облагаемыми налогом только своими представителями. В конце концов налогообложение не являлось «частью исполнительной или законодательной власти». Напротив, «налоги — суть добровольный дар, пожертвование от общин. В законодательстве все три сословия королевства рассматриваются одинаково, но согласование налога с пэрами и короной необходимо лишь для его закрепления в форме закона. Однако сам этот дар предоставляют исключительно общины». После этого Питт спросил, что происходит, когда члены палаты общин принимают налог. Ответ казался ему очевидным: «Мы даем и даруем то, что принадлежит нам». Но что произошло при обложении налогом Америки? «Мы, члены палаты общин Вашего Величества в Великобритании, даем и даруем Вашему Величеству что? Нашу личную собственность? Нет. Мы даем и даруем Вашему Величеству собственность общин Вашего Величества в Америке. Но это бессмыслица». Питт знал, что некоторые англичане, в том числе, возможно, Джордж Гренвиль, предвидели возражение против налогообложения без представительства и настаивали на том, что американцы «фактически представлены» в парламенте. Питт отверг эту точку зрения в нескольких предложениях. Кто представляет американцев в Англии, спрашивал он с насмешкой, рыцари графств, представители боро? Это тоже было бессмыслицей, «самой презренной идеей, которая могла прийти в голову человеку»[194]. В «Истории парламента», где эта речь была напечатана, сказано, что после выступления Питта последовала «продолжительная пауза». Понятно, что членам палаты не хотелось соглашаться с Питтом, но министр Конвей все-таки собрался с духом и признал его правоту, хотя на самом деле имел несколько иное мнение по некоторым вопросам, не связанным с конституционным спором[195]. Палата не желала слушать Конвэя, и он, несомненно, знал об этом. Все ждали Гренвиля, который поднялся, чтобы ответить Питту. Ответ Гренвиля был блестящим с риторической точки зрения и во многом точно отражал сомнения и недовольство палаты. Он начал с осуждения кабинета министров за запоздалое сообщение о восстании в Америке, а затем стал пророчить, что если «доктрина» Питта получит поддержку, то восстание превратится в революцию. После этого он заявил, что «не видит разницы между внешними и внутренними налогами»[196]. Также он не мог понять и разницы между законодательством и налогообложением. Налогообложение, утверждал он, являлось частью суверенной власти и «одной из ветвей законодательства». Более того, налогами облагались и многие из тех, кто не имел своего представительства, например крупные промышленные города. Что же касается Америки, то ни один член палаты не высказался против права парламента взимать налоги с колоний, когда Акт о гербовом сборе был предложен. До этого момента Гренвиль держал свой гнев под контролем, теперь же он начал открыто обвинять неблагодарных американцев, которым империя предоставила военную защиту и экономические привилегии. Защита и подчинение взаимосвязаны. Великобритания защищает Америку; Америка обязана подчиняться. Если это не так, то скажите мне, когда это американцы получили свободу? Когда им нужна защита этого королевства, они без колебаний просят о ней. Мы всегда предоставляли им эту защиту в самой полной мере. Государство взяло на себя огромные долги, чтобы обеспечить им эту защиту, и теперь мы просим у них небольшую плату для покрытия государственных расходов, которые были направлены на них самих, а они отвергают вашу власть, оскорбляют ваших служащих и поднимают, можно сказать, открытое восстание[197]. Гренвиль говорил еще, но именно эти несколько слов задели Питта, который поднялся, едва только Гренвиль закончил. Теперь Питт говорил с небывалым красноречием, чем, вероятно, смог увлечь за собой многих парламентариев, по крайней мере на некоторое время. Однако кое в чем он только усложнил задачу кабинета министров. Питт превозносил американское сопротивление: «Я рад тому, что Америка начала сопротивление. Три миллиона людей, забывших о свободе и добровольно согласившиеся на рабство, стали бы идеальным орудием для того, чтобы превратить в рабов всех остальных». Он также повторно заявил о том, что парламент имеет всю полноту власти для издания законов для колоний. Англия и ее колонии были связаны, и «один неизбежно должен править; больший должен управлять меньшим; но править так, чтобы не нарушать общих для них обоих фундаментальных принципов»[198]. На вопрос Гренвиля «Когда это колонии получили свободу?», Питт кратко ответил: «А мне интересно знать, когда они стали рабами?» Этот ответ развеял всю риторику и ударил точно в цель, которой был главный вопрос о свободе в рамках конституционного строя. Конечно, вооруженные силы могут сокрушить американцев, заметил Питт, но опасности, последующие за их поражением, будут огромны. «Если Америка падет, то падет она, как настоящий боец. Она ухватится за самые столпы государства и рухнет только вместе с конституцией»[199]. Красноречие Питта до такой степени поразило нескольких его слушателей, что в итоге они не вполне поняли, о чем он говорил. Один парламентарий так описал свое впечатление от речи Питта:Похоже, мы все заблуждались насчет конституции, так как мистер Питт утверждает, что наша страна не имеет никакого права облагать внутренним налогом колонии; что они никак не представлены, а следовательно, не подпадают под нашу юрисдикцию в этом вопросе. Однако как метрополия мы можем взимать налоги и регулировать их торговлю, запрещать или ограничивать их производства и делать все, за исключением Акта о гербовом сборе. В своей представительской функции мы взимаем налоги внутри страны, и в своей законодательной функции мы осуществляем все остальные акты власти. Если вы понимаете разницу между представительской и законодательной функцией, то вы разбираетесь в этом лучше меня, но я уверяю вас, то, что я услышал, звучало очень убедительно[200].Возможно, многих Питт привел в замешательство, а некоторые и оскорбились его одобрительным высказыванием в отношении сопротивления колонистов. Рокингем никак не попытался развеять замешательство, но поспешил перевести внимание палаты с зыбучих песков конституционной теории на твердую почву экономики. Между 17 и 27 января были представлены и зачитаны петиции от купцов со всего королевства. В этих петициях приводились экономические доводы против Акта о гербовом сборе: в них описывался упадок торговли, неспособность купцов востребовать долги в Америке; трудности, коснувшиеся всех сословий в Британии, а в некоторых содержались намеки на то, что купцы могут бежать с островов, если добиться отмены не удастся[201]. С этого момента кабинет министров усилил нажим на палату общин. Прежде всего 28 января он убедил ее действовать как комитет всей палаты для обсуждения предложений, которые бы легли в основу программы по противодействию кризису. Эта программа не предполагала никаких уступок Питту, которые бы касались права парламента взимать налоги с колоний. Об этом следовало заявить в первую очередь, если кабинет надеялся добиться отмены акта. По этой причине 3 февраля 1766 года Конвей выдвинул резолюцию, в которой объявлялось, что парламент обладает необходимой полнотой власти для принятия законов, связывающих колонии «тем или иным образом»[202]. Во вступлении к эФой резолюции (которая стала основой для Акта о верховенстве) Конвей объяснял, что хотя право на налогообложение очевидно, в его целесообразности есть сомнения. Имела ли эта резолюция какое-либо значение, учитывая намерение кабинета предложить отмену гербового сбора для Америки? Этот вопрос задал член парламента Ханс Стэнли. Другие явно разделяли его сомнения: декларация, казалось, шла вразрез с идеей об отмене закона. Генеральный атторней Йорк защищал кабинет министров, как только мог, доказывая, что резолюция имеет смысл. В результате она была успешно принята на следующий же день, причем против проголосовали только Питт, который в этих дебатах проявил себя на удивление нерешительно, и еще три или четыре парламентария. В следующие два дня были утверждены две резолюции, в которых заявлялось, что восстания в Америке противозаконны и что они поощрялись американскими законодательными ассамблеями. Люди, получившие травмы или понесшие потери из-за своего стремления подчиниться закону, должны были получить компенсацию от колоний, а также могли рассчитывать на защиту палаты общин, а всем, с кого было взыскано из-за недоступности гербовых бумаг, полагалась компенсация[203]. Эти последние две резолюции были предложены Гренвилем и приняты кабинетом министров. Их одобрение, вероятно, доставило ему удовольствие, хотя у него и так не могло быть никаких заблуждений по поводу того, что палата не собиралась церемониться с колониями. Тем не менее 7 февраля он внес резолюцию с предложением обратиться к королю и уведомить его, что члены палаты общин поддержат его в борьбе за проведение в жизнь Акта о гербовом сборе. И хотя данное предложение оказалось отклонено 274 голосами против 134, спор получился ожесточенным: Гренвиль обвинял кабинет министров в том, что он готов пожертвовать британским суверенитетом ради успокоения колоний. Питт разнес эту резолюцию в пух и прах, продемонстрировав, как выразился Хорас Уолпол, «абсурдность применения акта, который, скорее всего, отменят в ближайшие дни»[204]. Вновь одержав победу над Гренвилем и четко уяснив, что палата общин верит в свое право взимать налоги с колоний, кабинет министров теперь принялся доказывать нецелесообразность введения этого конкретного налога. Петиции, поданные купцами в январе, уже подготовили почву. В один неприятный момент король, казалось, охладел к идее отмены закона, но Рокингем явился к нему и просил поддержки. Король неохотно согласился (но в итоге около пятидесяти его «друзей», почувствовавшие его несогласие с министерством, проголосовали против отмены). Кабинету оставалось лишь восстановить (или установить) в умах депутатов впечатление, будто нации грозит экономический крах, если этот акт не изъять из свода законов. Задача усложнялась тем, что газеты начали жестко критиковать кабинет; эта критика была призвана повлиять скорее на парламент, чем на общественность. Джеймс Скот (духовник графа Сэндвича, скрывавшийся под оригинальным псевдонимом Анти-Сеян) поставил самый трудный вопрос о том, как вообще министерство планирует собирать налоги в Америке, если оно не сумело выиграть борьбу за гербовый сбор?[205] Купцы, собранные Рокингемом перед палатой общин, не особенно помогали ответить на этот вопрос. Однако эти люди с печальными взорами произвели определенное впечатление, когда предстали перед комитетом всей палаты, произнося пафосные речи и описывая всевозможные ужасы, за которыми, если закон не отменить, последуют еще более страшные времена. И дабы убедить палату, что американцы не возражают против налогов в принципе и являются верными подданными, кабинет министров обратился к уважаемому Бенджамину Франклину. Члены кабинета тщательно подготовились (и подготовили Франклина) к этому экзамену, но, поскольку они не могли контролировать этот допрос, больше половины вопросов задали ему сторонники Гренвиля. Франклин выступил блестяще, с терпением и тактом встретив враждебность гренвильской группы, и создал представление об американцах как о лояльных подданных, чрезмерно обремененных налогом, который сильно бьет по их интересам. Он также воспользовался задаваемыми вопросами, чтобы подкрепить опасения парламента о том, что политика Гренвиля породила движение за экономическую независимость в Америке. Отмена же, уверял он палату, напротив, снова подтолкнет американцев к потреблению английских товаров. На вопрос «В чем раньше состояла гордость американцев?» он ответил: «Следовать британской моде и покупать британские товары». А на следующий вопрос «Чем же они гордятся сейчас?» его ответ был таков: «Тем, что донашивают свои старые одежды, пока не смогут приобрести себе новые»[206]. Самые блестящие комментарии Франклин дал, услышав вопрос, как будто сошедший с уст Анти-Сеяна: «Как можно ждать от них впредь уплаты налогов, если им удастся избежать обсуждаемого сбора?» В своем ответе Франклин разграничил внешние и внутренние налоги. Колонии, говорил он палате, возражают только против внутренних налогов; они бы охотно платили Британии торговые пошлины в обмен на защиту королевским военным флотом в открытом море. Франклин знал, что в Англии некоторые отрицали наличие разницы между двумя видами налогов, и напомнил об этом палате в череде метких замечаний в надежде, что «когда-нибудь, возможно, их удастся убедить этими доводами». Кабинет министров дал палате неделю, чтобы рассмотреть эти показания наряду с массовыми свидетельствами купцов, и 21 февраля Конвей представил резолюцию об отмене Акта о гербовом сборе. Именно в этот момент предстояло собрать воедино все аргументы, противопоставленные акту. Конвей успешно справился с этой задачей и не преминул еще раз подтвердить, что хотя кабинет не сомневается в праве парламента облагать колонии налогами, проведение в жизнь закона о гербовом сборе означало бы начало гражданской войну, которая сулила урон торговле и выгоду враждебным странам, таким как Франция и Испания. Наиболее ярых приспешников Гренвиля так и не удалось переубедить, о чем они и заявили. Сам Гренвиль пошел на последнюю отчаянную меру и перебил Конвэя, сказав, что с отменой акта нельзя спешить, так как утром якобы пришли донесения, что южные колонии начали соблюдать закон. Один из слушателей назвал эту попытку Гренвиля «попыткой заволокитить»; а если выражаться менее вежливо, то это был чистейшей воды вымысел. Впрочем, на Конвэя он никак не повлиял, равно как и на отмену акта, которая была утверждена 276 голосами против 168[207]. К началу марта принятые в феврале резолюции были юридически закреплены принятием Акта о верховенстве и в законе об отмене — оба этих документа были утверждены подавляющим большинством голосов 4 марта[208]. Члены палаты общин отправили билли в палату лордов на следующий день. Лорды также заслушали тронные речи в декабре и январе, а среди лордов было несколько таких людей, подобных Джорджу Гренвилю, которые желали выразить свое негодование по поводу «восстаний» в колониях. В своих дебатах лорды безжалостно осуждали американцев, и лишь несколько человек встали на их защиту, утверждая, что у парламента нет права облагать колонии налогами. После того как пар был выпущен, Акт о верховенстве был незамедлительно одобрен; закон об отмене же дождался своего последнего чтения 17 марта, а на следующий день был одобрен королем.
6. Пенни Селдена
I
Мой пенни принадлежит мне настолько же, насколько принадлежат королю его десять пенсов: и если король может постоять за свои десять пенсов, так почему же этого не может сделать Селден? Джон Селден, член парламента во времена его борьбы с Карлом I и ученый-юрист, работы которого использовались противниками короля в XVII веке, был лишь второстепенным героем колониальных интеллектуалов и памфлетистов. В их работах его имя проскальзывало гораздо реже имен Мильтона, Сиднея или Локка, однако его изречение «Мой пенни принадлежит мне настолько же, насколько принадлежат королю его десять пенсов…» часто цитировали во время кризиса, связанного с Актом о гербовом сборе, и не зря, ведь оно хорошо отражало важность собственности в этом кризисе[209]. Озабоченность американцев их имуществом, в частности, их стремление защитить это самое имущество от налогообложения, казалась мелочной, низкой и даже жалкой для революционеров, какими они показали себя в дальнейшем, выступая с лозунгом «Нет налогам без представительства». Их беспокойство об имуществе — по сути, их одержимость им — нельзя игнорировать: они знали, о чем говорили, и действительно в понятии «собственность» они видели не только сущность и цели политического общества, но так же природу и значение свободы самой по себе. И хотя интеллигенция (плантаторы, юристы, священники и все остальные, писавшие о государственной политике) в большинстве своем соглашались, что политическое общество было создано по воле бога, они верили, что его предназначение состояло в сохранении и распоряжении собственностью. Для этого землевладельцы и договорились создать это общество. Данная теория уже давно была предметом политических рассуждений, хотя узнали о ней американцы из «Двух трактатов о правлении» Джона Локка, который использовал слово «собственность» как минимум в двух значениях: в одном оно обозначало «имущество, вещи, земля», а в другом «жизни, свободы и владения»[210]. Владение материальным имуществом являлось результатом труда человека над чем-то — например, возделывание или улучшение земли. Второе значение он, видимо, объяснял тем, что слово «собственность» отражало права человека — его свободу, равенство и его возможность следовать естественному закону. И так же как имущество человека, эти права существуют отдельно от него: человек может их отнять или отказаться от них. Но эти права нельзя отнять без согласия человека, так же как нельзя отобрать его вещественное имущество. Действительно, в понимании Локка рабство появлялось тогда, когда один человек без согласия другого целиком и полностью подчинял себе его личность или собственность. В локковской схеме вещей собственность наделяет человека политической сущностью. Раб не имел никаких политических прав, так как он не мог ничем владеть, и исходя из этого он не мог иметь никакой личной свободы и вещественного имущества. Во время кризиса Акта о гербовом сборе Джонатан Мэйхью, пастор-конгрегационалист в Западной церкви в Бостоне, утверждал, что налог грозит «вечными узами рабства». Он описывал рабство в терминах, выведенных из более узкого определения собственности Локка: рабы — это те, «кто обязан трудиться только ради чужой выгоды. В других словах, плоды их труда вполне законно можно отнять без их согласия или же использовать для любых других целей, если их хозяева так пожелают; раб же должен справедливо понести наказание, если не подчинится этому приказу». Однако определение собственности у Мэйхью шире: он объяснял, что свобода влечет за собой «естественное право на нечто свое». По его мнению, в этом и заключался «общий смысл» колоний[211]. Должно быть, Мэйхью выработал эти утверждения на основе политической практики колоний. В обществе, где большинство семей не могли похвастаться знатным происхождением или родословной (общество было слишком непостоянным для этого), состояние считалась особенно важным. Конечно, значительная его часть приходилась на земельную собственность, но также нельзя было недооценивать и деньги, занятые в торговле. Так или иначе положение в обществе теперь приобретали собственники, а семья, родословная и образование значительно обесценились. Собственность также давала политические права: в каждой колонии для получения права голосовать требовалось иметь недвижимое имущество, а руководящие места среди политиков по общей или даже негласной договоренности принадлежали собственникам. Существовало одно предание, которое настолько проникло в умы образованных людей, что они сами едва ли не чувствовали себя его частью: оно рассказывало о развитии представительных учреждений, которые послужили расширению имущественных прав. В Америке саксонский миф нашел сторонников от Новой Англии до Виргинии, и его пересказывали такие уважаемые люди, как Джонатан Мэйхью и Томас Джефферсон. Согласно этой привлекательной истории, старый саксонский витан, прародитель современного парламента, изначально был представительством английских землевладельцев. Норманны под предводительством Вильгельма Завоевателя разогнали тот парламент, но пару веков спустя он появился вновь — теперь уже как английский парламент, организация землевладельцев. В его современной форме он послужил прообразом для колониальных ассамблей[212]. Когда мы видим политические права и обязанности личности, а также учреждения и цели государства, привязанные к собственности и, в сущности, основанные исключительно на ней, то волнения жителей колоний касательно гербовых сборов становятся вполне понятны. Эти волнения в 1765–1766 годах трансформировались в конституционную позицию, которая оставалась неизменной вплоть до того момента, когда континентальный конгресс объявил о независимости. Во время беспорядков, вызванных Актом о гербовом сборе, американские лидеры еще не размышляли последовательно или систематически о конституционном строе и его возможном распространении на колонии. Они всегда знали, что парламент главенствует над колониями, но не утруждали себя тем, чтобы выяснить значение всех этих громких фраз. В 1765 и 1766 годах они все так же заявляли о своей вере в абсолютное главенство парламента над ними. В самой крайней форме это конституционное положение выразил Джеймс Отис в своем категоричном высказывании: «Власть парламента находится под его собственным контролем, а мы должны подчиняться ему». Это высказывание сделано в трактате «Права британских колоний, утвержденные и доказанные»[213], в котором Отис обосновывал мысль, что парламент не имел права на введение налога в колониях. Американцы не имели представителя в парламенте, и поэтому они не могли дать (или отказать в таковом) свое согласие на введение налога. Само по себе утверждение Отиса о самоконтроле парламента идеально отражало позицию самого парламента, но не позицию большинства колонистов. Да и сам Отис не стремился к тому, чтобы его высказывание толковали в значении справедливости, а не силы. Парламент, рассуждал Отис, мог делать все, что ему вздумается, но не имел на это права. И когда он сбивался с пути, английские исполнительные суды должны были вовремя указать ему верное направление, так же как они сделали это в XVII веке в деле Бонэма, о ходе которого Отис прочитал в«Отчетах» Кока. Он также утверждал, что парламент, со всем своим великодушием, определенно постарался бы исправить свои ошибки — судам нужно было лишь указать на них. Вся эта процедура казалась несколько механической: при такой схеме исполнительным судам стоило лишь указать парламенту на его ошибки, чтобы тот немедля взялся за их исправление. Но сколь бы наивной ни выглядела эта схема, она, по мнению Отиса, могла служить ответом на требования равенства в системе, где вся полнота власти принадлежала парламенту[214]. Это был бы странный для британской конституции курс, и вряд ли он полностью устраивал даже самого Отиса. Несоответствия были очевидны: неконтролируемая власть не сочетается с утверждением о том, что в организованном обществе люди имеют право на политические и гражданские свободы. Конечно, все английские и британские теоретики соглашались с этим требованием свободы. Отис встретил затруднение, как мог: он доказывал, что, несмотря на то что парламент имел неограниченную власть, у нее все же имелись некоторые пределы. В конце концов у жителей колоний оставались их естественные права и их права как британских подданных. Природа служила источником для первого типа прав, но откуда происходили права подданных? Ответ оказался неловок: источником для них служил парламент и общее право. Что, помимо их собственных наилучших побуждений, могло заставить парламентариев воздержаться от нарушения прав, которые они сами приняли для защиты граждан? На этот вопрос Отис ответить не мог. Несмотря на всю запутанность и уязвимость, взгляды Отиса все же развязали довольно важный спор на тему британской конституции. Эта конституция состояла не только из изданных парламентом законов — в нее также входили и некоторые основные законы, данные природой и самим Господом, который оберегал гражданские и политические свободы всех людей, где бы они ни жили. В годы кризиса вокруг Акта о гербовом сборе ни Отис, ни кто-либо еще так и не мог до конца объяснить, в чем состоит основной закон. Однако среди отрывочных упоминаний в газетных статьях, в научных трактатах и в «политических» проповедях можно заметить, что американские теоретики — Отис, Мэйхью, Блэнд, Мур, Картер, Дюлэйни и другие — верили, что существует некий основной конституционный порядок, который ограничивает британский парламент если не в реальной политической власти, то по праву справедливости. Существовало два вида таких не до конца продуманных замечаний: в одних авторы открыто утверждали, что даже у парламента есть пределы, которые он не может пересечь, так как у американцев как подданных Британии еще оставались некоторые основные права и привилегии с тех давних и загадочных времен, когда они решились оставить царство природы ради цивилизованного общества. В других замечаниях авторы осторожно предполагали, что в том случае если свободный человек отличался от раба лишь из-за его независимости от воли другого человека, то ограничения сдерживали возможности всех людей, независимо от их полномочий и социального статуса[215]. Связь между основным законом и реальными институтами защиты (американцы часто приводили два примера: исполнительные суды Отиса и общее право) в те годы еще оставалась неясной. Общее право сопровождало подданного повсюду, но хотя оно вроде бы обеспечивало постоянную защиту, оно могло подвергаться ревизии в судах и в парламенте. Изданные для колоний королевские хартии были куда более основательны, но, несмотря на прямые утверждения о том, что они содержали основные права, включая и право налогообложения исключительно при наличии представительства, было известно, что верховная власть уже отменяла их в прошлом и легко могла сделать это вновь[216]. Тем не менее все эти неопределенности насчет природы конституции не помешали появлению к 1766 году половинчатого конституционализма, трактующего об ограничениях, существующих вне и независимо от парламента. Быть может, суть этих ограничений была не вполне ясна, а об их источниках можно было спорить, но сомнений в их существовании не оставалось. Однако факт остается фактом: американские колонии являлись частью империи, и довод о том, что парламент, как и любой политический орган, имел пределы своей власти, не устанавливал, где начинались и заканчивались допустимые границы его юрисдикции. Провести их оказалось делом чрезвычайно сложным, и первую попытку осуществили колониальные ассамблеи в 1764 году, вскоре после того как им стало известно о возможности введения гербовых сборов. Попытка закончилась неудачей, но привела в замешательство британское правительство. Основное, в чем эти ассамблеи соглашались, — парламент не мог собирать внутренний налог с колоний. Казалось бы, предложение было довольно ясным, но никто и не подозревал о его возможных последствиях. В 1764 году, когда Акт о гербовом сборе находился на стадии разработки, не все ассамблеи выступили с официальными заявлениями (петициями, резолюциями, меморандумами, протестами). Пять из них больше волновал недавно принятый Сахарный акт. Тем не менее все ассамблеи выразили свою тревогу о предложенном Акте о гербовом сборе и объявили о своем несогласии с ним. Нью-йоркская ассамблея оспорила право парламента на налогообложение в трех открытых петициях: к королю, лордам и членам палаты общин. Они выразили свое «удивление» тем, что парламент вообще рассчитывал собирать налоги с колоний, что стало бы «нововведением», которое бы «привело колонии к полнейшему разорению». Таким образом, ассамблея настаивала на освобождении колоний «от бремени всех налогов, за исключением их собственных»[217]. В то же самое время ньюйоркцы заявляли, что не помышляют о независимости, а в доказательство своей преданности и разумности признали право парламента регулировать колониальную торговлю, «дабы содействовать ее интересам». Только палата горожан Виргинии и ее же совет объявили, что у них есть право платить налоги лишь при личном своем согласии. Остальные легислатуры, принимавшие резолюции в 1764 году, выказали меньше решительности. Род-Айленд уклонился от ответа на вопрос о праве парламента получать доходы от обложения колониальной торговли — вместо этого там рассуждали, нарушит ли предложенный Акт о гербовом сборе общепринятые права. Массачусетс выдвинул похожее, хоть и осмотрительно сформулированное требование освобождения от внутренних налогов, но обошел стороной вопрос о внешних. Вопрос этот остался нераскрытым в официальном обращении совета и палаты. На самом деле принятие этого сдержанного документа произошло после жестокого спора двух этих учреждений, и совет под началом Томаса Хатчинсона одержал в нем победу. Изначально палата подготовила протест против сбора налогов с колоний без их согласия, но когда совет не одобрил его, членам палаты пришлось уступить, и они представили более вялый документ, веря в то, что сдержанный протест все же лучше, чем отсутствие протеста вообще[218]. Только легислатура Коннектикута в некоторых из официальных заявлений согласилась с правом парламента получать доход в Америке. Коннектикутское заявление составил комитет, членами которого являлись Джаред Ингерсолл и губернатор Томас Фитч. Данное заявление опубликовали в виде памфлета под названием «Причины того, почему британские колонии не следует облагать внутренними налогами»[219]. В нем местные законодатели составили одну из первых версий разделения юрисдикций, которые, по их мнению, действовали внутри империи. Эти юрисдикции были «внутренними» и «внешними», если рассматривать их со стороны колоний, и внутри колоний только легислатуры имели право издавать законы и собирать налоги, а парламент не имел полномочий собирать в колониях внутренние налоги. С другой стороны, законодательство в сфере торговли и зарубежных отношений несомненно находилось в юрисдикции парламента. Однако «обширный и исключительный» характер этой юрисдикции произвел такое впечатление на коннектикутские законодательные учреждения, что они просто не смогли отказать парламенту в праве получать доход от торговых пошлин. Более того, они даже осмелились указать два товара, которые следует ими обкладывать: негров и меха (и то и другое в местных портах появлялось довольно редко). С таким делом парламент может управиться и без посягательств на права колонистов, ведь эти самые права гарантировали, что «никакой закон, включая статуты о налогообложении, не может быть принят или отменен без согласия народа, выраженного через его представителя»[220]. С колебаниями было покончено в 1765 году, когда упомянутые пять и еще четыре колонии безоговорочно отвергли право парламента получать какие-либо доходы за счет введения налогов в Америке. Дорогу, конечно же, проторили виргинские резолюции; их выраженное неприятие притязаний парламента вдохновило другие колониальные ассамблеи. В определенном смысле самое впечатляющее выступление из всех произошло в октябре 1765 года на конгрессе по вопросам гербового сбора в Нью-Йорке. Там собрались делегаты колониальных ассамблей Массачусетса, Коннектикута, Род-Айленда, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэра, Мэриленда и Южной Каролины, принявшие резолюции и петиции, адресованные королю, палате лордов и палате общин — все они отвергали любое требование парламента о налогообложении колоний[221]. Но ни этот конгресс, ни ассамблеи не утверждали, что парламент не имеет власти над колониями. Более того, конгресс начался с заявления о том, «что колониальные поданные Его Величества настолько же верны британской короне, насколько верны ей ее коренные подданные, и должным образом подчиняются наивысшему органу государства — британскому парламенту»[222]. Мэриленд упомянул свою долгую историю самоуправления и особенно отметил право его граждан выражать свое мнение касательно мер налогообложения и «внутреннего устройства». Так они пытались намекнуть на то, что в сфере «внешней» политики парламент мог издавать законы для колоний. Позже это стало означать право осуществлять такие действия, включая введение законов, затрагивающих общие для всей империи интересы, самым важным из которых был, конечно, вопрос о торговле между колониями и Великобританией[223]. Так как в это время колонисты были увлечены противостоянием парламенту, оспаривая его право вводить налоги, то они не могли до конца продумать, к чему могут привести их идеи о раздельных, то есть внутренних и внешних, юрисдикциях. В любом случае, дело это было невообразимо трудное, и законодатели даже не попытались разобрать его тщательным образом. Они сконцентрировались на первоочередном вопросе — налогах, не обсуждая прочие, более общие обстоятельства, возможно, из опасения отвлечь внимание от того, что казалось им наиважнейшим. Памфлетисты осмеливались на большее, возможно, оттого что меньше могли потерять, но даже они скользили по поверхности. Эта «неофициальная» позиция колоний излагалась яснее в том случае, когда вопрос касался внутренней сферы, но не внешней. Она гласила, что поскольку жители колоний, как и англичане, от рождения являлись свободными людьми (заявление с локковским подтекстом), то они подчиняются лишь тем законам, которые были приняты с их согласия. Более того, их права подтвердил сам король — через различные хартии, изданные для колоний. И хотя эти хартии расширяли и дополняли эти права, не они давали им полноценную основу. Жители колоний были англичанами, а англичане подчинялись власти лишь с их собственного согласия, данного от лица их представителя. Колониальных писателей куда меньше интересовало, почему жизнь колоний должна регулироваться парламентом или из чего состояла внешняя сфера. Каждый трактат утверждал, что жители колоний должны подчиняться парламенту, так как они являлись подданными Англии. Исходя из этого все подданные Англии находились под властью парламента. Право парламента регулировать торговлю казалось не менее ясным, по утверждению Стивена Хопкинса, это был вопрос «необходимости». Англия была центром империи, а колонии — ее составными частями. Кто-то должен был собрать все это воедино, кто-то должен был принять руководство над торговлей, взяться за решение вопросов, представляющих всеобщий интерес, и парламент казался единственной организацией, способной на это[224].II
В этих абстракциях конституционализма и политической теории чувствуется привкус пустоты, безликости: сами по себе они кажутся плоскими и сухими, словно в них нет ни капли человеческих чувств или переживаний. Когда мы видим такие слова, как «права», «главенство» и «представительство», мы должны напоминать себе, что они имеют отношение к людям — причем именно тогда, во времена противостояния XVIII века, они были связаны с людьми больше чем когда-либо. Во времена споров о гербовых сборах эти слова практически потеряли свое значение — по большей части они стали лишь прикрытием для затаенных страхов и волнений. Страхи и волнения появились на почве распространенного убеждения в существовании некоего заговора с целью отобрать у американцев их свободы, а затем и вовсе обратить их в рабство. Акт же о гербовом сборе был только «первым шагом к тому, чтобы навеки заковать нас в рабские цепи»[225]. Такие взгляды были широко распространены, и их уже не нужно было пропагандировать: практически каждый лидер колоний, будь он министром, купцом, юристом или плантатором, рассуждал об этом со всех возможных точек зрения. Например, Джон Адамс в своих личных записях назвал Акт о гербовом сборе «гигантским двигателем, созданным британским парламентом для уничтожения всех американских прав и свобод»; Стивен Джонсон, пастор из города Лайм в Коннектикуте, анонимно писал в New London Gazette, что акт был принят для того, чтобы принудить колонистов к «рабскому непротивлению и смиренному подчинению»; Эндрю Элиот рассказывал Томасу Холлису в Англии о заговоре против колоний, в котором Акт о гербовом сборе должен был послужить орудием их порабощения; Ландон Картер, крупный виргинский плантатор, нападал на акт на страницах Virginia Gazette, где назвал его «первой поработительной резолюцией». Такие обвинения были типичны для сотен других людей, и все они в той или иной мере были наполнены злобой и яростью, но отнюдь не страхом и подозрениями[226]. Эти обвинения приобретали зловещий характер из-за туманных подробностей заговора. Само собой, всех волновал вопрос: кто же устроил этот заговор? Министерство составило статут, парламент принял его, а король дал свое согласие. Сговорились ли они? Объединились ли они против американских колоний? Никто не предлагал такого варианта, ведь все считали короля «лучшим в мире», а американцы были его верными подданными, никогда не устававшими доказывать свою верность. Парламент, со своей стороны, послужил образцом их собственных представительских ассамблей. Вот только кабинет министров не вызывал у американцев подобного восхищения. Во время нападений на распределителей гербовых марок один из министров удостоился небывалого прежде количества оскорблений. Тем министром, конечно же, был Джордж Гренвиль, за спиной которого скрывался граф Бьют на пару со своим вечным товарищем, министром без портфеля — дьяволом. Памфлетисты, доводя это до сведения читателей, не отказывали себе и в удовольствии предъявить обвинение всему кабинету министров — алчному, честолюбивому, жадному до власти. Дальше заходили только немногие, скажем, Джонатан Мэйхыо в список заговорщиков все-таки включил короля и парламент. Идея заговора казалась более масштабным умыслом, нежели идея о порабощении Америки, ведь в таком случае заговорщики стремились отнять свободу и у Британии, и у Америки. Большинство американских авторов сходились во мнении, что вообще-то кабинет министров преуспел в этом пагубном намерении в Англии больше, чем в Америке[227]. У темы были и вариации. Отчаянно негодовали протестанты: присутствие католиков в Канаде, казалось, не предвещало ничего хорошего — росло убеждение, что угроза гражданской свободе в виде неконституционного налогообложения отчасти была создана папистскими происками против протестантов. В Новой Англии и отчасти в Нью-Йорке этот страх вылился в слухи, сплетни и мрачные истории о намерении англиканской церкви прислать в Америку епископа. Эти истории получили подкрепление, когда Общество распространения Евангелия основало миссию в Бостоне — после этого печать разразилась памфлетной кампанией, которая продолжалась еще долгое время и после отмены Акта о гербовом сборе. И даже после того как агитация против акта пошла на убыль, даже когда уже праздновалась его отмена — все еще распространялся слух, что «офранцуженная» католическая партия в Англии разработала акт в интересах Бурбонов и католической церкви[228]. Конечно, один-единственный акт, инспирированный кабинетом министров, не смог бы мгновенно лишить американцев свободы. По мнению американских авторов, Акт о гербовом сборе был лишь видимой стороной этого мрачного умысла. Но после принятия такого акта кто бы гарантировал жителям колоний, что налогами не будут обложены их земли, дома, окна их домов, воздух, которым они дышат? Люди, «фактически представленные» в парламенте, теряли всякую возможность выбора, прими они однажды эту губительную доктрину, которая в реальности оказывалась кандалами для рабов. И конечно, множество алчных англичан непременно пожелали бы исполнить роли рабовладельцев. В рассказах о заговоре всегда присутствовали пространные описания чиновников, надсмотрщиков, нахлебников, готовых потоком обрушиться на жителей колоний под прикрытием службы Его Величеству, в действительности же для уничтожения самого существования колоний. Начатое же ими разложение привело бы колонии к окончательному краху[229]. Почему же естественные опасения превратились в едва ли не параноидальный бред о тайных умыслах и зловещих заговорах против колониальных свобод? Только в последнее время историки начали всерьез воспринимать эти обвинения, указывающие на подлинные (и распространенные) убеждения американцев в отношении намерений англичан. Какими бы напыщенно-нелепыми не казались ответы колонистов — они не выдумали их, и они не были тем, что мы называем пропагандой. Скорее их можно назвать искренней и честной реакцией[230]. Да, эти ответы были спровоцированы эмоциями, но это не значит, что они были иррациональны. Разум повлиял на них не меньше, чем гнев. С одной стороны, колонисты довольно рассудительно установили, к каким экономическим и политическим последствиям могло привести введение гербового сбора. Так как он должен были выплачиваться в фунтах стерлингов, то это привело бы к почти полному исчезновению твердой валюты на территории колоний, которые и без того испытывали денежный дефицит. Даже такой преданный консерватор, как Джаред Ингерсолл, писал кабинету министров о том, что налог тяжелее всего ударит по карманам бедняков, поскольку должен был собираться и с мелких тяжб, рассматриваемых у мировых судей, а такие иски обычно подавали небогатые люди[231]. Безусловно, политическое значение введения гербового сбора волновало жителей колоний даже больше. Кабинет министров мог перечислить какие угодно прецеденты, начиная с Почтового акта 1711 года и заканчивая недавно принятыми пошлинами на патоку, но для колонистов казалось очевидным: произошло что-то новое, действительно беспрецедентное. Так или иначе жители колоний воспринимали Акт о гербовом сборе в контексте, несколько отличном от представления кабинета. Этому закону предшествовали другие действия и официальные заявления, из которых становилось ясно, что с этого момента жизнь в Америке могла измениться — ведь акт имел отношение к распределению власти и к доходам и расходам. Сахарный акт показал жителям колоний, с каким неудовольствием чиновники относятся к решающей роли присяжных в делах, связанных с морской торговлей. Итак, можно было распрощаться с судом присяжных и приветствовать адмиралтейские суды. При такой замене тревога американцев за прирожденные свободы кажется понятной и даже вполне обоснованной. Кто-то может увидеть и долю рациональности в волнениях, вызванных объяснениями новой политики: по заявлению британцев, она была направлена на уменьшение государственного долга и защиту колоний. Возможно, что отсутствие сочувствия к английским налогоплательщикам объяснимо эгоизмом, но опасения насчет расквартирования в Америке регулярных войск возникли не на пустом месте: когда-то именно размещение армии в мирное время стало одним из факторов, спровоцировавших Славную революцию. Но жители колоний еще и не понимали, зачем Америке нужна армия — ведь французов уже давно выгнали из Канады. Разве что с ее помощью британцы решили принудить колонистов согласиться с неконституционными налогами. Если учесть все: налоги, вопросы управления и безопасности, — то подозрения выглядят в высшей степени разумной реакцией жителей колоний, как и их недовольство сложившимся положением. Если это недовольство объяснялось разумными расчетами и выражалось в негодовании против государственной политики Британии и особенно против Акта о гербовом сборе, то должно было существовать и недовольство иного рода, которое справедливо можно назвать нерациональным, ведь его конечные источники не имели никакого отношения к государственной политике. Несомненно, что каждое общество в той или иной мере порождает среди своих членов напряжение, неудовлетворенность и беспокойство. Кто-то становится невротиком, кто-то нет, кто-то находит отдушину в семейном кругу, кто-то замыкается в себе, кто-то же выпускает пар, участвуя в политическом или общественном движении. Разновидности и источники личного недовольства могут казаться бесчисленными, и у колонистов их действительно было немало. То, что известно нам о психологии американцев второй половины XVHI века не дает нам ответа на вопрос, почему это недовольство (или агрессия) направилось против государственных властей в Англии и Америке. Тем не менее ключи к разгадке этой тайны о связи личной ненависти и общественного поведения можно найти среди дискуссий о гербовом сборе. С одной стороны, движение против английской политики не только находило поддержку большинства общественных лидеров, но и позволяло применить в борьбе их средства и таланты. С другой стороны, главные сторонники Акта о гербовом сборе, которым и так не хватало сплоченности, уже вызвали подозрения и неприязнь, например Томаса Хатчинсона в Массачусетсе и клики тори в Род-Айленде[232]. В 1765 году гнев отца на сына, гнев мужа на жену, гнев работника на работодателя все еще оставались делом личным, скрытым, однако ничто не мешало их силе обратиться против британской общественной политики. Отныне традиционные запреты не мешали людям выразить их недовольство государственной властью. Несомненно, новая цель помогла высвободить изрядную долю агрессии, которая в ином случае нашла бы для себя выход в чем-нибудь ином. Проявленное во время этого кризиса недовольство, «рациональное» или «нерациональное», было настолько взрывным, что не будь Акт о гербовом сборе отменен спустя пять месяцев после принятия, он вполне мог бы послужить причиной для начала в 1766 году революции. Убежденность жителей колоний в том, что заговор поставил под угрозу их свободу, частично объясняет реакцию американцев. Однако болезненное отношение американцев к политике и их чуть ли не инстинктивное желание объяснить кризис тайными заговорами и зловещими умыслами нуждается в дальнейшем изучении. Их убеждение в том, что они стали жертвами злобного заговора, привело их на порог революции, но что же заставило их поверить этому совершенно безосновательному утверждению? Два типа обстоятельств обусловили такую реакцию: первый имел политическую основу, а второй — религиозную или, если быть точнее, моральную. Почти два поколения политически грамотных американцев привыкли ничему не доверять и подозревали в заговорах и тайных умыслах всех вокруг, в том числе губернаторов и королевских чиновников, служащих в колониях. Конечно, политика последних служила зарождению подозрений; она дала начало бурной фракционности. «Чужие» замышляли сместить «своих», которые договаривались удержаться на нагретых местах. Действительно, колониальная политика стала необыкновенно текуча: сбивались группировки по интересам, добивались краткосрочных целей, а затем рассыпались лишь затем, чтобы опять собраться в других составах и решить другие сиюминутные задачи. Таким образом, ни одна группа долго не находилась у власти[233]. Такая нестабильность сохранялась, несмотря на обстоятельства, которые со временем создали поразительно устойчивый государственный строй. По меркам XVIII века почти все тринадцать колоний находились под руководством народных, быть может даже демократических элементов. Землевладение было широко распространено, и типичный американец представлял собой независимого йомена с правом голоса, так как избирательное право было напрямую связано с землей. Представительство было достаточно ответственным для тех времен, особенно в нижних палатах ассамблей. Так как общество тогда не отличалось особым многообразием, то представители разделяли большинство интересов с избирателями, и последние часто давали свои наказы представителям. А неправительственные учреждения, которые в Европе все еще имели политические полномочия, в Америке практически утратили свою силу (к примеру, официальные церкви больше не могли преследовать инакомыслящих). Несмотря на такие обстоятельства, нестабильность все же сохранялась и часто проявляла себя довольно зловещим образом. Внешняя (короля или собственников) власть персонифицировалась в губернаторе, который был неподконтролен народу во всех колониях, за исключением Коннектикута и Род-Айленда. Можно было подумать (а так оно и было), что губернаторы имели право отнимать у колоний их свободы. Губернаторы, как представители английского правительства, по закону могли созывать ассамблеи, прерывать их работу или распускать их. Они могли запрещать законодательную деятельность, могли создавать суды, назначать и увольнять судей — или они утверждали, что у них есть такие полномочия. Король потерял эти полномочия в результате революции 1688 года, но в колониях, населенных английскими подданными, они оставались в силе, по-видимому, как наследие прежней тирании. Несмотря на эти законные или конституционные полномочия, в действительной колониальной политике губернатору не хватало «влиятельности», на которой основывается сила правительства. Это несоответствие между формальной конституционной структурой и действительной политикой способствовало развитию нестабильности, а также создало атмосферу заговора, в котором губернатор якобы принял участие, беспрестанно смешивая и разделяя фракции. Его власть была смутной и загадочной и часто становилась предметом оспаривания[234]. В такой обстановке общепринятым стало мнение, что действия политиков постоянно контролируются тайными организациями. Жители колоний были не первыми, кто пришел к такому выводу, — они перенимали возникшие полстолетия до Американской революции взгляды радикальной оппозиции в Англии, так называемых «республиканцев» (соттопшеакЬтеп) XVIII века (имя унаследовано от радикалов предыдущего столетия, круглоголовых, победивших в гражданской войне в Англии и учредивших республиканское правление). Сторонниками этой идеологии среди прочих были такие писатели, как Джон Мильтон, Джеймс Харрингтон и Алджернон Сидни. Во время кризиса 1679–1681 годов, когда Якова II попытались не допустить к престолу, они в каком-то смысле пересмотрели свои политические взгляды, а радикалы XVIII века продолжили этот процесс: они приспособили старую идеологию, дабы сделать ее полезной для сопротивления министерскому правлению[235]. Имена республиканцев XVIII века не вошли в историю (самыми важными из них были Джон Тренчард, Томас Гордон и Бенджамин Хоадли — епископ винчестерский), но они настолько повлияли на распространение американской революционной идеологии, что превзошли в этом даже самого Локка. Конечно, они воспользовались идеями Локка и прочих, кто был оригинальнее их самих. Их идеи были не новы, а основа их политической теории мало чем отличалась от позиции вигов этого века. Они восхваляли конституционную смесь из монархии, аристократии и демократии и вдобавок приписывали ей существование английской свободы. Как и Локк, они постулировали некое природное состояние, даровавшее права, которые гражданское общество, созданное по взаимному согласию, гарантировало. Они утверждали, что государство создавалось на основе договора, а верховная власть в нем принадлежит народу. Эти взгляды были настолько распространены в Англии, что уже считались вполне обычными, но радикалы XVIII века решили использовать их для необычных целей. Радикалы редко попадали в парламент — и уж точно не в его члены, — однако составляли оппозицию целой череде кабинетов и свойственному этому веку самодовольству. И пока виги и английское правительство пели хвалебные песни английским учреждениям, английской истории и английской свободе, радикалы скорбно тянули мотив о растущей в Англии политической и общественной коррупции и служили панихиду по умирающей английской свободе. В любом государстве, утверждали они, от Древнего Рима до настоящих дней, предпринимались попытки поработить людей. История политики не более чем история постоянной борьбы между властью и свободой. Тренчард и Гордон назвали свои «Письма Катона: Эссе о свободе» «предостережением против естественных посягательств на власть»; в этом эссе они заявили, что «власть всегда пытается усилить себя и всегда покушается на тех, кто ею не владеет». «Письма Катона» сравнивают власть с огнем: «Она согревает, обжигает или уничтожает, в зависимости от того, как за ней наблюдают, чем побуждают и чем увеличивают. Она в той же степени опасна, насколько и полезна… она легко выходит за рамки». Идеологии радикалов было свойственно глубокое недоверие к власти: они считали ее принуждающей, агрессивной силой. Но кого сдерживала власть или на что она покушалась? Власть покушалась на свободу, которая определялась как возможность пользоваться своими естественными правами в рамках законов, принятых в гражданском обществе[236]. В понимании радикалов Англия оттого так долго наслаждалась свободой, что ее конституция, законы и институты успешно ограничивали власть, реализуя ее наиболее полезные функции. Но не все авторы были уверены в том, что свобода в безопасности, поскольку видели, как против нее строятся безжалостные заговоры. Их произведения с начала XVII века до революции в Америке исполнены горестных стенаний по уходящим свободам Англии. В одном из характерных предупреждений «Катон» утверждал, что «всеобщая развращенность и злоупотребления поглотили нас; доходы большинства, если не всех, чиновников возросли; места и должности, которые запрещено продавать, продают за утроенную цену. Нулзды государства сделали необходимым рост налогов, и хотя народ уже и так весь в долгах и нищает, но пожалования растут, а пенсии увеличиваются»[237]. «Всеобщая развращенность и злоупотребления» — подобные фразы часто проскакивали в оппозиционной литературе. Так же часто радикалы возмущались растущей «роскошью», занятием должностей «нечестивыми людьми», упадком нравов и продажностью чиновников и избирателей. По мнению этих политических пророков, итогом этого разложения, этого всепроникающего морального упадка будет уничтожение свободы, на смену которой придет министерская тирания. В Англии эти мрачные предсказания никак не повлияли на лидеров вигов или на их многочисленных последователей, но в Америке ответственные люди в большинстве своем восприняли их с полной серьезностью. И когда кризис Акта о гербовом сборе достиг своей вершины, предсказания начали казаться все более убедительными.III
Еще более убедительными эти предсказания казались людям, которых часто не принимали в расчет, так как по британским меркам они не играли большой роли в оппозиции. Городские банды, нападавшие на ответственных за распространение гербовых марок в 1765–1766 годах, а также на таможенных чиновников и их агентов вплоть до начала войны в 1775 году, свидетельствует об определенной глубине проникновения в общество духа сопротивления. Они не являлись независимыми участниками сопротивления, и не они заставили среднее и высшее сословия подняться за свои права, но хотя они не были независимыми, это не значит, что их действия были бездумны или ими было легко манипулировать. Состав этих группировок был таков, что вряд ли кому-либо удалось удержать их в узде. В Коннектикуте мелкие сельские фермеры (крупных фермеров там почти не было) проделали большую работу против Акта о гербовом сборе. Повсюду в больших и малых городах в группировки объединялись представители совершенно разных социальных групп — по этой причине никто и не мог взять их под свой контроль. Самое живое участие в городских беспорядках принимали матросы, чернорабочие, ремесленники, а также редкие свободные негры и женщины. Эти группы отличались друг от друга по роду занятий, а также в зависимости от того, владели ли они собственностью или нет. Достоверные данные для всех городов отсутствуют, но в Бостоне приблизительно 30 процентов мужчин-рабочих не владели никакой собственностью, и нет сомнений, что в толпе всегда присутствовало множество представителей данной группы. Однако и собственники, включая купцов, приняли участие в августовских беспорядках 1765 года. В Виргинии и Каролинах плантаторы выступали вместе с ремесленниками и матросами. Ни одна из этих групп не чувствовала на себе особого социального гнета, а те, кто действительно страдал от него (чернокожие рабы и индейцы), по определению были отстранены от политической деятельности[238]. Среди тех, кто мог таить злобу против людей, стоявших выше на социальной лестнице, к лучшему положению больше всех стремились ремесленники и мастеровые. Некоторые из них, даже большинство, желали роста своего статуса, так как их собственное экономическое и профессиональное положение оставалось неясным. Ремесленник работал руками — у него имелись навыки и мастерство, но он одновременно мог заниматься торговлей, держать небольшую лавку и продавать собственные изделия. Матросы, мастеровые моря, на первый взгляд, казалось, были людьми без корней. Для большинства это справедливо, но некоторые из них вели мелкую торговлю во время плавания на купеческих кораблях. Купцы платили жалкие гроши, но закрывали глаза на то, что матросы набивали сундуки товарами, которые затем могли продать в портах. Матросы при этом могли попасться в руки таможенников, что иногда и происходило. Как предприниматели, они понимали связь между свободой и собственностью и испытывали неприязнь к алчным таможенным чиновникам[239]. Несколько лет спустя после кризиса Акта о гербовом сборе группа корабельных плотников в Филадельфии продемонстрировала курьезный случай политической солидарности. В центре событий оказался пожилой ремесленник, когда-то работавший в типографии. Этого ремесленника, который в 1770 году стал куда более важной персоной, звали Бенджамин Франклин. В 1765 году он обеспечил должность распределителя гербовых марок своему другу Джону Хьюзу, который был купцом, а в прошлом — пекарем. Когда в Филадельфии узнали о том, что Хьюз теперь являлся королевским служащим, ответственным за исполнение ненавистного закона, оппозиция немедленно заявила о себе недовольным ропотом. В итоге Хьюз ушел с должности, но перед тем как это произошло, прошел слух, что его дом собираются разгромить, если он не уволится. Те же самые слухи ходили и о доме Бенджамина Франклина, который провинился тем, что нашел хороший источник дохода для своего друга. В день запланированного нападения, 16 сентября 1770 года, городская организация корабельных плотников «Белые дубы» встала на защиту домов этих двух человек. Похожий эпизод произошел и в следующем месяце, и в обоих случаях обошлось без неприятностей[240]. Самое показательное во всем произошедшем то, что «Белые дубы» приняли сторону Франклина и Хьюза — людей богатых и авторитетных. Эти двое претворяли в жизнь мечты и стремления ремесленников, ведь они стали членами высшего общества; они были работниками, сумевшими добиться успеха. По этой причине «Белые дубы», разделявшие их ценности, пришли им на помощь, в этом жесте не было проявления общественного радикализма[241]. Народ поддерживал сопротивление британской политике, и действия бесчинствующих толп доказывают это. Королевские служащие работали на таможнях и занимались сбором или введением налогов — именно они стали основной целью народного движения. Эти служащие иногда нанимали «информаторов», чтобы те сдавали купцов или капитанов кораблей, нарушавших торговые законы. Когда оппоненты Короны инициировали бойкоты импортных товаров, толпы помогали им в этом: они угрожали применить силу и выполняли свои угрозы в отношении тех, кто продолжал вести торговлю с «врагом», несмотря на запрет. Однако насилие и экономическое принуждение имели свои пределы, они применялись избирательно. Люди не теряли головы даже тогда, когда толпе хотелось поиграть мускулами. Их самоконтроль оказался поразительным и довольно действенным. Британские служащие ошибочно полагали их чернью; они не видели того, что было прямо перед глазами: американская оппозиция была глубоко укоренена в обществе и указывала на то, насколько мощной была антипатия народа к имперской власти. Другая причина того, почему американцы приняли теорию о заговоре как нечто вполне обыденное, связана с сущностью их протестантской религии. Дети Великого пробуждения, евангелизма, ревивализма не удивились бы новостям о том, что злобный заговор против их свобод разработали в безнравственной и почти что «католической» Англии. Основатели колоний прибыли в Америку в XVII веке, чтобы ускользнуть от того, что казалось им постоянным злоумышлением. В христианской истории есть немало таких примеров. Американские протестанты с особой впечатлительностью воспринимали рассказы о полчищах чиновников и надсмотрщиков, грозивших, по предсказаниям памфлетистов, заполонить колонии. В конце концов традиционные протестантские добродетели — непорочность и простота жизни, труд, бережливость, умеренность — наполняли жизнь этих людей, сопутствовали ей. Именно поэтому они с такой антипатией относились к упадку, праздности и распутству, которые могли распространиться из Англии в Америку в лице чиновников и их присных[242]. Такие настроения позволяют предположить, что возмущение в колониях, тогда еще не вполне артикулированное и проявленное, отчасти становилось борьбой за моральные ценности. Ненависть к порочным британцам пробудила в жителях колоний страх о том, что их общество тоже может встать на путь изнеженности, праздности, распутства и духовного разложения, и некоторые люди стали жертвами толпы не только потому, что они поддерживали или были допущены поддерживать английскую политику. Люди вроде Эндрю Оливера, Джареда Ингерсолла и даже Томаса Хатчинсона олицетворяли собой опасный моральный порядок: нападая на них и на прочих подобных, толпа защищала не только политические свободы в Америке, но и собственные добродетель и нравственность. Толпа и, без сомнения, народные лидеры действовали с убеждением, что ведут борьбу с абсолютным злом. Такое настроение распространялось среди жителей колоний, а протестантство, которое также поддерживало моральные и психологические ценности, помогало ему в этом. Казалось, вера разъясняла политическое поведение с тем же успехом, как разъясняла поведение отдельных людей. Она объединяла колонистов с тем, что для их морального кодекса являлось старым, привычным и правильным, а ненависть к ленивым, распутным чиновникам, которые служили замыслам тиранов, для них означала любовь к честным, трудящимся людям, преданным конституционному правительству. Конечно, не лишено иронии то, что страхи и заблуждения способствовали становлению национального и ответственного общественного строя, и особенно ярко эта ирония прояви лась во время продолжительного кризиса, который начался с принятием Акта о гербовом сборе.7. Шанс и Чарльз Тауншенд
I
Слухи о том, что парламент отозвал Акт о гербовом сборе или вот-вот сделает это, просочились в колонии вскоре после отставки Гренвилл в июле 1765 года. Корабли из Англии привозили эти, а иногда и менее радостные новости, например, об упрямых членах палаты общин и парализованном кабинете министров, безуспешно пытающемся убрать закон из свода. Слухи сменились уверенностью 2 мая 1766 года, когда Virginia Gazette опубликовала копии отменяющего гербовые сборы закона и Акта о верховенстве, а через несколько недель издатели перепечатали соответствующие документы во всех своих газетах. Новости об отмене закона были встречены с ликованием и в городах, и в небольших поселениях по всей Америке. Первые, конечно, отреагировали с особенным энтузиазмом. Чрезвычайно бурные празднования начались в Нью-Йорке, где «Сыны свободы» употребили невероятное количество крепких напитков под тосты за здоровье многочисленных английских героев и самих себя, а также устраивали фейерверки, стреляли из ружей, а в конце в полном составе прошествовали к форту, чтобы «поздравить» губернатора. Этой высокой чести, несмотря на сильное опьянение, удостоились, в качестве представителей остальных, трое из них. Один британский офицер, ставший свидетелем этихпразднований, сердито доложил, что вечер «завершился пьяным угаром, швырянием петард и хлопушек, стрельбой из ружей и пистолетов, выбиванием окон и срыванием дверных колец»[243]. Далеко на юге жители Чарлстона на радостях делали примерно все то же самое, только более спокойно и мирно. Бостон как следует насладился фейерверками, музыкой, «великолепной пирамидой», украшенной 280 фонарями, а также чтением удивительно большого числа высокопарных стихов. Несколько состоятельных горожан потратились на то, чтобы освободить из тюрьмы всех должников, а самый, возможно, богатый из всех — Джон Хэнкок — «выставил жителям бочку мадеры»[244]. Кроме того, Хэнкок закатил щедрую пирушку для друзей. Филадельфия вела себя скромно, решив, что отмена закона не должна стать поводом ни для самохвальства, ни для упреков. В городе состоялся праздничный обед, на котором присутствовали мэр, губернатор и другие чиновники. Обывателей порадовали фейерверки, которые, как заметил один из друзей Франклина, «были устроены с большой осторожностью»[245]. Колониальные легислатуры также выразили свое удовлетворение по поводу отмены закона, а большинство из них направили благодарственные адреса королю. Громче всех о своей преданности и восторге заявила массачусетская палата представителей. И лишь палата горожан Виргинии, где впервые обозначилось сопротивление, не присоединилась к этому стройному хору. Отказавшись отправить адрес королю, она подтвердила проявленную годом ранее принципиальность[246]. Делегаты Виргинии не заседали, когда в мае новости об отмене Акта о гербовом сборе достигли Америки, и собрались только в ноябре. За это время энтузиазма в связи с действиями парламента неизбежно поубавилось, а значение предыдущего года стало очевидно большому числу американцев. Теперь мыслящие люди начали задаваться вопросом, что же именно они отмечали. Не то чтобы американцы в мае не испытали искренней радости и облегчения. Испытали, причем вполне оправданно. Что они ощущали, но лишь изредка демонстрировали, так это чувство беспокойства, вызванное случившимися неприятностями, и недоверие к англичанам на другой стороне Атлантики, даже к тем купцам, которые за них вступились. Сильной оставалась убежденность в том, что порочный кабинет министров сговорился отобрать их свободы, хотя эта убежденность, естественно, стала реже проявляться в словах и действиях после того, как к власти пришли виги Рокингема. Заговорщики уже давно раскрыли себя: их явно возглавлял Джордж Гренвиль, хотя за его спиной маячила также фигура графа Бьюта. Американцы, писавшие и бунтовавшие против Акта о гербовом сборе, ненавидели этих людей, но и к «друзьям колоний», добившимся его отмены, они не питали особенно теплых чувств. Эти друзья также голосовали за Акт о верховенстве с его странной формулировкой о праве парламента «ограничивать колонии во всех необходимых случаях». Сначала большинство колонистов, прочитавших эти слова, вроде бы решили, что парламент не имел в виду налоги, но остальные не были столь уверены в этом. Более серьезные опасения вызывал странно покровительственный, даже высокомерный тон так называемых друзей колоний. Например, купцы, организовавшие поддержку вне стен парламента, чрезвычайно гордились своим успехом и вели себя так, будто бы колонисты были перед ними в неоплатном долгу, хотя все знали, что они выступили за отмену ради возобновления торговли и сохранения собственной прибыли. Американцев не удивляло то, что британские купцы защитили Америку с целью восстановления британской торговли; они вполне понимали этот мотив и тоже действовали в соответствии с ним. Однако британские купцы высказывались в том духе, что они якобы спасли неразумных американцев от самих себя, а не от политики, которая, по мнению американцев, подрывала их права и ударяла по доходам британцев. Британцы как будто не замечали этих фактов, по крайней мере, об этом нельзя судить по тому, как они предостерегали американцев от новых попыток освободиться от парламентского налогообложения. Тон, с которым купцы обращались к колонистам, был неправильным с самого начала кризиса. Как говорил видный виргинский плантатор Джордж Мейсон, он напоминал то, как учитель отчитывает нерадивого ученика:Нам удалось ценой огромных усилий добиться, чтобы на этот раз тебя простили; настоятельно прошу тебя впредь быть хорошим мальчиком; слушайся своих папу и маму и обязательно поблагодари их, ведь они позволили тебе сохранить то. что тебе принадлежит; и тогда все твои знакомые будут тебя любить, хвалить и дарить разные приятные вещи… но если ты будешь вести себя плохо, упрямиться и перечить папе и маме, считая их приказы (каковы бы они ни были) несправедливыми или необоснованными, или даже начнешь относить их нынешнее покровительство на счет каких-либо иных мотивов, кроме заботы и нежности, и станешь себе на уме, еще не достигнув зрелости, или решишь, будто способен отличить добро от зла, то все тебя возненавидят и скажут, что ты испорченное и непослушное дитя; твоим родителям и учителям придется тебя жестоко пороть, а друзья постыдятся заступиться за тебя; более того, их начнут винить в твоих проступках[247].Хотя этот высокомерный тон был весьма настораживающим, под ним скрывалось кое-что похуже — непонимание конституционных доводов американцев или даже проблеск сомнения в том, что американцы действительно верят в провозглашаемые принципы. Историки американской войны за независимость иногда утверждают, что британцев и их колонии разделило отсутствие эффективной связи. Все-таки между Англией и Америкой простирался Атлантический океан, поэтому на передачу информации уходили месяцы. Когда новости наконец доставляли, они часто уже оказывались неактуальны. В этой теории есть доля истины, однако, несмотря на медлительность морского сообщения, успешно поступало на удивление большое количество сведений. Если говорить о событиях, последовавших за кризисом Акта о гербовом сборе, то возникает даже мысль об избыточности связи; трудно усомниться в том, что американцы, читавшие публиковавшиеся в газетах письма купцов, понимали их содержание. В Британии позицию американцев тоже хорошо знали, но лишь немногие принимали ее всерьез или сочувствовали ей. Проблема британцев заключалась в неспособности осознать само наличие проблемы — несмотря на все письма, петиции и заявления предыдущего года. Десятилетия господства над колониями огрубили их чувства. В XVII веке, когда колонии начали торговать с Голландией, парламент ограничил их торговлю британскими портами, а когда колонии увлеклись европейскими товарами, парламент задушил этот интерес в зародыше. Колонии угрожают сбыту английских товаров? Принимайте закон, который это прекратит! Их называли «наши колонии», «наши подданные» и даже, как отмечает Джордж Мейсон, «наши дети», которые должны были слушаться своих маму и папу, то есть парламент. Долгие годы колонисты играли свою роль этих отношениях с должным уважением и даже с желанием и молчаливо соглашались со своим подчиненным положением: они являлись провинциалами, а провинциалы в XVIII веке подражали метрополии, но не считали себя равными ей. Они также прибегали к знакомым метафорам, описывая эту субординацию: Англия называлась родиной-матерью, а они были детьми, которым надлежало относиться к ней с почтением. Но это колониальное мышление имело свои границы, а во время кризиса, вызванного Актом о гербовом сборе, парламент и кабинет Гренвиля допустили ошибку, переступив их. Непосредственные последствия показали, сколь немногие в Британии были способны увидеть весь масштаб этой ошибки.
II
Смутные сомнения британцев не утихомирили ожесточенной фракционности американской политики. Более того, в нескольких колониях отмена Акта о гербовом сборе привела к серьезным сдвигам местного ландшафта власти. Эти изменения кому-то обеспечивали контроль над ключевыми постами, кому-то — места в законодательных органах, и всех вынудили открыто продемонстрировать свои политические предпочтения. А главное, провинциальная политика теперь сосредоточилась вокруг неизменной темы, заряженной потенциалом к объединению колоний — темы неприязни к контролю со стороны Великобритании. Резкие изменения в расстановке местных сил происходили там, где колониальные политики имели возможность использовать это в своих интересах, что, в свою очередь, в основном зависело от их способности приписать оппозиции поддержку курса британского правительства. В Массачусетсе фракция Отиса без особого труда примазывала губернатора Бернарда, Томаса Хатчинсона и их друзей к Акту о гербовом сборе и приписывала им алчное стремление к должностям, используя которые они покупали себе поддержку. Многие из обвинений были справедливы, чем Отис и его компания пользовались, как только могли. Во время выборов в мае 1766 года им выпал шанс (первые после насилий летом прошлого год) очистить палату общин от, как они выражались, врагов народа. Свою кампанию они начали самыми разнообразными выпадами своего карманного издания Boston Gazette. Они обвинили губернатора и совет в раздаче средств своим друзьям без согласия палаты; они выступали против практики «угощений» (возможно, из учтивости они использовали это слово вместо «подкуп») электората ромом и вином в обмен на голоса. Они осуждали всех, кто призывал исполнять Акт о гербовом сборе или отзывался о «Сынах свободы» без должного уважения: у сторонников Хатчинсона язык не поворачивался так их называть, и они предложили самое подходящее название «Сыны насилия»[248]. Эти обвинения были выдвинуты в назидание всем «Сынам свободы» Массачусетса. Чтобы до всех дошло наверняка, Gazette напечатала примерные инструкции для представителей палаты и призвала города воспользоваться ими. Утверждая, что по меньшей мере 32 представителя продемонстрировали свою профнепригодность, Gazette опубликовала их имена с мыслью о том, что лучшей инструкцией для них станет отставка[249]. Губернатор Бернард не терпел недостойного поведения, в особенности публичного и тем более за его счет. Томасу Хатчинсону тоже доставалось, но у него имелись друзья, которые поддержали его в газете Boston Evening Post. Однако эффективности защиты мешало уважение к правде, по крайней мере к правде, связанной с Актом о гербовом сборе. Ни Хатчинсон, ни Бернард не торопили с его принятием; Хатчинсон в частных беседах отзывался о законе плохо; но поскольку свое отрицательное мнение они заявили спустя значительное время после событий, их критиков это не впечатлило, и они сохранили инициативу в противостоянии. Boston Evening Post не только защищала, но и нападала. Особенно крепко доставалось на ее полосах Джеймсу Отису. Его «Краткие замечания на защиту клеветы из Галифакса», расставлявшие совершенно иные акценты в вопросе власти парламента по сравнению с его же «Правами колоний», рассматривались с особым пренебрежением за их «противоречия и увиливание». Да и сам Отис описывался грубыми эпитетами, такими как «двуличный виг-якобит» и «грязный мошенник»[250]. Ничто из этого не помогло сторонникам Бернарда избежать взбучки на выборах. Девятнадцать из 32 представителей, назначенных быть вычищенными, потерпели поражение. В Массачусетсе новая палата и уходящий совет избрали новый совет, а на майских выборах четверо должностных лиц — судья Питер Оливер, секретарь Эндрю Оливер (выдвинутый на пост распределителя гербовых марок), генеральный атторней Эдмунд Троубридж и судья высшего суда Томас Хатчинсон — оказались смещены. Все они были печально известны тем, что занимали сразу несколько постов и дружили с администрацией, и все они, кроме Троубриджа, приходились друг другу родственниками по крови или по браку. Пятый советник, Бенджамин Линдл — судья высшего суда, подал в отставку заблаговременно. Бернард наложил вето на кандидатуры лиц, выбранных вместо этих удобных старых соглашателей, а также на избрание Джеймса Отиса спикером палаты. Однако положение Бернарда к тому моменту ослабло, и он это знал[251]. В Массачусетсе губернатор хотя бы удержался, в отличие от Коннектикута, где Томасу Фитчу не повезло из-за того, что там этот пост был выборным. Фитч и сам поспособствовал своему поражению весной 1766 года, поскольку в ноябре предыдущего года поклялся проводить Акт о гербовом сборе. Отказ от этой клятвы обошелся бы ему в 1000 фунтов штрафа, но он был упрямым человеком и, вероятно, не пошел бы на это в любом случае. Его и нескольких членов коннектикутского совета сместили с должностей, когда «Сыны свободы» успешно связали их имена с Актом о гербовом сборе. Этим людям приходилось нести на своих плечах мертвый груз Джареда Ингерсолла. Как и они сами, Ингерсолл являлся «старосветником» и выступал против амбиций «Компании Саскуэханны» в долине Вайоминг. «Сыны свободы» — в основном, конечно, «новосветники» (а те из них, кто приехал из округов Нью-Лондон и Уиндхэм, были полны желания поддержать притязания «Компании Саскуэханны») — повесили на них Ингерсолла и тем самым связали религию старосвет-ников с одобрением Акта о гербовом сборе, что было несправедливым приравниванием (и очень вредоносным, поскольку поверили ему очень многие)[252]. Когда в 1766 году подошло время выборов, «Сыны свободы», среди которых наиболее видную роль играли жители Уиндхэма и Нью-Лондона, организовали собрание представителей всех округов колонии в Хартфорде, которое и состоялось в конце марта. Первый рассмотренный ими вопрос был вполне безобидным — резолюция о переписке с «Сынами свободы» в других колониях. Когда с этим разобрались, собрание продолжилось в виде закрытой сессии, что застало врасплох некоторых делегатов из западных округов. Делегаты от Нью-Лондона и Уиндхэма вскоре обозначили свои цели — составление списка кандидатов на должности губернатора, заместителя губернатора и членов совета (нижняя палата уже находилась в надежных руках). После продолжительных дискуссий, однодневного перерыва и новых дебатов конвент решил сократить свой список до губернатора и его заместителя и не трогать советников, поскольку масштабные перемены могли «вызвать слишком большое сотрясение политического организма». «Сыновья» выполнили свои обещания в мае, когда Уильям Питкин (являвшийся заместителем губернатора) сменил Фитча на посту губернатора, а Трамбалл занял освободившееся место Питкина[253]. В прочих местах последствия Акта о гербовом сборе в провинциальной политике ощущались не столь явно (например, в Нью-Джерси, Мэриленде и Каролинах) или оказались отсроченными, как в Нью-Йорке, где в 1766 году выборов не проводилось. В Род-Айленде, столь свирепо сопротивлявшемся Акту о гербовом сборе, не было значительной роялистской фракции (или кого-то со сходными интересами) после отступления Томаса Моффата и Мартина Говарда с их соратниками. Группа тори в любом случае не играла сколь бы то ни было значимой роли, и ее члены не занимали важных постов, с которых их следовало бы сместить[254]. Случай Пенсильвании представляется самым странным. Ни один из двух ее старых лагерей (партии квакеров и собственников) не выступал активно против Акта о гербовом сборе. Квакеры, возглавляемые Бенджамином Франклином и ждавшие, когда наконец власть перейдет от ненавистных землевладельцев к королевскому правительству, предпочитали не выражать своего недовольства, ведь король вряд ли отозвал бы хартию, если бы они возглавили бунт против министерской политики. Поэтому они хранили молчание, как и партия собственников, которые тоже надеялись, что их верность убедит короля не лишать их положенных по хартии прав[255]. К середине 1766 года из фрагментов этих двух групп возникло нечто вроде свежего политического альянса — пресвитерианская партия, особенно опасавшаяся появления в стране англиканского епископа. Эти опасения породил Акт о верховенстве, поскольку из него вроде бы следовало, что колонии не могут претендовать на защиту от епископальной системы. Эта партия представляла собой коалицию (в 1766 году еще не сложившуюся окончательно) пресвитерианцев, квакеров, немцев и шотландо-ирландцев. Основной же контингент партии — мастеровые из Филадельфии и фермеры с запада — присоединились к ней лишь через пару лет.III
В общем и целом Акт о гербовом сборе хотя бы временно объединил несколько колониальных групп различного толка, хотя и не исцелил колониальную политику от фракционности. К концу весны 1766 года акт стал делом прошлого, однако вызванные им подозрения о целях Британии в Америки сохранялись и усиливались неудовлетворенными претензиями. Накладывались ограничения на колониальную торговлю, в частности, пошлина на патоку, которая хотя и сократилась до одного пенни с галлона, взималась на всю патоку, импортируемую в колонии, даже ввозимую из британской Вест-Индии. Также в середине 1760-х годов существовали и валютные ограничения, которые, похоже, сильнее прочих мешали нью-йоркским купцам. Как бы то ни было, ньюйоркцы жаловались громче всех. Кабинет министров требовал компенсаций жертвам бунтов против Акта о гербовом сборе, что, конечно же, послужило поводом для разногласий между губернаторами и легислатурами[256]. В Массачусетсе Бернард в свойственной ему бестактной манере велел палате вотировать это решение как акт справедливости еще до получения официального обращения Короны. Члены палаты поинтересовались, кто имеет полномочия требовать от людей выплаты денег, и затем вежливо предположили, что компенсация стала бы актом благотворительности, а не справедливости. Вскоре после этих дебатов жители других городов начали спрашивать, с какой стати они вообще должны платить, если бунты происходили в Бостоне. Столкнувшись с нерадостной перспективой самому платить по всем счетам Бостон резко передумал и согласился с тем, что колония должна компенсировать потери пострадавших от бунтов. Бостонские лидеры как-то убедили палату в том, что это не только местный вопрос и свой вклад должны внести все города. Палата согласилась на выплату и заодно помиловала участников бунта. В декабре 1766 года статут, предусматривающий компенсацию и помилование, был принят и отправлен губернатору Бернарду. Помилование не входило в полномочия законодательного органа, которое традиционно являлось прерогативой исполнительной власти, и Бернард знал об этом. Законодатели поймали его в ловушку: Томас Хатчинсон и другие жертвы были его друзьями и рассчитывали получить деньги. Бернарду пришлось одобрить статут[257]. В Нью-Йорке тоже был поднят вопрос о компенсациях. Там законодатели согласились возместить майору Джеймсу — командующему фортом — ущерб, причиненный его собственности, а также выплатить компенсацию владельцу дома, в котором жил Джеймс, сильно пострадавшего во время бунта. Но лейтенант-губернатор Колден остался без компенсации. Как холодно заметили члены палаты, Колден пострадал заслуженно из-за своего «недобросовестного поведения»[258]. У Колдена нашелся и товарищ по несчастью. Генерал Гейдж, командовавший британскими войсками в Америке, также получил в 1766 году отказ от нью-йоркских законодателей. Они не захотели придерживаться условий Квартирьерского акта (вступившего в силу в 1765 году), по которому колониям следовало расквартировывать войска в населенных районах в казармах, тавернах или пустующих зданиях, но не в частных домах. Данный акт также предписывал колониям снабжать военных дровами, свечами и сидром либо пивом. В момент принятия этого закона армия в основном находилась на западе, но вскоре значительная ее часть передислоцировалась на восток (отчасти на случай обострения ситуации из-за гербовых сборов). Большинство частей было направлено в Нью-Йорк, многие из них — в долину Гудзон, особенно в Олбани и его окрестности, где весной 1766 года крупные землевладельцы просили об использовании солдат для подавления крупного восстания фермеров-арендаторов. К чести генерала Гейджа следует упомянуть, что он не одобрял применение армии для таких целей, но в итоге все же пошел на это. Тем более понятно его удивление, когда легислатура (в которой было немало землевладельцев) продолжала отклонять его просьбу выполнить положения Квартирьерского акта. То, что последовало за этим, напоминало фарс: генерал и новый губернатор сэр Генри Мур ссылались на Квартирьерский акт (губернатор в какой-то момент отправил им полный его текст), а законодатели отказывались признавать как нужды армии, так и существование документа[259]. Однако этот вопрос был нешуточным. В глазах законодателей Квартирьерский акт являлся очередной попыткой парламента обложить колонии налогом. На карту вновь были поставлены принципы и собственность, и законодатели решительно не желали уступать ни в том, ни в другом. В начале лета они выделили некоторую помощь (3200 фунтов из неиспользованных в прошлом сумм) на обустройство казарм в Олбани и городе Нью-Йорке, но отказались поставлять напитки, соль и уксус, как того требовал Квартирьерский акт. Более того, законодатели не желали признавать, что оказание этой ограниченной помощи являлось выполнением условий статута. Выделенные средства могли быть ассигнованы еще в 1762 году, что позволяло законодателям делать вид, будто бы они игнорируют упомянутый акт[260]. Летом 1766 года, когда король отправил в отставку лорда Рокингема, Англия еще не знала об этих событиях. Администрация Рокингема, никогда не отличавшаяся большой поддержкой в парламенте, начала разваливаться весной, когда купцам, торговавшим с Северной Америкой, и купцам из Вест-Индии оказалось не по пути. Эти группы, сыгравшие столь важную роль в отмене Акта о гербовом сборе, рассорились друг с другом из-за предложений об устройстве в Вест-Индии свободного порта, и вест-индские плантаторы отвернулись от Рокингема, когда он поддержал эти предложения. Будучи слабым в парламенте, этот кабинет не мог также похвастать единством в собственных рядах. Герцог Графтон, разочарованный тем, что Питт не вошел в правительство, весной ушел в отставку; в начале июля лорд Нортингтон обратился к королю с просьбой освободить его от должности хранителя Большой государственной печати. Рокингем отчаянно нуждался в поддержке Питта, но тот всякий раз отказывал. Кабинет, возможно, просуществовал бы чуть дольше, если бы отдал больше постов друзьям Бьюта, но эта цена казалась слишком высокой. Король отнюдь не восхищался Рокингемом, но боялся менять его на Гренвиля. В мае король узнал, что Питт готов сформировать правительство, и в конце июля, когда представилась возможность, уволил Рокингема и пригласил на его место Питта[261]. Пятидесятисемилетний Питт все еще считался национальным героем, несмотря на его своеобразное поведение после ухода с поста пятью годами ранее. Король призывал его трижды, но Питт всегда находил причину, чтобы не возвращаться на службу. В те годы он редко посещал заседания парламента, а когда делал это, то обычно демонстрировал незнание или безразличие к вопросам, интересовавшим обычных политиков. Ему не хватало последователей, «заинтересованных лиц» в палате общин, кого-то, кто бы нуждался в его патронате и влиянии; в самом деле, он терпеть не мог с кем-то быть на равной ноге. Тем не менее он умел вызвать энтузиазм в палате благодаря своему ораторскому искусству, чем и пользовался в ходе дебатов вокруг Акта о гербовом сборе. Теперь, соглашаясь возглавить правительство, он также становился графом Четемом, что позволяло ему избегать появления в палате общин, именно там, где всякому правительству требовалась твердая рука[262]. В министерстве, сформированном Четемом, имелось несколько человек со способностями едва ли не блестящими, но чьи характеры и амбиции отталкивали их друг от друга. Четем сам занял должность хранителя печати — место без функции. Его друг и поклонник, герцог Графтон, получил казначейство и номинально возглавил правительство. Графтону не хватало опыта и зрелости, а также искреннего желания применять власть, но он относился к Питту с любовью, граничащей с преклонением, что в глазах последнего отчасти искупало недостаток квалификации. Граф Шелберн, еще один близкий друг Четема, стал государственным секретарем Южного департамента. Шелберн был исключительно интеллектуально одарен, но присущие ему холодность и необщительность вынуждали его избегать политической арены, где требовалось проявлять умение убеждать и примирять. Генри Конвей остался в правительстве в качестве госсекретаря Северного департамента; Камден стал лорд-канцлером; Эгмонт, ни во что не ставивший Четема, возглавил морское ведомство, а Нортингтон — верный друг короля — стал председателем Совета. После Четема самым интересным человеком в правительстве был Чарльз Тауншенд, ставший канцлером казначейства. Сорокаоднолетний Тауншенд являлся вторым сыном Чарльза, виконта Тауншенда — грозного вельможи, старавшегося доминировать над своим сыном и отчасти в этом преуспевшего. Мать Тауншенда — до замужества Одри Харрисон — была остроумной и распутной женщиной, которая почти не встречалась с сыном после расставания с его отцом. Когда брак его родителей рухнул, Тауншенд остался с отцом, хотя, по-видимому, не питал к нему большой любви. Из трудного подростка Тауншенд превратился в трудного взрослого — блестящего, однако непредсказуемого как в частной, так и в общественной жизни. Тауншенда часто называли переменчивым, однако он всегда оставался верен одному важному убеждению об Америке — убеждению в необходимости сделать тамошних королевских чиновников независимыми от общественного контроля. В начале своей карьеры, служа в министерстве торговли, он составлял инструкции для нового губернатора Нью-Йорка, в которых подсказывал, что от легислатуры следует требовать создания постоянных фондов для выплаты жалованья губернатору и другим королевским чиновникам, чтобы тем самым обеспечить независимость исполнительной власти. Находясь на службе в администрации Гренвиля, Тауншенд выступал за Акт о гербовом сборе, но в декабре 1765 года высказался против резолюции, объявлявшей колонистов повстанцами, и во время дебатов, по словам Берка, держался с Джорджем Гренвилем «очень грубо». Следующей весной он проголосовал за отмену закона. К тому времени он успел заслужить репутацию великолепного оратора и занятного, хотя и ненадежного человека[263]. С этими сомнительными кадрами Четем предполагал добиться больших перемен в английской политике. Он намеревался прекратить распри, покончить с нестабильностью предыдущих лет и восстановить мир и гармонию в правительстве Англии. Приняв пэрский титул, который перевел его в палату лордов, Четем сделал еще более затруднительным решение стоявшей перед ним задачи, поскольку ушел с поля самых ожесточенных сражений. Он также связал руки Конвею (своему лидеру в палате общин), передав казначейство герцогу Графтону. Казначейство, конечно, в большой мере являлось источником того влияния, которое делало палату общин сговорчивее. Для использования этого ценного ресурса Конвею приходилось ориентироваться на Графтона, который вместе с Четемом заседал в палате лордов[264]. Первые полгода, которые Четем провел в новой должности, раскрыли ему глаза на трудности реализации своего замысла. Один из его коллег — первый лорд адмиралтейства Эгмонт — покинул правительство уже спустя несколько недель после того, как оно приступило к исполнению своих обязанностей. В ноябре ушло большинство оставшихся старых вигов, лояльных Рокингему, которых выжил Четем, решивший положиться на сторонников Бедфорда. Однако цена за должности, которую запрашивал Бедфорд, оказалась слишком высока, и Четему пришлось взять на борт «друзей короля». Вне правительства стояла оппозиция, сделавшаяся теперь сильнее, чем когда-либо, но, к счастью для Четема, ее члены были разделены и не доверяли друг другу. Тем не менее преодолеть распри не удалось, и в декабре Четем, страдавший от подагры и разочарования, удалился в Бат[265]. Другие две важные задачи Четема — взять под контроль Ост-Индскую компанию и урегулировать колониальные проблемы — тоже остались далеки от решения. Перед отъездом в Бат Четем начал требовать парламентского расследования операций Ост-Индской компании. Известно о них было немного, но ходило множество слухов о нарушениях в управлении финансами компании и ее новоприобре-тенными территориями. Четем хотел лишить эту компанию ее территориальных владений, особенно крупных в Бенгалии. Эти земли, как он утверждал, были заняты при помощи армии. Так с какой стати компания должна получать прибыль с земель, захваченных войсками короля? Конвей и Тауншенд выступали против конфискации, и многие в парламенте соглашались с ними. Мотивы парламентариев вряд ли были чистыми, ведь многие из них владели и спекулировали акциями Ост-Индской компании, в том числе и Тауншенд, предложивший оставить территории в собственности компании и начать с ней переговоры о разделе доходов[266]. С точки зрения кабинета министров американские проблемы сводились к вопросам подотчетности колониальных правительств и нахождения средств для отплаты королевских расходов. Об отказе Нью-Йорка исполнять Квартирьерский акт стало известно в течение года; также не остался без внимания и тот факт, что Массачусетс и Нью-Йорк не желали компенсировать потери жертв мятежей против Акта о гербовом сборе. Осознание того, что на западе британских владений в Америке назревают большие проблемы, происходило медленно. С момента королевской прокламации 1763 года запад был практически неуправляем. Королевские чиновники, особенно суперинтенданты по делам индейцев, оказались неспособны регулировать торговлю мехами, а стало быть, и предотвращать акты мошенничества в отношении коренных народов. Новые поселенцы открыто не признавали запрет на основание поселений и покушались на земли, которые были зарезервированы для индейцев. Секретарь Южного департамента Шелберн, в обязанности которого входило давать рекомендации о политике на западе, целый год изучал вопрос и не спешил с действиями. На него оказывалось колоссальное давление: торговцы мехами в Канаде, Пенсильвании и южных колониях желали свободы действий и надеялись предотвратить вторжение тысяч жадных до земли колонистов с востока. Другие деловые группы, в частности «Компания Иллинойса», одним из покровителей которой являлся Бенджамин Франклин, просили предоставить им крупные земельные пожалования и создать в западной части хотя бы две колонии, чтобы обеспечить дисциплинированное заселение и защиту прибылей. Приходилось учитывать и интересы лиц, заседавших в парламенте или близких к нему, которые требовали, чтобы расходы в Америке сокращались или, по крайней мере, были переложены на американцев[267]. Деньги поистине связывали в один большой клубок всевозможные проблемы Америки и Ост-Индской компании. Если не считать надежду получить средства от компании, Четем имел лишь смутные идеи о том, как укрепить финансовое положение правительства. Он даже не пробовал убедить Тауншенда и Конвея поддержать его план в отношении Ост-Индской компании; его отъезд в Бат, за которым в марте 1767 года последовала болезнь лишь с кратковременным возвращением в Лондон к работе в правительстве, позволил Тауншенду взять бразды правления в свои руки[268]. То, как Тауншенд взялся за дело, явно удивило его коллег. В январе 1767 года начались дебаты вокруг оценки военных расходов. Армия предлагала выделить на Америку около 400 000 фунтов. Во время обсуждения Джордж Гренвиль внес предложение об уменьшении суммы вдвое и возложении на колонии расходов по обеспечению войск, расквартированных в Америке. Правительство отвергло это предложение, но Тауншенд в ходе дебатов обещал, что правительство соберет с колоний хотя бы часть суммы. Хотя это обещание встревожило Конвея и других членов правительства, в парламенте оно не привлекло большого внимания. Гренвиль не ответил, промолчали и остальные. Тауншенд довольно легкомысленно принял обязательство собрать средства в Америке, причем заняться этим было необходимо в ближайшее время: в феврале виги Рокингема при поддержке значительной части оппозиции добились сокращения земельного налога, что заставило правительство искать дополнительно еще полмиллиона фунтов. Четем по-прежнему воздерживался от участия в парламентских спорах. Отчаявшийся Графтон писал ему о сокращении земельного налога и молил вернуться, чтобы отстоять свою позицию по Ост-Индской компании. Король дал понять, что можно рассчитывать на его поддержку, но Четем все равно оставался равнодушен. К середине февраля все говорило о том, что Тауншенд решит вопрос с компанией по-своему, однако через две недели Четем собрался с силами и собрал свою администрацию. Он понимал, что должен удалить Тауншенда из правительства, и поэтому 4 марта предложил пост Тауншенда в министерстве финансов лорду Норту. Тот отказался. Четем вновь ушел в себя и на протяжении двух лет не принимал участия в делах правительства. Графтону просто не хватало напористости и опыта, а также, возможно, ума, чтобы заменить Четема. Тауншенд, напротив, был щедро одарен этими качествами, хотя его характер иногда сильно мешал ему. Так или иначе следующие несколько месяцев у руля стоял именно Тауншенд. Часть этого периода он потратил на бесстыдный флирт (дела сердечные тут ни при чем, речь о политическом сводничестве), пока виги Рокингема тщетно пытались выманить его из правительства. К маю Тауншенд, похоже, пресытился этими ухаживаниями (в кабинете министров у него в любом случае были и более влиятельные поклонники) и выступил со своей американской программой. Его предложения включали три пункта: Нью-Йоркская ассамблея должна была приостановить работу, пока не согласится соблюдать Квартирьерский акт; в колониях надлежало собирать импортные пошлины на свинец, стекло, бумагу, малярные краски и чай; следовало учредить американское таможенное управление со штаб-квартирами в колониях. К концу июня все три предложения получили форму законов и были одобрены практически без сопротивления. Джордж Гренвиль предлагал пойти еще дальше. Он утверждал, что парламенту следует принять законы, обязывающие колониальных должностных лиц, включая губернаторов, советников и депутатов легислатур, присягать в том, что они поддерживают Акт о верховенстве. Текст клятвы включал пассаж о том, что «колонии и плантации в Америке по праву являются подчиненными и зависимыми от имперской короны и парламента Великобритании», который вызывал почти всеобщее одобрение в парламенте, но казался не имеющим отношения к делу и в тот момент, пожалуй, слишком провокационным. Палата общин текст клятвы не одобрила[269]. В ходе дебатов по закону о доходах 1767 года Тауншенд объяснил: он не рассчитывает, что пошлины на свинец, стекло, чай и другие товары принесут больше сорока тысяч фунтов в год. Это признание, должно быть, шокировало некоторых парламентариев (хотя, по-видимому, немногих), ведь ожидаемая сумма почти не помогала сократить потери от снижения налога на землю; да и в любом случае эти американские доходы попали бы в распоряжение короля, который мог использовать их для выплаты жалований королевским чиновникам в колониях, тем самым выводя последних из-под местного контроля. Тауншенд, похоже, был очень горд, что его предложение о сборе доходов предполагало лишь то, что в Англии называли «внешним налогом». В суматохе, вызванной отменой Акта о гербовом сборе, некоторые парламентарии, очевидно, поверили, будто колонисты не возражали против таких налогов, возмущаясь лишь налогами внутренними. Разумеется, колонисты таких различий не проводили и отвергали всякие налоги на доходы, хотя и признавали целесообразность парламентского регулирования торговли посредством применения определенных пошлин[270]. Чего Тауншенд и парламент добились законом о доходах, так это нового роста страхов и недовольства людей, и без того убежденных, что в 1765 году был спланирован заговор с целью отнятия у них свободы и собственности. Более того, затея платить из вырученных средств жалованье чиновникам делала этот закон еще менее симпатичным. Мало того что англичане собирались залезть в карман к колонистам, так вдобавок они лишали их еще одной конституционной защитной меры. Решение о приостановлении работы нью-йоркской ассамблеи вступило в силу 1 октября 1767 года и лишило легислатуру права принимать акты после этой даты, которые заранее объявлялись «ничтожными и не имеющими юридической силы» на случай, если бы она решила упорствовать. Кроме того, губернатору было приказано накладывать вето на любой закон, принятый вопреки решению о приостановлении работы ассамблеи, что было уже излишним и потому странным. После согласия законодателей признать Квартирьерский акт эти запреты предполагалось снять. Это решение стало очередным «доказательством» намерения парламента уничтожить конституционные права в Америке[271]. Так же как и создание американской таможенной службы, закон о доходах и приостанавливающий работу легислатуры акт отражали некоторые давно сложившиеся взгляды на колонии, в особенности уверенность в том, что они подчинены парламенту и должны быть взяты под контроль. Однако роль законов Тауншенда этим не ограничивалась: они дали выход злобе и фрустрации, подобным тем, которые родители испытывают по отношению к непослушным детям. Колонии вели себя плохо и их, как неразумных детей, следовало наказать. Конечно, рациональные соображения играли свою роль и при разработке программы Тауншенда, как и в политике Гренвиля. Британия накопила крупный долг, и колонии, облагавшиеся легкими налогами, вполне могли принять на себя часть этой тяжкой ноши. И все же вставали вопросы о том, насколько оправданы налоги на импорт. Разумные соображения всегда склоняют к расширению торговли; учитывая недовольство колоний парламентскими налогами, насколько разумно было ожидать, что пошлины не навредят торговле? И насколько разумно было рассчитывать на то, что колонии согласятся платить? Эти вопросы в парламенте даже не звучали. Иронический оттенок этому эпизоду придает то, что администрация, возглавляемая (пусть и номинально) противником парламентского налогообложения Америки, одобрила политику Тауншенда. Конечно, Четем в 1762 году был болен или не способен действовать активно, но Графтон и Конвей, ранее добившиеся отмены Акта о гербовом сборе, здравствовали. В министерство также входили Шелберн и Камден, годом ранее выступавшие против Акта о верховенстве. Если этот кабинет был не способен вести дела с Америкой на основе дружбы и сотрудничества, то он мог хотя бы держаться подальше от той гремучей смеси, которую ему предлагал Чарльз Тауншенд. Несчастные случайности, кажется, сыграли в тот год решающую роль. Четем не мог заболеть в более неподходящее время, если говорить об американском вопросе. После его ухода с политической сцены в марте на ней остались усталые и подавленные лидеры — Графтон, Конвей и Шелберн, вынужденные иметь дело со странным, безответственным, однако жестким и решительным человеком, умевшим добиваться своего. Если бы группировка Рокингема переманила Тауншенда на свою сторону, его программа никогда не увидела бы свет; или если бы он встретил достойный отпор, то, вероятно, не смог бы победить. Но вигам Рокингема не удалось убедить Тауншенда покинуть кабинет министров, а его коллеги не стали возражать против его предложений. Тауншенд не успел увидеть последствия своих действий. Смерть настигла его 4 сентября 1767 года — внезапно, как и многое в его жизни[272]. Но Тауншенд оставил заметный след в отношениях между Англией и Америкой. Таков конец этой ироничной истории: человек, обращавший на себя внимание разве что своими чудачествами, так сильно повлиял на публичную политику, как мало кто другой.8. Бостон в первых рядах
I
В ретроспективе революции, пожалуй, кажутся неизбежными или даже естественными событиями, более предопределенными, чем любые другие кризисные ситуации. Они обычно начинаются с небольших разногласий, которые перерастают в масштабную конфронтацию между политическими институтами и народом. Волнения превращаются в восстания, а восстания — в войну, в результате власть сменяется (или кажется, что сменяется), правитель или правящий класс низвергается, а государство преобразуется. В какой-то мере видимые события отражают действительность: рост недовольства старым правительством, тяготение к новому порядку и, возможно, приобретение народом действительной силы. Но такое развитие ни в коем случае не является обязательным. Зачастую власть не только выходит сухой из воды, но даже упрочняется после подавления переворота. В других случаях после «успешных» революций случаются провалы: потеря общественной поддержки, разочарование, снижение доверия и неразбериха. Конечно, неразберихи и разочарований на раннем этапе борьбы американских колоний против законов Тауншенда хватало. В то время в Америке не существовало сознательного революционного движения, а была просто решимость противостоять антиконституционному правлению, которая сильнее ощущалась в городских сообществах и среди лиц свободных профессий, купцов, квалифицированных ремесленников и крупных плантаторов южных колоний, поставлявших продукты массового потребления на рынок, нежели среди поселян, находившихся в отдалении от рынков и коммуникаций. Тем не менее и в упомянутых группах наблюдались разногласия, особенно среди купцов, возмущенных своими финансовыми потерями, связанными с Актом о гербовом сборе. Неразбериха, разочарование, противостояние повлияли наизначальную реакцию американцев на программу Тауншенда. Нарушали ли новые налоги права колонистов, было важным вопросом, ответы на который редко рассеивали сомнения. Спустя долгое время после выхода в свет «Писем пенсильванского фермера» (1767–1768) Джона Дикинсона, в которых настойчиво твердилось, что налоги нарушают конституционные права американцев так же, как и Акт о гербовом сборе, Ричард Генри Ли — плантатор из Виргинии — писал, что налоги «не были, возможно, буквальным нарушением наших прав», но и добавлял, что они являлись «необоснованными» и «несправедливыми». Ли прочитал эссе Дикинсона о программе Тауншенда и окончательно убедился, что права американцев нарушались, но он, как и другие, пришел к такому заключению с запозданием[273]. Остальные, особенно торговцы, знавшие, что им придется прекратить импорт товаров из Англии, если общественность отнесется к новым налогами так же, как к гербовому сбору, сомневались, находятся ли права под угрозой, или вообще старались избегать обсуждения конституционных вопросов. Вместо того чтобы обсуждать права и свободы, они сразу переходили к вопросу о запрете импорта, как бы предупреждая любые требования восстановить то положение дел, которое большинство устраивало год назад. Они сначала заявили о себе в Бостоне, а их пример, как все понимали, был важен для остальных жителей Америки. В начале сентября, после того как в августе пришли известия о политике Тауншенда, Boston Evening Post развернула кампанию против запрета на импорт. В одной из ранних статей решительно говорилось, что запрет на импорт раздавит купечество, которому придется пожертвовать своими интересами практически в одиночку и без надежды на компенсацию. Две недели спустя некий «Истинный патриот» раскритиковал группу, концентрировавшуюся вокруг Отиса, за то, что та в «политическом порыве» протестовала против мер Великобритании; а «Либернатус» подчеркивал, что запрет импорта слишком тяжким бременем ляжет на купцов. Этот запрет, заключал он, являлся «половинчатым» средством, «отчасти позволительным, а отчасти разрушительным». В октябре некий «Торговец» утверждал, что запрет на импорт не только нарушает «гражданские свободы» купцов, но и вообще может погубить бизнес. По его мнению, этот шаг одобряли только те, кому было «нечего терять» — их он называл смутьянами и забияками[274]. Естественно, все это не могло остаться без ответа. Boston Gazette поддержала запрет на импорт, пусть и лишь спустя некоторое время — в конце лета 1767 года. В конце концов она придумала или подхватила лозунг «Спасайте свои деньги — и спасете страну»[275]. В некоторых других колониях, например в Филадельфии, этот лозунг стал популярен и появился в газетах и памфлетах. Но в большинстве колоний о политике Тауншенда писали мало, пока не увидели свет «Письма пенсильванского фермера»[276]. В этих письмах Джон Дикинсон называл себя фермером, хотя в 1767 году его мало что связывало с земледелием. Он был сыном плантатора из Мэриленда, где родился в 1732 году и где его отец занимался юридической практикой. Семья переехала в Довер, штат Делавэр, когда Дикинсон был еще ребенком. В Делавэре он получил классическое образование и начал готовиться к карьере юриста. В 1754 году он поступил в Миддл-Темпл в Лондоне, чтобы изучать право, и оставался там до 1756 года, а по возвращении занялся юридической практикой в Филадельфии, заработал небольшое состояние и приобрел красивый загородный дом в Делавэре. Как и многих юристов, его тянуло в политику, и в 1760 году он был избран в ассамблею Делавэра, а через два года — в ассамблею в Филадельфии[277]. «Письма» Дикинсона произвели на колонии особое впечатление, сохранявшееся, согласно свидетельствам многих историков, вплоть до появления «Здравого смысла» Томаса Пейна в 1776 году. Письма были впервые опубликованы в Pennsylvania Chronicle и перепечатаны почти во всех колониальных газетах за исключением четырех. Кроме того, они были собраны в брошюру, неоднократно переиздававшуюся — трижды в Филадельфии, дважды в Бостоне, а также в Нью-Йорке и Вильямсбурге. Бенджамин Франклин, обычно находившийся на противоположной стороне политического спектра Пенсильвании, был настолько впечатлен этой работой, что даже написал краткое предисловие к изданию, выпущенному в Лондоне в июне 1768 года. Среди тех, кто почувствовал важность этих эссе, нашлись люди, переиздавшие их в Париже и в Дублине[278]. Эти эссе нравились народу, уставшему от нелепых заявлений и жестоких мер. Тон задавали скромные советы Дикинсона продолжать подавать петициями, чтобы добиться отмены пошлин Тауншенда. Он также призывал к экономии, умеренности, упорному труду и развитию домашнего хозяйства — все ради того, чтобы снизить потребление английских товаров. Его речь отличалась мягкостью, местами даже кротостью, как, например, в этом предложении: «Давайте вести себя, как послушные дети, которые незаслуженно наказаны любимым родителем». Над такой же идеей Джордж Мейсон насмехался годом ранее, после появления Акта о гербовом сборе. Несмотря на смиренность интонации, посыл был очевиден: хотя в полномочия парламента входило регулирование торговли, он не имел права взимать фискальные пошлины. И как бы Тауншенд не маскировал свои пошлины под инструменты регулирования, они все равно оставались налогами, с помощью которых изымались средства колоний, оставались «экспериментом», как писал Дикинсон, для испытания нрава колонистов, который в случае его успеха стал бы «зловещим предзнаменованием будущих бедствий». Ясность анализа Дикинсона и его простая речь побудили американцев выступить против конституционных последствий пошлин Тауншенда (или, точнее говоря, позволили сомневающимся и растерянным противостоять им без участия в беспорядках, столь распространившихся во время кризиса Акта о гербовом сборе). Тем не менее практическая борьба против пошлин Тауншенда развернулась не сразу вслед за выступлением «Пенсильванского фермера»[279]. Причины этого следует искать в «серой области» общественного волеизъявления и настроения. Дикинсон заронил в умы людей идею о конституционных проблемах, но не возбудил их страстей, оставшихся в том состоянии полного истощения, в котором они находились после лета 1766 года. Пока еще преобладали нормальные желания — работать и зарабатывать как обычно. Признавая эти желания, Дикинсон, тем не менее, давал проницательный анализ конституциональных вопросов, вставших в связи с пошлинами Тауншенда, радуя читателей изысканными оборотами и осуждением грубого насилия. Его призывы к детской покорности, его скромные советы составлять петиции и заниматься домашним производством, казалось, нравились публике именно тем, что Дикинсон не просил о многом. Чего у Дикинсона недоставало, так это ярких описаний заговоров против свободы или подлых замыслов разращенных министров, решивших поработить свободолюбивых американцев. Колонисты читали его «Письма», соглашались, но, за редкими исключениями, ничего не предпринимали. Колонисты, представлявшие эти редкие, но важные исключения, проживали, что неудивительно, в Бостоне. Джеймс Отис не входил в их число, во всяком случае до какого-то времени. Во время одного из своих странных «заскоков» Отис, выступая на бостонском собрании, даже настаивал на конституционности пошлин Тауншенда. Возможно, что горожане тогда ему поверили. Так или иначе они отвергли требования о запрете на ввоз британской продукции и удовлетворились резолюцией, призывающей к сокращению потребления определенных британских товаров, без которых они и так могли легко обойтись. Любопытно, что в их число не вошли товары, подпадавшие под пошлины Тауншенда, но город решил поощрять производство бумаги и стекла[280]. Неделю спустя из Англии прибыли таможенные комиссары. Их ожидали (они уже стали одиозными фигурами), но время было выбрано крайне неудачно — 5 ноября, ночь Гая Фокса, когда массовые беспорядки — обычное дело. Каким-то образом им удалось избежать насилия, хотя большая толпа встретила их чучелами «дьяволов, священников и притворщиков», на каждом из которых были таблички «Свобода, собственность и никаких комиссаров»[281]. Присутствие таможенных комиссаров, персонифицировавших паразитическую политику, возможно, дало преимущество клике, собиравшейся сопротивляться, но все же ей не удалось продавить соглашение о запрете импорта. В конце декабря она убедила город поручить своим представителям в легислатуре протестовать против пошлин Тауншенда, и к тому времени некоторые мелкие города, которых в итоге набралось около двадцати пяти, заключили соглашения о бойкоте английских товаров, явно следуя примеру Бостона. Хотя рост популярности такой инициативы, должно быть, вдохновлял, все говорило о том, что провинция все-таки смирится с программой Тауншенда[282]. Губернатор Бернард с бестактным удовлетворением отметил отсутствие оппозиции. В декабре, перед созывом легислатуры, Отис уже не казался грозным соперником губернатора, и до января 1768 года, пока сессия продолжалась, спокойствие сохранялось. Бернард, впрочем, оставался настороже: раны, как он писал военному министру Бэррингтону, иногда «затягивались», не заживая. Бернард не знал и не мог узнать в те мирные январские дни, что палата представителей, по наущению Сэма Адамса, составила ряд протестов и направила их своему агенту Деннису де Бердту, секретарю Шелберну и другим единомышленникам с просьбой аннулировать акты Тауншенда. Палата также отправила сдержанное, но недвусмысленное обращение королю, вновь не поставив в известность губернатора[283]. В конце января «затянувшиеся» раны открылись и губернатор смог хорошо рассмотреть заражение. К этому времени Джеймс Отис вновь заявил свои притязания на главенство в народной фракции и вместе с Сэмом Адамсом обратился к палате представителей с просьбой одобрить письмо ко всем колониям, призывавшее к совместному сопротивлению новой программе Тауншенда. Ответ палаты — отказ, принятый большинством два к одному, — стал для него крайне неприятным сюрпризом[284]. Отис и Адамс редко ошибались в оценке настроений своих коллег, но просчитались в данном случае, вероятно, потому, что палата представителей несколькими днями ранее выразила готовность направить королю и министрам петиции. Подавать петиции, конечно, имели право и граждане, и законно учрежденные органы, такие как колониальные законодательные собрания, а вот письмо к официальным учреждениям в колониях с призывом сопротивляться закону, принятому парламентом, было совсем другим делом. Палата, в состав которой входило много представителей маленьких городов, которые пока еще не ощущали сильной угрозы от программы Тауншенда, сомневалась, стоит ли бросать такой вызов. Почти две недели спустя, 11 февраля 1768 года, фракция Отиса — Адамса сделала еще одну попытку одобрить циркулярное письмо, которая на этот раз удалась. Шокированный и разочарованный Бернард приписал их успех проискам «тайных клик» и бессовестному подкупу членов палаты. Сэм Адамс, обладавший талантом общения с людьми самого разного сорта, которого не хватало Отису, без сомнения, прагматично использовал свои чары и свое влияние. Адамс родился 16 сентября 1722 года в Бостоне в семье церковного дьякона Сэмюэля Адамса и Мэри Фифилд Адамс. Его отец был мелким предпринимателем, снабжавшим бостонских пивоваров солодом. Кроме своего дома и солодовни старший Адамс владел несколькими рабами и небольшим участком земли. Он никогда не был богат, но крепко стоял на ногах. Отец Сэма Адамса был также мировым судьей и активно участвовал в городских собраниях. Похоже, что он, как правило, находился в оппозиции королевскому губернатору. В 1740 году он помог организовать земельный банк в Массачусетсе, выдававший векселя под залог земли. Это была инфляционная схема, и парламент по настоянию губернатора вскоре положил ей конец. Старший Адамс из-за разорения банка потерпел убытки. Неудивительно, что финансовые потери только усилили его нелюбовь к королевскому правлению в колонии. Вполне возможно, что Сэм Адамс разделял чувства отца. Хотя Адамс-старший не посещал колледж, он хотел, чтобы его сын получил образование. Он отправил Сэма в South Grammar School, а затем в Гарвардский колледж, находившийся на другом берегу реки. Там Сэм ничем не отличился. Впрочем, однажды его оштрафовали за «распитие запрещенных спиртных напитков», но это едва ли можно считать достижением. Возможно, самым необычным в его пребывании в Гарварде было то, как редко его наказывали. Некоторое время Сэм (или его отец) подумывал о карьере проповедника, но, даже будучи строгим кальвинистом, он не испытывал желания произносить речи с кафедры. После выпуска он работал в солодовой лавке, затем стал помощником крупного купца, но его наставник решил, что юный Сэм не обладает ни способностями к бизнесу, ни интересом к нему, и отправил его домой. Отец Сэма, обеспокоенный будущим сына, позже попытался помочь ему открыть свое дело и дал на это 1000 фунтов, которые вскоре были одолжены какому-то другу и исчезли. Старший Адамс умер в 1748 году. Сэм унаследовал собственность своего отца, включая солодовню. Отец оставил после себя огромные долги, образовавшиеся после краха земельного банка. Его кредиторы решили забрать собственность, перешедшую к Сэму, и выставили ее на продажу. Во время первого аукциона Сэм пригрозил шерифу, отвечавшему за его проведение, а также потенциальным покупателям. Никто так и не решился на покупку. Этот захватывающий спектакль повторялся четыре раза: объявлялся аукцион, приходили покупатели с деньгами, появлялся Сэм Адамс, произносил резкие речи, покупатели прятали свои толстые кошельки и уходили несолоно хлебавши в сопровождении удрученного шерифа. Адамсу намного лучше удавалось защищать свое имущество, нежели приумножать или хотя бы сохранять его, и к концу 1750-х годов, когда его кредиторы сдались, он распродал большую часть поместья и потратил деньги. К 1756 году Адамс побывал на нескольких мелких должностях в городских учреждениях и был избран на важный пост сборщика налогов. Финансы Бостона едва пережили его пребывание в этой должности. Адамс не был нечестным, а просто неэффективным. Он проработал почти десять лет и выполнял обязательства перед городом за счет того, что использовал собранные в текущем году средства для покрытия недоимок за предыдущий год. В 1765 году он бросил эту игру со счетами, когда задолженность достигла 8000 фунтов. Адамс так и не возместил их. Городской казначей подал на него в суд. Суд постановил, что Адамс должен выплатить 1463 фунта. Однако город не настоял на исполнении этого решения и через несколько лет полностью простил ему весь долг. Симпатию Бостона к Адамсу, возможно, укреплял «Кокус-клуб» — политическая организация, объединявшая ремесленников, купцов, лавочников, нескольких адвокатов и врачей. Клуб сформировался за тридцать лет до революции, по-видимому, для того, чтобы оказывать влияние на городское собрание. Он выдвигал свой собственный список кандидатов на должности в местные учреждения, а затем делал все возможное, чтобы тех выбрали. Джон Адамс сообщал в 1763 году, что клуб собирался в мансарде дома Тома Доуса — каменщика, служившего в бостонском ополчении. Сэм Адамс был малозаметным, но полезным членом клуба. Похоже, что во время борьбы против Акта о гербовом сборе в 1765 году клуб «Кокус» влился в «Сынов свободы». Участие Сэма Адамса в сопротивлении в том и в последующие годы было реальным, хотя и довольно туманным. Теперь же, когда возник кризис, вызванный актами Тауншенда и циркулярным письмом, он наконец обрел собственное лицо. Чтобы циркулярное письмо было одобрено, Адамс, вероятно, признал все свои политические долги. Что важнее, время оказалось очень подходящим для фракции, поскольку в конце любой сессии представители городов из внутренних районов страны чаще всего торопились по домам. Вот и теперь, в начале февраля, когда зимняя сессия близилась к завершению, несколько консерваторов из этих городов уехали, очевидно, уверенные, что все важные вопросы решены. Оставшаяся часть палаты, которую Адамс, Отис и компания подталкивали и, возможно, принуждали, приняла циркулярное письмо, адресованное спикерам законодательных органов других колоний[285]. Циркулярное письмо нельзя назвать «радикальным» документом, оно не предлагало никаких конкретных мер, а лишь представляло собой попытку колониальных законодателей «достичь гармонии друг с другом». Несмотря на иносказательность этого предложения, оно было важным, поскольку должно было укрепить взаимодействие, возникшее в период Акта о гербовом сборе. В основной части письма содержалось твердое заявление конституционной позиции колоний. Ничего нового в нем не появилось, кроме уверенного отказа от иллюзии, что колонии могут когда-либо быть представлены в парламенте. В письме также убедительно излагалось становившееся все более распространенным в Америке мнение, что, хотя парламент являлся верховной законодательной властью империи, он, как и все правительственные и политические органы, пользовался властью на основании конституции — фундаментального закона, который не случайно гарантировал всем подданным право платить налоги с их согласия. Причины возникновения протестов против выплаты зарплат королевским чиновникам из налоговых доходов были ни чуть не менее важными — интересы, безопасность и счастье подданного. Что касается американского таможенного управления, то его способность наращивать численность подчиненных угрожала колониальной свободе[286]. Спикер Кушинг отправил циркулярное письмо спикерам всех других колониальных ассамблей. Несколько ассамблей в тот момент не заседали, но к концу весны ассамблеи Нью-Джерси и Коннектикута ответили положительно, а реакция палаты депутатов Виргинии оказалась по-настоящему драматической. Депутаты, которые в 1765 году повели колонии за собой, не собирались на сессию с апреля 1767 года. Губернатор Френсис Фокье, хорошо усвоивший смысл виргинских резолюций, теперь считал палату депутатов, по сути, подрывной организацией и благоразумно воздерживался от ее созыва, кроме тех случаев, когда, как ему казалось, у него не было выбора. Фокье умер 1 марта 1768 года, и его кресло занял Джон Блэйр — президент совета, который исполнял обязанности губернатора до появления преемника. Блэйр созвал законодательное собрание в конце месяца и поручил ему рассмотреть несколько насущных проблем, среди которых особенно неотложными казались дела индейцев. Спикер Пейтон Рэндолф не имел намерения оставлять без внимания подобные вопросы, но ему также не хотелось игнорировать циркулярное письмо, которое он безотлагательно представил вниманию палаты. Ответ депутатов вышел далеко за рамки того, что предполагала просьба Массачусетса о согласованном обращении к Британии. Вооруженные петициями из округов Виргинии против приостановки работы нью-йоркской ассамблеи, а также против парламентского налогообложения, представители одобрили решительные обращения к королю, палате лордов и общин. Идя на традиционную уступку и признавая, что парламент может регулировать имперскую торговлю, палата представителей настаивала на своем равном с ним статусе как органа законодательной власти. У нее не было желания сделать Виргинию независимой, но и мириться с нарушением прав колонии они не собирались[287]. Такого рода аргументы громко звучали еще три года назад. К 16 мая палата представителей ступила на менее знакомую почву и составила собственное циркулярное письмо. Оно призывало колонии принять совместные меры против британских действий, которые были «направлены непосредственно на их порабощение». Данное предложение, туманное на первый взгляд, должно было, безусловно, означать, что колониям следовало безотлагательно запустить все те механизмы сопротивления, которые были разработаны в 1765–1766 годах. А чтобы рассеять какие-либо сомнения насчет намерений депутатов, они очень тщательно их разъясняли и выражали надежду на «сердечный союз» колоний[288]. Большинство оставшихся ассамблей уже закрыли сессии к тому моменту, когда массачусетское циркулярное письмо до них дошло. По крайней мере одна ассамблея — в Пенсильвании — еще действовала, но после прочтения письма в мае не приняла никаких действия. Легислатура находилась в руках партии квакеров, которая теперь переживала упадок, но не отдавала себе в этом отчета и боялась вызвать раздражение парламента. Как и в 1765 году, партия квакеров стремилась получить королевскую хартию. Это была тщетная надежда, однако она исключала какое-либо оспаривание власти монарха[289].II
Пока эти колонии действовали или медлили, в Массачусетсе и Лондоне происходили события, которые делали неизбежной положительную реакцию на циркулярное письмо и способствовали дальнейшему отчуждению колоний от Великобритании. По сравнению с тем, что происходило между губернатором и фракцией после 11 февраля, циркулярное письмо видится едва ли не беспристрастным образцом государственной мудрости. В течение двух недель обе стороны вернулись к привычному образу действий: фракция — к выпадам, грубостям и даже угрозам по отношению к Бернарду и комиссарам таможни, королевские ставленники — к мольбам, чтобы штыки оградили их от мучителей. Определить, когда именно началась эта дикость, невозможно (хотя в каком-то смысле она началась с появлением Бернарда восьмью годами ранее), но палата, руководимая Отисом, ясно выразила свои чувства, когда обвинила Бернарда во введении в заблуждение британский кабинет министров. Затем она запросила копии писем губернатора государственному секретарю, зная, что тот откажет, и когда он действительно отказал, потребовала его отстранения. После этого Отис и Адамс предоставили Джозефу Уоррену, врачу из Бостона, шанс проявить свое рвение в Boston Gazette, что Уоррен и сделал, написав статью, в который губернатор (не названный, впрочем, по имени) обвинялся в том, что окончательно «перешел на сторону зла» и возможно даже связан с дьяволом. Бернарду следовало бы понимать, что он не сможет ничего выиграть ни для себя, ни для королевской власти, связавшись с Boston Gazette. Но он, очевидно, не сознавал этого и, назвав статью «оскорбительной клеветой», обратил на нее внимание совета и готовился привлечь ее издателей к ответственности. Совет не пожелал принимать участия в этой стычке и порекомендовал предъявить претензию палате представителей. К этому времени Бернард с характерным для него политическим мазохизмом жаждал сатисфакции и последовал рекомендации совета. Два дня в палате представителей притворялись, что совещаются, а затем отклонили обвинение как необоснованное. Со слов Бернарда, которого нельзя назвать независимым наблюдателем, обсуждения в палате активизировал Отис, который рвал и метал, «словно сумасшедший» в палате представителей и оскорблял любого, кто был облечен властью[290]. Верховный судья Томас Хатчинсон попытался защитить Бернарда. Хатчинсон, вероятно, ненавидел эти скандалы еще больше, чем Бернард, и, должно быть, осознавал, что ему не удастся убедить большую коллегию присяжных в Бостоне предать суду издателей Gazette за клевету. Но Хатчинсон — лояльный и решительный человек — поручил генеральному атторнею подготовить проект обвинительного акта в отношении издателей и представить его большому жюри, которое вполне предсказуемо проголосовало против. Агенты фракции, не скрывавшие своих действий (они «были замечены общественностью в преследовании присяжных»), оказались более убедительны, чем верховный судья, губернатор и генеральный атторней вместе взятые. Большое жюри не вынесло обвинительного заключения. Пока происходили все эти телодвижения, ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ вновь напомнил о себе в Gazette, написав, что он затрудняется объяснить этот «странный комплимент» его недавней статье, которую приняли на счет губернатора Бернарда. Сам бы он «скорее отрезал себе руку», чем бросил тень на репутацию честного человека. Но, с другой стороны, «если кому-то совесть говорит, что это он является тем монстром, которого я изобразил, он может быть уверен, что я не имел в виду его. Но если человек знает, что портрет в мрачных красках изображает именно его, то он волен считать его своим». Бернард, возможно, осознав, что в результате всего этого он только теряет лицо, прекратил делать публичные заявления[291]. Если у Бернарда и был моральный авторитет, то он давно испарился. Группа местных купцов даже не посчитала нужным посоветоваться с ним, как им реагировать на закон о доходах, а также не стала сообщать ему о соглашении против импорта британских товаров, заключенном в начале марта. Он не мог бы убедить купцов еще повременить с активными действиями, как не сумел он остановить толпу, праздновавшую годовщину отмены Акта о гербовом сборе двумя неделями позже. Ту ночь 18 марта небольшая компания — комиссар Бёрч, его семья и Томас Хатчинсон — провели вместе с губернатором, пока толпа (масса людей всех слоев, возрастов и обоих полов) кружила по улицам Бостона, кричала и время от времени собиралась вокруг домов таможенных комиссаров. Большого ущерба нанесено не было (за этим следила группа джентльменов), но Бернард и его приближенные чувствовали страх[292]. В этой обстановке напряжения и страха (по крайней мере, для королевских чиновников) таможенные комиссары просчитались так же сильно, как и губернатор. Они поддались импульсивному желанию нанести ответный удар по тому, кто лишь открыто выразил свое презрение к ним и всей их работе. Их жертвой (отнюдь не беспомощной, как оказалось) стал Джон Хэнкок — один из богатейших купцов Бостона. Хэнкок унизил комиссаров вскоре после их прибытия годом ранее, не позволив военизированной части, которой он командовал, участвовать в официальных приветственных мероприятиях, запланированных губернатором Бернардом. Также он решил не посещать с подчиненными банкет, назначенный губернатором во время майских выборов, если там будут присутствовать комиссары, и город проявил солидарность с Хэнкоком, не позволив использовать Фанел-холл для проведения банкета[293]. Комиссары получили возможность свести счеты в апреле, когда Хэнкок принудительно удалил с судна двух контролеров — младших служащих таможни, работавших в подпалубных помещениях его брига «Лидия». Контролеры взошли на борт «Лидии» вскоре после того, как она пришвартовалась. Хэнкок не возражал против их присутствия до тех пор, пока они не спустились вниз без разрешения и без распоряжения о содействии. Когда это дело дошло до внимания комиссаров, они приказали генеральному атторнею провинции составить обвинительный акт против Хэнкока. Его обвиняли в противодействии служащим таможни при исполнении должностных обязанностей. После расследования генеральный атторней отказался от дальнейших действий на том основании, что контролеры превысили свои полномочия, а Хэнкок действовал законно, когда выдворил их[294]. Мнение генерального атторнея не удовлетворило комиссаров, которые сразу же обратились в министерство финансов в Англии. Прецедент, созданный ими, многое говорит о причинах, по которым британцы не смогли успешно управлять Америкой. Большая часть написанного комиссарами свидетельствует о том, что они намеревались сделать из Хэнкока козла отпущения, продемонстрировав его политические преступления. Процессуальные и юридические стороны вопроса казались им вторичными по сравнению с тем вызовом, который Хэнкок бросал королевской власти. Он являлся, как они писали, одним из лидеров «недовольных» в Бостоне. Он оскорбил их первый раз, когда они только прибыли, а затем еще раз — на банкете. Он был явным противником таможенной политики. Доводы комиссаров в пользу уголовного преследования строились на том предположении, что если Хэнкока не привлечь к ответственности, то королевской власти в Америке будет нанесен очередной удар[295]. Дело в том, что достоинство королевской власти волновало таможенных комиссаров больше, чем их рутинная работа, связанная со сбором импортных пошлин и проверкой прибывающих и убывающих кораблей. «Королевская власть» была для этих чиновников гипнотической фразой, наполненной пьянящим, хотя и слабеющим ароматом империи. Размышления о ее состоянии в Америке порождали образы народного правительства, неожиданно возникающего эгалитаризма, а также бесчинств толпы — образы пугающие, вопиющие об одержимости дьяволом. Пытаясь понять американцев, заигрывающих с таким безумством, один из комиссаров, Генри Халтон, объездил весь Массачусетс и Коннектикут, чтобы лично разобраться в этих заблуждениях. Чувство превосходства, которое он испытывал по отношению к американцам, отчетливо читается в его описаниях: в повседневной жизни, а равно и во время беспорядков, терроризировавших жителей Бостона, американцы демонстрировали презрение к социальным рангам. При этом они обладали большой энергией: народ, не имеющий такой энергии, не мог бы заставить неплодородную землю приносить урожай. Несмотря на это признание Халтона, сделанное скрепя сердце, его непонимание ситуации и сословное высокомерие очевидны. Он считал, что имеет дело с неполноценной породой людей, поэтому его (и целого ряда других карьеристов) рекомендации — заставить американцев соблюдать порядок и уважать королевскую власть — проистекают из социальных различий, а также из традиционной политики колониального правительства[296]. Нельзя сказать, что таможенные комиссары не заботились о строгом исполнении законов, регулирующих торговлю. Они старались добиться их соблюдения как подконтрольной им службой, так и купцами. Когда они прибыли на материк в ноябре 1767 года, их шокировала постановка таможенного дела в Америке, во всяком случае, это можно наверняка сказать о Халтоне и Бёрче, так как они впервые оказались в Бостоне. Темпл и Пэкстон, имевшие больше опыта, давно оправились от шока, который они испытали, поступив на службу в таможню, а Робинсон, переживший настоящее потрясение в самом начале работы здесь, когда попытался наложить арест на судно «Полли» за контрабанду патоки, уже кое-что знал о нравах американцев. Все комиссары, за исключением Темпла, от которого остальным было мало проку, хотели затягивания гаек в системе. Оценивая ведение бизнеса в Новой Англии, они обнаружили, что контрабанда «чрезвычайно распространена», но при этом было произведено лишь шесть арестов судов в связи с нарушениями за последние два с половиной года. А за этими шестью арестами последовало только одно успешное обвинение, другие же корабли были либо отбиты толпой, либо возвращены решениями присяжных в местном суде[297]. Комиссары понимали, что их трудности отчасти связаны с их подчиненными, так как некоторые из них брали взятки, а возможно, даже требовали их. Их решение состояло в том, чтобы нанять больше сотрудников, что представлялось странным и вряд ли принесло бы успех, если только они не смогли бы добиться честности при исполнении теми своих обязанностей. Время скоро показало, что им это не удалось. Потерпев поражение от Хэнкока в деле «Лидии», комиссары затаили обиду, а 10 июня приказали ревизору Бенджамину Хэллоуэллу и сборщику налогов Джозефу Харрисону наложить арест на шлюп Хэнкока «Либерти». «Либерти» пришвартовалась у американских берегов 9 мая, прибыв с Мадейры с грузом вин на борту, некоторые из которых были «превосходной мадерой» и предназначались к столу самого Хэнкока. В день прибытия «Либерти» два контролера взошли на борт судна, чтобы убедиться, что на нем нет незадекларированного товара. На следующий день из трюма выгрузили 25 бочек вина. Хэнкок заплатил положенную пошлину, и контролеры отчитались, что другого груза на корабле нет. В следующем месяце «Либерти» взяла на борт бочки с ворванью и дегтем[298]. 10 июня, в день ареста, один из контролеров, Томас Кирк, показал под присягой, что солгал в своем отчете о разгрузке «Либерти» в мае и что на самом деле после того, как он отказался от взятки, предлагаемой капитаном Хэнкока, его насильно удерживали в подпалубных помещениях в ночь прибытия корабля. Находясь взаперти, он слышал, как что-то разгружали в течение примерно трех часов, а когда его освободили, ему пригрозили и велели держать язык за зубами. Другой контролер не мог подтвердить или опровергнуть эти показания, потому что, со слов Кирка, валялся дома пьяный. Кирк якобы решил сознаться, потому что больше не опасался за свою жизнь, так как угрожавший ему капитан Хэнкока умер. Капитан, надо заметить, умер еще 10 мая[299]. Что бы ни было правдой в этой истории (отчет Кирка представляется довольно-таки сомнительным), она стала предлогом для действий против «Либерти». В обвинении, по которому судно было арестовано, не шло речи о вине или обстоятельствах разгрузки судна в мае, а указывалось, что Хэнкок погрузил ворвань и деготь без разрешения. По строгой интерпретации соответствующих законов, Хэнкок был виновен: он не представил необходимые бумаги до погрузки товаров. Это произошло потому, что в Бостоне, как и в других колониальных портах, принято было вначале грузить, а уже потом готовить необходимые бумаги, когда становился известен точный объем и состав груза. Комиссары, воодушевленные «свидетельством» Кирка, очевидно, приказали наложить арест на чисто формальном основании, к чему ранее в Бостоне никогда не прибегали. Как и в случае с «Лидией», им казалось, что у них появилась возможность выступить в защиту королевской власти, ударив по одному из самых наглых противников короны в Америке. Они, возможно, искренне верили рассказам Кирка, хотя если это так, то они упустили из виду простое объяснение его неожиданной честности и храбрости: став доносчиком, он получал треть выручки от продажи конфискованного корабля и груза[300]. Хэллоуэлл и Харрисон наложили арест на корабль на закате и сразу же дали сигнал пятидесятипушечному военному кораблю «Ромни», чтобы «Либерти» отвели от пристани в залив. С «Ромни» выслали шлюпку, чтобы выполнить приказ. Переместить «Либерти» оказалось непросто: группа собравшихся на пристани людей начала драться с матросами с «Ромни», желая, чтобы корабль остался пришвартованным у пристани Хэнкока. Никто не был убит или серьезно ранен в этой потасовке, а люди с «Ромни» в итоге взяли верх и отбуксировали «Либерти» под защитой пушек своего корабля. Оставшаяся на пристани толпа, состоявшая, по словам Томаса Хатчинсона, «в основном из крепких парней и негров», переключила свое внимание на Харрисона и Хэллоуэлла, которым повезло сбежать и тем спасти свою жизнь. Однако Хэллоуэлл пострадал сильнее, чем Харрисон, который скрылся в переулке, получив тяжелый удар в область туловища. Хэллоуэлла же, который остался лежать на земле, покрытый синяками и залитый кровью, спасли какие-то джентльмены из толпы (что бы там ни говорил Хатчинсон о «крепких парнях и неграх»). Дома чиновников подверглись уже привычным в подобных случаях нападениям: были разбиты окна и нанесен другой незначительный ущерб, однако их не разграбили, хотя в 1765 году этого вполне можно было ожидать. Ближе к полуночи толпа разрослась до нескольких тысяч человек, которые хлынули на улицы в поисках служащих таможни и избивали их, если они попадались ей на пути, пока все не стихло примерно к часу ночи[301]. Выходные дни прошли мирно: «Вечера субботы и воскресенья священны», — замечал Хатчинсон[302]. Но под личинами спокойствия обеих сторон и Хэнкок вместе с «Сынами свободы», и власти планировали свои следующие шаги. Таможенным комиссарам не пришлось долго думать, что делать: они вместе со своими семьями и подчиненными перешли на «Ромни». Такое убежище не казалось подходящим или необходимым губернатору Бернарду, который в понедельник встретился с советом в безуспешной попытке убедить его членов попросить прибытия войск. Члены совета прохладно отнеслись к этому предложению, сказав губернатору, что «они не хотели бы получить по голове». «Сыны свободы», напротив, разгорячились и призывали «очистить землю от паразитов, которые пришли, чтобы опустошить ее»[303]. До конца недели «Сыны», как признали Бернард и Хатчинсон, полностью взяли город под свой контроль. Они превратили массовое собрание вокруг Либерти-холла (как называлась земля под Liberty Tree — Деревом свободы) в череду легальных городских собраний; они выслушали всякого рода сумасбродные предложения от чудаков (например, поставить все военные корабли в порту под командование городского собрания), а затем спокойно подали прошение губернатору, чтобы тот приказал «Ромни» покинуть Бостон. Они возобновили известное дело против парламентского налогообложения; велели представителям города в палате сделать все возможное для предотвращения новых реквизиций и разобраться, действительно ли таможенные комиссары либо кто-то еще попросили отправить в Бостон королевские войска[304]. Резолюция города насчет войск не предвещала ничего хорошего. Бернард, должно быть, прочел ее с ужасом, ведь он давно желал прибытия войск, но не решался попросить об этом без одобрения совета. Таможенные комиссары не чувствовали подобных ограничений и давно об этом просили, оправдываясь тем, что «губернатор и чиновники не имеют здесь никакого авторитета или реальной власти». Бернард знал о желаниях комиссаров (он достаточно часто говорил о своей неспособности удовлетворить их), но он не стал бы действовать самостоятельно, хотя и не желал признавать, что его власть испарилась. Не похоже, чтобы он сильно опасался за свою безопасность, хотя один друг рекомендовал ему «уносить ноги» в случае прибытия войск. Скорее, он был глубоко подавлен из-за слабости своего правительства в Массачусетсе. Кроме того, Бернард знал, что ему не избежать еще одного кризиса, поскольку недавно были доставлены инструкции Хиллсборо, по которым следовало «призвать» палату аннулировать циркулярное письмо. Бернард наверняка понимал, что палата откажется, а также что роспуск палаты после ее отказа по требованию Хиллсборо — государственного секретаря по делам американских колоний — ничего не решит[305]. Тем не менее у Бернарда не было выбора, и 21 июня в атмосфере, все еще отравленной дымом мятежа из-за «Либерти», он передал приказ Хиллсборо аннулировать письмо. Палата медлила несколько дней, а Отис произнес взволнованную речь, которая снова, на первый взгляд, казалась несвязанной с обсуждаемыми вопросами, но на самом деле была рассчитана на то, чтобы вызвать у американцев отвращение к испорченности англичан, в то время как «клика» тщательно подсчитывала своих сторонников. Бернард требовал ответа трижды и 30 июня получил то, чего так боялся: «против» проголосовало 92, «за» — семнадцать, а палата назвала циркулярное письмо «невинным», «добродетельным» и «похвальным». После этого губернатор поступил согласно распоряжению и распустил легислатуру[306]. Когда члены палаты отправились «паковать чемоданы», ситуация для Бернарда и королевской власти только ухудшилась. У «Сынов свободы» теперь появилось еще одно дело: представителям народа отказывали в праве собираться и направлять петиции для принятия мер против несправедливостей. Раздраженное письмо Хиллсборо к Бернарду, вскоре появившееся во всех газетах, тоже не помогало успокоить взволнованные умы. Вместе Хиллсборо и Бернард дали народной партии такие возможности, которые она не могла упустить. Члены палаты, проголосовавшие против аннулирования циркулярного письма и теперь ставшие чуть ли не святыми (их называли «Славные девяноста два»), вскоре имели удовольствие прочесть свои имена в Boston Gazette. Сторонники аннулирования, о которых, естественно, отзывались куда менее лестно, тоже увидели свои имена на бумаге. Те же члены палаты, которым довелось отсутствовать во время голосования, начали наперебой писать спикеру Кушингу, заверяя его, что если бы они присутствовали, то «Славные девяноста два» стали бы еще более многочисленной группой. Спикер Кушинг сделал им одолжение, передав их письма в Gazette. Это давление, под которым большинство подчинилось популярной линии поведения, не назовешь тонким, однако оно было мягким в сравнении с нападками Gazette на некоторых сторонников аннулирования[307]. К тому времени Отис, Адамс и их последователи уже набили руку в использовании прессы. Они почти превзошли себя летом 1768 года. Конституционные вопросы искусно разъяснялись (особенно проблема угрозы свободе, обусловленная роспуском палаты), разбирались новые версии министерского заговора против колоний. Сэм Адамс много писал тем летом, часто под псевдонимом «Детер-минатус». Он так обобщил причины народного возмущения:Возьму на себя смелость сказать, что я ничуть не больший сторонник «восстаний, мятежа и незаконных собраний», чем его превосходительство. Но когда народ угнетается, а его права нарушаются, когда посягают на его собственность, когда на него насылают надсмотрщиков, когда флот на его глазах навязывает ему неконституционные законы и каждый день ему угрожают войска, когда распускается легислатура (!), а правительственные решения принимаются тайно, словно султанским советом, когда вокруг роятся чиновники и их прихлебатели, то в таких обстоятельствах народ будет недоволен, и его нельзя в том винить…[308]Адамс не преувеличивал народного недовольства; губернатор также сообщал о нем своему начальству в Лондоне. Были и другие признаки, помимо газетных сообщений. Примерно через неделю после роспуска палаты около пятидесяти «Сынов свободы» пытались захватить Джона Робинсона —таможенного комиссара — в его доме в Роксбери: прошел слух, что Робинсон покинул свое убежище в крепости, куда бежал в июне. Слух оказался ошибочным, и «Сыны» удовлетворились тем, что сломали фруктовые деревья Робинсона и забор вокруг его дома. Позже, в июле, гораздо более многочисленная толпа попыталась заставить уйти в отставку Джона Уильямса, генерального инспектора таможни, но он не поддался давлению[309]. Губернатор, тем не менее, был напуган этими жестами недовольства и жаловался на это в отчаянных письмах домой. «Обученная толпа, — сообщал он, — контролирует город». Он оказался между «двух огней»: толпой, которая не простила бы ему просьб о военной помощи, и британскими властями, которые обвинили бы его, если бы этих просьб не последовало. Через несколько дней он решил попросить совет поддержать его просьбу о направлении войск и получил ожидаемый ответ — единогласное «нет». Глубоко опечаленный, он сокрушался в переписке с Баррингтоном: «Теперь все кончено», — не зная, что вскоре дела пойдут еще хуже[310]. Летом группа Отиса и Адамса, возможно, излучала уверенность, которой они не чувствовали. Ходили слухи, что войска в пути, и солдаты хотя бы на время укрепят позицию Бернарда и комиссаров. Чтобы поддержать народный энтузиазм, Отис и Адамс заставляли печатные станки работать без остановки, и 15 августа, в годовщину бунта против Оливера, устроили пышное празднование с залпами орудий, музыкой (включая «Американскую песнь свободы»), большим парадом и четырнадцатью тостами, последним из которых был за «славных девяносто двух». Затем были еще залпы из пушек, и присутствовавшие джентльмены отправились в таверну «Грей-хаунд» в соседнем Роксбери на «скромный, но изысканный» ужин. Там они снова поднимали бокалы, а после освящения Дерева свободы в Роксбери вся группа вернулась в Бостон[311].
III
Губернатор Бернард ненавидел такие выражения «народной» воли, но ему хватило выдержки до начала сентября, когда вышла статья в Gazette, «содержавшая такое политиканство, которое выходило за все прежние рамки» и заставившая его совершить стратегическую ошибку. Статья, а точнее ряд вопросов от Клерикуса Американуса, была посвящена различным поводам для недовольства, которые уже давно обсуждались американцами. Внимание Бернарда привлек ответ на вопрос некоего Сиднея: «Что нам делать, если в Бостон пришлют войска?» Клерикус Американус отвечал с пугающей прямотой: колонии должны объявить о своей независимости. 27 августа Бернард получил подтверждение, что войска отправлены в Бостон. Страшась «переворота», который был возможен, если бы они прибыли без предупреждения (и убежденный стараниями Клерикуса в том, что ситуация может стать взрывоопасной), 9 сентября он обнародовал известие о том, что войска приближаются, и тем самым создал для себя еще больше проблем. Рассказав, что знал, Бернард дал народным лидерам время на подготовку. Внезапное прибытие войск вряд ли встретило бы сопротивление и наверняка лишило бы оппозиционеров возможности организовать действенный протест. А вышло так, что народные лидеры использовали в своих интересах прибытие войск как до, так и после их фактического появления, чтобы поднять удаленные города. Надеясь предотвратить сопротивление, Бернард лишь поспособствовал ему[312]. Бостонское городское собрание намекнуло Бернарду, что он просчитался, когда пригласил комитет на встречу, чтобы официально уведомить о прибытии войск: оно также потребовало, чтобы он созвал легислатуру. Губернатор незамедлительно ответил, что его информация носила «личный характер» и у него нет полномочий созывать очередную ассамблею до распоряжения короля. Бернарда обвинили во лжи по обоим утверждениям, что было жестким обвинением, но это не вызывало такого напряжения, как получение инструкций от Хиллсборо[313]. Город не признавал отказа. Если он не получит легислатуру, то созовет общее собрание городов, чтобы обсудить сложившийся кризис. Члены городского управления также вспоминали старый статут — «правильный и полезный закон этой провинции», — по которому каждый солдат и домовладелец должен иметь оружие и боеприпасы и подчиняться приказам. Их доводы были обусловлены «распространившимся в умах многих страхом грядущей войны с Францией». Эта мрачная шутка, в которой Францией подменили Англию, не забавляла губернатора. Чтобы убедиться, что все уловили суть, члены городского управления принесли на собрание четыреста ружей и выставили их на всеобщее обозрение[314]. Прошло чуть больше недели, когда 22 сентября в Бостоне прошло общее собрание городов. Отис, Кушинг, Сэмюэль Адамс и Джон Хэнкок представляли Бостон; Кушинга выбрали председателем, а Адамсу поручили функции секретаря. В начале собрания присутствовало 70 представителей из 66 городов и нескольких округов, а ближе к его закрытию 27 сентября прибыли представители еще 30 городов. Наблюдатель, преподобный Эндрю Элиот из Бостона, сообщал, что собрание разделилось на три «партии»: одна, боявшаяся, что оно незаконно, и призывавшая разойтись; вторая, не признававшая ограничения народных прав; и третья, готовая ожидать прибытия войск и затем взять все (вероятно, правительство) в свои руки. Ход собрания позволяет предположить, что умеренные участники в конце концов стали контролировать обсуждение, несмотря на глубокие разногласия между делегатами[315]. Началось все со споров вокруг петиции к губернатору. Сразу было сказано, что собрание не имеет претензий к «официальным или правительственным актам», хотя при этом также отмечалось, что участники прибыли из всех уголков провинции, что свидетельствовало о повсеместной распространенности тревог. Чтобы успокоить людей, губернатору следовало созвать законодательный орган, который затем мог бы обсудить, как справиться с угрозой, которую несло приближение армии, а также потребовать удовлетворения жалоб. Губернатор отказался принять эту петицию и потребовал роспуска собрания, намекнув в короткой записке, что в случае неподчинения делегаты могут столкнуться с уголовным преследованием. Это спровоцировало жесткую реакцию Томаса Кушинга, который вопрошал: «В чем состоит незаконность наших действий?» Бернард повторно отказался принять послание от собрания, и заседание продолжилось в тайне. В итоге делегаты согласовали «Итог собрания» и составили петицию к королю. Эти документы не отстаивали колониальную конституционную теорию и не угрожали сопротивлением высадке войск. «Итог» просто продемонстрировал желание делегатов добиться созыва законодательного органа[316]. Это требование оказалось не столь важно для развития колониального сопротивления, как сам факт того, что собрание состоялось. Оно не было преступным или незаконным, однако обозначило рост неповиновения королевской власти. Его члены не были расположены воевать с британской армией. Отис, по-видимому, говорил мало; Адамс, возможно, сказал больше, но не требовал применения силы; Кушинг выступал против вооруженного сопротивления, хотя советовал изгнать Бернарда и Хатчинсона из колонии. Но Бостон отличался от Массачусетса, а ненависть, напряжение и ощущение угрозы политической свободе со стороны войск были гораздо слабее в небольших городах и на фермах в глубинке, чем в Бостоне[317]. Через день после окончания собрания в бостонскую гавань начали заходить корабли с солдатами из Галифакса (из 14-го и 29-го полка). Еще больше их прибыло на следующий день в сопровождении военных кораблей. Первого октября они построились на берегу под защитой пушек боевых кораблей[318]. Губернатор, возможно, почувствовал облегчение, но признался, что не видит будущего для королевского правительства в провинции. «Сыны свободы», казалось, разделяли его чувство, но в данном случае это внушало им радость. Между тем причин для радости не было вовсе: мучения Бернарда еще не закончились, а Бостону и Америке они еще только предстояли.9. «Бастарды Англии»
I
Британские войска не положили конец недовольству бостонцев, а лишь стали его новым объектом. Насущная проблема, вставшая перед ними, заключалась в том, что городские и провинциальные власти отказывались их содержать. Губернатор Бернард тщетно грозился выбить деньги из легислатуры; полковник Далримпл говорил грозно, но ничего не достиг; прибывший из Нью-Йорка генерал Гейдж тоже обнаружил, что неспособен ничего добиться. Некоторое время казалось, что можно использовать «мануфактурный дом» — здание, в котором располагались школа прядения и мастерские по производству льняной ткани, но как только Далримпл собрался расквартировать там часть своих людей, дом заняли несколько десятков бедных семей, которые отказывались его покидать. Отис, Адамс и их товарищи, вероятно, подстрекали эти семьи к тому, чтобы заявить свои права на это здание. Так или иначе Далримпл понимал, что насильственное выселение бедняков сулит ему лишь головную боль[319]. Пока происходили все эти мелкие конфликты, часть солдат ставили палатки на пустырях, некоторые расположились в Фанел-холле, другие — в замке Уильямс. Прошло не так много времени, прежде чем Гейдж и Бернард разрешили использовать королевские фонды для аренды нескольких крупных складов, которые затем были переоборудованы в казармы. Владельцы этих зданий практически не сталкивались с недовольством общественности: судя по всему, согласие брать британские деньги не компрометировало сопротивления размещению на этих землях королевских войск.II
В других колониях такие сделки могли не понять. О них не было широко известно, однако новости о переброске войск в Бостон распространились быстро. Прибытие солдат спровоцировало летнее брожение и фактически гарантировало то, что призыв Массачусетса в циркулярном письме получит массовую поддержку. Хиллсборо подготовил почву для активных действий колоний; некоторые колонисты говорили, что он не оставил им выбора. Дело в том, что в апреле, когда он отправил губернатору Бернарду приказы, он также написал свое циркулярное письмо другим губернаторам колоний, поручив им проинструктировать свои ассамблеи, чтобы те не обращали внимание на письмо из Массачусетса. В том случае, если бы собрания ослушались этого приказа, губернаторам следовало их распустить[320]. Глупое самодовольство Хиллсборо, презрение, с которым на него смотрели члены палаты представителей в Массачусетсе, прибытие солдат в Бостон, наряду с информацией о бунте из-за «Либерти» и таможенных комиссаров, — все это помогло появлению официальных деклараций, поддерживающих циркулярное письмо и протестующих против законов Тауншенда. Но местная политика за рамками этих событий и сопутствующих им обстоятельств продолжала влиять на форму, содержание и выбор времени актов колониального сопротивления. Нью-Джерси, Коннектикуту и Виргинии не потребовались специальное побуждение в виде этих событий, ведь они начали действовать еще в конце зимы или начале весны. Ассамблее Мэриленда этого, возможно, было бы достаточно, но губернатор Хорейшо Шарп благонамеренно и с сознанием долга ее пришпорил. В конце июня Шарп сопроводил письмо Хиллсборо запиской, в которой он высказывал свою убежденность в том, что собрание «не обратит внимания» на циркулярное письмо. Повторение слов Хиллсборо оказалось крайне неподходящей тактикой. Делегаты ответили, что их «не отвратить от правого дела несколькими громкими выражениями», хотя и не пояснили, что именно они считают правым. Впрочем, они недолго скрывали это от Шарпа: на следующий день они одобрили петицию королю, в которой высказывали недовольство пошлинами Тауншенда и просили их отменить. Главный постулат петиции мало отличался от того, что к тому времени уже фактически стало американской доктриной: это был, как заявляла ассамблея, «прочный и неизменный принцип природы вещей, составляющий саму идею собственности, согласно которому то, что человек честно приобрел, не может быть отнято у него без его согласия»[321]. Получив острый ответ, Шарп мог и не читать петицию. Он и так уже знал, что нужно делать, и немедленно распустил ассамблею. Осенью и в начале зимы ответили Делавэр, Северная Каролина и Джорджия, сыгравшие незначительную роль в кризисе Акта о гербовом сборе. Ассамблея Делавэра официально получила только виргинское письмо, но в октябре в петиции королю она примкнула к тем, кто оспаривал конституционность новых налогов. Северная Каролина одобрила похожую петицию и вела себя с тонкостью, которую ее губернатор Уильям Трайон спутал с «умеренностью». Трайон узнал тремя годами ранее, что жители Северной Каролины могут проявлять крутой нрав, и предпочел не распускать ассамблею, несмотря на приказ Хиллсборо. В Джорджии палата общин (Commons House) ассамблеи решила подождать до конца декабря, но успела отправить обращение к королю, составленное по образцу циркулярного письма, прежде чем губернатор Джеймс Райт распустил ее[322]. В этих колониях местных противоборствующих группировок либо не существовало, либо они умудрялись переступить через свои конфликты благодаря общему недовольству программой Тауншенда. В других колониях все происходило не столь гладко. Фракции Уорда и Хопкинса в Род-Айленде всю весну выясняли политические отношения и пытались достичь соглашения о должности губернатора, но летом они решили, что ассамблее следует отправить королю петицию против новых налогов. К тому времени, как король отклонил петицию, ассамблея, работавшая теперь вполне слаженно, уведомила кабинет министров о том, что она разделяет популярную в Массачусетсе позицию[323]. Фракционность обычно не мешала движению той приливной волны, которую оседлала элита в Южной Каролине. Эти рисовые плантаторы уже давно привыкли делать все по-своему, помыкая правительством, когда в 1768 году они столкнулись с двумя вызовами. Первый обозначился еще годом ранее. «Регуляторы» в отдаленных районах, названные так, видимо, потому что им надлежало регулировать положение дел, поддерживать закон и порядок и налаживать управление на западе, сами являлись плантаторами, хотя и не выращивали рис. Среди них были также крепкие представители среднего класса, владельцы магазинов, несколько ремесленников, землевладельцев, которые в 1767 году, раздраженные безразличием правительства, взяли закон в свои руки. Перед ними стояли серьезные проблемы: эта местность все еще не пришла в себя после опустошительной войны с чероки (1760–1761), в ней орудовали банды преступников, грабившие уважаемых соседей, и почти полностью отсутствовали правительственные и другие институты. К марту 1768 года «регуляторы», организовавшиеся в отряды рейнджеров, уничтожили или прогнали большинство преступников и, окрыленные успехом, взяли на себя обязанности по сбору долгов, надзору за семейной жизнью, а также принялись энергично, хотя и довольно грубо, трудоустраивать безработных. К осени они смогли отразить попытки востока положить конец этой деятельности, а в октябре им удалось добиться избрания двух или трех своих представителей в легислатуру. Они не имели четкой позиции в отношении мер Тауншенда, поскольку их занимали более насущные заботы, такие как расширение представительного правительства на запад. Однако их требования и привычка к применению силы почти два года отвлекали внимание легислатуры[324]. В двери легислатуры Южной Каролины стучалась еще одна группа с другим набором требований. Мастеровые люди Чарлстона заинтересовались политикой несколькими годами ранее, во время истории с гербовыми сборами. Теперь, в октябре 1768 года, в преддверии выборов они выдвинули кандидатуру Кристофера Тадсена — купца и плантатора, а не ремесленника — и начали проводить массовые собрания, прославляя американскую «свободу». Они произносили тосты за «славных девяносто двух», «освящали» дерево свободы, пели песню свободы Джона Дикинсона, хвалили Джона Уилкса и призывали ассамблею игнорировать приказ Хиллсборо. Гадсен был избран, но ассамблея осталась в прежних надежных руках. И все же из-за действий жителей запада и Чарлстона старый порядок пошатнулся. Когда в ноябре ассамблея собралась, почти половина ее членов воздержалась от голосования по важнейшему вопросу. Губернатор Монтегю в своем обращении, открывавшем сессию, сообщил палате, что ожидает от нее безразличного отношения к любым крамольным письмам, которые она получила, что было прозрачным намеком на массачусетское циркулярное письмо. Палата заявила, что подобных писем она не получала, а затем приняла резолюции, в которых протестовала против пошлин Тауншенда и хвалила письма из Массачусетса и Виргинии. На момент голосования из 48 членов присутствовали лишь 26, причем все из Чарлстона или близлежащих округов. Прочие не явились то ли из страха, то ли из желания продемонстрировать свою оппозиционность. Узнав об этих резолюциях, губернатор исполнил полученные инструкции и распустил ассамблею. Она заседала ровно четыре дня[325]. В Пенсильвании партия квакеров, успешно затянувшая с проявлением какой-либо реакции, когда легислатура получила циркулярное письмо, оказалась лицом к лицу с набиравшей силу оппозицией, когда сюда дошли новости о событиях в Массачусетсе. Джозеф Галлоуэй — спикер ассамблеи Пенсильвании — раскритиковал Хиллсборо в газете Pennsylvania Chronicle, выступая под псевдонимом Пацификус, но тоже призывал ждать, пока агенты колонии в Лондоне не получат шанс обжаловать новые налоги. В действительности же Галлоуэй просил не торопиться по другой причине — чтобы дать Франклину больше времени, которое требовалось для утверждения в колонии королевского правления. Официальный выпад против парламента или поддержка циркулярного письма определенно не облегчили бы задачу Франклина. Большая часть колонии, похоже, не желала введения королевского правления, и в июле, несмотря на газетную уловку Галлоуэя, в Филадельфии состоялось массовое собрание, участники которого потребовали действий в поддержку Массачусетса. К сентябрю, когда состоялось очередное заседание ассамблеи, Галлоуэй и партия квакеров, казалось, потерпели поражение: их патриотизм не возбуждал одобрения из-за их явной неспособности защитить колониальные интересы от посягательств кабинета министров, притом что они продолжали искать способы для усиления королевского контроля. Ассамблея, которая теперь сделалась гораздо более чувствительной к настроениям народа, отправила протесты королю, лордам и членам палаты общин, отрицая право парламента облагать колонии налогами и требуя для американцев всех прав англичан. Тем не менее ассамблея проявила осторожность и не одобрила циркулярного письма. Похоже, Галлоуэю удалось спасти хотя бы часть своего влияния[326]. Как и в Пенсильвании, нью-йоркские группировки старались извлечь выгоды из разногласий с империей. Легислатура готовилась к выборам, когда Массачусетс отправил свое циркулярное письмо. Ливингстоны выстояли на выборах в марте 1768 года, хотя их влияние на ассамблею и ослабло в результате поражения одного из руководителей, Роберта P. Ливингстона из округа Датчесс. Другой предводитель в Нью-Йорке — Джон Морин Скотт — также потерял свое место в ассамблее. Проблема Ливингстонов заключалась в их репутации: по их наущению ассамблея согласилась с Квартирьерским актом и поддержала использование регулярной британской армии против арендаторов в сельских районах штата, восставших в 1766 году[327]. Деланси, явно ничуть не более «патриотичные», чем Ливингстоны, увидели в циркулярном письме возможность потеснить своих противников. Поняв, что губернатор Мур распустит ассамблею, если она поддержит циркулярное письмо (что, разумеется, означало бы новые выборы), Деланси решили побудить ассамблею начать действовать. Сначала им недоставало депутатских голосов, но благодаря удачному, хотя и несколько неуклюжему использованию прессы, массовых собраний и сжигания чучел массачусетского губернатора Бернарда им удалось привлечь на свою сторону достаточное число представителей, чтобы убедить ассамблею поддержать конституционный порыв народа и присоединиться к циркулярному письму. Ни одному представителю не хотелось, чтобы его заклеймили как «врага страны» — такой ярлык Деланси вешали на тех, кто отказывался открыто бросить вызов лорду Хиллсборо. Как только губернатор Мур узнал о действиях ассамблеи в конце декабря, он распустил ее и вскоре назначил новые выборы, которые Деланси успешно выиграли. Всем стал вполне ясен практический смысл нового патриотизма[328].III
За действиями официальных органов, чьи петиции, обращения, протесты и циркулярные письма на первый взгляд кажутся далекими от чувств простых людей, стояло народное недовольство, которое вскоре перерастет в гнев. Обеспокоенность этой анонимной массы новой британской политикой действительно помогла склонить общественные институты к активным действиям. В Виргинии, где делегатами были составлены решительные резолюции, «всякие фригольдеры» из нескольких округов собрались и составили собственные петиции против приостановки работы нью-йоркской ассамблеи, в котором они видели «пагубную тенденцию… угрожающую привилегиям свободного народа», клеймя Квартирьерский акт и пошлины Тауншенда как «жестокие и антиконституционные»[329]. Эти и подобные петиции принимались на небольших неформальных собраниях, организуемых людьми без высокого социального статуса или постов, но болеющих за свои и народные интересы. В течение следующих трех лет все больше и больше таких людей включались в политическую деятельность. Протесты против Британии ширились, чему способствовала атмосфера цейтнота и кризиса, а также тот факт, что официальные органы всех уровней оказались неспособны защищать интересы американцев настолько действенно и страстно, насколько того требовала общественность. Это расширение участия, однако, происходило медленно и неравномерно, как, например, в ходе движения против ввоза британских товаров в 1768 и 1770 годах. Экономическое сдерживание в виде отказа импортировать британские товары сработало тремя годами ранее, а теперь, в 1768 году, официальные и неофициальные органы снова обратились к этой мере. Как и следовало ожидать, первые попытки заключить «антиимпортный пакт» были сделаны в Бостоне. Клика (Junto), как называли собравшуюся вокруг Сэма Адамса группу, сначала попробовала добиться этого на городском собрании в октябре 1767 года; в отсутствие легислатуры этот город, ставший своего рода вождем провинции, оказался для этого вполне подходящим местом. Купцы, которые ранее уже выразили свое негативное отношение к прекращению торговли, пришли на собрание в достаточном количестве, чтобы провалить предложения о запрете на торговлю с Великобританией до отмены новых налогов. Лучшее, чего смогла добиться клика, было добровольное соглашение об отказе от потребления, связывавшее лишь тех, кто подписался не использовать определенный перечень британских товаров, в который вошли даже не все облагаемые пошлинами изделия. Горожане также решили стимулировать местные мануфактуры и выделили бумагу и стекло в качестве особенно важных для внутреннего производства[330]. Город горячо рекомендовал всей провинции присоединиться к этому соглашению. Его подписанты предлагали поощрять «трудолюбие» местных жителей, чтобы ограничить рост популярности британских «предметов роскоши», убрать «излишества». Это был язык протестантской этики, апеллировавший к ценностям, все еще глубоко укорененным в культуре Новой Англии и лишь чуть менее — в культуре срединных и южных колоний, где позже тоже появились соглашения, запрещающие ввоз английских товаров. Сила этого языка, вероятно, оказывала наибольшее воздействие на небольшие города, где протестантизм был еще почти не тронут городской модой. Так или иначе в течение следующих трех месяцев по всей Новой Англии города начали брать пример с Бостона, обязуясь бойкотировать британский импорт. Неизвестно наверняка, действительно ли народные лидеры в Бостоне верили, что этот бойкот повлияет на британскую политику. Но в начале 1768 года они надавили на купцов, чтобы те начали сворачивать импорт из Великобритании. Впрочем, некоторые купцы сделали это по собственной воле, например, Джон Роу написал в своем дневнике, что пошлины Тауншенда «не менее опасны, чем Акт о гербовом сборе»[331], и в марте он вместе с другими купцами согласился на один год ограничить большую часть британского импорта. Это соглашение так и не вступило в силу, поскольку бостонские купцы решили не соблюдать его условия, пока к ним не присоединятся их конкуренты из Нью-Йорка и Филадельфии. К середине апреля практически все нью-йоркские купцы подписали аналогичный договор, но в июне (это был крайний срок, установленный ими) купцы Филадельфии отказались примкнуть к ним, несмотря на уговоры Джона Дикинсона[332]. Дело было не в жадности или «непатриотичности» филадельфийских купцов. Нельзя сказать, что им недоставало принципиальности или что их устраивали новые пошлины. Просто они были более независимы, в том числе от настроений масс, чем их коллеги из Бостона и Нью-Йорка. Хотя в Филадельфии толпа громко заявила о себе еще три года назад, этот город и тогда не содрогался в конвульсиях, как Бостон и Нью-Йорк. При этом одна важная фракция (партия квакеров, которую возглавляли Франклин и Галлоуэй), тянувшая время в ожидании королевской хартии, ослабила или как минимум расколола общественное мнение. Таким образом, в этой атмосфере пусть не братской любви, но умеренности купцы Филадельфии были способны защищать свои торговые права и прибыли, даже несмотря на то, что они презирали узурпаторские действия парламента[333]. Ситуация между тем становилась все мрачнее во всей Америке, а бойкот британских товаров распространился на все колонии, кроме Нью-Гэмпшира. Как и раньше, главный импульс исходил от Бостона. Почему бостонские купцы решили составить очередное соглашение, понять нетрудно. Они оставили свои первоначальные усилия лишь после того, как Филадельфия дала задний ход. Теперь же, 1 августа, новая попытка выглядела многообещающей и даже необходимой, так как отвращение к циркулярному письму Хиллсборо набирало силу. Еще важнее было то, что город пережил мятежи протав вымогательств таможенных комиссаров и прислушивался к разговорам о скором прибытии британских войск. Купцы неоднократно встречались для обсуждения своих проблем летом 1768 года, а 1 августа договорились прекратить ввоз большинства британских товаров на один год начиная с 1 января. Свои подписи на соответствующем документе поставили 60 или 62 купца, а через несколько дней их примеру последовали почти все оставшиеся, сколько их было в городе[334]. Ближе к концу августа купцы Нью-Йорка одобрили соглашение о прекращении импорта британских товаров с 1 ноября вплоть до отмены пошлин Тауншенда. Вместе с бостонским это нью-йоркское соглашение поставило Филадельфию в центр внимания. Газеты Нью-Йорка и Бостона печатали письма и статьи с нелестными словами о несознательности филадельфийских купцов, да и частная переписка наверняка была не менее резкой. Несмотря на это, филадельфийцы медлили до марта 1769 года, когда наконец заключили соглашение, похожее на нью-йоркское. Большинство купцов подписали его в течение пары недель, и их пример воодушевил их партнеров в близлежащем округе Ньюкасл (Делавэр) пойти на аналогичный шаг в конце августа. Купцы из Нью-Джерси открыто признавали важность мер, принятых в Пенсильвании и Нью-Йорке, но не спешили с формальными соглашениями вплоть до июня 1770 года, хотя, возможно, какие-то ограничения они все же ввели еще до этого. Они публично поддержали общее движение в ответ на массовые собрания в Нью-Брансуике и округе Эссекс[335]. Пока Филадельфия теряла время, решение о бойкоте импорта набирало поддержку в большей части Новой Англии, за примечательным исключением вечно вольнодумного Род-Айленда, а также Нью-Гэмпшира. Во многих городах Массачусетса и Коннектикута частные организации купцов и городские собрания объявляли о поддержке бойкота. Иногда действовала лишь одна из групп, но в любом случае город тем самым обязывался не ввозить и не потреблять товары из Британии. Эти соглашения также подразумевали своего рода санкции, как, например, в Норвиче (Коннектикут), где городское собрание пообещало «критиковать всех, кто осмелится расстроить эти добрые замыслы, и не вести переписку с теми купцами, которые рискнут нарушить эти обязательства». К осени 1769 года ассамблея Коннектикута дала свое добро в форме резолюций в поддержку бойкота[336]. Южные колонии почти не отставали, несмотря на существование в них, особенно в Виргинии и Мэриленде, значительных групп шотландских посредников, представлявших британские торговые дома. Другие купцы, в основном урожденные американцы, соглашались со своими собратьями из северных колоний в том, что бойкот импорта требует от них великих жертв, и все же Виргиния начала действовать в мае 1769 года, Мэриленд — в июне, Южная Каролина — в июле, Джорджия — в сентябре, а Северная Каролина — в ноябре[337]. Джордж Вашингтон ускорил принятие решения в Виргинии, отправив копию филадельфийского пакта своему соседу Джорджу Мейсону и предложив в мае, чтобы палата горожан взяла инициативу в свои руки. Когда делегаты собрались на заседание, они почувствовали себя обязанными снова раскритиковать парламентское налогообложение и подтвердить готовность отстаивать свои притязания. Губернатор Ботетур решил помешать им проделать такое у него под носом и распустил палату, прежде чем ей удалось достичь соглашения. Ничуть не смутившись, бывшие делегаты встретились как частные лица в доме Энтони Хэя из Вильямсбурга и присоединились к договору о бойкоте большей части импорта из Британии. Эти виргинцы не стали связывать себя столь же жестко, как северные подписанты, однако доказали серьезность своих намерений, запретив с 1 ноября ввоз рабов. Кроме того, они пообещали не закалывать ягнят, отнятых от матки, до 1 мая того или иного года. Этот запрет должен был стимулировать производство шерсти для местных мануфактур. Все эти ограничения должны были оставаться в силе до отмены законов Тауншенда[338]. В то время как антиимпортные действия Виргинии начались в центре (в палате горожан) и распространились на округа, в Мэриленде, напротив, движение началось с округов, а затем уже вся колония достигла консенсуса. Здесь этот процесс получил толчок, по всей вероятности, в Балтиморе, где в марте 1769 года группа купцов (после долгих увещеваний филадельфийских новообращенных) пообещала не импортировать британские товары до отмены законов Тауншенда. Через два месяца к такой же договоренности пришло собрание в округе Энн-Эрандел, а 20 июня — и общее собрание в Аннаполисе, в результате которого в колонии возникла антиимпортная ассоциация. Чуть больше половины членов этого собрания годом ранее заседали в нижней палате ассамблеи. Мэрилендская ассоциация напоминала виргинскую, однако она не стала запрещать ввоз рабов[339]. Третья «табачная колония», Северная Каролина, следовала примеру Виргинии даже больше, чем Мэриленда. Губернатор Трайон в начале ноября распустил ассамблею, после чего 64 из 76 ее членов договорились об антиимпортных мерах, выработанных по виргинскому образцу, включая запрет на ввоз рабов. Большинство подписантов являлись плантаторами, а не купцами[340]. Плантаторы и ремесленники Чарлстона подвели Южную Каролину к решению о бойкоте импорта в июле после нескольких общественных собраний. К сентябрю почти весь город и многие близлежащие округа и приходы подписали соглашение, запрещавшее ввоз британских товаров, за исключением одежды для рабов, одеял, инструментов, пороха, свинца, чесальных машин для шерсти, книг и брошюр. Во второй редакции соглашения появился запрет на импорт рабов[341]. Вскоре после завершения этой работы общий комитет плантаторов, ремесленников и купцов Южной Каролины (группа, которой было поручено заниматься новым соглашением) призвала Джорджию примкнуть к другим колониям. «Сыны свободы» в Саванне, назвавшиеся «Дружеским обществом», не отказались от своих слов и представили соглашение (основанное на южнокаролинском) на массовом собрании 19 сентября. Его участники (среди которых купцов почти не значилось) одобрили становившиеся к тому времени уже стандартными условия, касавшиеся ограничения торговли с Британией, кроме запрета на ввоз рабов[342]. Торговцы Род-Айленда оставались равнодушны к этому патриотизму самых разных колоний, но не равнодушны к торговле с рынками, которые прежде контролировал соседний Массачусетс. Купцы из Провиденса, по-видимому, преуспевали из-за отказа от британского импорта в западном Массачусетсе, а жители Ньюпорта ввозили товары из Британии, включая и такие грузы, от которых воротили нос в Чарлстоне. В других колониях считали такое поведение грубой спекуляцией, а торговцы из крупных северных городов решили экономически надавить на Род-Айленд, пригрозив прекратить торговлю с ним. Ньюйоркцы действительно разорвали деловые отношения в октябре; анонимный автор в Newport Mercury писал, что торговля с Род-Айлендом «почти сошла на нет, как будто там свирепствует чума». Последствия не заставили себя долго ждать, и меньше чем через месяц купцы Провиденса и Ньюпорта заключили антиимпортные соглашения. Впрочем, ни один из этих портов не удовлетворил полностью требования негоциантов соседних колоний, утверждавших, что родайлендцы оставили себе предостаточно лазеек для ведения дел с Британией[343]. Одновременно с постепенным распространением антиимпортных соглашений частные лица и неформальные группы тоже зарекались потреблять британскую продукцию. Едва ли не во всех колониях домохозяйки обещали впредь не подавать своим мужьям чай, по крайней мере чай, ввозимый из Британии. Другие осуждали дорогую одежду, шелка и атласные ткани, популярные среди модников в Англии и Америке. И вообще, как женщинам, так и мужчинам надлежало на время забыть о предметах роскоши: студенты колледжей обходились без иностранных вин; скорбящие вместо иностранных траурных платьев надевали домотканые одежды попроще. Как и в 1765 году, бойкот импорта подтолкнул местное производство. Вновь стало популярным помогать соседкам в прядении, особенно в маленьких городках; повсюду открывались школы прядения, появилось множество мелких производителей одежды и домашней утвари. Газеты особенно напирали на такие примеры и явно преувеличивали их значимость. Так, например, многие перепечатали сообщение о неком Генри Ллойде, путешествовавшем по колониям, потому что все его вещи, а также сбруя лошади были произведены в Америке: «Его одежда, белье, туфли, чулки, сапоги, перчатки, шляпа и даже парик сделаны в Новой Англии». Без сомнения, самым впечатляющим достижением было производство ткани. Женщины Миддлтауна в Массачусетсе в 1769 году соткали 20 552 ярда материи, а жительницы Ланкастера в Пенсильвании изготовили за сравнимый период почти 35 000 ярдов.IV
Кооперация в сфере домашнего производства и добровольное согласие некоторых купцов с бойкотом британского импорта не могли скрыть необходимости принуждения, без которого остальные вряд ли присоединились бы к соглашениям. Вообще говоря, принуждение в той или иной мере использовалось во всех колониях, чтобы добиться создания ассоциаций и соблюдения их правил. Особенное внимание в этой связи обращали на себя купцы крупных городов, которые вели наиболее важные свои дела именно с британскими портами, вывозя оттуда кораблями произведенную в Англии мануфактуру — «сухой товар». Естественно, что они сильнее всех пострадали от запрета на импорт из Британии и считали, что их заставляют платить за конституционные свободы колоний, тогда как их коллеги, которые торговали «жидким товаром» (патокой и ромом из Вест-Индии), почти не пострадали. Аналогичные чувства вызывали и негоцианты, торговавшие преимущественно за пределами империи. Большинство купцов, по крайней мере в северных городах, торговали и внутри, и вне империи, поэтому вполне возможно, что им непросто было просчитать, какой вариант действий экономически целесообразнее. Не то чтобы они не разделяли народной конституционной позиции, напротив, они открыто ее поддерживали, но при этом им хотелось, чтобы бремя убытков распределялось по возможности равномерно. Основная часть купцов в Бостоне и Нью-Йорке присоединилась к местным антиимпортным ассоциациям в августе 1768 года без особых увещеваний и с минимальным нажимом. Эту готовность бостонцев легко понять: они воспринимали таможенных комиссаров как угрозу, и это чувство усиливалось обстоятельствами, которые широкие массы считали заговором против Хэнкока при захвате судна «Либерти». Кроме того, нельзя забывать о бостонской толпе недовольных (которым уже решительно надоело терпеть угнетение и страсти которых подогревались мятежами, насильственной вербовкой во флот и слухами о приближающихся войсках), явно готовых наказать всех, кто отказывался прекращать торговлю с Британией. Ньюйоркцам тоже приходилось иметь дело с недовольством народа. К тому же они прекрасно ощущали последствия сворачивания торговли и нехватки валюты, что тем более заставляло их прислушиваться к доводам о давно назревшей необходимости ответа на действия Британии[344]. В отличие от них филадельфийские купцы упирались долго, потому что им не приходилось терпеть давления возмущенной толпы или спада торговли. Тем не менее им докучали все более нетерпеливые ремесленники, производившие и продававшие кожаные изделия, мебель, часы, инструменты, серебряную посуду — словом, все то, что также ввозилось из Британии. Эти ремесленники подкапывались под английских конкурентов и не желали упускать возможности избавиться от них (хотя бы временно), принудив купцов присоединиться к бойкоту. Не являясь ни лишенным корней пролетариатом, ни чернью или подонками общества, ремесленники дорожили собственностью и свободой не меньше купцов или какой-либо другой социальной группы. Однако общность ценностей не обязательно сопровождается одинаковыми мнениями о тактике действий, особенно когда упомянутая тактика сулит прибыль для ремесленников, но потери для купцов[345]. В 1769 году ремесленники в Чарлстоне громко (и чуть раньше, чем их собратья из Филадельфии) заявили о себе. Эту группу летом сколотил и возглавил деятельный лидер — Кристофер Гадсен, и она вошла в союз с рисовыми плантаторами Южной Каролины. Вместе они настаивали на том, чтобы купцы присоединились к бойкоту. Последние попытались отделаться довольно расплывчатым соглашением, но после нескольких массовых собраний согласились-таки на условия ремесленников и плантаторов. До достижения в июле общего согласия эти три группы имели отдельные комитеты; теперь же, когда они объединились, был назначен единый комитет из 39 человек (по тринадцать представителей от каждой группы), способный силой добиваться своих целей[346]. Пусть и нетрадиционная, эта лига в Чарлстоне, состоявшая из купцов, ремесленников и плантаторов, была не более странной, чем создание неофициальных органов для введения и соблюдения запрета на импорт. Такие организации, чаще всего называемые надзорными комитетами, действовали без какой-либо формальной санкции власти. Купцы, вероятно, заседали в большинстве таких комитетов на севере; в южных колониях инициатива принадлежала плантаторам, поскольку многие тамошние купцы были уроженцами других стран и представляли интересы английских и шотландских торговых домов. Комитеты ремесленников сыграли важную роль в Нью-Йорке, Филадельфии и Чарлстоне, однако нигде не были преобладающей силой. Все эти группы могли опираться на соглашения, позволявшие помещать на склады или отправлять назад грузы, прибывавшие в нарушение бойкота. Медленная связь приводила к тому, что товары продолжали поступать и после подписания соглашений; во многих случаях получатели грузов отправляли свои заказы задолго до введения ограничений. Действия некоторых торговцев, конечно, могли быть не столь невинны, и если бы им не удалось убедить местный комитет в отсутствии намерения нарушить взятые обязательства, то им грозило суровое наказание. Комитеты по меньшей мере могли приказать взять на хранение или вернуть груз. Известный случай такого рода произошел в Мэриленде в начале 1770 года с бригантиной «Доброе намерение» с грузом запрещенных товаров из Лондона. Импортеры (фирма «Дик и Стюарт» из Аннаполиса) настаивала, что их заказы были отправлены задолго до формирования мэрилендской ассоциации. После подписания соглашения «Дик и Стюарт» поместили в Maryland Gazette объявление о том, что товары скоро прибудут, и запросили соответствующее разрешение от комитетов округов Энн-Эрандел, Принс-Джордж и Балтимор. Несмотря на предоставление фирмой всех связанных с этими заказами бумаг и корреспонденции, надзорный комитет что-то заподозрил и вынес запретительное решение. Судно, груз которого остался в целости и сохранности, отплыло назад в Лондон в конце февраля[347]. Комитет, заслушивавший дело о «Добром намерении», равно как и другие подобные организации, исходил из допущения, что лица, намеренно нарушавшие антиимпортные решения, являлись «врагами свобод Америки». Эти слова взяты из мэрилендского соглашения, но и в прочих имелись сходные формулировки. Если купцы открыто не нарушали бойкот, апросто не являлись подписантами, то их обычно игнорировали, покуда те вели себя тихо. Те же, кто отказался подписать соглашение и продолжал импортировать товары, страдали: их имена появлялись в газетах, деловые связи с ними рвали. Простой остракизм не всегда устраивал надзорные комитеты и их сторонников: иногда нарушителей измазывали в дегте и обваливали в перьях. Некоторых изгоняли из города, что было частым наказанием в Новой Англии. Иногда склады провинившихся купцов вскрывали и повреждали хранившиеся в них товары, могли также повесить их чучела или заставить стоять под виселицей[348]. Все эти тактики сказывались на самых разных общественных группах: женщины начинали ткать и заниматься рукоделием, студенты соглашались не пить импортные чай и вино, ремесленники и торговцы всех мастей стремились захватить рынок, но и отстоять конституционные принципы, купцы, платившие налоги, требовали права голоса при их распределении. Многие из таких людей ранее выступали против Акта о гербовом сборе. Для них кризис Тауншенда, наверное, лишь подтвердил верность старых идей. Другие же внезапно проснулись и ухватились за возможность выдвинуться на местной политической сцене. Так как возбуждение, вызванное действиями Тауншенда, продлилось дольше, чем волнения вокруг Акта о гербовом сборе, и поскольку разногласия по поводу ответных мер теперь были, как это ни парадоксально, многочисленнее, то оказались слышны голоса гораздо большего числа групп, в частности ремесленников и женщин. Результатом этого стало более широкое участие народа в общественной жизни и политике. Ничто из этого не сулило хороших перспектив британскому влиянию в Америке, которое опиралось на более традиционные инструменты королевского контроля: присланных чиновников, парламентские законы, а теперь и на крупный контингент регулярной армии. Один из законов Тауншенда имел следствием рост «бюрократического аппарата». Использование этого слова в данном контексте анахронично, но популярный тогда в Америке термин «паразиты» не совсем справедлив, хотя и позволяет понять, как сильно колонисты ненавидели новых чиновников, прибывших для проведения политики Тауншенда. Среди этих чиновников особую неприязнь вызывал Американский совет таможенных комиссаров, назначивший своры таможенников, которым было поручено ужесточить контроль и увеличить доходы Его Величества. Прежде подобные усилия не приносили плодов. Например, после принятия Сахарного акта 1764 года 25 ревизоров были назначены следить за сборщиками таможенных пошлин. Были выделены новые таможенные округа в надежде покрыть изрезанную береговую линию восточного побережья, а в Галифаксе учредили адмиралтейский суд. В рамках своего самого амбициозного реформаторского шага Джордж Гренвиль предоставил тем таможенным чиновникам, которые предпочли жить в Англии, пока их заместители делали всю работу в Америке, выбор между отставкой и личным присутствием на постах за океаном[349]. Ничто, однако, не действовало. Таможня работала из рук вон плохо: сборщики пренебрегали своими обязанностями, брали взятки, изводили торговцев и при этом не приносили метрополии достаточных доходов. Регулирование сборов было очень хаотичным. В отдельных случаях их контролировали легислатуры, но чаще всего купцы и сборщики договаривались о неком графике платежей. В казну от этих договоренностей попадало не очень много, хотя иногда сборщикам удавалось отличиться. Американский совет таможенных комиссаров не оправдывал возложенных на него ожиданий. То же самое можно сказать и о новых адмиралтейских судах, учрежденных годом позже указом от имени короля и Тайного совета для укрепления законности. В совет таможенных комиссаров входил по крайней мере один весьма способный человек — Джон Темпл, но вскоре он оказался в натянутых отношениях с остальными членами; Джон Робинсон был честен, но упрям и лишен воображения; Генри Халтон имел определенные способности, но плохо ими пользовался; Чарльз Пакстон недолюбливал колонистов с того печального инцидента сразу после приезда (перед ночью Гая Фокса), когда его «оскорбили» сжиганием его чучела. О Берче известно мало. Все комиссары вели образ жизни, отдалявший их от народа, с которым им приходилось иметь дело, и они так и не смогли придумать никакого решения, чтобы преодолеть трудности, которое бы не предполагало применения войск против американцев[350]. Сама структура американской торговли озадачила бы любых чиновников, отправленных для ее регулирования. От Квебека до Джорджии насчитывались сотни мест, где могли загружаться и разгружаться суда: крупные гавани и порты, реки, бухты, заливы. В 1760-е и 1770-е годы существовало лишь 45–50 таможенных округов (эта цифра немного варьировалась), где можно было получить официальное свидетельство о таможенной очистке товаров. Разумеется, в нескольких из этих округов помощники сборщиков, контролеры на судах и прочие чиновники работали далеко от самой таможни, но в каждом округе имелась возможность вести торговлю так, чтобы не попадаться на глаза никому из них. Рассредоточенность американского бизнеса и сельского хозяйства, а также особенности транспорта и портовых сооружений попросту требовали того, чтобы торговля велась в самых разных местах. Так, судно-лесовоз часто должно было забирать свой груз в нескольких портах Новой Англии; аналогичный корабль в Джорджии и Каролинах мог сделать несколько остановок, прежде чем его трюм заполнялся до конца. Плантаторы в Чесапике привозили табак к бухточкам и рекам по всему заливу, а корабли проплывали пятьдесят миль вверх по реке Йорк, загружая табак, морские припасы, сортовую сталь и чугун, пеньку и сельскохозяйственную продукцию. В 1770 году река Раппаханнок была судоходной до Фредериксбурга (около 140 миль вверх по течению) для судов водоизмещением от 60 до 70 тонн. Кроме нее корабли ходили вверх и по другим рекам, окружающим залив. Джон Уильямс — главный инспектор таможенной службы Чесапика — отмечал в 1770 году, что корабли со всей Западной Европы и Вест-Индии загружаются и разгружаются на реке Потомак, иногда в шестидесяти милях от ближайшего сотрудника таможни. Что касается порта Бостона, где зародилось так много проблем, то, согласно официальному описанию, он «начинается от Линна на севере, простирается на запад и юг вдоль залива Массачусетс до Кейп-Кода… вокруг Кейп-Кода до гавани Дартмута… также островов Нантакет, Мартас-Винъярд и Элизабет». Также в отчете сообщалось, что в этом районе не было сотрудников таможни, за исключением порта таможенной обработки, а также Плимута и Нантакета. Такие же или подобные условия были характерны для всех округов американского континента и для Вест-Индии[351]. География, рассредоточенность торговли и недостаточная укомплектованность таможни персоналом — все это так и подстрекало нарушать торговые правила, которые к тому же не казались американцам особенно цивилизованными. Никто не знает объемов контрабанды и уклонения от уплаты таможенных пошлин; принадлежавшие к тори историки и таможенные чиновники, вероятно, преувеличивали их масштабы, а историки-виги и американцы XVIII века наверняка преуменьшали их. Систематическое нарушение Акта о патоке и пришедшего ему на смену Сахарного акта 1764 года вроде бы прекратилось после 1766 года, когда размер пошлины сократился до одного пенни с галлона, а сама она стала распространяться на продукцию как британской, так и иностранной Вест-Индии. Тем не менее другие товары продолжали ввозить контрабандно. Например, в таможенном округе Раппаханнок в Виргинии семь кораблей и две шнявы прибыли из Бордо и других французских портов «в балласте», как сухо заметил Джон Уильямс, но почти каждый магазин вдоль реки после этого продавал французские вина. Эти магазины также ломились от чаев и иностранных тканей, которые закупались с кораблей, возвращавшихся из Шотландии через Голландию. Чай редко упоминался в манифестах и, естественно, не декларировался, поставляясь контрабандно. Эти примеры выбраны случайно. И все же никто в XVIII веке не считал, что контрабанда и уклонение от таможенных пошлин составляли основную часть американской торговли. Все соглашались, что преимущественно коммерция осуществлялась в рамках закона[352]. Кроме того, стоял вопрос применения закона недавно созданным Американским советом таможенных комиссаров. Как и все его предшественники, он не смог добиться того, чего от него ожидали — навести порядок и значительно увеличить поступления в казну. Этот провал обескуражил казначейство, но еще хуже было поведение комиссаров, приводившее к дальнейшему отчуждению американцев, включая прежде всего неприсоединившихся к бойкоту или лояльных купцов, мелких перевозчиков, моряков и некоторых других групп, которых связывала разве что вера в самоуправление. Хотя комиссары прибыли на материк в атмосфере, омраченной недавними событиями, и хотя они подозрительно относились к американцам, в конечном итоге им изменила собственная корпоративная этика. Как минимум двое из них — Пакстон и Халтон — явно считали свою миссию политической, а не только административной, да и Робинсон, вполне возможно, был с ними солидарен. Вообще весь совет оставил после себя некоторые свидетельства того, что он видел свою задачу в некоем реформировании американской политики, а не только таможни. Естественно, что люди, которых они нанимали (или найму которых способствовали) — помощники сборщиков, досмотрщики, судовые контролеры и официальная береговая охрана с двадцатью судами и экипажами, заступали на свои посты в непримиримом настроении: для них колониальные купцы, торговцы и моряки были не просто предпринимателями и рабочими, но уклонистами, контрабандистами и вообще врагами. А для самых бессовестных и алчных таможенников американцы были, что спелые сливы, только и ждущие, чтобы их сорвали[353]. Хотя настроение таможенной службы было нездоровым, возможность для злоупотреблений создали новые законы и правила. Сахарный акт и принятый в 1767 году закон Тауншенда о доходах обеспечивали ключевые условия для того, что тогда называли таможенным рэкетом. Как предписывали эти законы, таможенные разрешения должны были выдаваться еще до загрузки каких-либо товаров, предназначенных для продажи за пределами колонии; все палубные судна и любые суда на расстоянии свыше двух лиг от берега обязаны были иметь документы, удостоверяющие очистку от таможенных пошлин, и разрешения; на каждом судне, участвовавшем в торговле за пределами его колонии, должны были иметься свидетельства с указанием каждой позиции груза на борту; грузополучателю или хозяину полагалось взойти на борт у таможни до начала разгрузки (любое снятие груза считалось началом разгрузки); в адмиралтейских судах конфискованные корабли и товары признавались собственностью короны, если владелец не предъявлял на них права, для чего ему требовалось доказать свою невиновность. А кроме того, он уплачивал все издержки по (наиболее вероятному) вердикту, если для конфискации находились «достаточные основания».V
Армия невольно укрепила самых разных американцев в их намерении противостоять дальнейшим посягательствам на права колоний. Она неудачно «отличилась» в трех местах. Наименьший эффект ее действия произвели в Южной Каролине весной 1769 года, когда полк с артиллерией поддержки вступил в Чарлстон по пути к постоянному месту дислокации в Сент-Огастине. В Чарлстоне уже имелись пригодные для проживания солдат казармы. А вот со снабжением все было не так просто, и палата общин ассамблеи отказалась одобрить выделение средств, несмотря на запрос генерала Гейджа. Палата заявила, что она не просила присылать войска, но в случае отмены злополучных парламентских законов готова выполнить те требования, которые «представляются нам справедливыми и разумными или необходимыми». Эти доводы заставили Гейджа замолкнуть, и жители Южной Каролины смогли продолжать игнорировать политику Тауншенда, даже несмотря на присутствие армии[354]. После недолгого периода неповиновения ассамблея Нью-Йорка подчинилась Квартирьерскому акту 1765 года, чем разгневала многих граждан, включая «Сынов свободы». Войска были расквартированы в городе Нью-Йорке весной 1766 года; их присутствие тоже не сопровождалось бурными проявлениями радости. Самым мягким обращением к солдату в августе, похоже, было «каналья» (rascal). Ньюйоркцы полагали, что грубость их поведения оправдана, ведь военные спилили дерево свободы. Для одного из солдат это дерево было просто «сосновым стволом», но все же этот ствол, столб или дерево стал причиной столкновения между несколькими тысячами ньюйоркцев и солдатами. Никто в результате не погиб, хотя многие получили ранения. С тех пор проводились ежегодные выступления: «Сыны свободы» устанавливали столбы свободы, а солдаты их срубали. Но к счастью, убитых не было[355]. Точнее говоря, убитых не было вплоть до января 1770 года. К этому времени Нью-Йорк уже влился в антиимпортное движение; Делэнси и Ливингстоны всячески старались выглядеть патриотичнее других, а «Сыны свободы» и солдаты сидели друг у друга в печенках. Неизбежный взрыв произошел 16 января, после того как «Сыны» публично призвали жителей не давать работы свободным от службы солдатам. Тем же вечером несколько солдат срубили столб свободы, распилили его на части и заботливо сложили перед таверной, служившей «Сынам» штаб-квартирой. Дрова «Сынам свободы» не требовались, и на следующий день они с тремя тысячами сторонников установили новый столб. Пока они работали, солдаты поливали их грубой бранью, что спровоцировало потасовку, а затем и полномасштабную «битву» у Голден-Хилла, длившуюся с перерывами два дня, в результате чего многие получили ранения, а один человек погиб. Как бы плохо не складывались отношения между гражданскими и военными в Нью-Йорке, в Бостоне дела обстояли еще хуже. Нью-Йорк мог винить некоторых собственных жителей за то, что те попросили армию отправить в колонию войска весной 1766 года в ходе восстания арендаторов, однако никто, кого Бостон признавал своим, не желал появления здесь солдат. И все же они прибыли в конце сентября 1768 года под прикрытием военных кораблей, которые, казалось, угрожали городу. Солдат, одетых в превосходные красные мундиры, с блестящими штыками, перевезли на шлюпках и баржах к пристани, а оттуда они пошли маршем под бой барабанов и пронзительный свист флейт, явно готовые ко всему. Манера, в которой они высадились, задела многих бостонцев: военные корабли встали на якорь, выстроившись так, будто ожидали вооруженного сопротивления, готовые дать бортовой залп для поддержки атаки. Такое построение одобрил из Нью-Йорка сам генерал Гейдж, убежденный в том, что он отправляет войска в логово предателей. То, как он описывал бостонцев в тот момент, отчасти позволяет понять его собственное настроение: для него это были «мятежники», «сорвиголовы», виновные в «крамоле»[356]. Красные мундиры высадились без всякого сопротивления. Если и было хоть какое-то намерение противостоять им с помощью оружия, то оно улетучилось, когда стало известно, что эскадра из Галифакса подошла к Бостону. Когда корабли начали входить в гавань, собрание массачусетских городов «распалось и побежало прочь из города, словно стадо ошпаренных свиней», как зло выразился Джон Мейн. Это бегство заставило бостонцев осознать, что в тот момент они остались с британской армией один на один[357]. Бостон был напуган войсками, но не усмирен. Власти, включая совет и членов городского управления, ответили твердым «нет» на все требования предоставить военным квартиры и припасы. Казармы имелись на Касл-Айленде, сказали они, а если губернатор и британские командиры не желали ими воспользоваться, то они могли снять помещения в городе за деньги. Временно командовавший частями полковник Далримпл предпочел не рассредоточивать своих солдат по частным домам, гостиницам и тавернам. Поддерживать дисциплину было непросто даже и в лучших условиях, а при разобщенности командования это оказалось бы почти невозможно[358]. До поры до времени, как мы знаем, армии пришлось довольствоваться весьма некомфортным постоем: 29-й полк с полным походным снаряжением разбил палатки в городском парке, а 14-й устроился в насквозь продуваемом, тесном и неудобном Фанел-холле. На следующий день Бернард открыл настежь двери особняка, в котором встречались члены совета и палаты представителей, и часть 14-го полка переместилась в него. Сложившаяся ситуация выглядела совершенно неприемлемой в свете приближавшихся холодов; 29-й полк явно требовалось разместить на зимних квартирах. Губернатор Бернард приказал освободить для солдат «мануфактурный дом», в котором прежде располагались школы прядения и который теперь сдавался частным жильцам. Однако постояльцы отказались съезжать, и на протяжении последующих трех недель шериф Гринлиф, подстегиваемый Бернардом и Томасом Хатчинсоном, пытался сначала убедить, а затем заставить их выселиться. Обнаружив, что дверь заперта на засов, а окна забраны решетками, шериф приказал вломиться в здание, но внутри он и его команда попали в засаду, устроенную разъяренными жильцами. За этим последовало несколько гротескных сцен, красочно и явно с преувеличениями описанных затем местными газетами, которые называли действия шерифа «осадой мануфактурного дома», а его самого — «генералом». Кульминацией «осады» стало то, что дети постояльцев в окнах мануфактурного дома, рыдая, молили о хлебе, поскольку шериф запретил пекарям снабжать их, и после драки, участники которой размахивали дубинками, разбивая друг другу головы и громко крича, какое-то продовольствие все же было доставлено[359]. До конца месяца 29-й полк ушел из парка, а 14-й освободил особняк и Фанел-холл. Оба полка переехали в складские помещения и другие здания, арендованные у частных лиц. Даже Уильям Молино — один из надежнейших людей в когорте Отиса и Адамса — сдал склад военным, по-видимому, не считая предосудительным брать деньги с армии, одновременно сопротивляясь ее присутствию. Некоторые горожане, благодаря получаемым доходам, стали относиться к военным менее враждебно: на присутствии гарнизона наживались торговцы провиантом, пекари, владельцы таверн и многие другие[360]. Никакие взаимовыгодные договоренности или планы не могли предотвратить напряженности между военными и гражданскими. Отношения между ними оставались неприязненными с самого начала, несмотря на восхищение и симпатию, которые многие жители испытывали к солдатам. Жесткие требования, применявшиеся к последним (варварские по меркам гражданских и вполне обычные по армейским стандартам), на некоторое время усилили эту симпатию. Солдаты получали сотни ударов за мелкие проступки, даже тысяча не была редкостью. Как правило, эти экзекуцию осуществляли барабанщики полка, с чем бостонцам было трудно смириться, ведь большинство этих барабанщиков были неграми, тогда как в Бостоне почти все негры являлись рабами. В последний день октября жители могли наблюдать еще более суровое наказание — казнь расстрельной командой. Приговоренный — рядовой Ричард Эймс, признанный виновным в дезертирстве, — был казнен в назидание остальным солдатам, построенным ради такого случая в парке, под барабанную дробь[361]. Трудно сказать, усвоили солдаты этот урок или нет, но дезертирство продолжалось: около сорока из них сбежали в первые две недели, а затем почти каждую ночь убегали еще несколько человек. Это отнюдь не помогало налаживанию отношений между командирами и гражданским населением. Армия обвиняла гражданских в том, что те сманивали их на свою сторону, и доводила горожан до бешенства методами их поимки. Нанимались осведомители, во все стороны рассылались патрули, некоторые из них были переодеты в штатское, чтобы застать врасплох дезертиров и тех неосторожных местных жителей, которые предлагали помощь. Если столкновения между патрулями, ищущими дезертиров, и гражданами, готовыми их спрятать, подтачивали те остатки сочувствия, которые оставались у горожан к рядовым солдатам, то поведение самих солдат уничтожало всякие уцелевшие симпатии к ним. Не то чтобы солдаты вели себя плохо по меркам того времени; они вели себя так, будто находились в «гарнизонном городке» — так они и называли Бостон к неудовольствию его жителей. С молчаливого согласия своих офицеров они нарушали тишину дня отдохновения, играя на барабанах и флейтах и глумливо распевая «Янки-дуда». Кроме того, они слишком много пили, что было вообще характерно для солдат XVIII века. Бостонский приходский священник и крайне благоразумный человек Эндрю Элиот писал, что солдаты «пребывают в восторге» от дешевизны местного спиртного. Женщинам города приходилось терпеть восторги иного рода, из-за которых они становились жертвами изнасилований, нападений и грубых домогательств. Однако, как вскоре обнаружили горожане, солдаты чаще покушались на собственность, нежели на добродетель, — количество краж и вооруженных ограблений значительно возросло[362]. Но сильнее всего бостонцев раздражали даже не эти преступления (или поведение солдат), а само присутствие военных. Они не желали мириться с тем, что на их улицах расквартирована чужая армия, каждый день наблюдать осточертевшие им красные мундиры, ходить по перешейку Бостон-Нек мимо солдат, стоявших в караулах на земле, незаконно отобранной у города, и отвечать на вопросы часовых. Все это оскорбляло народ, привыкший к личной свободе, заставляло его выходить из себя и чувствовать, что его честь унизили. Проверки часовых символизировали многое из того, что так не нравилось горожанам — ведь свободное перемещение давно стало их неотъемлемым правом. Теперь же, когда у складов-казарм, домов офицеров и общественных зданий появились часовые, передвижения оказались затруднены. Некоторые гражданские почти инстинктивно отказывались подчиняться, за что иногда задерживались, а если они еще и сопротивлялись, то могли познакомиться с прикладом или штыком. Довольно долго ни одна из сторон не хотела уступать в этих столкновениях. Лучшее, на что можно было надеяться до вывода войск, это на тягостную ничью. Возможно, солдаты и имели законное право окликать «свободного человека», писала Boston Gazette, но это право не означало, что жители, будь то «черные, белые или серые» обязаны им отвечать. «Я бы никогда не стал ссориться с часовыми из-за того, что они задали мне вопрос, однако и они не должны безнаказанно притеснять меня за то, что я пропустил мимо ушей их вопрос и прошел молча»[363]. Ни солдаты, ни гражданские не могли долго сдерживаться, живя бок о бок. Армейские командиры готовы были бы согласиться на мир, но не народные лидеры, которые усугубляли ситуацию, используя газеты — умело, а иногда и злонамеренно. Boston Gazette продолжала печатать свои версии общественно важных событий, а в октябре 1768 года народные лидеры придумали свежее средство — «Журнал времен», в котором собирались написанные в Бостоне сообщения и статьи и который якобы давал честный отчет о состоянии дел в городе, оккупированном армией и Американским советом таможенных комиссаров. «Журнал» сначала отправлялся в New York Journal, где его издавали, а затем перепечатывался в Pennsylvania Chronicle. После этого его тиражировали во многих колониях, а в Бостоне этим занималась газета Evening Post, чьи читатели, вероятно, уже успевали забыть подробности творимых против них зверств. В некоторых случаях эти истории являли собой чистый (или, по мнению властей и армии, грязный) вымысел[364]. Хотя «Журнал времен» активно эксплуатировал реальные случаи агрессии и угнетения, а также придумывал несуществующие, зимой крупный кризис так и не наступил. Горожан обнадежил вывод 64-го и 65-го полков в июне и июле. Относительное спокойствие, с которым прошла первая зима, видимо, убедили правительство метрополии в том, что два полка вполне могут совладать с Бостоном. Поэтому 14-й и 29-й остались там, а другие два были переброшены в Галифакс. К весне 1769 года первоначальный трепет гражданских перед армией совершенно улетучился, сменившись мрачной, иногда презрительной фамильярностью. В этой атмосфере драки стали привычным делом, и теперь чаще, чем прежде, их затевали обыватели, обнаружившие новые способы защищаться от солдат и одновременно унижать их. Закон предложил новое средство, поскольку суды начали применять статут, позволявший фактически продавать в рабство осужденного за кражу человека, если тот не мог вернуть потерпевшему стоимость украденных вещей в троекратном размере. Эта процедура применялась не часто, но сам факт шокировал военных командиров. Первый раз, когда это произошло (в июне 1769 года), Гейдж рекомендовал тайно провести осужденного солдата на борт корабля; эта уловка оказалась излишней, когда гражданин, купивший кабальный договор на солдата, согласился заключить мировое соглашение за небольшую сумму[365]. Примерно в это же время суды начали строже подходить к рассмотрению дел солдат. Летом и осенью произошло несколько стычек, приведших к судебным разбирательствам, а затем и к новым отвратительным скандалам. Первая началась как обычная драка на кулаках между рядовым Джоном Райли и трактирщиком из Кембриджа Джонатаном Уиншипом. После драки Уиншип написал заявление; Райли арестовали и оштрафовали, а когда тот не заплатил штраф, приговорили к тюремному заключению. Однако заключить его под стражу оказалось непросто, поскольку гренадеры 14-го полка помогли ему сбежать от констебля. Прежде чем это противостояние закончилось, вмешался лейтенант полка Александр Росс, чтобы то ли воспрепятствовать, то ли поспособствовать спасению рядового (имеющиеся свидетельства не проясняют его намерений), но сам был арестован. В итоге Росс и четверо его людей были осуждены и приговорены к штрафам. Похоже, что этими вердиктами никто не удовлетворился, и военные, вполне естественно, начали ощущать, что судебная система, которую им было поручено укреплять, имела против них зуб[366]. Второй случай, произошедший в октябре, только усилил это ощущение. Подробности этого дела — нападения на караул в Бостон-Нек — можно опустить, кроме трех примечательных деталей. Во-первых, приказ капитана Молсворта, прозвучавший, когда караул возвращался в Бостон, «насадить на штык любого, кто ударит вас». Во-вторых, очевидна пристрастность судьи Дана, который так обращался к нескольким солдатам в ходе предварительных слушаний: «Кто вас сюда привел? Кто послал за вами? По чьему распоряжению вы вступаете в караул или маршируете по улицам с оружием? Это нарушение законов провинции, за которое вас следует наказывать. Нам ваши караулы не нужны. У нас есть свое оружие, и мы способны сами себя защитить. От вас одни лишь неприятности. Лучше не провоцируйте нас, а иначе пеняйте на себя». В-третьих, нельзя не отметить горячность толпы, напавшей на солдат у Бостон-Нек и теперь реагировавшей в суде на вопросы о залоге для ответственного британского офицера криками: «Веревку ему, а не залог!»[367] Такие эпизоды с участием местных судов обнажили слабость армии в Бостоне. Суды и большинство судей отвернулись от армии; не поддерживали ее и гражданские власти. Совет к этому времени оказался в народных руках; городское собрание находилось в них уже давно, а губернатор не чувствовал себя способным приказать армии действовать. Оставшись без поддержки гражданского правительства, армия мучилась от нападок враждебного ей населения. Бернард признал безнадежность сложившегося для него и для армии положения, отплыв в Англию 1 августа 1769 года. Его отъезд шумно праздновался: газеты печатали последние серии разоблачений, причем теперь в виде насмешливых стихов. Отряды ополчения стреляли из пушек, разжигались костры, а Бернард, пока его корабль поднимал паруса, слушал радостный перезвон церковных колоколов[368]. Через месяц после отъезда Бернарда его давний мучитель Джеймс Отис получил взбучку, которую Бернард так долго мечтал ему задать. Яркие признаки сумасбродного и неуправляемого темперамента сделались еще явственнее из-за напряжения в результате оккупации Бостона. Отис всегда был склонен оскорблять тех, кто ему не нравился; выслушав одну из его тирад, Питер Оливер сказал об Отисе, что «если безумство — талант, то он владеет им в совершенстве»[369]. Противостоя войскам и прятавшимся за их штыками таможенным комиссарам, он неистовствовал от того, что не мог нанести по ним ощутимого удара. Дирижировать газетными нападками казалось ему явно недостаточным. Он говорил беспрестанно, переходя от одной темы к другой, не давая никому возможности вставить слова, как замечал Джон Адамс, которому эта болтовня претила. Один из объектов его ненависти — Джон Робинсон — оказался его собеседником в начале сентября. Отис стремился обвинить Робинсона в написании клеветнических писем правительству метрополии о характере Отиса и его действиях. Неудивительно, что Отис не получил какого-либо удовлетворения от этих бесед и все больше ожесточался против Робинсона. Атмосферу, царившую в Бостоне в эти последние Дни лета, иначе как ядовитой назвать нельзя. Пока газеты делали все, чтобы отравлять воздух, две противоборствующие стороны (Адамс, Отис и их компания, с одной стороны, и таможенные комиссары, издатель Джон Мейн, чиновники тори и сочувствующие — с другой) мусолили мрачные слухи о предательствах и заговорах. Когда Отис почувствовал, что не может этого больше терпеть, он опубликовал в Gazette от 4 сентября угрозу, дав Джону Робинсону понять, что «если он “официально” или как-либо иначе продолжит представлять меня в ложном свете [перед британским правительством], то я оставляю за собой естественное право, не получив иной сатисфакции, разбить ему голову». Это заявление, которое можно назвать самой вольной трактовкой теории естественного права, данной в том году, без сомнения, следовало считать упражнением в остроумии и не принимать всерьез[370]. Насколько серьезно оно было воспринято, стало очевидным на следующий вечер в «Британском кофейном доме» на Кинг-стрит — любимом пристанище тори и британских чиновников и офицеров. Чем это место точно не являлось, так это клубом поклонников Джеймса Отиса. Робинсон выпивал там по вечерам с друзьями, многие из которых присутствовали и 5 сентября, когда в кофейный дом вошел Отис, искавший Робинсона. Робинсон приехал почти сразу же вслед за его приходом, и Отис потребовал «сатисфакции джентльмена», то есть кулачного боя с Робинсоном, ведь дуэли были запрещены. Вероятно, Отис полагал, что они сойдутся на улице, где было безопаснее, чем в кофейном доме, но Робинсон неожиданно схватил его за нос. В XVIII веке это считалось особенно унизительным для джентльмена, и Отис оттолкнул руку Робинсона, возможно, ударив его. Таким образом, драка началась прямо в кофейне, и к ней присоединились другие, очевидно, пытаясь ударить Отиса. Прежде чем эта потасовка стихла, как минимум один друг подоспел снаружи на выручку Отису — юный Джон Гридли, которому тоже изрядно досталось. Отис выбрался из гнезда врагов с глубокой раной на голове и несколькими ссадинами. Что касается Робинсона, то пострадало лишь его пальто, у которого были оторваны карманы. Отис проиграл драку в кофейне, но зато он и его друзья выиграли сражение, развернувшееся после этого в газетах. Gazette, конечно же, ловко использовала эту возможность, изобразив все так, будто Отис и Гридли дали «мужественный отпор» сборищу таможенных чиновников, расположившихся в кофейном доме. «Народ» якобы проявил не меньший героизм, вовремя придя на помощь своим лидерам и заставив Джона Робинсона и его приятелей позорно бежать через черный ход[371]. Робинсон казался привлекательной целью, но, вероятно, не столь опасной, по мнению радикалов, как его друг Джон Мейн — издатель Boston Chronicle. Одним из фактов, который приводил в ярость Отиса и его коллег, было то, что Мейн практически в одиночку вел при помощи своей газеты кампанию против запрета импорта. Его метод был просто сокрушителен: он публиковал имена мнимых сторонников бойкота, которые на деле нарушали его условия. Эту информацию он якобы находил в таможенных записях. Так, в списке появилось имя Джона Хэнкока, который отрицал обвинение в завозе запрещенной британской ткани, но признал, что импортировал тонкую парусину, на которую запрет не распространялся. Мейн не ограничился перепечатыванием раскопанных сведений и вскоре, как это часто происходило, начал прибегать к персональным выпадам. Его изобретательность больно задевала выбранных жертв: Томас Кушинг получил прозвище Томми Чепуха, Отис был назван Бестолочью, а Хэнкок превратился в Джонни Простофилю по кличке Дойная Корова — так обыгрывалась роль Хэнкока, дававшего этой группе деньги. Для тех, кому этого ярлыка было недостаточно, Мейн описывал Хэнкока следующим образом: «Добродушный молодой парень, с длинными ушами, глупой самодовольной ухмылкой на лице, шутовским колпаком на голове, повязкой на глазах, богато одетый и окруженный толпой людей, некоторые из них гладят его уши, другие щекочут его нос соломинками, тогда как прочие опустошают его карманы»[372]. Два дня спустя Джон Мейн обнаружил, что зашел слишком далеко. Вечером 28 октября на Кинг-стрит на него напала поджидавшая его толпа. Ему удалось скрыться: сначала он укрывался в главном карауле, казармах и штабе британских войск, а затем переоделся рядовым британской армии и добрался до дома полковника Далримпла. Той ночью еще одна толпа выпустила пар, измазав смолой и вываляв в перьях некоего Джорджа Гейлера, считавшегося осведомителем, которому платили таможенники. Мейн знал, что в случае поимки ему отделаться смолой и перьями не удастся, и поэтому в ноябре отплыл в Англию на британском военном корабле. В Бостоне эти события воспринимались как реакция осажденных жителей, жертв паразитирующей налоговой службы и оккупационной армии. Насилие толпы не облегчило этого чувства, и в новом году страсти только накалялись.VI
Запрет на импорт и британская армия оставались главными раздражителями народных масс. В январе нового года «Общество» (Body) — ведущие купцы, присоединившиеся к бойкоту британских товаров, — обнаружило, что двое сыновей Томаса Хатчинсона занимались ввозом чая в нарушение запрета. «Общество» наверняка смаковало возможность уязвить любого, кто носил фамилию Хатчинсон. Так или иначе оно потребовало, чтобы ввозившие чай сыновья отдали товар и прекратили этот бизнес. Хатчинсоны упорствовали, пока толпа не пригрозила разнести принадлежащий семье склад. В тот момент Томас Хатчинсон уступил. Трудно было не испугаться толпы, особенно в те времена, когда она достигла таких высот в тонком искусстве обращения со смолой и перьями. Тем не менее иногда какой-нибудь купец начинал упираться и отказывался подписывать соглашение о запрете импорта. Один из них, Теофил Лилли, опубликовал свои доводы в Boston News-Letter в начале января. Лилли казалось «странным, что люди, ограждающие нас от действия законов, на которые они никогда не соглашались лично или через представителей, одновременно принимают и чрезвычайно действенно навязывают мне и другим такие законы, на которые я совершенно точно не давал согласия ни лично, ни через представителей». Это заявление, пожалуй, было особенно неудобным из-за его правдивости. Но вывод Лилли звучал еще более возмутительно. Обвинения королевского правительства в желании поработить американцев были, по его мнению, неуместными: «Уж лучше я буду рабом при одном хозяине, ведь если я знаю, кто он, то, возможно, смогу ему угодить, чем рабом целой сотни или больше хозяев, когда неизвестно даже, где их искать или чего они от меня хотят»[373]. Лилли обратил на себя внимание этим открытым вызовом неофициальным лидерам Бостона. Хотя неопровержимых доказательств того, что за действия против него несла ответственность группа Сэмюэля Адамса, нет, знакомые меры, которые были приняты, свидетельствуют именно об этом. Эти меры задержались до 22 февраля, когда компания, состоявшая в основном из подростков, утром вышла к магазину Лилли с плакатом, на котором он обличался как «ИМПОРТЕР», нарушитель соглашения. Собравшаяся вокруг толпа напоминала те, что собирались в других подобных случаях месяцем ранее. Тогда они охотились за другими «ИМПОРТЕРАМИ», и вот пришел черед Лилли[374]. Сосед Лилли, Эбенезер Ричардсон, отвлек толпу, пытаясь сорвать плакат. Ричардсон предоставлял таможне информацию о бостонских купцах и получил за это прозвище «рыцарь почты», которым часто называли осведомителей. Теперь же он повел себя отважно либо безрассудно; толпа последовала за ним к его дому, в его адрес посыпались оскорбления, вплоть до такого: «Выходи, чертов сукин сын, я вырву тебе сердце и печень». Ричардсон не вышел, но когда начали бить стекла в окнах его дома, он выстрелил по толпе из ружья, заряженного крупной дробью, убил одиннадцатилетнего мальчика — Кристофера Сейдера — и ранил еще одного. Толпа накинулась на него, и лишь вмешательство Уильяма Молино — известного «сына свободы» — спасло ему жизнь. В том же году Ричардсон был признан виновным в убийстве, но после повторного рассмотрения дела король помиловал его[375]. Кристофер Сейдер очень пригодился группе Адамса. На его похоронах не просто оплакивали гибель ребенка — их сделали актом неповиновения британской политике. В похоронной процессии участвовало множество людей (возможно, несколько тысяч), включая, как писал Джон Адамс, «огромное количество мальчиков», шагавших перед гробом, а также следовавших за ним женщин и мужчин. Размер этой толпы свидетельствовал не просто об ужасе, вызванном смертью мальчика; он показывал, насколько отвратительны были народу принимавшиеся Британией меры[376]. Это настроение нашло несколько форм выражения за последующие две недели и способствовало нарастанию насилия. В протестах против законов Тауншенда и движении за подписание анти-импортных соглашений город не забыл, что он оккупирован полками регулярной армии. Он и не мог об этом забыть, учитывая столкновения солдат с гражданскими, ежедневно происходившие у него на глазах. На следующей неделе после похорон Сейдера столкновения участились. Хотя никто не планировал и не организовывал эти стычки, они не были случайными. У жителей Бостона имелось много причин для неприязни к солдатам, главной из которых оставался тот факт, что они оккупировали город, и из-за этих мрачных настроений, вызванных длительной оккупацией. И такими событиями, как гибель Сейдера, горожане, наверное, охотнее, чем обычно, выражали свои чувства. Пожалуй, самыми недовольными среди жителей Бостона были полуквалифицированные рабочие и чернорабочие. Среди них имелись и буяны — молодые люди с большим запасом животной энергии, которые часто нарывались на драки и любили по вечерам выпить рому в таверне. Они не любили солдат и не скрывали этого, тем более что в Бостоне солдаты порой отнимали у них работу, пользуясь армейскими правилами, которые разрешали им это в свободное от службы время. Самым неприятным обстоятельством при этом было то, что солдаты соглашались работать меньше, чем за общепринятую плату (иногда на 20 % ниже того, что обычно платили гражданским), так что у рабочих хватало причин, чтобы ненавидеть британскую армию. В дни после похорон Сейдера эти молодые люди, привыкшие пользоваться своими кулаками, ждали подходящей возможности с особенным нетерпением. Второго марта им представился такой шанс, когда освободившийся со службы солдат зашел на канатный двор Джона Грея в поисках работы. Канатный мастер спросил его, хочет ли он заработать, солдат ответил утвердительно, и тогда канатный мастер предложил ему «почистить нужник». Солдат ударил мастера, был побит и ушел, однако вскоре вернулся с друзьями, и началась большая драка. На следующий день произошло еще несколько потасовок, в отдельных случаях не обошлось без дубин и ножей, в драки вовлекалось все больше людей. Четвертое марта пришлось на воскресенье, которое выдалось относительно спокойным, а в понедельник обе стороны обсуждали слухи о готовящихся новых столкновениях[377]. То, что случилось той ночью, вряд ли было результатом заговора или плана какой-либо из сторон, скорее просто следствием глубокой неприязни и неудачного стечения обстоятельств. Ненависть заставила выйти на улицы лихих гражданских и солдат, которые явно искали друг друга[378]. Небольшая стычка у здания таможни на Кинг-стрит примерно в восемь вечера помогла сплотить горожан, причем далеко не только тех, у которых чесались кулаки. Начало печальным событиям положил подмастерье Эдвард Герриш, оскорбивший офицера, которого он встретил на Кинг-стрит. Среди офицеров 29-го полка джентльменов нет — вот что прокричал ему Герриш. Рядовой Хью Уайт — часовой, стоявший на посту рядом с таможней, — услышал Герриша и ударил его в ухо за дерзость. В тот момент на углу, Кинг-стрит и Роял-Эксчейндж-лейн стояли еще несколько освободившихся со службы солдат, и по крайней мере один из них тоже ударил Герриша[379]. Хотя в 1770 году на улицах Бостона еще не было фонарей, луна и блики от снега и льда достаточно хорошо освещали их, чтобы солдаты и гражданские могли рассмотреть друг друга. Почти все находившиеся не при исполнении солдаты покинули это место, возможно, из-за сильного численного превосходства собравшейся вокруг рядового Уайта толпы, а может быть, потому, что они решили поучаствовать в других драках на соседних улицах. Вести о том, что случилось с Герришем (разумеется, щедро приукрашенные) быстро распространились, и уже через несколько минут туда сбежалось двадцать или больше мужчин и мальчишек. Они, нетеряя времени, высказали Уайту все, что о нем думали: «Проклятый негодяй, подлый сукин сын, красномундирник!»[380] Уайт не стал молчать и пригрозил им штыком, если они не отстанут. В ответ на это в его адрес полетели новые оскорбления, а вместе с ними — снежки и куски льда. Уайт отошел к двери таможни и прижался к ней спиной, пытаясь удержать на расстоянии растущую толпу. Выше по улице, у главного караула, откуда был виден пост Уайта, стоял капитан Томас Престон, который в ту ночь был главным, и с напряжением наблюдал за происходящим. Сорокалетний ирландец Престон был опытным офицером, но опыт как таковой не может подготовить человека к тому, чтобы выступить против разгневанной толпы. Престон смотрел и ждал, видимо, надеясь, что толпа разойдется сама. Но вместо этого она только росла, отчасти за счет добропорядочных граждан, бросившихся на улицы, чтобы тушить пожар. Дело в том, что кто-то (определенно недобропорядочный) то ли кричал «пожар», то ли сообщил близлежащим церквям о том, что на Кинг-стрит полыхает огонь. Так или иначе колокола начали звонить, созывая на помощь. Некоторые из тех, кто присоединился к толпе, несли мешки, чтобы забрать вещи жертв пожара, другие — ведра, чтобы его тушить. Были и те, кто вооружились дубинками, саблями и даже битами для игры в чижи, популярной тогда в Англии и Америке[381]. Видя, как к месту событий стекаются новые люди, капитан Престон примерно в девять часов решил, что пора спасать рядового Уайта. Он отдал приказ шести рядовым во главе с капралом, чтобы пройти к Уайту и вернуться вместе с ним в безопасный главный караул. Добраться до Уайта было не слишком сложно. Построившись в колонну по два и примкнув штыки к ружьям, они спокойно продвигались сквозь толпу, но как только они достигли цели, толпа сомкнулась за ними, фактически сделав их вместе с Уайтом пленниками. Далее вмешался случай: как промеж гражданских, так и среди гвардейцев оказались мужчины, участвовавшие в драке на канатном дворе. Окруженный Престон допустил две ошибки, которые совершенно объяснимы, но от этого не перестают быть ошибками. Он не приказал гвардейцам сразу же маршировать назад по улице вместе с Уайтом, а изменил построение с колонны по два на полукруг в одну линию, как бы выдвигавшийся от таможни. А затем приказал своим людям зарядить ружья. Следующие пятнадцать минут были страшно напряженными. Еще больше людей вышли на улицу, и толпа напирала на маленькое кольцо солдат, крича «Убить их!» и бомбардируя их снежками и льдом. Солдаты кричали в ответ и направляли ружья на толпу. Несколько сорвиголов пробегали вдоль строя солдат, дотрагиваясь до ружей палками, провоцируя их выстрелить. Пока Престон вел солдат на выручку Уайту, кто-то предупредил его: «Следи за своими людьми, ведь если выстрелят, тебе отвечать». Престон ответил: «Я понимаю это»[382]. Теперь, когда толпа начала давить на строй солдат, Престон занял место ближе к одному его концу, перед штыками. Шум нарастал, и в толпе появились признаки того, что она готова на большее, когда вперед вышел купец Ричард Палме, чтобы тоже предостеречь капитана. Пока двое разговаривали, в рядового Хью Монтгомери попал кусок льда. Возможно, от удара он потерял равновесие, или, что более вероятно, от боли он попятился и поскользнулся. Встав на ноги, он выстрелил. За этим первым выстрелом последовала Недолгая пауза, а затем остальные солдаты тоже нажали на курки. Их ружья поразили одиннадцать человек. Трое умерли на месте, четвертый через несколько часов, пятый — через несколько дней. Шестеро раненых выжили. На протяжении следующих суток казалось, что общественный порядок совершенно рухнет. Толпа, численность которой оценивалась по меньшей мере в тысячу человек, двинулась по улицам сразу же после убийства, требуя отмщения и наказания для Престона, караульных и армии. Губернатор проявил смелость и здравый смысл, выйдя к этим людям. Посадив Престона и солдат в тюрьму, он чуть ослабил гнев, но присутствие 14-го и 29-го полков не давали народу успокоиться. Хатчинсон не хотел приказывать этим войскам покинуть город, но, прислушавшись и понаблюдав за городом несколько часов, на следующий день он понял, что ему придется отдать такой приказ. После ухода войск внимание народных вожаков сосредоточилось на том, чтобы поскорее добиться суда. В этом им помешал суд высшей инстанции, судьи которого, поняв, что справедливый процесс в такой атмосфере невозможен, отложили слушания до осени. К тому времени страсти несколько улеглись, и когда общественный порядок был восстановлен, процессы начались. Джон Адамс, искренне убежденный в том, что всякий англичанин заслуживает справедливого суда (не говоря уже о том, что непопулярность дела взывала к его самолюбию), взялся защищать Престона. Суд выслушал многих свидетелей, дававших обескураживающе противоречивые показания, и признал капитана Престона невиновным. Солдаты также избежали наказания, хотя двое из них были признаны виновными в убийстве по неосторожности[383]. В оставшиеся месяцы 1770 года Бостон больше не испытал насилия, ненависть, которой город пропитывался с 1765 года, никуда не исчезла, а произошедшие здесь убийства возродили сходные настроения и в других частях Америки. Резня (так это происшествие назвали почти сразу же) вновь приковала внимание к вопросу о том, что британские власти делают в Америке. Легитимность их присутствия оспаривалась с 1765 года, теперь же сомневавшиеся в чистоте их намерений получили своеобразный ответ. Конституционные вопросы, разделившие Британию и ее американские колонии, четко обозначились еще в 1765 году. Ряд американцев пытались прояснить их для своих соотечественников, а также для короля и парламента. Они преуспели в Америке, но не в Британии. Тем не менее они и большинство других американцев надеялись на удовлетворительное решение в рамках старого конституционного порядка. Кризис, порожденный законами Тауншенда и превращением крупного города в гарнизон, сделали эти конституционные вопросы еще более насущными. Стали понятны самые тяжелые последствия британской политики: как заметила в следующем году палата представителей Массачусетса, «власть без сдержек подрывает всякую свободу»[384]. Неограниченная власть уничтожила свободу и погубила жизнь нескольких бостонцев. Из-за той горечи, которую ощущали жертвы, спокойный пересмотр политической теории, на которой строились англо-американские отношения, стал проблематичным. И все же на протяжении нескольких следующих лет американцы продолжали размышлять о британской конституции. Разумеется, они также много думали и о самих себе. Несколькими годами ранее Уильям Питт, которым многие в колониях восхищались, напомнил парламенту о том, что американцы — «законные дети, а не бастарды Англии». Опыт заставил многих американцев усомниться в заключении Питта. Недавние события, кульминацией которых стала резня в Бостоне, привели их к осознанию того, что, возможно, они и вправду бастарды Англии, но при этом — законнорожденные дети Америки.10. Дрейф
I
В первый день января 1771 года Сэмюэль Купер, священник церкви на площади Брэттл в Бостоне, писал своему другу Бенджамину Франклину, что «сейчас в политике, кажется, наступила пауза». Купер высказал это мнение не потому, что возбуждение из-за бойни и суда над Престоном и солдатами спало, но потому, что, как он объяснял, «нарушено соглашение купцов», имея в виду принятое в октябре решение бостонских негоциантов отказаться от бойкота импорта[385]. Купцы пошли на такой шаг, узнав, что парламент одобрил законопроект, отменяющий все пошлины Тауншенда, кроме пошлины на чай. Это решение принял новый кабинет министров во главе с лордом Нортом. Правительство Норта пришло на смену людям Графтона в начале 1770 года и очень скоро вознамерилось разрубить узлы колониальных споров. Норт обладал спокойным характером, которому в следующие двенадцать лет пришлось выдержать нелегкие испытания. Даже когда страсти накалялись, Норт старался избегать противостояния. Он лишь хотел служить своему королю. Поэтому он принялся устранять причины конфликта с чувством глубокого облегчения. Он также подвел парламент к тому, чтобы изменить закон о денежном обращении, сильно беспокоивший Нью-Йорк — этой колонии отныне разрешалось выпускать векселя для оплаты государственных (но не частных) долгов. В общем и целом эти меры казались просвещенными и позволяли надеяться на то, что верх берет умиротворяющая колониальная политическая линия[386]. В действительности, на протяжении следующих трех лет правительство почти не обращало внимания на колонии. Оно рассчитывало, что бойкот импорта не продлится долго, и определенно не собиралось показывать, будто одобряет сопротивление налогообложению. Как и его предшественники, Норт не сомневался в праве парламента делать с Америкой практически все, что угодно, но готов был пустить колониальные дела на самотек, лишь бы все было тихо. Такой вариант мог бы устроить многих американцев, поверь они в то, что парламент отказался от старых притязаний. Большинство соглашалось с Сэмюэлем Купером в том, что у нового кабинета появилась возможность выбрать мягкие меры без риска показаться слабым и что «если он вернет нас в прежнее положение, которое мы занимали до Акта о гербовом сборе, то мы не восстанем со своими требованиями». Однако все знали, что Акт о верховенстве остается в силе, как и налог на чай[387].II
Несмотря на сохранявшееся чувство угрозы, внушаемое этими законами, атмосфера в 1771 году была иной, потому что никакая другая важная проблема не заняла место пошлин Тауншенда. Не то чтобы из политики исчезли беспокоившие людей вопросы. Например, в Северной Каролине и Джорджии ассамблеи и губернаторы боролись друг с другом, и в этом не было ничего странного, но порождаемая этой борьбой озлобленность была сильнее обычной, потому что взаимное доверие за последние годы почти совсем испарилось[388]. В Южной Каролине губернатор и ассамблея не могли договориться по поводу вопроса, тесно связанного с недавними кризисами. Спор начался ближе к концу 1769 года, когда ассамблея выделила 1500 фунтов «на поддержку справедливых и конституционных прав и свобод народа Великобритании и Америки». Эта сумма должна была быть отправлена сторонникам билля о правах — английской группе, организованной для помощи в продвижении Джона Уилкса в парламент. Из-за процедур, принятых с 1740-х годов, губернатор Уильям Булл не смог этому воспрепятствовать. Булл поставил в известность своих английских начальников, которые были шокированы и немедленно проинструктировали его не давать согласие на ассигнования, которые не предназначались на конкретные цели. Булл пытался следовать этим инструкциям, однако губернаторы Южной Каролины и прежде находились в неустойчивом положении. Лучшее, что он мог делать, это медлить с одобрением мер, принимаемых ассамблеей. В результате ситуация зашла в тупик: после 1769 года ни один ежегодный налоговый билль не приобрел статус закона, а после февраля 1771 года в силу не вступил вообще ни один законопроект[389]. Далеко на юге не утихал конфликт другого рода, хотя к началу 1770-х годов он стал несколько менее напряженным. Тем не менее полностью он не затухал до тех пор, пока американцы не провозгласили независимость, потому что касался религиозной свободы, в частности свободы протестантских сект от господства англиканской церкви. В реальности, вероятно, церковь Англии едва ли имела шансы контролировать религиозную жизнь колоний. Большинство американцев (как английского происхождения, так и новых иммигрантов) склонялись к евангелизму, арминианству или либерализму. Епископы и церковная власть не нравились верующим, а всякие институты, насаждающие убеждения, подвергались все большей критике[390]. И все же епископы, которых в Америке не было, находились в центре религиозных противоречий, поскольку на расстоянии они казались особенно зловредными. Их удаленность давала волю воображению диссентеров, которые задолго до революции предупреждали об их вероятном вторжении и о попытках англиканского духовенства (в особенности миссионеров Общества распространения Евангелия, перед которыми стояла задача распространять свет Писания среди индейцев) проникнуть в самую сердцевину образования и религии в Америке. Одно из наиболее мрачных пророчеств, касающихся намерений англиканцев, было сделано в Нью-Йорке накануне Франко-индейской войны. Поборником свободы на этот раз выступил Уильям Ливингстон, недавний выпускник Йельского университета, которого нельзя было назвать истово верующим. В 1753 году, когда сформировался Королевский колледж (позже превратившийся в Колумбийский университет), Ливингстон почувствовал, что англиканцы Нью-Йорка задумали сделать его своим оплотом. Ливингстон же не хотел отдавать колледж под контроль какой-либо церкви или секты. Англиканцы численно превосходили все прочие группы в его совете и при этом агитировали за королевскую хартию. Чтобы они не захватили руководство, Ливингстон в 1753 году прибег к могуществу прессы и начал издавать The Independent Reflector — ежемесячный журнал, подражающий Independent Whig Джона Тренчарда и Томаса Гордона. Ливингстон тщательно выбрал модель: антиклерикализм Independent Whig больно кусал, что должно было очень пригодиться в борьбе с англиканцами города Нью-Йорка. На страницах Independent Reflector использовались две тактики. Первая заключалась в обращении к самым видным группам диссентеров колонии, в том числе пресвитерианцам, лютеранам и голландским реформатам. Вторая состояла в том, чтобы приписывать повышенное значение тому, что на первый взгляд казалось лишь провинциальной борьбой за жалкий колониальный колледж. Это значение называлось политическим: религиозная свобода была неотделима от гражданской, и потому за открытым намерением англиканцев контролировать колледж якобы стоял более значительный замысел — распоряжаться всем в церковной и государственной жизни[391]. Англиканцы в итоге победили в сражении за Королевский колледж или как минимум за президентское кресло в нем, которое до 1763 года занимал их представитель доктор Сэмюэль Джонсон. Однако Ливингстон тоже кое-что выиграл, ведь противостояние в прессе всполошило большую аудиторию диссентеров в Нью-Йорке и определенно помогло подготовить ее к конфликтам, которые подталкивали к независимости. А в 1760-х годах, когда распространились слухи о скором приезде в Америку англиканского епископа, священники-диссентеры в Нью-Йорке объединились со своими коллегами с севера, чтобы организовать сопротивление. Охотнее всего этим слухам верили в Новой Англии. Там (особенно в Бостоне и Кембридже) их можно было легко связать с реальностью. Преподобный Ист Эпторп — англиканский пастор в Кембридже — определенно являлся заметной фигурой, когда приехал на американский континент вместе с губернатором Френсисом Бернардом в 1760 году. Эпторп, которому тогда не исполнилось еще и тридцати лет, вскоре женился на Элизабет Хатчинсон — дочери судьи Элиакима Хатчинсона, богатого купца, а также старосты и члена совета церкви Королевского колледжа. Намерения Эпторпа не ограничивались вхождением в семью Хатчинсонов, и вскоре после своего приезда он начал распространять свои воззрения в местных газетах. Так, например, он предложил, чтобы Гарвард проводил англиканские службы в актовый день. Эпторп высказал эту мысль с таким простодушием, что оно было воспринято как высокомерие. Его предложение гарвардскому совету попечителей включить в свои ряды англиканцев свидетельствовало либо о его непонимании религиозных реалий Новой Англии, либо о крайнем пристрастии к фантазиям. Так или иначе, реакция оказалась вполне предсказуемой: газеты обрушили волну критики на Эпторпа и все его замыслы[392]. Взгляды Эпторпа сделали его легкой мишенью. Джонатан Мэйхыо, пастор бостонской Западной конгрегационалистской церкви, неоднократно осаживал его в спорах, которые велись в прессе в 1760 годах. Из всех находок Мэйхыо самой действенной стал ярлык, который он навесил на красивый дом Эпторпа в Кембридже — «епископский дворец»[393]. Это гордое название казалось достойным надменно державшегося англиканского духовенства, которое вело себя так, будто жило в стране язычников. По крайней мере, так это виделось конгрегационалистам, которых англиканцы беспрестанно пытались обратить, как если бы те были неверующими. Таким образом, с точки зрения конгрегационалистов, когда в 1763 году Мэйхыо предупредил о существовании проекта «духовной осады наших церквей», он лишь подтвердил очевидное[394]. Два года спустя, во время волнений из-за Акта о гербовом сборе, Джон Адамс связал духовные и светские нападки на американские свободы. «Похоже, что существует прямое намерение и формальный замысел поработить Америку», писал он в серии эссе, позже озаглавленных «Рассуждение о феодальном и каноническом праве». На протяжении оставшейся части десятилетия давление на англиканское духовенство в срединных колониях и Новой Англии продолжалось. Однако к началу 1770 годов, хотя беспокойство диссентеров сохранялось, самая страшная составляющая угрозы «иноземного» духовенства как будто была отражена. Англиканцев разоблачили, и своего епископа им навязать не удалось. В отсутствие новых признаков скорого явления епископов даже самые впечатлительные диссентеры не могли долго принимать эту угрозу всерьез.III
Беспокойство по поводу епископов сошло на нет в начале 1770-х годов, но вновь возникли тревоги из-за таможенных пошлин. Из всех пошлин Тауншенда сохранилось только обложение чая, служа досадным напоминанием о том, что парламент не отказался от своего права облагать доходы налогами, когда отменил остальные пошлины. Эта досада не мешала колониальным купцам импортировать британские товары, а их клиентам — покупать их. В течение трех лет начиная с 1771 года объем импорта колоний из Британии составил 9 миллионов фунтов, что было почти на 4 миллиона больше, чем в 1768–1770 годах. Бостонские купцы оказались особенно жадными до британских товаров и превозмогли свое отвращение к облагаемому пошлиной чаю, ввезя полмиллиона фунтов этого продукта[395]. Тем не менее нелегальная торговля и вымогательство таможенников продолжались, несмотря на возобновление законного бизнеса. Во многих портах контрабандисты и нечистые на руку сборщики действовали заодно, как, например, на реке Делавэр, где незаконная торговля с голландцами продолжалась даже после отмены пошлин Тауншенда. Известный сборщик из Нью-Джерси был избит матросами осенью 1770 года за то, что осмелился расследовать инцидент с перегрузкой содержимого трюма корабля в лодки в заливе Делавэр. Его сын, помогавший ему в таможне, вскоре после этого удостоился дегтя и перьев. Через год таможенная шхуна захватила колониальное судно, обвинявшееся в контрабанде, но сама была захвачена людьми, среди которых, по-видимому, присутствовали несколько крупных купцов из Филадельфии. Толпа избила капитана и экипаж таможенной шхуны и заперла их в трюме, а их трофей исчез[396]. Купцы и сборщики таможенных пошлин повсюду образовывали гремучую смесь. В Род-Айленде, жители которого сильно поднаторели в организации волнений, они сошлись аналогичным образом через год после самых драматичных столкновений на реке Делавэр. Казалось, ничто не могло ослабить желания обеих групп перегрызть друг другу глотки. Купцы Род-Айленда вели бойкую торговлю, причем в основном легальную, хотя их репутация по части нарушения закона была внушительной. Британский военный флот считал, что эта репутация соответствует фактам, и после потери двух небольших судов в водах залива Наррагансетт отправил туда в конце марта 1772 года корабль «Гаспи». Его капитан, лейтенант Уильям Дадингстон, задержал несколько торговых судов, но стал получать угрозы ареста от местного шерифа. Командир Дадингстона, адмирал Монтегю, пытаясь защитить его, написал глупое письмо шерифу, в котором грозил повесить как пиратов любого, кто рискнет отбить «какое-либо судно, взятое королевской шхуной за незаконную торговлю». Губернатор Джозеф Уонтон ответил письмом, которое явно не способствовало тому, чтобы успокоить флот, столкнувшийся с трудностями при применении навигационных актов. Обвинение о том, что местные жители предложили отбивать силой любое торговое судно, захваченное «Гаспи», было, по словам Уонтона, «совершенно необоснованным и скандальным». А «что касается вашего совета не присылать шерифа на борт какого-либо из ваших кораблей, то извольте знать, что я буду отправлять шерифа этой колонии в любое время и место в ее границах, которое сочту необходимым»[397]. Через несколько недель, 9 июня, лейтенант Дадингстон преследовал судно, подозревавшееся в контрабанде, и посадил «Гаспи» на мель. Не сумев освободить корабль, он оказался уязвим для злоумышленников. Они явились ночью (в том числе, по-видимому, Джон Браун из влиятельного семейства города Провиденс) и захватили «Гаспи». Дадингстон пытался сопротивляться, за что получил пулю в пах. Абордажная команда работала не спеша: сначала они поколотили гандшпугами матросов «Гаспи», которые пытались их сдержать, затем прочли корабельные бумаги и, наконец, сняли всех и сожгли судно. Дадингстон, высаженный на берег этими вежливыми людьми, пару дней зализывал раны, а затем был арестован шерифом за произведенный ранее захват колониального груза. Адмирал Монтегю в конце концов спас его, уплатив немалый штраф, выписанный род-айлендским судом. После этого Монтегю решил, что лейтенант Дадингстон исчерпал свою полезность и отправил его назад в Англию держать ответ перед трибуналом за потерю «Гаспи»[398]. Вышло так, что адмиралу и правительству метрополии пришлось довольствоваться наказанием Дадингстона. Монтегю пытался выяснить имена главарей налетчиков, которые сожгли «Гаспи» и, возможно, в этом преуспел, но ему не удалось доказать их виновность. Не повезло и кабинету министров, хотя он даже назначил комиссию для расследования этого дела. Комиссия собралась в январе 1773 года, а летом отправила отчет, объявив чиновников Род-Айленда невиновными. На ком лежала ответственность, члены комиссии сказать не смогли[399]. Отчет положил конец делу о «Гаспи» с юридической точки зрения, но его политические последствия ощущались дольше. Комиссия имела полномочия отправить обвиняемых, а также свидетелей и улики в Англию для суда. Это соглашение нарушало старое английское право на суд коллегией присяжных равного с подсудимым социального статуса. Новость об этом решении кабинета министров распространилась быстро, и уже через несколько недель колониальные газеты указывали на его опасность. Небольшое время спустя, в том же в 1773 году, газеты начали печатать статьи, открыто рассуждавшие о том, когда Америка объявит о своей независимости[400]. В Виргинии Томас Джефферсон, Ричард Генри Ли и Патрик Генри, узнав о министерском видении справедливого суда по делу «Гаспи», решили, что для поддержания бдительности колоний необходима постоянная организация. Палата горожан согласилась с ними и в марте назначила постоянный комитет, который должен был взаимодействовать с другими законодательными органами или их комитетами по поводу любых действий, потенциально опасных для Америки. Этот межколониальный корреспондентский комитет послужил моделью для других; за двенадцать месяцев после этого все колонии последовали примеру Виргинии — кроме Пенсильвании, где Джозеф Гэллоуэй воспрепятствовал принятию соответствующего решения[401]. Само существование этих комитетов оказалось важнее каких-либо их действий. Оно свидетельствовало о все более явном осознании американцами общности их дела, а также послужило образцом объединения усилий. Поддерживать этот единый вектор в годы дрейфа оказалось непросто. Конечно, Виргиния проторила путь на раннем этапе конфликта с Британией, особенно в годы кризиса из-за Акта о гербовом сборе. Однако, как и другие колонисты, виргинцы с облегчением возвращались к повседневным делам, когда их свободам переставали угрожать. Такими же были янки из Массачусетса, готовые яростно отстаивать свою свободу, но также жаждущие спокойствия. Даже Сэм Адамс не мог существенно изменить настроения народа, когда британский кабинет министров отступил.IV
Дело «Гаспи» помогло слегка встряхнуть Массачусетс, но в 1772 году там разгорелся местный конфликт, спровоцировавший куда более сильное недовольство. Поводом для него послужил уже знакомый вопрос о том, кто должен платить жалованье королевским чиновникам, служащим в колониях. Легислатура считала контроль за жалованьем средством давления на чиновников, что, конечно, было заблуждением, но весьма широко распространившимся за пределами Массачусетса. Британское правительство также полагало, что жалование может служить мощным оружием в борьбе за власть и в 1768 году постаралось оградить Томаса Хатчинсона от народного влияния, постановив, что отныне его жалованье как председателя суда будет выплачиваться из доходов таможни. Через два года оно решило платить Хатчинсону и Эндрю Оливеру за их работу на постах соответственно губернатора и заместителя губернатора из пошлин на чай, а летом 1772 года такая же мера была принята в отношении всех судей высшего суда[402]. Расширение списка чиновников, выходивших из-под народного влияния, сильно нервировало Сэма Адамса. Бостонские газеты предоставляли свои колонки Адамсу и его друзьям, которые, не теряя времени, выражали озабоченность усилением в Массачусетсе власти, не несущей ответственности перед его жителями. Адамс также обратился к городскому собранию и проинструктировал этот орган запросить у губернатора дополнительную информацию о целях кабинета министров. Не получив ее, город потребовал организовать внеочередную сессию легислатуры. Губернатор напомнил горожанам о том, что ее созыв — его прерогатива и он сделает это, когда сочтет нужным. После этого Сэм Адамс высказал мнение, что все нормальные средства исчерпаны и Массачусетсу следует обратиться к чрезвычайным мерам, чтобы отстоять свои свободы. Соответствующих идей у него хватало, и он предложил Бостону учредить корреспондентский комитет, чтобы «заявить о правах колонистов и особенно этой провинции, как людей, как христиан, как подданных; чтобы сообщать о происходящих или возможных посягательствах или нарушениях свобод этого города и публиковать эту информацию в нескольких других городах нашей провинции, а также чтобы каждый город свободно выражал свои настроения по данному вопросу»[403]. Город единодушно одобрил этот шаг, чему наверняка способствовала антипатия к Хатчинсону, который, отклонив прошение о созыве законодательного собрания, не смог устоять перед соблазном прочитать горожанам нотацию об ограниченности их прав. Комитет сразу же принялся за работу и к концу месяца представил отчет, принятый городом и почти безотлагательно напечатанный под заголовком Votes and Proceedings… of Boston, а современникам известный как «Бостонский памфлет»[404]. Эта брошюра не сильно отличалась от произведений других комитетов, поскольку содержавшиеся в ней утверждения разделялись большинством людей. Однако ее тон и бескомпромиссный вывод о том, что ожесточенность британских нападок на права колоний свидетельствует о замысле поработить Америку, ставили ее особняком. В качестве доказательств существования такого замысла в ней повторялись знакомые жалобы, среди которых главное место занимало налогообложение без представительства, а также парламентское заявление в Акте о верховенстве о его контроле над колониями «во всех случаях». «Бостонский памфлет» также напоминал жителям Массачусетса о незаконном применении против них силы регулярной армией и ордами прожорливых чиновников, со всем пылом бросающихся исполнять приказы правительства: «Наши дома и даже наши спальни могут быть разграблены, наши шкафы, сундуки и ящики открывают, обшаривают и опустошают негодяи, каких ни один разумный человек не нанял бы даже в качестве чернорабочих». Сам губернатор замешан в этом заговоре; он стал «просто министерским механизмом». Справедливость сделалась для колонистов недоступной из-за жалований, назначаемых судьям из доходов таможни, и из-за того, что дела передавались адмиралтейским судам, заседавшим без присяжных. В этом списке было и много другого, включая упоминание об опасности для веры со стороны епископов, появление которых якобы было неотвратимым[405]. Явственность угрозы свободе, как она описывалась в «Бостонском памфлете», заостряла внимание на ценности прав колоний. В перечислении этих прав не было ничего нового, но они формулировались с необычайной ясностью. В памфлете утверждалось, что колонисты являются британскими подданными и обладают всеми правами таковых. Эти права основывались на природе и разуме и являлись «абсолютными»: они не подлежали отчуждению, и никакая власть не могла на законных основаниях отобрать их у народа, также как и народ не мог от них отказаться в пользу правительства или кого-либо еще[406]. Заявление Бостона о правах и требованиях, казалось, взывало к поддержке со стороны других городов колонии, хотя бостонский комитет открыто не просил, чтобы другие общины формировали свои корреспондентские комитеты и присоединялись к борьбе за исправление несправедливости. Ему и не требовалось просить об этом. Когда 1772 год подошел к концу, новости об этом почине распространились весьма широко. Свою роль сыграла Boston Gazette, да и путешественники рассказывали людям, что произошло там в ноябре. Сам комитет напечатал шестьсот экземпляров брошюры, которые к весне 1773 года достигли самых дальних уголков колонии. Реакция на них говорит о том, что проблемы Бостона были хорошо знакомы большинству городов Массачусетса. К апрелю 1773 года почти половина городов и округов колонии пошли на те или иные меры, образовав свои корреспондентские комитеты, приняв резолюции, вторившие бостонским предупреждениям о зловещем заговоре против их свобод, и поручив своим представителям изучить вопрос о судейских жалованьях[407]. Хотя Томас Хатчинсон, являвшийся одним из тех судей, а также губернатором, вряд ли осознавал то, что он помог появлению этих недовольных заявлений. Например, в январе 1773 года он выступил с речью перед легислатурой, отвечая бостонскому корреспондентскому комитету. По большей части тон Хатчинсона был сдержанным. Кроме того, ему удалось совершенно ясно донести свое понимание статуса колоний в империи. Эта ясность раззадорила оппозицию. В своей речи он осуждал использование корреспондентских комитетов и притязания на абсолютные права. Хатчинсон говорил, что колонистам не нужны такие комитеты. Что же до их прав, то они проистекали из хартии, дарованной им монархом. С самого начала их правительство ограничивалось условием подчинения парламенту. Они пользовались некоторыми правами англичан, но не всеми: не могли отправлять своих представителей в парламент, потому что оказались далеко от Англии. Их собственная законодательная власть имела определенные полномочия, однако не могла принимать законы, конфликтующие с парламентскими. Таким образом, хартия, традиция и география ограничивали права колоний; эти ограничения все признавали, и лишь недавно их начали оспаривать люди, выдвигавшие удивительные требования. Эти люди ошибались, считал Хатчинсон, и чтобы сделать их заблуждение очевидным, он подвел в своей речи решительный итог: «Я не знаю такой черты, которую можно было бы провести между верховной властью парламента и полной независимостью колоний»[408]. Хатчинсон сильно просчитался. Многие в колониях занимали жесткую конституционную позицию против парламента, с 1765 года неоднократно заявляли ее, а теперь это повторяли Сэмюэль Адамс, корреспондентский комитет и города провинции. Хатчинсон не только не подавил общественное противодействие, а укрепил его. Сэм Адамс и бостонский комитет прилагали все усилия к тому, чтобы воспрявшая оппозиция не сбилась с пути. В июне они разыграли свой главный козырь за долгие годы, опубликовав письма Томаса Хатчинсона, Эндрю Оливера и ряда других Томасу Уотли — секретарю казначейства и члену парламента, ответственному за составление билля о гербовом сборе. Бенджамин Франклин отправил эти письма Томасу Кушингу шестью месяцами ранее с условием, что они должны оставаться в секрете. Как они попали в руки Франклина, не совсем понятно, и Кушингу не было до этого дела. Он и Адамс вскоре решили, что письма следует обнародовать, чтобы о предательстве Хатчинсона и его друзей стало известно всем[409]. Эти письма, написанные в 1767, 1768 и 1769 годах, показывали, насколько их авторы были разочарованы народным сопротивлением мерам и политике британского правительства. В них мало что могло удивить жителей Массачусетса; сенсационными их делало время разоблачения и обнаружение того факта (теперь сделавшегося совершенно очевидным), что агенты монарха в Америке были очень далеки от народа. И эти агенты, главными из которых были Томас Хатчинсон и Эндрю Оливер, сами признавались в поддержке заговора, заговора, упоминавшегося так часто, что он уже перестал кого-либо шокировать и тем более пугать. Направленные Уотли предложения Хатчинсона о сокращении английских свобод, которые он делал якобы «для блага колонии», потрясли всех. Его покровительственный тон (он часто называл несогласных с ним невеждами или безумцами) превращал эти заявления, которые он повторял и на публике, в предательство Массачусетса. Вот пассаж из его письма, ставший скандально известным сразу после публикации:Я не могу размышлять о мерах, необходимых для мира и порядка в колониях, без боли. Требуется сокращение так называемых английских свобод. Меня утешает только мысль о том, что переход от первобытного состояния к состоянию идеального управления невозможен без значительного ограничения естественных свобод. Я сомневаюсь, реально ли защитить систему управления, в которой колония, расположенная за 3000 миль от метрополии, будет пользоваться всеми свободами последней. Я уверен, что никто прежде не видел ничего подобного. Когда я говорю об ограничении свободы, то желаю колонии только добра, ведь в противном случае возможен разрыв связи с метрополией, который неизбежно приведен к краху колонии[410].К моменту публикации писем Хатчинсона его враги успели отточить методы борьбы с покушениями на свободу. Теперь они пошли чуть дальше: палата представителей направила кабинету министров петицию о снятии губернатора, а газеты писали разоблачительные статьи с удвоенным рвением. К концу лета 1773 года даже Томас Хатчинсон, благие намерения которого не смогли оправдать его неудачных средств, признавал, что «политическая пауза», о которой писал Сэмюэль Купер, в Массачусетсе закончилась[411]. В мае, непосредственно перед публикацией писем, парламент сделал шаг, в результате которого эта пауза неизбежно должна была закончиться во всех тринадцати колониях. Он принял Чайный акт, призванный спасти оказавшуюся в тяжелом финансовом положении Ост-Индскую компанию. Этот акт давал компании монополию на торговлю чаем с колониями и сохранял пошлину на чай в размере трех пенсов. Оба эти положения спровоцировали бурю недовольства, послужив доказательствами, что парламент намерен делать с Америкой все, что ему заблагорассудится. «Пауза» в политике прервалась. Парламент вновь решил настоять на своем верховенстве. Теперь вместо дрейфа у Америки обозначился курс.
11. Резолюция
I
Вообще споры вокруг Чайного акта в 1773–1774 годах представляют собой парадокс на парадоксе. Два предыдущих года американцы импортировали чай (большую часть вполне легально), уплачивая налог в размере три пенса с фунта. Впрочем, контрабанда никуда не делась, и изрядная часть объемов чая нелегально завозилась из Нидерландов, что было сравнимо с «плановым» импортом через британскую таможню. Однако не прошло и года после принятия Чайного акта, как оппозиция ему воспротивилась, что привело к «Бостонскому чаепитию», хотя пошлина оставалась прежней. С этих пор любой поставщик чая объявлялся врагом государства, хотя многие беспрепятственно ввозили чай в течение предшествующих двух лет. Возникает вопрос о причинах столь нервной реакции на произошедшее, о посягательстве на частную собственность, неповиновении парламенту и, в конце концов, о сплачивании американских колоний. Ответ нужно искать главным образом в том, как колонисты интерпретировали Чайный закон. По их мнению, закон не оставлял им выбора, фиксируя неизбежное: очередное требование дополнительных налогов со стороны парламента. Такое требование, по глубокому убеждению колонистов, могло свидетельствовать только об одном: планы англичан поработить Америку никуда не делись. И продолжать выплачивать пошлину после того, как намерения правительства метрополии предстали во всей красе, означало бы помогать угнетателям. Такая точка зрения возобладала в колониях в конце лета, после принятия закона, так как о действиях (не говоря уже о намерениях) членов парламента в Америке не знали до сентября, пока текст закона не попал в печать. Но и это не уменьшило неразбериху: толкования закона, появившиеся в газетах, подразумевали и даже напрямую утверждали, что отныне чай, ввозимый Ост-Индской компанией, не будет облагаться пошлиной. Сторонники Чайного акта, особенно контрагенты компании, разумеется, не спешили прояснять ситуацию, и еще в ноябре некоторые из них, находясь в Нью-Йорке, уверяли что «ост-индский» чай будет свободен от старых пошлин Тауншенда[412]. Как и раньше, чтобы раскрыть истинные цели британского министерства, «Сыны свободы» прибегли к помощи прессы, однако на этот раз большим влиянием обладали не бостонские «виги», а их коллеги из Филадельфии и Нью-Йорка. Филадельфийцы смягчили тон высказываний оппозиции и перевели дискуссию в русло, знакомое по обсуждению последствий Акта о гербовом сборе и «законов Тауншенда». В 1773 году были, однако, и различия: городские низы обозначили себя как реальную силу гораздо раньше, тотчас же появились и призывы к насилию. Разумеется, споры вокруг законодательства велись в правовом поле: у парламента не было права облагать колонистов налогами, так как те не были представлены в парламенте, однако все предполагали, что протест колоний зайдет дальше, если парламент не пересмотрит свою позицию. На массовом митинге в Филадельфии, состоявшемся 16 октября, каждый, кто согласился ввозить в колонии чай от Ост-Индской компании, был объявлен «врагом нации». Более того, митингующие учредили специальный комитет, задачей которого было призвать оптовых торговцев чаем покинуть это поприще. Под влиянием Джона Дикинсона, известного своей оппозицией к Ост-Индской компании, большинство ее грузополучателей, богатых торговцев-квакеров, в ноябре согласились с потерей своих доходов. Лишь одна из таких фирм, «Джеймс и Дринкер», попыталась сопротивляться давлению Дикинсона, но к декабрю уступила и она[413]. Без сомнения, этих торговцев впечатлили угрозы в адрес любого, кто осмелится импортировать чай. Среди народных комитетов, избранных на массовых митингах или организовавшихся стихийно, выделялся, в частности, «Комитет дегтя и перьев», члены которого обещали применить эту процедуру к любому лоцману, отважившемуся провести судно с грузом чая по фарватеру реки Делавэр в Филадельфию. Когда они узнали имя капитана парусника «Полли», перевозившего чай Ост-Индской компании, то посулили насильно поить его горячим чаем за «пособничество дьяволу». Этого достойным членам комитета показалось мало, и они спросили капитана, некоего Айреса, как тому понравится веревка вокруг шеи и, цитируем, «десять галлонов жидкого дегтя, вылитых аккурат на макушку, а также перья с доброго десятка диких гусей? Не находит ли капитан, что это сделает его внешность импозантнее?» Комитет дал еще такой совет капитану Айресу: «Возвращайтесь туда, откуда вы приплыли, возвращайтесь без промедления и попыток протестовать, ну а прежде всего, капитан Айрес, мы советуем вам вернуться, не будучи вывалянным в гусиных перьях». Этот совет члены комитета изобразили в виде большой афиши и отправили с помощью почтового судна на «Полли», пока корабль еще не достиг побережья Северной Америки. Когда же наконец Айрес с грузом чая подошел к реке Делавэр в конце декабря, «Бостонское чаепитие» было уже свершившимся фактом: губернатор Джон Пенн и таможенные чиновники были запуганы происходящим, а все грузополучатели в одночасье сделались патриотами. Увидев все это, Айрес предпринял единственное верное решение: выбрал якорь и отправился назад в Англию, сохранив, таким образом, свой груз в целости и сохранности[414]. В Нью-Йорке дело обстояло примерно таким же образом: «Сыны свободы» активизировались вновь, и всю осень под их контролем проходили массовые собрания, верховодили на которых опять-таки Айзек Сирс, Александр Макдугалл и Джон Лэмб. Хотя получатели грузов в Нью-Йорке последовали примеру своих филадельфийских коллег и оставили это дело, губернатор Уильям Трайон уже в декабре настаивал на том, что когда корабль с чаем подойдет к берегу, груз необходимо доставить на склад в Бэттери — район на южной оконечности Манхэттена. У Трайона были все карты на руках (верные ему члены городского совета), а также серьезный козырь — военный корабль, стоявший на рейде у косы Сэнди-Хук в ожидании чайного судна. Но и в такой ситуации губернаторпотерпел неудачу: парусник «Нэнси», везший чай в Нью-Йорк, попал в сильный шторм, сбился с курса и, почти лишившись такелажа, достиг Антигуа лишь в феврале следующего года. Когда судно после ремонта добралось до Нью-Йорка, все точки над i были уже расставлены. Запасшись свежей провизией, «Нэнси» отплыл в Англию, сохранив в трюмах свой груз[415]. Единственным портом, где чай можно было выгрузить на берег, остался Чарлстон в Южной Каролине. Раздоры между мастеровыми, торговцами и плантаторами помешали им договориться о тактике противодействия правительству, и губернатору колонии Уильяму Буллу удалось извлечь из этого выгоду. Большинство торговцев Чарлстона ввозили английский чай и добросовестно платили пошлины; некоторые, однако, занимались контрабандой чая из Голландии. Законопослушные импортеры призывали запретить ввоз любого чая, независимо от страны-поставщика, аргументируя это тем, что от ограничения поставок Ост-Индской компании выиграют лишь контрабандисты. Грузополучатели компании, в общем, не возражали против прекращения бизнеса, но спорщики никак не могли решить, что делать с партией чая, пришедшей в порт Чарлстона 2 декабря 1773 года. Эту проблему губернатор решил двадцать дней спустя, арестовав груз под предлогом неуплаты пошлины. Чай был конфискован и никогда не был пущен в продажу[416]. Оппозиция Чайному акту в Чарлстоне была независима от волнений в Филадельфии и Нью-Йорке, Бостон же находился существенно ближе к этим городам, и разыгравшееся там действо, безусловно, стало следствием происходивших в них событий. Однако, несмотря даже на пример Филадельфии, протесты против импорта чая в Бостоне поначалу носили довольно вялый характер. Причиной тому было продолжавшееся весь год противостояние с губернатором Томасом Хатчинсоном, вызванное его перепиской с британскими должностными лицами. Адамс и его сторонники также изо всех сил боролись с практикой выплаты жалованья высшим судейским чиновникам британской короной. Чайный закон, конечно же, не избежал обсуждения в Бостоне, так как Boston Evening Post опубликовала выдержки из него еще в конце августа, однако время шло, на дворе уже стоял октябрь, а Адамс все докучал Хатчинсону нападками в газетах, как будто события, происходившие в Бостоне, были важнее того, чем жил окружающий мир. Адамс был оторван от реальности, равно как и местный корреспондентский комитет, который в конце сентября сослался на отказ Ост-Индской компании от «священных узаконенных прав» как на наиболее свежий пример парламентской тирании[417]. Только три недели спустя Идс и Гилл очнулись от спячки и начали публиковать в своей Gazette статьи против Чайного акта и местных грузополучателей — жителей Нью-Йорка и Филадельфии это волновало уже давно. Торговцы чаем — достопочтенные Томас и Элиша Хатчинсоны (сыновья губернатора), Ричард Кларк, Эдвард Уинслоу и Бенджамин Фанел — не стали отмалчиваться и отвечали критикам на страницах Boston Evening Post. Так, Ричард Кларк, подписавшийся Z, в номере от конца октября указывал на то, сколь непоследовательны такие протесты после того, как налог исправно выплачивался вот уже два года, а также на то, что никто почему-то не протестует против пошлин на сахар, патоку и вино, «а между тем эти товары составляют % доходов Америки, и эта цифра будет только расти»[418]. Не снискав успеха в эпистолярной дуэли, Адамс решил прибегнуть к помощи толпы. Второго ноября появились афиши, в которых объявлялось о митинге на следующий день у Дерева свободы, куда должны были явиться торговцы и торжественно отречься от своего бизнеса. Организатором митинга была «Норт-Эндская группа», иными словами, «Сыны свободы», игравшие также ключевую роль и в бостонском корреспондентском комитете. Грузополучатели не были членами этого комитета и не явились на митинг, после чего лидеры «Норт-Эндской группы» решили нанести им визит лично и, предводительствуемые Уильямом Молино и в сопровождении толпы, нашли последних в помещении склада, принадлежавшего Кларку, где произошла попытка применить силу. Зданию склада был нанесен некоторый ущерб, но жизни людей, находившихся там, ничего не угрожало[419]. После этого инцидента Адамс и его единомышленники усилили давление на своих противников: на очередном митинге, прошедшем 5 ноября, была принята резолюция по образцу филадельфийской, в которой содержался призыв к оптовым торговцам. Корреспондентский комитет прибег и к сильным средствам — десять дней спустя было совершено нападение на дом Кларка; однако ничто не могло вынудить грузополучателей оставить свое дело. К концу ноября стороны словно замерли в ожидании: торговцы ожидали груза чая, а также дальнейших инструкций со стороны Ост-Индской компании; Адамс, корреспондентский комитет Бостона и их сторонники из близлежащих городов были полны решимости не допустить разгрузки чайных судов[420]. Последний этап противостояния начался 28 ноября после прибытия в порт Бостона «Дартмута», первого из кораблей, везущих чай в Массачусетс. После прохождения таможни судно обязано было выплатить пошлины на груз в течение двадцати дней: в случае неуплаты корабль мог быть арестован, а груз — конфискован и отправлен на склад. Владелец «Дартмута», молодой предприниматель Фрэнсис Ротч, рассчитывал разгрузить судно без всяких проволочек. Помимо чая на борту был и другой груз, а кроме того, Ротч намеревался взять потом на борт и внушительное количество китового жира. Получатели чая хотели выгрузить чай, переместить его к себе на склад и ждать дальнейших шагов руководства Ост-Индской компании. Если бы неразгруженное судно отправили обратно в Англию, они понесли бы убытки, так как, согласно закону, повторный ввоз чая был запрещен. Наконец, губернатор Томас Хатчинсон тоже хотел разгрузки судна хотя бы просто для того, чтобы посрамить своих врагов. Как бы то ни было, закон должен был быть соблюден: раз уж судно оказалось на таможне, пошлины нужно было выплачивать. На данный момент и Хатчинсон, и все остальные могли только ждать, пока 16 декабря не истечет 20-дневный срок[421]. Впрочем, это не касалось Адамса и его людей — они были не намерены сидеть сложа руки. В Олд-Саут-Митинг-хаусе 29 и 30 ноября состоялись массовые митинги — ни один из них не был санкционированным, но на каждом присутствовало не меньше 5000 человек, в том числе и из окрестностей Бостона. В ходе этих собраний преобладала простая, но радикальная идея: чай должен вернуться в Англию. Соответствующие резолюции были направлены грузополучателям, которые, однако, подобно другим «врагам народа», укрылись в Касл-Уильяме, укреплении в гавани Бостона. Ободренные поддержкой губернатора, чаеторговцы вновь отказались внять убеждениям, хотя и понимали, что у них нет ни единого шанса на разгрузку судна, так как Адамс и его сторонники вынудили «Дартмут» встать на якорь у причала Гриффин и вдобавок выставили на его борту часового. Потоптавшись на месте, бостонский корреспондентский комитет воззвал к поддержке всей Новой Англии и получил ее в виде сходных резолюций местных комитетов, после чего эти комитеты встретились друг с другом; к тому времени до срока выплаты пошлин оставалось всего три дня. Остается неясным, когда именно было принято решение уничтожить груз чая, если его не отправят назад. На очередном массовом митинге, состоявшемся 14 декабря, Ротчу настоятельно посоветовали запросить разрешение на обратное путешествие и послали с ним еще десять человек сопровождать его по таможенным инстанциям. На следующий день фискальный чиновник Ричард Харрисон, сын Джозефа Харрисона и одна из жертв инцидента на «Либерти» в 1768 году, отклонил такой запрос, а 16 декабря губернатор Хатчинсон не разрешил судну выйти из порта. Так как корабль не прошел таможенный досмотр, губернатор повторно отказал Ротчу в запросе, но если тот обратился бы за военной защитой, Хатчинсон мог бы попросить о таковой у адмирала Монтегю. Опасаясь за судьбу корабля и груза, Ротч решил не прибегать к услугам адмирала. Когда Ротч сообщил о тщетности своих попыток собравшимся в Митинг-хаусе, было уже около 18 часов вечера, почти совсем стемнело. Участники митинга понимали, что медлить недопустимо. После того как стало понятно, что Ротч не вернет груз в Англию и может попытаться разгрузить корабль в случае прямого приказа властей, Сэм Адамс заявил: «Что ж, больше ничего нельзя предпринять, чтобы спасти нашу страну». Конечно же, предпринять еще кое-что было можно, и в действительности фраза Адамса служила своего рода сигналом к этим действиям. Его слова потонули в воинственных криках, после чего толпа высыпала на улицу и устремилась вдоль набережной к причалу Гриффин, на рейде которого стояли «Дартмут», «Элинор» и «Бивер»: последние два корабля прибыли совсем недавно, и так же, как и «Дартмут», с грузом чая. Около 50 человек, «одетых, как индейцы», с разрисованными лицами и закутанные в одеяла, отделились от толпы и принялись «заваривать чай» в бостонской гавани. «Индейцы» работали сноровисто, выволакивая ящики с чаем из трюмов на палубу, разламывая их и вываливая содержимое за борт. Вскоре по всей поверхности воды плавал чай, а к утру «чайное пятно» достигло Дорчестер-Нек — косы в южной части Бостона. Сами корабли при этом не пострадали. Неделю спустя в одной из газет проскочило сообщение, что был сорван навесной замок, принадлежавший капитану, но, по-видимому, это произошло по ошибке, так как вскоре ему прислали другой замок. Всего было уничтожено 90 000 фунтов чая Ост-Индской компании, оцененных в 10 000 фунтов стерлингов — небольшая цена за свободу, как сказали бы те, кто участвовал в «Бостонском чаепитии»[422]. Имена этих «индейцев» узнать теперь невозможно. В толпе могли быть как представители самых широких слоев населения Бостона, так и фермеры из близлежащих поселков. Сопротивление Чайному акту оказало большее влияние на народ, чем запрет на ввоз чая. Именно купцы занимали ключевые позиции в движении против импорта чая, хотя властителями умов были юристы и иные профессиональные ораторы. Уничтожение собственности ставило представителей всех этих корпораций в нелегкое положение, но зато они видели всю полноту картины. Именно их назвал «отребьем» министр по делам американских колоний граф Дартмут, который, находясь в далекой Англии, не мог представить себе настроение этих людей, их страх перед тиранией, приведший здравомыслящих в других случаях граждан к идее бунта[423].II
Официальное сообщение о «Бостонском чаепитии», отправленное губернатором Хатчинсоном, достигло Лондона 27 января 1774 года. К тому времени новость запаздывала еще по меньшей мере на неделю, так как почтовое судно прибыло к берегам Англии еще 19 января, а 25-го судно «Полли» с грузом чая для Филадельфии вошло в нью-йоркское предместье Грейвз-Энд. Вскоре правительственные чиновники начали допрос свидетелей, среди которых был и владелец «Дартмута» Фрэнсис Ротч[424]. По мере того, как поступала информация о сопротивлении Чайному акту, в английском обществе крепло убеждение, что в колониях необходимо навести порядок — в противном случае они могли объявить о своей независимости. Расхожим мнением считалось, что если не утвердить верховенство короны и парламента, то их немудрено утратить, и поэтому (если использовать слог королевских министров того времени) строгий отец должен привести мятежного сына к послушанию или же предоставить его своей судьбе. Подобные мысли высказывались на фоне недавних неблагоприятных событий: публикации в Бостоне писем Хатчинсона Томасу Уэйтли, петиции представителей Массачусетса с требованием отставки Хатчинсона и заместителя губернатора Эндрю Оливера, а также беспорядков, сотрясавших Америку осенью. Безотчетное чувство ненависти к американским колониям проявилось раньше, чем были предложены какие-то конкретные шаги. Первая вспышка этой ненависти произошла во время заседания судебного комитета Тайного совета два дня спустя после официального сообщения о «Бостонском чаепитии». Поводом послужило рассмотрение петиции Массачусетса об отстранении Хатчинсона и Оливера. В качестве представителя легислатуры Массачусетса в комитет был вызван Бенджамин Франклин. В ходе слушаний он быстро понял, что министерство стремится дискредитировать его и освободиться от фрустрации, вызванной отказом американских колоний признавать его власть. Эту работу министерство поручило генеральному солиситору Александру Уэддерберну, человеку, умевшему составлять обвинения и не слишком щепетильному в средствах достижения цели. Больше часа Франклин стоял в зале, где находились государственные мужи Британии, и молча выслушивал обвинения Уэддерберна в свой адрес, граничащие с бранью. О петиции Массачусетса было забыто почти сразу: Уэдцерберн поносил Франклина как личность, закосневшую в пороке, то и дело указывая на роль последнего в предании огласке писем Томаса Хатчинсона. Франклин, в своем обычном старомодном длинном парике и костюме из манчестерского узорного бархата, стоически выдержал инвективы генерального солиситора и покинул палату, прекрасно понимая, что покончено далеко не только с петицией[425]. Если Уэддерберну недоставало сдержанности, а министрам, позволившим ему вести себя подобным образом, благоразумия, то британскому правительству, в свою очередь, недостало добросовестного, уважительного и серьезного отношения к жалобам американцев. Шок и потрясение, которые вызвало «чаепитие» были настолько сильны, что трезвый взгляд на события стал на какое-то время невозможен. Даже преданные друзья колонистов отказывались отнестись с пониманием к инциденту в Бостоне. Рокингем был уверен, что этому поступку нет оправдания, а Четем заявил, что это просто «преступление». После беседы с генералом Гейджем, бывшим в то время в отпуске в метрополии, король склонился к мысли, что для усмирения колоний необходимо использовать военную силу. Лорд Норт высказался в том же духе несколько недель спустя, заявив, что «Англия не вступает в спор о внутренних и внешних налогах, о налогах, взимаемых ради прибылей или ради упорядочения торговли. Англия не вступает в спор о представительстве, законодательстве и налогообложении. Англия вступает в спор о том, будет она или не будет владеть этими территориями[426]. События в Америке не терпели компромисса: в тот самый день, когда судебный комитет устроил обструкцию Франклину, кабинет министров принял решение о приведении колоний к повиновению или же, как представлялось некоторым, о восстановлении влияния парламента в Америке. Кабинет, поддерживавший эти меры, не претерпел больших изменений после того, как Норт сменил Графтона. Первый по-прежнему занимал посты канцлера и первого лорда казначейства, однако его уверенность в своих поступках не была непоколебимой. Норт отлично вел государственный корабль по спокойным водам, однако в бурном море ему не хватало решительности, а кроме того, в нем не было гнева и ярости, необходимых для принятия неотложных мер против американских самоуправцев. В то же время не было у него и воли остудить горячие головы, жаждавшие возмездия, так как Норт свято верил в верховную власть парламента, и эта вера в конце концов его же и разоружила. В 1772 году министром по делам американских колоний стал граф Дартмут, сводный брат Норта. Подобно последнему он придерживался умеренных взглядов в колониальных вопросах, но, так же как и Норт, был убежден в верховенстве парламента и совершенно не собирался ослаблять его власть. Среди членов кабинета выделялись три, говоря современным языком, «ястреба», которые требовали мер, не оставлявших ни малейшего сомнения в истинных намерениях метрополии. Это были граф Саффолк, секретарь Северного департамента, верный сторонник Гренвиля и человек выдающихся способностей, граф Гауэр, председатель Тайного совета, и граф Сандвич, первый лорд адмиралтейства, оба приверженцы Бедфорда. Из двух последних большей харизмой обладал Сандвич — политиком он являлся заурядным, но министром был исключительно толковым. Рокфорд и барон Эпсли не были заметными фигурами в кабинете, но оба поддерживали применение силы в колониях. При такой расстановке сил решительные меры казались лишь вопросом времени. Прошел, тем не менее, целый месяц, прежде чем бюрократическая машина пришла в движение. В течение этого периода Дартмут рассматривал возможность ограничиться лишь наказанием лидеров мятежа. Сначала он получил определение генерального атторнея Тарлоу и генерального солиситора Уэддерберна о том, что бостонцы совершили акт государственной измены, а затем стал ждать доказательств, которые позволили бы привлечь их к суду. После того как Тарлоу и Уэддерберн целый месяц опрашивали свидетелей и размышляли над собранными материалами, они ответили (к раздражению Дартмута и короля), что доказательная база недостаточно сильна и начать судебное преследование зачинщиков бостонского мятежа невозможно[427]. Пока юристы рассматривали дело со своей точки зрения, кабинет министров решил закрыть порт Бостона для судов, а также перевести правительство колонии в более спокойное место. Хотя судебные инстанции санкционировали закрытие порта исполнительной властью, министры решили, что их прерогатив для такого вмешательства в дела колоний недостаточно и предложили принять решение парламенту. Тот не заставил себя долго ждать: Норт объявил о планах правительства 14 марта, а четыре дня спустя законопроект о бостонском порте уже был представлен в палату общин. В нем предполагалось закрыть гавань Бостона для всех торговых трансатлантических кораблей, за исключением некоторых каботажных судов, да и те могли под строгим контролем перевозить лишь продовольствие и топливо. Порт должен был оставаться закрытым, пока король вновь не откроет его своим указом, а таковое могло случиться только после того, как город возместит Ост-Индской компании весь ущерб, причиненный «Бостонским чаепитием»[428]. В истории палаты общин случались, конечно, дебаты и погорячее тех, что возникли при обсуждении законопроекта. Норт пояснил, что его целью является наказание бостонцев, возмещение убытков Ост-Индской компании и защита торговли в порту Бостона от разного рода мятежников и бандитов. Никто в общем-то не протестовал против таких богоугодных дел, разве только некто Даудсвелл возразил, что правительство рекомендует принимать меры, не выслушав бостонцев. Большинство членов парламента, однако, рассудили, что выслушали от бостонцев более чем достаточно, и даже те из них, кто всегда симпатизировал колониям, приветствовали принятие закона, как, например, Айзек Барр, который заявил: «Мне нравится этот закон, я принимаю его и одобряю за его умеренность»[429]. Умеренным был закон или нет, его принятие палатой общин прошло с неслыханной быстротой. Палата даже не потрудилась хотя бы формально проголосовать при втором чтении и тут же отклонила поправку Роуза Фуллера о наложении денежного штрафа на Бостон вместо закрытия порта. 25 марта законопроект прошел третье чтение и был направлен в палату лордов, где также был одобрен без проволочек. В конце месяца закон подписал король, и с 15 июня Бостон закрылся для любых видов торговли. Бостонский портовый акт стал первым из пяти, которые в американской историографии носят название «Невыносимых законов». Остальные четыре акта парламент принял в течение следующих трех месяцев после него. Два первых — Массачусетский регулирующий акт (более известный как Массачусетский правительственный акт) и Акт о беспристрастном правосудии — вызвали более оживленные дебаты и некоторую оппозицию в парламенте, но все равно были приняты подавляющим большинством голосов. Массачусетский правительственный акт заключал в себе все предложения, которые ранее высказывались официальными лицами — сторонниками «самодержавной» власти парламента в американских колониях. Принять эти предложения означало пойти вразрез с королевской хартией, что было беспрецедентным шагом, обесценивавшим все прецеденты и хартии, вместе взятые. Говоря простым языком, этот акт превращал администрацию Массачусетса в марионетку Великобритании: палата колонии продолжает действовать как выборный орган, но совет назначается Короной; губернатор может по своему усмотрению назначать и увольнять большинство чиновников; городские собрания допустимы только с королевского разрешения; присяжные отбираются шерифами, а не землевладельцами. Естественно, данный акт серьезно ограничил местные права Массачусетса, тем более что вкупе с ним был принят и Акт о беспристрастном правосудии, еще больше урезавший права колоний: согласно этому закону, любой королевский чиновник, обвиняемый в тяжком преступлении в американских колониях, мог быть отправлен для проведения суда в другую колонию или в Англию[430]. Во время дебатов по этим законам Роуз Фуллер предложить отменить тауншендовскую пошлину на чай. Это предложение не было несвоевременным или нелепым, так как, по мысли Фуллера, новые принудительные акты не будут иметь эффекта, если эти пошлины останутся. Их стоит отменить, чтобы подсластить американцам пилюлю. Фуллер внес свое предложение 19 апреля, и Берк немедленно выступил с речью о налогообложении Америки. Речь эта является образцом остроумия, она умело вскрыла удручающие последствия попыток навести порядок в колониях, не применяя там ясную и разумную политику. По словам Берка, кабинет «выбрал «страусиную» тактику самоустранения от трудностей, в которые он с торжественной гордостью вверг страну». Однако и в этой речи обозначались пределы, до которых могла простираться симпатия друзей Америки к колониальной версии конституции. Так, в частности, Берк настаивал на том, чтобы поднять пошлину на чай, причем из соображений целесообразности, а не конституционного права. Акт об американских колониях закрепил право парламента «налагать на колонии любые обязательства», и от этой позиции не отступали даже те в Англии, кто желал Америке добра. Король подписал оба закона 20 мая. Двумя неделями позже он одобрил законопроект о расквартировании войск — последнюю попытку принудить гражданские власти в Америке обеспечивать постой и довольствие регулярных английских отрядов. Квартирьерский акт 1765 года требовал от местных властей постройки казарм, на следующий год вступил в силу статут о размещении войск в постоялых дворах, тавернах и свободных помещениях. Новый Квартирьерский акт разрешал останавливаться на постой в частных домах. Акт был одобрен палатой общин без голосования и столь же легко прошел в палате лордов, хотя Четем выступил против него[431]. Все четыре закона носили карательный характер и имели целью привести колонии к послушанию. Квебекский акт, получивший силу закона в конце июня, такой цели не имел, но из-за времени его принятия и некоторых его положений он также причисляется к «Невыносимым законам», принятым парламентом в качестве реакции на «Бостонское чаепитие».III
Хотя многие колонисты заклеймили позором закон о закрытии бостонского порта и лишение Массачусетса местного правления, значительная их часть весной 1774 года вполне терпимо отнеслась к «Невыносимым законам». Однако Сэм Адамс и бостонский корреспондентский комитет не могли предаваться благодушию, ибо они и были причиной наказания Бостона. Полное понимание реакционных мер парламента пришло со временем, однако новости о наиболее радикальном шаге — закрытии бостонского порта — достигли Массачусетса 10 мая и к концу месяца распространились по всем колониям. Адамс, впрочем, не стал ждать, пока весть об этом достигнет всех закоулков: он и его корреспондентский комитет предложили приостановить торговлю города с Великобританией и Британской Вест-Индией и обратились ко всем колониям сделать то же самое. Городское собрание одобрило такой шаг практически немедленно, но в этот момент себя проявили и другие умонастроения. Последняя попытка запрета импорта окончилась обвинениями в умышленном нарушении закона, прозвучавшими во всех колониях. Обвинения Джона Мейна в адрес Джона Хэнкока и его сторонников в обмане возбудили подозрения в отношении бостонцев и вполне понятное желание коммерсантов делать деньги остудило их энтузиазм (у некоторых — довольно горячий) в отношении разрыва торговых связей. Даже купцы, увлеченные революционным течением и согласные прекратить торговлю, беспокоились, как бы не остаться в одиночестве — они хотели, чтобы их коллеги поступили точно так же, без надувательства и мошенничества. Но гарантировать такое единодушие уже вряд ли было возможным, особенно учитывая недавние события. Поэтому предприниматели в массе своей колебались, ожидая, пока об экономических санкциях в отношении Британии договорятся все колонии. Такие настроения торговцев никак не обещали совместных действий. Колеблющиеся бостонцы, должно быть, воспрянули духом, когда 13 мая в город прибыл новый губернатор генерал Гейдж. Вскоре после этого группа торговцев выступила с предложением заплатить за уничтоженный во время «Бостонского чаепития» чай и поручила Томасу Хатчинсону, который отбывал в Англию в начале июня, передать это предложение Лондону. Разумеется, бостонский корреспондентский комитет не мог игнорировать такие шаги и несколько дней спустя предложил «Торжественную лигу и Ковенант» для всеобщего подписания. Под Ковенантом подразумевалось обязательство всех подписавших его прекратить всякую торговлю с Великобританией, отказ от закупки любых британских товаров начиная с 1 сентября, а также обязательство прекратить торговлю с теми, кто отказался подписать документ. Следующим шагом была мобилизация городского собрания: здесь радикалы вновь показали свои сильные дипломатические способности, так как 17 июня собрание проголосовало против возмещения ущерба за чай, а десять дней спустя одобрило «Торжественную лигу и Ковенант». Ни тот ни другой шаг не дались легко: купечество яростно сопротивлялось, и в городском собрании было внесено предложение о роспуске корреспондентского комитета. Предложение провалилось, но запугивающий эффект «Торжественной лиги» также не сработал: более ста предпринимателей подписали и опубликовали протест против этой Лиги и ее основателей — корреспондентского комитета[432]. Адамс и его соратники выиграли борьбу мнений, но победа эта получилась пирровой. Естественно, несколько городов Новой Англии поддержали запрет на импорт, а также несколько корреспондентских комитетов положительно ответили на просьбу Бостона о поддержке. За пределами Новой Англии раздавались обещания начать поставки продовольствия «голодающему Бостону» и осуждение «Невыносимых законов». Особенное впечатление произвела Виргиния, где собравшаяся в конце мая палата горожан заявила, что Бостон подвергся «вражескому вторжению», и постановила считать 1 июня, день закрытия бостонского порта, «днем поста, смирения и молитвы о господнем посредничестве, дабы избежать ужасного бедствия, угрожающего попранием наших гражданских прав, и гражданской войны…». Должно быть, объявление о постном дне удовлетворило пуританский Бостон, где соблюдение таких дней имело освященную десятилетиями традицию. Апелляция к таким материям имела целью пробудить осознание угрозы свободам, как это было перед Гражданской войной в Англии. Джефферсон приписывал эту заслугу себе и нескольким другим виргинцам, таким как Патрик Генри и Ричард Генри Ли. Эти деятели, вполне осознававшие свою удаль, составили резолюцию, основанную на терминах и лексиконе времен Пуританской революции, лишь адаптировав ее для современного читателя. Вторичная, наспех, хотя и не без дерзости составленная резолюция эта, призывавшая к посту и молитве, стала бальзамом на душу для стариков в палате горожан, которые моментально одобрили ее. Губернатор колонии лорд Данмор отреагировал так, как власти обычно в таких случаях и реагировали, то есть распустил палату[433]. Из других колоний также доносились отклики (хотя и не столь экспрессивные) о солидарности с Бостоном. В этих осторожных декларациях проглядывает противостояние между негоциантами и народными трибунами. Основным вопросом, по которому возникали разногласия, была реакция на Бостонский портовый акт. Каждая из «сторон» имела большой разброс мнений, но большинство соглашалось с бостонцами, что те страдают за «общее дело», что свободы Бостона суть свободы всех и каждого и если парламент подавит Бостон, то потерять свободы могут все. Однако принятие этих постулатов не позволяло выработать консолидированные меры. Призыв бостонцев к прекращению всякой торговли с Британией вызвал открытую оппозицию почти у всех групп коммерсантов, мало того, даже в «простом народе» многие группы выражали скепсис, как, например, мастеровые Нью-Йорка. Многие торговцы, да и не только они, хорошо помнили, как без следа сошли на нет сходные призывы к запрету импорта из Англии четыре года назад. В 1770 году коммерсанты из отдельных городов оказались не в силах противостоять соблазну получения больших барышей, так как конкуренция была практически уничтожена. В этом обвиняли как раз бостонских дельцов, вот почему к любому призыву из Бостона после этого относились с некоторым подозрением. К тому же бостонские коммерсанты не доверяли торговцам соседнего Род-Айленда, такие же взаимные подозрения отличали Нью-Йорк и Филадельфию[434]. Вот почему поразительным было то, что в такой обстановке недоверия и подозрительности предложение о созыве Континентального конгресса прошло на ура. Причины этого достаточно ясны. Некоторые купцы, ощущавшие себя обманутыми в 1770 году, сохраняли веру в возможность некоего массового движения, которое объединит таких же, как они, людей всех колоний. По их мнению, если обязательства и наказание за их нарушение прописаны ясно, то ответные экономические меры будут иметь шанс на успех. Другие коммерсанты (возможно, их было меньше) рассчитывали на общем собрании предотвратить любые совместные действия, но даже эти последние, по всей видимости, рассматривали действия парламента как реальную угрозу и политическим свободам, и деловым отношениям. Как и прежде, вопрос стоял о том, как реагировать, а не реагировать ли вообще. Пока бостонские активисты строили заговорщицкие планы, и то тут то там вспыхивали разнообразные споры, колониальные легислатуры и неофициальные органы начали мало-помалу действовать, прорываясь сквозь череду дебатов. Одной из первых на сцену вышла нижняя палата Коннектикута: уже в начале июня она отдала распоряжение корреспондентскому комитету провинции выбрать делегатов на первый Континентальный конгресс. Менее чем через две недели делегатов выдвинула генеральная ассамблея Род-Айленда. В пяти других колониях — Мэриленде, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Делавэре и Северной Каролине — стихийно прошли провинциальные ассамблеи — чрезвычайные органы, заменившие легислатуры, распущенные миролюбивыми губернаторами. Подобный орган в Виргинии назывался конвентом — он выдвинул делегатов в августе; местные комитеты сделали свой выбор в Нью-Йорке, а в Южной Каролине палата общин местной ассамблеи ратифицировала выбор жителей. Джорджия, в том же 1774 году смертельно напуганная восстанием индейцев-криков на своих северных границах, решила не посылать делегатов, чтобы не лишиться защиты британской армии. Бостон был далеко, а индейцы совсем рядом: близкая опасность если и не возродила лоялизм в Джорджии, то, во всяком случае, приглушила патриотические чувства[435]. Локальные споры и конфликты касательно способов реакции на «Невыносимые законы» оказались чрезвычайно важны и повлияли на ход самого конгресса, однако и переоценивать их тоже не стоит. Факт остается фактом: Континентальный конгресс состоялся и продемонстрировал способность принимать ключевые для будущего целой страны решения. Не в последнюю очередь это произошло потому, что общие ценности и чаяния его делегатов оказались превыше разногласий, которые озвучивались раньше. К моменту первого заседания конгресса, 5 сентября 1774 года, большинство американцев стояло на том, что парламент не имеет полномочий облагать колонии налогом. Такой постулат был выдвинут еще добрых десять лет назад, и поддержка его стала практически единодушной задолго до того, как закончился кризис, сопровождавший Акт о гербовом сборе. В то время почти никто публично не ставил под сомнение правомочность требования парламента регулировать ключевые вопросы в колониях как в части империи. Спустя несколько лет, однако, такое требование вызвало определенный протест, прежде всего литераторов. Разумеется, сам парламент невольно способствовал появлению такой оппозиции, ратифицировав в припадке коллективного безумия законы Тауншенда, не восприняв всерьез доводы колонистов, у которых фактически отбирали имущество без их на то согласия. К ниспровержению верховенства парламента приходили постепенно: через дискуссии о полномочиях представительных органов или же рассуждения о природе империй. «Природа и пределы парламентской власти» Уильяма Хика служит ярким примером — автор сосредотачивается на акте делегирования как основе законодательной власти. Каким образом, задавался вопросом Хик, колонии, не представленные в парламенте, передали ему власть над собой? Разумеется, такой передачи никогда не было, и решения парламента являют собой не что иное, как «насилие и произвол». Джеймс Уилсон являлся сторонником другой теории: он считал, что граждане колоний должны быть подданными непосредственно короля, а указы парламента, по мнению Уилсона, просто-напросто не имеют юридической силы, так как члены колониальной империи фактически независимы друг от друга и их объединяет только королевская власть[436]. Полномочия монарха, впрочем, также ограничивались в постулатах политической программы колонистов, опубликованной накануне конгресса. Во время споров, сопровождавших Акт о гербовом сборе, король оказался в тени, и все проклятия американцев достались парламенту и кабинету. В осторожных рассуждениях он представал невольным заложником действий дурных министров, человеком мудрым, справедливым, но которому мешают разглядеть интересы своих подданных. Такое деликатное, но не лишенное иронии отношение к монарху в общем-то прослеживается и в публицистике 1774 года, однако было и одно отличие. Охваченные праведным гневом, порожденным «Невыносимыми законами», американцы не стеснялись упрекать лично короля в недостойном управлении и угнетении колоний. В то же время они еще не решались впрямую сказать, что Георг III был воплощением зла — скорее он «совершал ошибки». Молодой Томас Джефферсон указывал в своем «Общем обзоре прав Британской Америки», что «его величество не имеет права высаживать на наши берега ни одного вооруженного человека». Однако «его величество… совершенно явно подчинил гражданскую власть военной», для того чтобы усилить «деспотические меры», применяемые в Англии еще со времен норманнского завоевания и распространившееся в колониях после их основания. Худшей из форм этого самоуправства было, согласно Джефферсону, притязание короны на все земли в Англии и Америке, то есть, по сути, разновидность феодального землевладения и связанных с ним поборов. Были ли такие меры справедливы для Англии или нет — неважно, ибо в Америке, утверждал Джефферсон, им места нет: «Америка не завоевывалась Вильгельмом Норманнским, и ее земли не подчинялись ни ему, ни кому-либо из его преемников». Наоборот, колонии основывались свободными людьми, реализовавшими свое естественное право на эмиграцию из Британии, страны, в которой они жили не по своему выбору, а лишь по воле случая». Колонии управлялись законами и постановлениями, которые их основатели считали «больше всего содействующими… счастью народа»[437]. Наиболее ярко взгляды Джефферсона на природу империи проявились в следующем постулате: колонии не находятся в юрисдикции парламента — он узурпировал это право. С другой стороны, король имеет власть над Америкой, но власть весьма ограниченную. Короли, по мнению Джефферсона, «суть слуги, а не владыки народа». Такая выспренняя фраза была характерна для Джефферсона, и она очень хорошо показывает, какого характера идеи исповедовал он и его единомышленники. Власть короля обуздана законами: король — одна из сторон договора, и управляет он сообразно ограничениям и установлениям такового. Империя состоит из практически независимых субъектов, связанных лишь общими законами, принятыми всеми субъектами. Такой взгляд на империю не мог скрыть проблему соблюдения единства интересов всех ее членов, а также разрешить вопрос, кто должен выступать третейским судьей и посредником, если интерпретации государственного договора будут разниться. Обычным способом решения таких вопросов была передача полномочий парламенту как надзорному органу. Когда открывался первый Континентальный конгресс, многие американцы по-прежнему были убеждены, что такие вопросы находятся в ведении парламента. Одним из таких американцев был Джонатан Буше, популярный англиканский священник из Виргинии, опубликовавший свои взгляды в «Письме виргинца членам конгресса» — многословной, но сильно написанной прокламации, где говорилось о контроле парламента и подчинении колоний. Аргументы Буше частично строились на отрицании реалий последних десяти лет. В мире, утверждал он, существует «Британское сообщество», и колонии составляют лишь небольшую его часть. Представленное в парламенте большинство управляет империей, а колонии подчиняются этому большинству, подобно тому как часть обязана своим существованием целому[438]. Однако в 1774 году у Буше было немного шансов убедить соотечественников. Он не только указывал на незыблемость власти парламента — язык, которым он выражал свои мысли, мог привести среднего американца в ярость. Дело свободы, по словам Буше, всегда привлекало «мошенников» и «шарлатанов от политики», «негодяев от патриотизма», которые спекулировали на «доверчивости благонамеренного, обманутого ими большинства». Обманывалось это большинство или нет, ему явно не по душе было сравнение с «упрямыми детьми, отказывающимися есть, когда они голодны, назло своей терпеливой матери». Сходными метафорами пользовался и Томас Брэдбери Чендлер, написавший «Американского вопрошателя» три дня спустя после начала конгресса. Одним из «вопросов» Чендлера было: «Не должны ли низшие всегда проявлять определенную степень уважения к высшим, особенно если это касается детей и родителей?» Чендлер, как и Буше, видел в Акте о верховенстве 1766 года суть отношения колоний к парламенту — они должны быть связаны с парламентом «во всех возможных случаях»[439]. Эта цитата из Акта о верховенстве по-прежнему очень раздражала американцев. Джон Хэнкок вспомнил ее в марте в речи, которую произнес в Олд-Саут-Митинг-хаусе, посвятив ее памяти жертв «Бостонской бойни». Требование Великобритании обложить налогами колонии без их согласия было одним из «безумных притязаний» метрополии, настолько безумным, что для подавления протеста колонистов были посланы вооруженные формирования. Хэнкок произнес свою речь еще до того, как оформилась идея созыва Континентального конгресса. К лету, когда эта идея получила реальные очертания, а коварные планы британской короны стали более очевидными, многие американцы отреагировали еще жестче. Эта реакция сводилась к следующему: парламент не имеет властных полномочий в Америке, однако исходя из соображений целесообразности, порожденной сложной природой империи, может нести некую надзорную функцию. Он может регулировать торговые отношения империи, всегда помня о необходимости согласия колоний с принципами регулирования. Но он не может облагать налогами колонии или еще каким-либо образом вмешиваться в их внутреннее самоуправление. Такие уступки тонули в обличительных залпах, которые выпускали по британскому правительству литераторы и проповедники. Главная тема эссе и проповедей летом 1774 года была ясна: «Невыносимые законы» не оставляют сомнений в том, что британское правительство намерено уничтожить американские свободы. Как писал некий не указавший своего имени житель Нью-Йорка, «британское “министерство” склоняется к установлению неконтролируемой власти парламента над собственностью американцев»[440]. Уильям Генри Дрейтон из Южной Каролины указывал, что речь уже не идет о неправомерных налогах — вопрос стоит ребром: имеет ли Британия «законное право на деспотизм в Америке»? По всей стране колонисты делали весьма мрачные заключения[441]. Континентальный конгресс мог послужить средством, восстанавливающим в какой-то мере права американцев, но в общей массе те были настроены пессимистично. Парламент и британские министры рисовались в неизменно черных красках, и вера в лучшее никак не появлялась, однако что-то предпринять было необходимо. Некоторые американцы выступали за тотальный запрет торговли, включая эмбарго на экспорт товаров в Англию. Другие призывали к мобилизации населения, и по крайней мере один пастор в своих проповедях воззвал к «справедливой войне»[442]. При виде такого полемического ража и призывов к переменам наблюдателя не покидало ощущение, что американцы противостоят злу и моральному разложению, которые грозят затопить берега Америки, если не защитить страну и народ. Истоки такого убеждения глубоко укоренены в протестантской культуре, особенно вера в то, что большинство конфликтов являет собой столкновение добра и зла, праведности и греха. Согласно такой интерпретации, самоуправление зиждется на добродетели, праведности, и в данном конфликте американцы противостоят правительству, которое, как не забыл упомянуть Джон Хэнкок, не является «праведным».Доказательства присутствия зла были повсюду: в британских солдатах, посланных в Америку, о которых Джозайя Квинси говорил: «Армия являла собой сплав самого отвратительного распутства с самой позорной трусостью» среди низших чинов и «надменной кичливости с прожиганием жизни» — среди высших. Доказательством служил и Квебекский акт, с помощью которого, по словам Эбенезера Болдуина, «утверждался папизм», и это будущее, безусловно, ждало и тринадцать английских колоний. Зло и моральное разложение проявлялись и в защите «гарпий и кровопийц» из таможенной службы, гарантированной Актом о беспристрастном правосудии[443]. Все эти выводы, подкрепленные несомненной аморальностью и греховностью Массачусетского правительственного акта и Бостонского портового акта, и вправду воплощавших враждебные действия Британии против Америки, перепевали старые песни на новый лад. Также они эксплуатировали знакомые речевые обороты и взывали к коренным ценностям американцев. Отличие обстановки в 1774 году состояло в атмосфере практически полной безнадежности, пронизывавшей все слои общества, леденящего душу чувства, что все пропало, что ничто не может образумить Лондон и вернуть англо-американским отношениям дух добра и свободы, как ранее. Однако наряду с этим вырисовывался и рецепт борьбы: доблесть и самоотречение помогут американцам освободиться от липких пут разложения, решительное «Нет!» продажным чиновникам и английским войскам сохранит в целости государственные институты, а принципиальная защита права на самоуправление единственная дает надежду на то, что свободу удастся отстоять.IV
Горечь, столь явно пропитавшая страницы очерков и памфлетов летом 1774 года, не выплеснулась сразу на первых заседаниях Континентального конгресса. Делегаты, съезжавшиеся в Филадельфию в конце августа и начале сентября, чувствовали огромный душевный подъем, а также гордость и даже своего рода священный трепет в предвкушении того, что им предстояло сделать, но у них не было враждебности по отношению к Англии. Делегаты от Массачусетса Джон и Сэм Адамсы испытывали другие чувства, но сдерживали свой гнев. Они и их коллеги Роберт Трит Пэйн и Томас Кушинг были прозорливыми людьми, собиравшимися служить интересам Массачусетса и Америки, не выпячивая свое «я». Впрочем, Джону Адамсу с трудом удавалось сдерживать свой гнев, равно как и держаться на заднем плане. Он был очень вспыльчивым и импульсивным человеком, открытым и честолюбивым; он жаждал признания мира, но у мира чаще были припасены для него шипы, нежели розы. Историки часто сравнивают Джона Адамса с Томасом Джефферсоном, человеком, которым Адамс восхищался (за исключением одного непростого периода их жизни) и которому в старости изливал душу. Джефферсон всегда имел умиротворенное выражение лица, которое Адамсу с его постоянными тревогами не удавалось принять даже на мгновение. Джефферсон был вежлив, Адамс же грубоват, хотя и без всякой пошлости. Ему недоставало гибкости Джефферсона, но его ум был столь же остр и глубок. И во всяком случае, в двух областях — истории религии и истории политики — его познания превосходили познания Джефферсона. Джон Адамс не рассматривал жизнь как путь к спасению, однако он не был свободен от привычек и инстинктов своих предков-пуритан. В особенности он любил созидать и завершать начатое, в частности в общественной жизни. Он страстно желал признания, однако не сделал бы ничего единственно из-за жажды славы. Его поведение диктовалось моральным кодексом его культуры, кодексом, во многом остававшимся пуританским. Да, он уважал честь, богатство и ученость, но твердо верил в то, что набожность и добродетель — материи более важные. Даже интерес Адамса к общественной жизни был тесно связан с пуританскими ценностями, оказывавшими на него существенное влияние. Первые заметки, опубликованные им в юности, были направлены против питейных заведений. Его нападки на таверны отражали традиционные протестантские установки: бережливость превыше всего, а время и талант нельзя растрачивать попусту. Увеселительные заведения вгоняют людей в долги, отвлекают их от работы и представляют собой злачные места, где жизнь проходит зря. Оппозиция Акту о гербовом сборе и последующим мерам британцев стала для Адамса такой же естественной, как и критика им аморальности таверн. Политические проблемы 1760–1770-х годов не воспринимались просто как вопросы законодательства, справедливости или конституционного права — они были скорее вопросами морали. Англичане представляли собой угрозу, поскольку они были не только могущественны, но и порочны. Им следовало сопротивляться изо всех сил, так как если этого не делать, добродетельная, набожная и свободная Америка погибнет. Именно эти убеждения и обусловили поведение Адамса во время революции. Несмотря на болезненное внимание к общественной жизни, на свою нелюбовь к британцам, на свои тревоги и страхи, Адамс, прибыв на конгресс, ощущал себя счастливым человеком. Он любил и был любим Абигейл Смит-Адамс, с которой вступил в брак в 1764 году. У Абигейл доставало ума и пылкости, чтобы соответствовать супругу, и накануне революции его поражала зрелость ее суждений, которой сам Адамс не мог достичь долгие годы. Она была моложе его на девять лет, ее отцом был состоятельный проповедник из Уэймута, деревни рядом с родиной Адамса — городком Брейнтри. Адамс родился в 1735 году в семье фермера Джона Адамса-старшего и Сюзанны Бойлстон. Бойдстоны занимали более высокое социальное положение, чем Адамсы, и были гораздо богаче их. Однако у маленького Джона было счастливое детство, он учился в школе и Гарвардском колледже, два года изучал право и начал адвокатскую практику в Саффолке в 1758 году. К моменту открытия Континентального конгресса он был уже опытным юристом, а кроме того занимал небольшие должности в Брейнтри, пока в 1766 году не получил важный пост члена городского управления. После своего переезда в Бостон два года спустя Адамс стал играть гораздо более важную роль в провинциальной политической жизни. В 1770 году он попал в законодательное собрание Массачусетса, и в этом же году он защищал капитана Престона и британских солдат по делу о «Бостонской бойне». После этого он стал заметной фигурой в Массачусетсе, и хотя признание земляков ему всегда казалось недостаточным, граждане колонии относились к нему с большим уважением. Прочие делегаты конгресса, с которыми Джон Адамс и его кузен Сэмюэль познакомились в зале заседаний, немногим уступали им по способностям, а некоторые добились едва ли не большего признания, чем Адамсы. Особенно поразили своих коллег представители Виргинии. Они выглядели настоящими джентльменами, превосходно держались в обществе и были последовательны в своих взглядах. Даже Джон Адамс, при всем своем невероятном самомнении, считал их «самыми одухотворенными и разумными из всех». Ричарда Генри Ли он назвал «совершенным», Пейтона Рэндольфа — «прекрасно выглядящим», а Ричарда Бленда — «исполненным учености». Другие делегаты вполне разделяли его мнение. Сайлесу Дину из Коннектикута Рэндольф казался «аристократом», а Джордж Вашингтон, хотя и «обладал тяжелым взглядом», выглядел «очень молодо, располагал к себе выражением лица и выправкой военного». Уже к тому времени Вашингтон был чем-то вроде легенды из-за своих подвигов на американском фронте во время Семилетней войны. Во время конгресса его репутация только выросла, так как до делегатов дошли слухи, что «услышав о портовом билле, Вашингтон предложил за свой счет мобилизовать и вооружить тысячу человек и, встав во главе этого отряда, отправиться на защиту своей страны, возникни такая необходимость». По свидетельству Дина, состояние Вашингтона «как раз позволяло сформировать такой отряд». Делегация виргинцев удостоилась похвалы от Цезаря Родни из Делавэра, заявившего, что «всегда хочется, чтобы было побольше таких дельных и славных джентльменов»[444]. Восемнадцатый век был эпохой блестящих ораторов, и виргинцы сполна оправдывали ожидания публики. Дин не скупился на восторженные эпитеты, описывая личность Патрика Генри («Самый совершенный оратор из всех, кого я когда-либо слышал!»), и признавал, что просто не может передать «музыку» голоса Генри «или изысканность и вместе с тем естественность его поведения и манер». Ричард Генри Ли снискал на конгрессе лавры самого красноречивого оратора: и Дин, и Джон Адамс называли его «Цицероном» и «Демосфеном нашей эпохи». Не только виргинцы привлекали внимание — коллеги воздавали должное способностям и поведению практически каждого делегата. Так, Джон Адамс писал своей Абигейл: «Великодушие и дух патриотизма, который я вижу здесь, заставляет меня краснеть за то отвратительное и корыстолюбивое людское стадо, что я вижу в моей провинции»[445]. Похвалы Адамса в адрес участников конгресса абсолютно естественны. Помимо виргинцев, там присутствовали Джон Дикинсон и Джозеф Гэллоуэй из Пенсильвании — оба были превосходными людьми; Джеймс Дуэйн и Джон Джей из Нью-Йорка, чьи таланты были очевидными уже тогда. Самюэль Чейз из Мэриленда, Кристофер Гадсден, Эдвард и Джон Рутледжи от Южной Каролины, может быть, обладали более умеренными способностями, но, безусловно, были замечательны каждый по-своему. Более того, все эти люди собрались на совершенно из ряда вон выходящее мероприятие, где не было места мелким заботам «корыстолюбивого стада», заставлявшего краснеть Джона Адамса. Наконец, ни один из них не был равнодушным: они не думали о том, как обратить свое положение к личной выгоде, но, напротив, были крайне озабочены тем, чтобы защитить местные (а равно и континентальные) интересы. Также не забывали они и запускать в действие привычные политические механизмы. Оба Адамса отлично осознавали, что сами они и их соратники из Массачусетса являются объектами как симпатий, так и подозрений и поэтому позаботились о том, чтобы до поры до времени вести себя скромно. В первые дни своего пребывания в Филадельфии Адамсы были несколько смущены тем, что им пришлось защищать религиозные власти Массачусетса от обвинений в преследовании баптистов, но даже такой конфуз не заставил их снять маски новичков в политике. Однако за кулисами зала заседаний они плели интриги и строили планы как у себя дома. «Мы были вынуждены держаться в тени, но держать руку на пульсе событий и внимательно относиться к слухам», — сообщал Джон Адамс и добавлял, что им приходилось использовать других лиц, чтобы «высказывать наши мысли, планы и желания»[446]. Эти «мысли, планы и желания» в полном объеме неизвестны. Очевидно, что среди них присутствовало убеждение в том, что всякую торговлю колоний с Англией следует прекратить до отмены «Невыносимых законов», а также, вполне возможно, надежда на то, что конгресс призовет колонии готовиться к войне с метрополией, если парламент не пойдет на уступки. Такому «желанию» вряд ли суждено было стать резолюцией конгресса: большинство его делегатов выступали за экономические санкции, и хотя существовали расхождения в точном определении его условий, за исключением некоторых горячих голов наподобие Кристофера Гадсдена, предложившего напасть на британский гарнизон в Бостоне, никто не желал начала войны. Такое нежелание проистекало не из-за стремления остаться в лоне империи, а просто из-за страха потерпеть поражение[447]. Вероятность войны, по всей видимости, не обсуждалась во время официальных заседаний, но, скорее всего, была темой разговоров на обедах и вечерах, устраивавшихся для делегатов ежедневно. На таких мероприятиях решались многие вопросы: выбор Карпентер-холла как места проведения конгресса вместо предлагавшегося Джозефом Гэллоуэем, спикером пенсильванской ассамблеи, здания легислатуры; выбор Пейтона Рэндольфа председателем конгресса, кандидатуру которого предложили представители Массачусетса и делегаты южных колоний. Там же секретарем конгресса был назначен Чарльз Томсон, хотя он и не был его делегатом. Вопрос о том, давать ли каждой колонии один голос или распределять голоса пропорционально численности населения, вне сомнения, поднимался и за кулисами, но его решение потребовало открытого обсуждения на официальном заседании. Окончательный вердикт «одна колония — один голос» существенно способствовал сохранению единства колоний, сильно отличавшихся по числу жителей[448]. Официальная сессия конгресса началась 5 сентября. С этого дня и до 26 октября, когда конгресс завершил работу, делегаты решали два основных вопроса: каковы основы прав американцев и как их надлежит защищать? Оба вопроса были переданы в соответствующий комитет, который незамедлительно начал их обсуждение, причем оказалось, что консенсус найти не так-то легко. В дискуссии об основах прав американцев, серьезной и содержательной, одна из сторон защищала любопытную точку зрения, как бы предполагающую, что за последние десять лет в отношениях Британии и ее колоний не произошло ничего нового. Ее представляли Джеймс Дуэйн, Джон Рутледж и Джозеф Гэллоуэй: все трое отказывались считать, что притязания колонистов основываются на законах природы. Гэллоуэй не желал принимать на веру любую из частей конституционной аргументации колонистов, утверждая, что «я так и не смог найти права американцев в различиях между налогообложением и законодательством, между законами о доходах и законами о торговле. Я искал наши права в законах природы, но смог найти их не в первобытном состоянии, а в состоянии политического общества». Политическое общество для Гэллоуэя было определено конституцией Великобритании, общим правом и колониальными хартиями, а никак не законами природы. Гэллоуэй, очевидно, испытывал неприязнь к «законам природы», опасаясь, что такая размытая платформа может привести к независимости. Видя, однако, что делегаты конгресса настроены отвергнуть все проявления власти парламента, и желая не допустить торжества более экстремальных воззрений, он провозгласил, что все права колонистов можно свести к одному: «Освобождение от всех законов, принятых британским парламентом после эмиграции наших предков»[449]. Впрочем, никто не воспринял эту формулировку всерьез, да и сам Гэллоуэй, вполне возможно, не верил в свои слова. Большинство делегатов не видели никакого противоречия в том, что права колонистов покоятся, по выражению Ричарда Генри Ли, «на четверояком основании: законах природы, британской конституции, хартиях и обычае». «Самое широкое основание — законы природы» предлагают наибольшую защиту колонистам, и Ли имел в виду, что колонистам может потребоваться такая защита против дальнейших посягательств. Джей, Уильям Ливингстон и Роджер Шерман придерживались, к вящей радости конгресса, того же мнения, и на следующий день после начала дебатов комитет пришел к выводу, что права колонистов основаны на законах природы, британской конституции и колониальных хартиях. Превращение такого заключения в Декларацию о правах было поручено особому подкомитету, а основной комитет сосредоточился на вопросе о том, какие практические меры необходимо принять в ответ на «Невыносимые законы». Дебаты по этому вопросу продолжались остаток сентября и почти весь октябрь, до самороспуска конгресса. Начались они с неразберихи, так как вопросы о запрете импорта, экспорта и потребления товаров из Британии поднимались наспех и без всякого порядка в конце сентября. Делегация Массачусетса устами Томаса Кушинга и братьев Адамс заявила, что их устроит только немедленное прекращение всяких торговых отношений с Великобританией. Вот здесь-то и произошел первый конфликт интересов, когда виргинцы, до тех пор столь преданные общему делу, сообщили, что приехали в Филадельфию с наказом не соглашаться с тотальным запретом экспорта до 10 августа 1775 года, когда, по их расчетам, виргинский табак, выращенный в 1774 году, будет собран, высушен и отправлен на продажу. Делегаты от Южной Каролины также имели свои соображения насчет запрета экспорта, рассчитывая добиться исключения для риса и индиго, шедших на британские рынки. Противодействие виргинцев вступлению в действие эмбарго до августа 1775 года усилило решимость каролинцев образовать с ними единый блок[450]. Однако худшие из опасений южан начинали сбываться, так как конгресс все же проголосовал за запрет импорта, причем значительным большинством, и постановил, что ввоз любых товаров из Британии и Ирландии должен быть прекращен с 1 декабря текущего года. Теперь можно было вернуться к вопросу о запрете экспорта в метрополию. Делегаты готовились к дискуссии, а между тем Джозеф Гэллоуэй предложил разрешить конфликт с Англией не принудительными экономическими мерами, такими как запрет экспорта, а конституционным путем, учредив колониальный парламент, члены которого избирались бы легислатурами. Такой «большой совет» мог бы рассматривать совместно с британским парламентом законопроекты, касающиеся совместных интересов Британии и колоний, например в сфере торговли. Чтобы такие законопроекты приняли силу закона, они нуждались в одобрении обоими «парламентами», а вопросы исключительно местного значения следовало бы отдать на откуп легислатурам[451]. У плана Гэллоуэя была простая логика, основанная на постулате, по-прежнему широко популярном как в Британии, так и в Америке: «В каждом государстве, патриархальном, монархическом, аристократическом или демократическом, должен действовать верховный законодательный орган». Гэллоуэй представил свой проект со всей присущей ему убедительностью, и Джеймс Дуэйн, Джон Джей и Эдвард Рутледж проголосовали за него, причем последний заявил, что находит этот проект «практически совершенным». Однако другие поставили его совершенство под сомнение. Например, Патрик Генри полагал, что принятие плана Гэллоуэя «освободит наши колонии от власти погрязшей в грехе палаты общин, но передаст их в руки американского парламента, который может быть подкуплен этой нацией, открыто возвещающей миру, что подкуп является частью ее системы управления». Возможность превращения американского парламента в коррупционный орган наподобие английского тревожила и других делегатов, однако еще большие сомнения план Гэллоуэя вызывал в качестве средства для разрешения кризиса. Ричард Генри Ли предпринял маневр, который испокон веку предпринимали депутаты, находившиеся в щекотливом положении: он настаивал на том, что ему перед принятием решения требуется посоветоваться со своими избирателями. Конгресс отложил рассмотрение этого проекта на более поздний срок, однако перевес был небольшим: шесть голосов «за» против пяти[452]. Гэллоуэя и его консервативно настроенных сторонников удалось нейтрализовать, и конгресс учредил сразу несколько комитетов для того, чтобы скорее завершить работу. Работа предстояла очень сложная, в частности, необходимо было запустить механизм вступления в действие соглашения о запрете импорта, экспорта и потребления британских товаров. Кроме того, нужно было разрешить вопрос о правах колонистов, дискуссии по которому длились с сентября до того момента, когда уже практически все делегаты валились с ног от усталости. Наиболее осмотрительные из них предложили подать петицию королю, где содержалась бы просьба загладить обиды, нанесенные жителям колоний, а также направить подобную петицию и народу Великобритании. Для составления таких петиций также были назначены соответствующие комитеты. В первые дни октября, пока постоянные комитеты занимались настоящей работой, остальные делегаты не сидели сложа руки. Каждый из них чувствовал необходимость завершить начатое, и чувство это активно подпитывали вести об изменении политической ситуации. Делегация Массачусетса распространяла слухи, доносившиеся из Бостона, о лишениях, которые продолжает испытывать город. В Филадельфию 6 октября прибыл Пол Ревир с письмом от бостонского корреспондентского комитета и «Саффолкской резолюцией». «Саффолкская резолюция», написанная соратником Сэмюэля Адамса доктором Джозефом Уорреном и одобренная советом округа Саффолк 9 сентября являла собой образчик риторики, слишком оригинальной даже по меркам эпохи, когда к оригинальности стиля привыкали очень быстро. В ее преамбуле составители даже не остановились на том, чтобы назвать «Невыносимые законы» неконституционными: они использовали слово «кровавые». Именно это побуждало к неповиновению: пока эти законы не будут отменены, жители Массачусетса будут оставлять себе налоги, ранее взимавшиеся Короной, а также прекратят любую торговлю с Великобританией, Ирландией и Вест-Индией, перестанут потреблять «британские товары и изделия» и начнут готовиться к войне. Помимо этого в письме, доставленном Ревиром, содержалась просьба к Континентальному конгрессу посоветовать, как поступать жителям Бостона: британская армия укрепляла город, и, в связи с приостановкой деятельности легислатуры, требовалась помощь, а по сути дела, предлагалось возглавить сопротивление. Жители Бостона могли как покинуть город, так и остаться в нем, но на любое их действие нужна была санкция конгресса[453]. Не вполне ясно, какой именно ответ от делегатов конгресса рассчитывали получить лидеры мятежного города. На деле же они получили компромиссную, «мягкую» резолюцию, клеймившую тех, кто принял новые должности согласно Массачусетскому правительственному акту. Кроме того, резолюция гласила, что если для исполнения «Невыносимых законов» будет применена сила, то «вся Америка должна поддержать Бостон в его борьбе»[454]. Прежде чем дойти до этой резолюции, были внесены предложения оставить Массачусетс наедине со своими проблемами (благородный Гэллоуэй) и собрать ополчение и атаковать британцев, прежде чем к тем придет подкрепление (неистовый Гадсден). Помимо этих крайностей, прозвучало и предложение Ричарда Генри Ли эвакуировать город, которое в создавшейся ситуации было едва ли не самым разумным, но и оно было отвергнуто. Три дня спустя после того как проблема Бостона была положена «под сукно», 14 октября, делегаты конгресса продемонстрировали, что все же могут о чем-то договориться, а именно о Декларации прав. Права колоний занимали все внимание их представителей едва ли не с первого заседания, и сейчас было принято заявление о том, что права эти базируются на законах природы, британской конституции и колониальных хартиях. В основе этих «трех китов» лежал, конечно же, компромисс, но сама декларация не была пустопорожним документом. Новостью она, впрочем, тоже не являлась: права, о которых она говорила, составляли суть уклада Америки вот уже почти десять лет. Декларация не оставляла сомнений в том, что колонии не собираются отказываться от права суверенного налогообложения и самоуправления. Они не были представлены в «Британском парламенте» и «исходя из внутренних и внешних обстоятельств не могут» быть представлены и впредь[455]. Этот пункт декларации получил широкую поддержку среди делегатов. Чуть меньшую, но все равно существенную поддержку получил параграф о том, что колонии «с удовольствием соглашаются» с необходимостью «соблюдать взаимные интересы обеих стран» в вопросах регулировании «нашей внешней торговли». Эта часть декларации знаменовала собой триумф Адамсов, Ричарда Генри Ли и их сторонников, стоявших за полный отказ от всех притязаний парламента на управление Америкой. Оставшиеся пункты состояли в том, что колонии признают свою преданность Короне, но не признают «парламентские акты», нарушающие их права. А чтобы не было никаких сомнений в этом, делегаты подробно перечислили все «нарушения и неправомерные законы», изданные парламентом. Во время работы над декларацией делегаты также разработали механизмы функционирования законов о запрете импорта, экспорта и потребления британских товаров. Почти сразу же они столкнулись с серьезными трудностями. Делегация Южной Каролины дала открыто понять, насколько тесно их голоса связаны с кошельками тамошних плантаторов. Каролинцы сообщили остальным делегатам, что пока рис и индиго не исключат из перечня товаров, подлежащих к запрету на экспорт, они не подпишут «Ассоциацию», как отныне стали называть документ об ограничениях торговли. Такой демарш вызвал протесты, но после того как каролинцы согласились пожертвовать индиго, конгресс пошел им навстречу[456]. «Ассоциация» гарантировала, что запрет на импорт британских товаров вступит в силу с 1 декабря; запрет на потребление чая Ост-Индской компании — в день подписания; к вопросу о запрете на экспорт товаров в Британию было решено вернуться после 10 сентября 1775 года, если необходимость в нем будет существовать. Все понимали, что эти заявления будут носить сугубо декларативный характер, если не обеспечить их действие. Для этого конгресс призвал к созданию «в каждом округе, городе и поселении» комитетов, состоящих из лиц, пользующихся правом выбора представителей в легислатуры. Эти комитеты, будут «продавливать» «Ассоциацию» подобно тому, как в предшествующее десятилетие они «продавливали» другие соглашения. Разумеется, такие комитеты не возникли в каждом городе, однако их разветвленная сеть оставляла не много возможностей для маневра. В рамках «Ассоциации» комитеты наделялись невиданными по широте полномочиями: они получали право проверять таможенные журналы, публиковать имена нарушителей закона в местных газетах и «прекращать все сношения с правонарушителями», которых отныне клеймили как «врагов американской свободы»[457]. Делегаты конгресса подписали «Ассоциацию» 20 октября. Следующие несколько дней они посвятили составлению петиции в адрес короля, а также обращений к народам Великобритании, Америки и Квебека. Петиция королю не вызвала большого энтузиазма, например, Вашингтон и Джон Адамс полагали, что ей недостает требования принести извинения за причиненные обиды. Справедливости ради отметим, что конгресс не направил никакой петиции парламенту, отчасти потому, что такая петиция могла быть расценена как признание, что парламент по-прежнему имеет какую-то власть над Америкой. Конгресс прекратил работу 26 октября, приняв решение о созыве в случае необходимости второго конгресса 10 мая следующего года. Если сегодня пробежаться по письмам и дневникам его участников, то можно прийти к выводу, что роспуск произошел как раз вовремя: делегаты чувствовали себя изможденными — они действительно много работали. Впрочем, возможно, они устали и друг от друга, а не только от своих трудов… Джон Адамс, страдавший от невозможности состязаться в остроумии и красноречии с коллегами, за два дня до закрытия конгресса дал волю своему темпераменту: «На конгрессе, как обычно, снова брюзжание и словесная эквилибристика!» И прошелся по Эдварду Рутледжу, очевидно, досаждавшему ему больше других: «Молодой Нед Рутледж — то ли воробей, то ли павлин, и слишком тщеславный, и слишком тщедушный, а кроме того — податливый и подверженный разным влияниям, ребячливый, пустой, легкомысленный»[458]. И все же делегаты покидали Филадельфию полные уважения друг к другу. Они показали, что и сами они, и народ, который они представляли, разделяли одни и те же цели и устремления. На какое-то время казалось, что конфликт интересов, особенно экономических, угрожает совместной деятельности конгресса, но в конце концов «Ассоциация» выразила ценности, сплотившие американцев, и продемонстрировала, что в их желании отстоять право на самоуправление моральная составляющая превалирует над конституционными спорами. Мораль проникла в «Ассоциацию» через постулат о «поощрении рачительности, экономии и производства», а также в открытом «неодобрении и воспрепятствовании всякой невоздержанности и легкомысленности, особенно скачкам, азартным играм, петушиным боям, демонстрации роскоши, представлениям и иным дорогостоящим занятиям и развлечениям…». Декларируя намерение придерживаться пуританских стандартов, конгресс не указал, что это еще один способ противостоять тиранической власти, однако так оно и было. Конгресс напомнил американцам, что их политическая свобода базируется на такой добродетели, как приверженность общественному благу. Более того, конгресс заставил американцев помнить, что без добродетели не будет и свободы. Пассаж о рачительности, экономии и производстве и анафема невоздержанности и легкомысленности не случайны. Это были единственные верные для американцев представления, рожденные протестантизмом и доминировавшие в колониях со дня их основания. Был сделан упор на пуританскую этику, на призыв жителей колоний следовать старому жизненному укладу, который оказался на грани исчезновения, тогда как одержимость приобретениями и тратами была присуща XVIII столетию. Сейчас, во время конфликта с метрополией, американцы продолжали осознавать себя как нацию, и конгресс с его призывом к аскетизму и умеренности поставил их перед выбором.12. Война
I
Делегаты первого Континентального конгресса разъезжались по домам под аплодисменты всего или по крайней мере части континента. В пути представителей Массачусетса существенно задерживали приглашения на званые обеды и прочие развлечения. Какое-то время казалось, что любой город от Филадельфии до Бостона жаждет засвидетельствовать им свое уважение. Делегаты Массачусетса, ошарашенные приемами и любезностями Филадельфии, сумели взять себя в руки по дороге назад и вежливо, но твердо отклоняли все предложения о визитах, кроме самых необходимых. В городке Палмер в Массачусетсе они остановились у некоего мистера Скотта с супругой, которые, по словам Джона Адамса, были «пламенными патриотами». Скотт и местный врач (доктор Дана) были довольны итогами конгресса и надеялись, что парламент отменит «Невыносимые законы» и удовлетворится регулированием торговых отношений. «Скотты полностью уверены, что англичане отменят все эти законы ближайшей зимой, — помечал Адамс в своем дневнике, скептически добавляя, — но я абсолютно не разделяю убеждения Скоттов и докторов»[459]. Предвкушение того, что парламент сдаст свои позиции, вполне возможно, повлияло на общественное одобрение итогов конгресса. Однако большинство американцев разделяло скепсис Адамса и нисколько не возражало против углубления кризиса. В Палмере Адамс услышал о так называемой «пороховой тревоге», начало которой положили обежавшие несколько колоний слухи о том, что в начале сентября генерал Гейдж захватил пороховые склады в Чарлстауне. Адамс узнал, что некоторые граждане были даже разочарованы тем, что это оказались только слухи и что у них не было повода схватиться с регулярными войсками[460]. Те из делегатов конгресса, которые обращали внимание на настроения в обществе, были убеждены, что вооруженный конфликт — дело решенное, и мир возможен только в том случае, если Лондон пойдет на попятную. Джон Дикинсон писал Артуру Ли, находившемуся тогда в английской столице: «Я страстно хочу сохранения мира, но должен признаться, что он, хотя и желанный сам по себе, будет стократ более желанен, если случится неожиданно для всех». Высказывание Дикинсона очень характерно, так как показывает, что положение, в котором очутились колонии, было еще не войной, но уже никак не миром. Ожидания Дикинсона и Адамса, пожалуй, отражали взгляды, превалировавшие в конгрессе. Хотя никто из его участников не опасался всерьез того, что их арестуют как мятежников и отправят в Англию, где они предстанут перед судом за свое участие в конгрессе, некоторых в ходе заседаний и после все же посещали неприятные мысли[461]. Как бы то ни было, здравицы в адрес делегатов тешили их самолюбие, к тому же они не прекращались. Газеты напечатали текст «Континентальной ассоциации», а провинциальные конвенты и корреспондентские комитеты спешили поздравить делегатов и возместить им расходы, понесенные в Филадельфии. Но, как это часто бывает, наряду с продолжавшимися славословиями вскоре началась и язвительная критика конгресса и принятых там резолюций. В основном эта критика приобрела форму памфлетов и анонимных статей в газетах, причем большая часть ответов на эту критику также носила анонимный характер. Почти вся эта полемика была невысокой пробы, хотя зачастую в печати выступали люди вполне известные или скоро ставшие таковыми. Среди критиков конгресса был и один из его участников — Джозеф Гэллоуэй. Перед началом заседаний он мучительно размышлял об отношении колоний к Англии, и то, что он услышал в Филадельфии, лишь укрепило его убеждения: парламент должен обладать верховной властью в империи. Однако у колоний есть права, и Гэллоуэй был уверен, что лучшим способом защитить их является англо-американская уния, и что-либо другое он вряд ли мог предложить. Впрочем, на конгрессе он увидел жажду независимости — «уродливой, уменьшенной копии настоящей Независимости». Такое будущее его не радовало[462]. Свои взгляды Гэллоуэй выразил в памфлете, где даже не пытался скрыть свое презрение к «властителям дум». Были и другие политики, которые разделяли его мысли, хотя, быть может, и не доходя до идеи унии Англии и Америки. Среди самых бескомпромиссных критиков конгресса был Дэниэл Леонард, юрист из округа Бристоль в Массачусетсе. Для печати Леонард подписывался как Массачусетсец, а Джон Адамс отвечал ему под псевдонимом Нованглус. Переписка этих двух деятелей была полна довольно грубых взаимных обвинений, перемежавших аргументы за и против идеи независимости[463]. Еще более острой была пикировка англиканского священника Сэмюэля Сибери и Александра Гамильтона, студента нью-йоркского Кингс-колледжа. Сибери в своих памфлетах предсказывал начало войны, если американцы последуют за лидерами конгресса, Гамильтона же перспектива войны совсем не пугала. Его ответы Сибери свидетельствуют о большом ораторском искусстве и твердой вере в права американцев[464]. Такой обмен мнениями говорил о расхождениях по вопросу власти парламента в Америке. Конгресс превратился в народный орган — он пользовался поддержкой большинства американцев, но существовала и оппозиции ему. И оставалось много колеблющихся — их сдерживали привычка к лояльности и страх перед туманным будущим вне империи.II
В такой подвешенной ситуации инициатива обычно находится в руках тех, кто ведет себя напористо, предлагая четкую программу действий и мер. «Ассоциация», безусловно, предлагала такую программу и назначила ее проводников: ставшие уже привычными провинциальные, окружные и городские комитеты, не имевшие формальной власти, но на деле сосредоточившие в своих руках ее полномочия. Наиболее успешные (и наиболее экстремистские) Из них в Массачусетсе и Виргинии просто заменили собой старую структуру управления. Сам генерал Гэйдж невольно спровоцировал их на этот шаг, упразднив в начале октября легислатуру Массачусетса еще до того, как она провела первое заседание; первый провинциальный конгресс, собравшийся в том же месяце, безболезненно занял ее место, и Массачусетс получил что-то вроде революционного правительства. Но еще задолго до действий Гэйджа и провинциального конгресса в западной части Массачусетса случилась небольшая политическая революция. Западный Массачусетс делился на два округа: Хэмпшир и Беркшир, в которых проживало около 15 % населения колонии. Через регион протекает река Коннектикут, что давало жителям возможность экспортировать древесину, шкуры, мясо и зерно. Вдоль реки постепенно возникали города, но большинство населения продолжало заниматься фермерством в долине Коннектикута и в глухих уголках Беркшира[465]. Авторитетом на западе пользовались несколько человек. Одним из них был Израэль Уильямс из Хэтфилда, сметливый, практичный торговец и политик, занимавшийся, помимо прочего, скупкой земельных участков. Не отставал от него и полковник Джон Уортингтон из Спрингфилда, ну а Джозеф Хоули, хотя и не занимался земельными спекуляциями, в остальном делал все, что заблагорассудится, в Нортхэмптоне. Эти люди со своей родней и еще несколько семей, обязанных им, такие как Стоддарды и Партриджи, настолько безоговорочно утвердились в долине, что их даже заслужили прозвание «речных богов». «Речные боги» не чурались политики. Сами они, их родственники и приспешники занимали должности судей, членов городских советов, различных секретарей и шерифов либо контролировали подобные посты, да и все остальное благодаря своему бизнесу и связям с королевским губернатором Бостона. Только Джозеф Хоули держался несколько в стороне, другие же «речные боги», подобно Бернарду и Хатчинсону, взирали на рост протестных настроений с ужасом. Они обладали реальной властью, о которой противники независимости колоний на востоке Массачусетса могли только мечтать, и поэтому, пока Бостон кипел, на западе провинции царила тишь да гладь. «Речные боги» проигнорировали кампанию против Акта о гербовом сборе, столь же индифферентно отнеслись они и к запрету на импорт, когда ломались копья в споре о тауншендовских пошлинах. Их никак не уязвила реакция лорда Хиллсборо на циркулярное письмо 1768 года, хотя шесть западных делегатов в палате представителей Массачусетса вошли в число «Славных 92-х», ослушавшихся Хиллсборо и проголосовавших против отмены циркуляра. Оставшиеся три делегата не сочли нужным присутствовать на этом судьбоносном заседании, и в следующем, 1769 году западные округа вновь послали в палату представителей трех «прогульщиков», а из западных «славных» остались лишь двое. К конвенту, созванному Сэмом Адамсом, запад также отнесся несерьезно: Хэмпшир был представлен одним делегатом, а Беркшир не прислал никого. «Речным богам» такая лояльность власти аукнулась: тысячи простых людей возненавидели их. В 1772 году, когда дошли слухи о том, что британские министры решили оплачивать труд судейских из таможенных сборов, отобрав такое право у легислатур, западные округа всколыхнулись: шесть городов приняли резолюции, осуждавшие это нововведение, между тем «речные боги» и их креатуры использовали суды для безжалостного преследования мелких заемщиков. «Невыносимые законы» разожгли тлевшие противоречия. В июле и августе толпы народа прекратили деятельность окружных судов: они оставались под замком до 1778 года в Хэмпшире и до 1781-го в Беркшире. Повсюду собирались городские и окружные конвенты (по сути дела — незаконные органы), учреждавшие собственные суды или в некоторых случаях передававшие дела городским собраниям. Например, в Питтсфилде город учредил специальный комитет, призванный разбирать судебные иски; в других поселениях уповали на и без того перегруженных членов городских советов. На востоке за такими действиями пристально наблюдали, а в Бостоне члены больших и малых жюри присяжных отказывались приносить клятвы, тем самым вынуждая высший суд прекращать свою работу. Все эти действия чувствительно ударили по престижу «речных богов», и вскоре им пришлось испить полную чашу народного гнева. Израэль Уильямс и Джон Уортингтон были назначены в совет по судебным приказам — новый государственный орган, образованный согласно Массачусетсскому правительственному акту. Ни тот ни другой приглашения не приняли, но объявить о своем решении не успели, так как были схвачены разъяренной толпой и принуждены отказаться от должности публично. Полковник Уортингтон был настолько испуган, что немедленно перешел на сторону противника, разорвав всякие связи с восточным истеблишментом. Израэль Уильямс спокойно пережил такой удар по авторитету, продолжая всякий раз выражать свое неодобрение патриотических акций. В феврале 1775 года, спустя изрядное время после того как он отказался войти в судебный комитет, к нему в дом снова вломилась толпа, явно рассчитывавшая, что «тори» запросит пощады. Уильямс, однако, оказался не робкого десятка, и толпе пришлось продержать его ночь в коптильне, пропитываться запахом жженого дерева. Только это научило его держать язык за зубами. Те же, кто принял приглашение войти в совет по судебным приказам, пережили подобные унижения, и их не могли защитить войска, расквартированные в Бостоне. Тимоти Рагглсу его друг из Хардвика советовал не возвращаться домой: «Я точно знаю, что существуют люди, которые жаждут вашей крови, и у них хватит влияния, чтобы подговорить напасть на вас»[466]. К Тимоти Пэйну в Вустер явилась толпа из двух тысяч человек и вынудила его написать покаянное заявление об отставке с должности, за которой он и не охотился. После этого он должен был громко зачитать это заявление, стоя с непокрытой головой в центре сборища. В толпе из Вустера были вооруженные люди, которые отправились затем в Рутленд, находившийся в двенадцати милях к северо-востоку, на поиски другого советника, который сбежал до их прихода. Подобное скопище людей описывал и Дэниэл Леонард: «Толпа стояла перед моим домом как для баталии»[467]. Эту группу быстро рассеять не удалось, и ночью дом Леонарда подвергся обстрелу. Тактика протестующих сработала: едва ли не каждый советник, которому не удалось укрыться в Бостоне под защитой английского гарнизона, вынужден был подать в отставку, а «охвостье» законной власти в Бостоне существовало лишь на бумаге. За пределами города власть перешла к местным органам: советам городов, конвентам, комитетам, а иногда и к толпе. Конвенты и комитеты направили основные усилия на решение политических и военных вопросов, освободив себя от участия в текущих ежедневных проблемах. Самой легкой задачей было прекращение торговых отношений с Великобританией — заблокировав Бостон, англичане таким образом заблокировали и весь импорт. Горячие головы (не бывшие, впрочем, жителями города) предлагали эвакуировать гражданское население и подготовиться к нападению на гарнизон. Бостонский комитет с неодобрением отнесся к таким предложениям, равно как и большинство лидеров провинции. Втечение всего лета они собирались и вырабатывали планы действий в условиях фактического начала войны. Наиболее активными были представители округа Вустер: они собрались в августе, чтобы полностью отвергнуть все притязания парламента на власть над Америкой, и отправились в Бостон для встречи с делегатами от округов Миддлсекс, Саффолк и Эссекс. В начале сентября вустерский конвент упразднил окружные суды и приступил к реорганизации ополчения, первым делом вынудив уйти в отставку всех офицеров и призвав городские советы избрать на их места новых людей, чья преданность «общему делу» не вызывала сомнений[468]. Все эти действия закончились созывом конгресса провинции Массачусетс в начале октября. Гейдж прекратил полномочия легислатуры, поэтому члены палаты представителей и множество других делегатов собрались в Кембридже. Провинциальные лидеры продемонстрировали свой энтузиазм, во-первых, послав гораздо больше представителей, чем они направляли в обычную легислатуру (например, округ Хэмпшир послал 39 человек вместо обычных двадцати), а во-вторых, деятельно продвигая меры подготовки к войне. За три недели конгресс, ведомый представителями западных округов, одобрил ассигнование 20 000 фунтов на закупку оружия и обмундирования; эти деньги, очевидно, должны были принести налоги, ранее собиравшиеся правительственными чиновниками. Также конгресс образовал комитет безопасности и, убедившись, что он находится под контролем представителей западных округов, наделил его (или пять любых его членов) полномочиями набирать, вооружать и отдавать приказы ополчению. Речи, произносившиеся на этом конгрессе, были, пожалуй, еще более воинственными, чем принимаемые им меры: немалое количество некогда пассивных делегатов призывали эвакуировать Бостон и стереть его с лица земли вместе с гарнизоном Его Величества[469]. В конце октября члены конгресса Массачусетса ушли на каникулы, договорившись вновь собраться в последнюю неделю ноября, однако в это время им уже пришлось учитывать итоги Континентального конгресса. Многим массачусетсцам «Ассоциация» показалась слишком умеренной, и они отказались принимать ее до тех пор, пока не найдут способы ужесточить ее требования. Неприязнь сельских жителей к горожанам выражалась в требовании запретить и продажу уже завезенных товаров после вступления в силу запрета на импорт. Конгресс в конце концов принял решение, что товары, легально ввезенные в Америку до 1 декабря 1774 года, нельзя будет пускать в продажу после 10 октября 1775 года. Участников конгресса торговцы обманывали в прошлом (по крайней мере, конгрессмены были в этом убеждены), и они не собирались допускать такое снова[470]. В начале декабря провинциальный конгресс прекратил работу, но прежде из уст его участников раздалось несколько варварских предположений насчет того, что делать с бостонским гарнизоном. Сэм Адамс вернулся из Филадельфии, успел принять участие во второй серии заседаний конгресса и с одобрением отнесся к тому, что ему довелось услышать от представителей западных округов. Неудивительно, что Адамс стоял за масштабную подготовку — 20 000 ополченцев казались ему достаточной силой, а немедленное нападение на «красные мундиры» — наиболее разумной акцией. Другие политики с востока, и среди них Томас Кушинг, не были уверены в необходимости военных действий: они считали, что в случае нападения на Бостон Массачусетс останется в одиночестве, ибо поднять остальные колонии на войну могут только самые беспардонные шаги британцев. Адамс предсказывал, что другие колонии не только не будут колебаться, но даже устремятся на защиту Массачусетса, отчего Кушинг вышел из себя: «Это ложь, мистер Адамс, и я знаю это, и вам известно, что я это знаю!»[471] Подобных разногласий осенью 1774 года не было, например, среди вождей Виргинии. Даже купцы наперебой выражали удовлетворение «Ассоциацией», принятой на Континентальном конгрессе. Между тем в августе, как раз перед созывом конгресса, провинциальные конвенты прекратили деятельность окружных судов. Такая мера была ответом на попытки торговцев и посредников шотландского происхождения, живших в Виргинии, собрать долги, прежде чем «Ассоциация», одобренная представителями Виргинии, положит конец их бизнесу. Эти шотландские предприниматели оказывали сильное давление на своих должников, прибегая к помощи местных судов. Сейчас же, когда «Континентальная ассоциация» заменила местные соглашения, торговцы пытались отвести от себя угрозу[472]. Они имели все основания быть встревоженными. В ответ на призыв части палаты горожан Виргинии на собраниях фригольдеров по меньшей мере в тридцати округах прошедшей весной обсуждалась возможность полного прекращения торговли с метрополией, и хотя обычно приходили к выводу о нецелесообразности запрета экспорта в Британию, большинство выступало за закрытие Виргинии для импорта. Два месяца спустя после завершения работы первого Континентального конгресса примерно в половине из 61 округа Виргинии были учреждены комитеты по введению в действие «Континентальной ассоциации», и почти все остальные округа последовали этому примеру в начале 1775 года. Комитеты эти внесли два простых и разумных предложения для усиления значения «Ассоциации»: во-первых, чтобы большинство жителей колонии одобрило шаги конгресса, а во-вторых, подвергать общественному осуждению всех, кто пытался бы нарушить положения «Ассоциации» — это стало бы самым эффективным способом борьбы с ними. После выборов комитеты обычно избирали председателей: ими стали пастор Джеймс Мэдисон в Оранже, Эдмунд Пендлтон в Каролине, Лэндон Картер в Ричмонде и Бенджамин Харрисон в Чарльз-Сити. Все они были влиятельными плантаторами, и с их помощью комитеты рассчитывали убедить торговцев и плантаторов подписать «Ассоциацию». Любой отказавшийся подписать ее или даже просто протестовавший против такого требования рисковал получить ярлык «врага отечества». В качестве примера можно привести случай с Александром Леки, который испытал на себе весь гнев комитета Каролины, после того как на публичном собрании, где каждый должен был подписать «Ассоциацию», неуместно пошутил, предложив подписаться и негритенку. Три недели спустя Леки был призван публично покаяться за свою веселость и прочие неосторожные комментарии («Черт бы их всех побрал!» — услышали от него в ответ на предложение покрыть расходы делегатов Виргинии на Континентальном конгрессе; также он распустил слух, что местный патриот Уокер Тальяферро сам нарушал соглашение 1770 года). Отныне поведение Леки стало подобострастным: он понял, что «тяжесть общественного неодобрения и ненависти сограждан» совершенно «невыносима». Леки не остался одинок. Дэвиду Уордробу, школьному учителю из округа Уэстморленд, досталось за письмо, которое комитет счел «лживым, возмутительным и враждебным» Америке. После этого комитет разошелся и призвал местных прихожан запретить Уордробу использовать здание прихода для своей школы, родителям велели не посылать своих детей к нему на обучение, а самого учителя вынудили публично покаяться на страницах Virginia Gazette, что он и сделал, причем в самых униженных выражениях: «Я, стоя перед вами на коленях, от всего сердца и со всем желанием молю о прощении у нашей страны за свою черную неблагодарность за все блага, что я от нее получил, за тот хлеб, каким она позволила мне питаться, и уповаю, чистосердечно раскаиваясь в своем поступке, на то, что мне позволено будет хотя бы находиться среди людей, которых я глубоко уважаю. Также я хочу, чтобы мои слова были напечатаны в Virginia Gazette»[473]. Процедуры защиты свободы слова и печати еще не получили юридического оформления, как случилось в конце Войны за независимость, и кампания против Уордроба была очевидно репрессивной, но, впрочем, не самой вопиющей, хотя пережитый им страх был более чем обоснован. Комитет округа Оранж вынудил Джона Уингейта рассыпать набор его памфлетов с критикой Континентального конгресса. Эти и многие другие эпизоды были, безусловно, проявлениями террора, цензуры свободы слова и печати и подавления инакомыслия[474]. Подавление инакомыслия помогло комитетам утвердить запрет импорта из Британии и Вест-Индии, кроме того, в некоторых случаях комитеты прибегали и к прямым действиям против нарушителей. Так, осенью на реках Виргинии имели место несколько «чаепитий», пусть и меньшего масштаба, нежели в Бостоне. Впрочем, торговцам обычно удавалось избегать уничтожения запрещенных товаров, так как они хранили их под эгидой комитетов или даже просили, чтобы комитеты реализовывали товар. Такая процедура позволяла коммерсантам спасти свои вложения в импортные товары, а комитеты покрывали свои издержки, и прибыток шел в пользу бостонской бедноты. Запрет на импорт открыл двери спекулянтам — торговцам, которые имели большие запасы и мало совести. Комитеты имели дело и с такими людьми, в ряде случаев устанавливая максимальные цены, как, например, в округе Каролина, или же изучая бухгалтерские книги на предмет выявления возможных злоупотреблений, как опять-таки поступали в Каролине. Некоторые купцы упорствовали, но добились лишь того, что в газетах их заклеймили «врагами отечества». После этого нарушители подверглись тотальному остракизму и деловыми кругами, и обществом. К концу года «Ассоциация» утвердилась в полном объеме, а местные комитеты стали, как с горечью признавал губернатор провинции Данмор, обладать всей полнотой власти в Виргинии. Губернатор сделал все, что от него зависело, предотвратив поддержку местных комитетов палатой горожан, перенеся ее заседания на зиму 1774–1775 годов. Однако он не мог предотвратить запись в ополчение и закупки оружия — оба процесса шли в округах полным ходом. Джордж Вашингтон и его товарищ Джордж Мейсон организовали ополчение в Ферфаксе; под их контролем окружной комитет ввел налог в три шиллинга с каждого, кто платил десятину. Собранные деньги пошли на военные поставки, а комитет, не имевший законного права облагать кого-либо налогами, поддержал поборы, потребовав сообщать имя любого, кто откажется платить. Хотя большинство округов не зашло настолько далеко, во многих из них образовывались независимые группы мужчин, добровольно проходивших строевую выучку. Молодой Джеймс Мэдисон, которого вскоре избрали в комитет безопасности округа Орандж, возглавляемый его отцом, замечал: «Столь твердые и предусмотрительные шаги либо устрашат наших врагов, либо укрепят наш дух и помогут нам победить их»[475]. Сохранялись, однако, и очаги равнодушия и даже сопротивления «Ассоциации» и призывам к вооруженной борьбе. Одним из таких очагов была колония Джорджия, где губернатор Джеймс Райт, играя на страхах перед индейцами и необходимости защиты со стороны английских гарнизонов, распустил палату и, к неудовольствию провинциального конгресса, собравшегося в 1775 году, не позволял «патриотам» крепко стать на ноги. На севере, в Пенсильвании, квакеры пересилили «горячие головы», а в округе Фэйрфилд в Коннектикуте несколько поселений, находившиеся под влиянием англиканской церкви, отвергли «Ассоциацию» и любую оппозицию Короне. Однако и в Пенсильвании, и в Коннектикуте «Ассоциация» быстро возымела эффект, так как местные комитеты поддержали запрет на импорт. В Южной Каролине тоже появились разнообразные комитеты, и импорт из Британии практически прекратился. Несмотря на нейтралитет западных округов, Северная Каролина высказалась за запрет импорта. Комитеты Мэриленда вели себя почти столь же неумолимо, как и в Виргинии, развязав настоящий террор против Энтони Стюарта, торговца из Аннаполиса, вынужденного в октябре сжечь свой корабль «Пегги Стюарт», недавно прибывший с грузом чая. В декабре провинциальный конгресс Мэриленда принял закон о регулировании цен и постановил вводить положения «Ассоциации» силами местных комитетов[476].III
Известия о сопротивлении американцев «Невыносимым законам» доходили до парламента и министерств постепенно. Обе ветви власти обычно воздерживались от каких-либо шагов до середины августа, и 1774 год не стал исключением. Пожалуй, лишь Дартмут следил за событиями более пристально — он даже поспешил в Лондон из своего загородного имения, услышав о том, что колонисты контрабандой доставляют оружие из Европы. Весть о созыве Континентального конгресса не шокировала его, хотя он и считал конгресс незаконным образованием. Он писал своему другу, что если конгресс возьмет примирительный «тон» или примет взвешенное решение, на его истоки и характер стоит посмотреть иначе. Король же занял гораздо менее гибкую позицию в письме Норту: «Жребий брошен, колонии должны либо подчиниться, либо восторжествовать. Я не хотел бы прибегать к более сильным мерам, но и уступать мы не должны. Благодаря нашему хладнокровию и неуклонному применению уже принятых мер, я уверен, мы приведем колонии к покорности». И, как дальше сказал король, после того как колонии образумятся, «должен будет оставаться единственный налог, и таковым я вижу налог на чай». Взгляды лорда Норта также эволюционировали в сторону большей жесткости по мере получения известий о том, что конгресс склоняется к принятию запрета на импорт. Если колонии откажутся бт торговых отношений с Британией, писал он Томасу Хатчинсону, то «Великобритания позаботится, чтобы они не смогли торговать ни с кем другим»[477]. Нужно сказать, что ранней осенью 1774 года у кабинета Норта были более важные дела, нежели американский вопрос. В конце сентября Норт объявил о новых выборах в парламент. Прежний состав парламентариев был избран в 1768 году и должен был существовать до 1775-го, но премьер решил преподнести оппозиции сюрприз и обеспечить большинство на очередной семилетний срок. Фактор Америки влиял на это решение лишь косвенно, хотя правительство Норта ожидало усугубления ситуации в следующем году и не желало, чтобы это совпало с избирательной кампанией. Проблемы в колониях почти не сыграли роли на выборах, за исключением тех немногих избирательных округов, где радикальные сторонники Уилкса требовали отмены «Невыносимых законов». Электорат был невелик, его мало интересовала политика, избиратели были индифферентны. В начале года Берк жаловался, что «любое сколько-нибудь значимое ограбление на большой дороге в Хаунслоу-Хит является большим предметом для разговоров, нежели все американские перипетии». А с приближением выборов он констатировал, что недовольство в колониях и возможные трудности там в будущем «волнуют нас не больше, чем раздел Польши». Кабинет и не ожидал ничего иного, поэтому в середине ноября результаты выборов показали, что тори вновь получили уверенное большинство в палате общин[478]. На следующий день после того как правительство объявило о досрочных выборах, поступили плохие новости от генерала Гейджа. Он попытался энергично проводить в жизнь положения Бостонского портового акта. Согласно этому документу, товары не могли загружаться или разгружаться «со всякого причала, острова, пристани, отмели или какого-либо другого места». Гейдж применил эту формулировку к любым перемещениям грузов внутри гавани и решил перерезать сообщение с прибрежными островами и Чарлстауном на другом берегу реки. Практически сразу же развилась контрабанда. Травля судебных исполнителей, закрытие судов и приготовления к войне со стороны городов, а также созыв провинциального конгресса встревожили губернатора еще больше. Неудивительно, что депеши Гейджа в министерство несли на себе отпечаток отчаяния и владевшей им паники. Ему противостояла отнюдь не бостонская «чернь» — он знал, что ему придется столкнуться с «фригольдерами и фермерами» Новой Англии. Для того чтобы справиться с ними, ему нужны были подкрепления, и он уже приказал полкам из Нью-Йорка и Канады двинуться в Бостон. Мало того, он не постеснялся заявить министру, что ему нужны войска из метрополии. Естественно, подкрепления не могли прибыть быстро, и Гейдж, чувствуя себя беззащитным и уязвимым, призывал приостановить действие «Невыносимых законов», которые, собственно, и заставили Америку встать на дыбы[479]. Наряду со страхом, в докладе Гейджа проявился и здравый реализм. Не было и речи о том, чтобы подавить мятеж имевшимися в его распоряжении силами, но отмена «Невыносимых законов» совершенно точно подорвала бы влияние решительно настроенных радикалов в Америке. Король и правительство, впрочем, имели свой взгляд на вещи. Они проникались досадой Гейджа, по мере того как до Лондона доходили слухи об американском сопротивлении. Томас Хатчинсон отмечал, что Дартмут и Джон Пауэлл были «ошеломлены», узнав о «Саффолкской резолюции». Норт говорил Хатчинсону, что положение выглядит «отчаянным», но настаивал, что «парламент не может, да и не будет идти на уступки. Насколько я знаю, насилие неизбежно». Несколько дней спустя он категорически заявил, что Массачусетс находится «в состоянии неприкрытого мятежа и должен быть приведен к повиновению». Король разделял мнение своего премьер-министра: «Правительства Новой Англии находятся в состоянии мятежа. Останутся ли они Нашими подданными или получат независимость, должно решить оружие». Кроме того, его вывело из себя предложение Гейджа приостановить действие «Невыносимых законов»: «Это самое абсурдное из того, что можно было предложить», — говорил он Норту[480]. Гейдж действительно неубедительно действовал на своем посту в конце лета и начале осени, поэтому к декабрю его отзыв казался делом решенным. За месяц до того граф Саффолк, секретарь Северного департамента, ходатайствовал об отставке Гейджа, но король колебался: новости с конгресса становились все тревожнее (министерство имело там своих информаторов, даже несмотря на секретность заседаний), и паника Гейджа нарастала. Он уже требовал двадцатитысячную армию, утверждая, что необходимо нанести решающий удар, а до того приостановить действие «Невыносимых законов». Терпение короля лопнуло. Он предложил командование войсками в колониях Джеффри Амхерсту, опытному военному, служившему в Америке. Амхерст, презиравший колонии и с отвращением относившийся к периоду своей службы там, отказался, тогда король решил в качестве временной меры послать в помощь Гейджу боевого генерала, что в конце концов привело к последовательному назначению генералов Хау, Клинтона и Бергойна[481]. Однако политический вопрос — как реагировать на мятежные выступления в колониях — оставался открытым. К концу января Лондон решился на ответ, который, как показали дальнейшие события, по эффективности явился едва ли не точной копией того, что привел к открытому восстанию. В основном меры выглядели репрессивными: торговля Новой Англии сводилась исключительно к торговле с метрополией; рыболовные промыслы закрывались для судов Новой Англии; генерал Гейдж и адмирал Грейвз должны были получить сухопутные и морские подкрепления. В качестве уступки было внесено предложение прекратить взимание налогов с колоний (оставив, тем не менее, за Англией такое право) в случае, если те поддержат все гражданские и военные меры. Такие шаги были весьма двойственными, во всяком случае, в них превалировал элемент принуждения. И Дартмут и Норт предпочитали примирение силовому решению проблемы; король также не был против попыток пойти на мировую, тем более что право Великобритании на налогообложение колоний сохранялось, однако он, в отличие от своих министров, не питал больших надежд[482]. В январе, прежде чем кабинет представил свое видение американского вопроса парламенту, он еще провалил последнюю попытку Четема наладить мирный диалог. Как всегда, скрытный и склонный к театральности Четем не делился своими планами даже с Рокингемом, главой вигской оппозиции кабинету тори, и не пытался привлечь его на свою сторону. Его предложение сводилось к выводу войск из Бостона и принятию закона, подтверждающего суверенитет парламента, но также гарантировавшего запрет налогообложения колоний без их согласия. Питт также предлагал, чтобы в обмен на признание конгресс предоставил короне пожизненную ренту. «Невыносимые законы» надлежало отменить, равно как и с десяток других актов, на которые жаловались колонии в последние годы[483]. Попытка Питта была сколь смелой, столь и безнадежной. В основе ее лежало допущение, что члены парламента не имеют никакой гордости, что они признают свои ошибки после того, как им на них укажут, и тотчас же постараются исправить их, восстановив отношения с мятежниками. Также Питт был уверен, что американцы в действительности не отвергают категорически парламентский суверенитет и вернутся к статус-кво сразу после того, как парламент отменит неугодные законы и пообещает не применять законное право на налогообложение колоний. Парламент не принял всерьез прожект Питта и посвятил следующие два месяца обсуждению программы правительства. В первую неделю февраля обе палаты одобрили обращение к королю, где заявляли, что колонии находятся в состоянии мятежа, и призывали к чрезвычайным мерам для подчинения колоний и восстановления законов и суверенитета Великобритании. Речи произносились длинные, дебаты были долгими, но конечный их итог сомнений не вызывал. Две недели спустя Норт помахал оливковой ветвью: он обещал не облагать налогами те колонии, которые будут способствовать восстановлению гражданского и военного правления в них. После такого предложения, одобренного парламентом, кабинет министров провел и закон, запрещающий для Новой Англии торговлю и рыболовство (а в апреле этот закон был распространен на все колонии, кроме Нью-Йорка и Северной Каролины). Берк саркастически заметил, что этим законом правительство предложило «сохранить власть, уничтожив подданных»[484]. Находившийся в Бостоне Гейдж склонялся к мысли, что иным способом, кроме вооруженного вмешательства, британское владычество сохранить не удастся. Осенью и зимой он получил ряд доказательств, только укрепивших его в этой мысли, однако он также был убежден и в том, что имеющихся в его распоряжении войск недостаточно. Больше всего его пугали ярость и сплоченность противников: реакция города на захват пороха в Чарлстауне и пушек в Кембридже в сентябре 1774 года была ошеломляющей. Со всего Коннектикута собралось ополчение и отправилось маршем на помощь Бостону, слух о чем разлетелся по всей Новой Англии. Всего собралось четыре тысячи человек, и все они были готовы сражаться[485]. С тех пор Гейдж с испугом наблюдал за все возрастающей численностью массачусетского ополчения. Каждое постановление провинциального конгресса имело угрожающий характер, все средства направлялись на закупку оружия и боеприпасов. Когда конгресс прекратил работу, он оставил после себя комитет безопасности, имеющий право созывать ополчение всякий раз, когда Гейдж пошлет за пределы Бостона не меньше 500 солдат[486]. Впрочем, не все, что предпринимал Гейдж, терпело неудачу. Так, в сентябре он принялся укреплять перешеек Бостон-Нек, ведущий к городу, и нашел людей (как в самом городе, так и за его пределами), которые выполняли работы и продавали ему строительные материалы. Естественно, неприязненно настроенные к нему жители, включая ремесленников и мастеровых, лишенных работы согласно Бостонскому портовому акту, саботировали строительство всеми способами, разбивая кирпичи и поджигая солому, однако укрепления постепенно росли. Вскоре на перешеек выставили орудия, а Гейдж открыл для себя, что информация, подобно рабочим рукам и строительным материалам, тоже имеет свою цену. Зимой он нанял нескольких информаторов (точное число их неизвестно), включая доктора Бенджамина Черча, вхожего во влиятельные круги Массачусетского конгресса. Вполне возможно, что Черч и его коллеги делились информацией по доброй воле, хотя есть свидетельства, что некоторые ожидали (и получали) за это вознаграждение. То, что они рассказывали, не переубеждало Гейджа относительно перспектив британцев в Америке[487]. В конце января 1775 года он, чувствуя себя все более неуютно в Бостоне, начал выставлять патрули на дорогах, ведущих на материк. Один такой патруль, состоявший из капитана Брауна, младшего лейтенанта де Берньера и одного рядового, получил задание прощупать настроения населения округов Саффолк и Вустер, а также составить карты дорог. Однако им так и не удалось добраться до Вустера. Наблюдательный хозяин таверны распознал в них военных, хотя все трое были одеты в гражданское, и сообщил об их присутствии. Вскоре им настоятельно предложили вернуться в Бостон, и еще повезло, что обошлось без физического воздействия. Этот и некоторые другие эпизоды вновь напомнили Гейджу, что значит быть командующим небольшого гарнизона во враждебной стране, где за ним шпионили, саботировали его приказы и следили за каждым перемещением его солдат. Одним из тех, кто следил за британским гарнизоном и сообщал о своих наблюдениях, был Пол Ревир. Он возглавлял неофициальную группу безработных ремесленников, отслеживающих каждый шаг британских солдат в городе. Когда те вели себя необычно, Ревир сообщал об этом Джозефу Уоррену, передававшему новости в комитет безопасности Конкорда[488]. Вполне возможно, что Гейдж вынашивал планы ареста лидеров провинциального конгресса или, что более вероятно, готовился к захвату снаряжения в Конкорде и Вустере. Что бы он ни задумал, он заранее раскрыл карты, выслав по этим направлениям патрули, а также выдвинув более крупные отряды из Бостона, что не могло не насторожить внимательных наблюдателей в самом городе и вне его. Этой мрачной и холодной зимой Гейдж больше всего нуждался в инструкциях, как ему поступать, но ему лишь было приказано перехватить контрабандный груз оружия, поступивший в колонии из Европы — он был бы рад выполнить эту задачу, будь у него достаточно ресурсов. Инструкции были присланы 14 апреля 1775 года: длинное письмо от Дартмута содержало резюме кабинета министров по американскому вопросу, и хотя некоторые его положения были достаточно туманны, содержание письма и его обвинительный тон указывали на необходимость действовать. В каждой строчке письма сквозило недовольство действиями Гейджа осенью: так, например, тот не должен был позволять ополченцам проводить учения в Фанел-холле. Просьба Гейджа о двадцатитысячном контингенте не могла быть удовлетворена, да в нем и не было необходимости, так как насилие в Массачусетсе было делом рук «грубой черни» (с этой характеристикой Гейдж никак не мог согласиться), действовавшей без «плана», «согласованности» и «руководства». Как бы то ни было, если, по словам Гейджа, имеет место «открытое восстание» или же колонисты находятся на пороге этого и готовы «любыми способами начать явный мятеж», тогда «на силу должна найтись сила». Говоря об использовании силы, Дартмут не имел в виду немедленное нападение на ополченцев, где бы те ни находились. Вместо этого, говорилось в письме, король и правительство считают наиболее верным арестовать лидеров провинциального конгресса. Передвигайтесь без предупреждения, советовал Дартмут, и добавлял (что после увещеваний о секретности звучало не очень последовательно), что неподготовленные и неорганизованные люди «не могут являть собой грозную силу». Гейдж уже давно считал, что такие действия без промедления начнут войну, на что Дартмут отвечал: «Гораздо лучше, если конфликт начнется сейчас, чем когда мятеж затронет большее число жителей»[489]. Такие советы от министра по делам колоний, уполномоченного королем, конечно же, не могли не быть приняты во внимание. Сознавая это, Дартмут наделил Гейджа полномочиями действовать по собственному усмотрению, если обстоятельства будут предполагать это. Но действовать Гейдж был просто обязан — Дартмут сделал его ответственным за неизбежное. К тому времени Гейдж уже готов был действовать, несмотря на малочисленность своего гарнизона. На следующий день после получения письма Дартмута он начал подготовку, но не к аресту лидеров конгресса, большинство из которых были для него недоступны, а к захвату оружия и боеприпасов, сосредоточенных в Конкорде и Вустере. Снаряжая экспедиционный корпус для действий в сельской местности, Гейдж совершил свою первую ошибку. Он возложил эту задачу на гренадеров и отряды легкой пехоты, открепленные для этой цели от своих полков. Это были элитные части: гренадеры были высокими и физически сильными, легкие пехотинцы — мобильными, привычными к быстрым переходам и неожиданному нападению. В этом плане решение Гейджа казалось логичным, даже мудрым. Слабость такого отряда состояла не в боевых качествах солдат, а в их разнородности. Ни один офицер не знал всех своих подчиненных, сами они также не знали друг друга, и непонятно было, чего им ждать друг от друга в гуще битвы, когда коммуникации между подразделениями затруднены[490]. Командующим этого сборного корпуса стал полковник 10-го полка Фрэнсис Смит. Легкую пехоту Гейдж поручил майору Джону Питкэрну, способному офицеру, имевшему лишь один недостаток: он был моряком, совершенно незнакомым с принципами ведения боя на суше. Питкэрн и четыреста его легких пехотинцев должны были идти в авангарде, самом важном подразделении в маршевой колонне, а за ними следовало такое же число гренадеров. Кратчайшая дорога в Конкорд из Бостона лежала через залив Бэк-Бэй. Лодки для перевозки солдат были вытащены из воды и отремонтированы, после чего 16 апреля их отвели на веслах к военному кораблю, стоявшему на якоре в реке Чарльз, и пришвартовали до лучших времен. Джозеф Уоррен узнал об этих приготовлениях едва ли не немедленно — скрыть ремонт шлюпок и их сбор в гавани было невозможно. Утром 16 апреля Уоррен послал Пола Ревира в Лексингтон предупредить укрывшихся там Джона Хэнкока и Сэмюэля Адамса о надвигающихся событиях. Ревир вернулся той же ночью, остановившись по пути в Чарлстауне, чтобы подать сигнал в том случае, если британцы выступят ночью: один фонарь на башне церкви Норт-Черч, если войска пойдут по суше, и два — если переправятся через залив на лодках[491]. Британцы закончили свои приготовления 18 апреля, и в этот день Гейдж выставил офицерские патрули, чтобы перехватить любого всадника, едущего из Бостона. Такая казавшаяся благоразумной мера была бесполезной и даже глупой, так как сами эти патрули были хорошо видны. Нервы американцев были натянуты до предела все последние месяцы и сейчас готовы были лопнуть. Планы Гейджа недолго оставались в секрете, так как один сержант слишком громко заявил: «Завтра мы зададим им жару». Слухи в это время распространялись быстро: прогуливаясь по Бостону ранним вечером, один из офицеров Гейджа слышал, как некий горожанин говорил другому: «Британцы выступили, но им не видать того, что они ищут, как своих ушей» — и на вопрос, чего же именно, ответил: «Орудий в Конкорде»[492]. Тем не менее Гейдж пытался сохранить свои маневры в тайне. Около 10 вечера 18 апреля солдаты экспедиционного корпуса тихо встали с постелей — сержанты в этот раз будили их не зычными командами, а трясли за плечи. Чуть позже отряд построился, расселся по вытащенным на берег лодкам, которые доставили солдат в Лечмир-Пойнт в Восточном Кембридже. Берег обмелел, и лодки не смогли пристать к берегу: людям пришлось идти к нему по колено в воде. На ближайшей дороге отряд остановился на привал и сделал то, что войска обычно предпринимают в таких ситуациях: тягостно ждут бог весть чего. Задержка была вызвана необходимостью доставить и распределить провизию. Когда это было наконец сделано, войска продолжили движение. Было два часа ночи[493]. Почти тут же солдаты вымокли вторично, так как, свернув с дороги около Лечмир-Пойнт, они по приказу полковника Смита вынуждены были форсировать вброд реку Уиллис-Крик. Судя по всему, Смит боялся того, что сапоги солдат, стуча по мосту, разбудят американцев. Тишина, вероятно, была относительной, так как во время марша через Сомервилл, Кембридж и позже, около трех утра, Менотоми, отряд разбудил жителей и тревога распространилась мгновенно. Тут и там зажигались огни, сигнализировавшие о приближении англичан. Около 4:30 утра, как раз перед восходом солнца, войска приблизились к Лексингтону. Там их уже ждали: Джозеф Уоррен послал весть о вторжении неприятеля вглубь материка практически в ту же минуту, как англичане выстроились на плацу. Взвесив, как и было условлено, два фонаря, Пол Ревир сам отправился на лодке в Чарлстаун, откуда уже на лошади поскакал во весь опор в Конкорд. Другой курьер, Уильям Доус, поехал с той же целью через перешеек. В Конкорд вели две дороги: одна, более короткая, шла из Чарлстауна в Медфорд и в Менотоми (ныне Арлингтон) через Лексингтон. Вторая огибала перешеек около Роксбери и вела в Кембридж, а затем в Менотоми, где соединялась с первой. Ревир попытался срезать путь около Медфорда, но едва не попал в руки британского патруля. Он спасся тем, что пустил лошадь в бешеный галоп, и к полуночи добрался до Лексингтона. По дороге он поднял ополченцев в Медфорде и Менотоми и вообще будил криками всех, кого мог, скача из Менотоми в Лексингтон. В Лексингтоне он поднял с постелей Адамса и Хэнкока и остановился подождать Доуса, прибывшего полчаса спустя. Уже вместе они отправились в Конкорд в сопровождении доктора Сэмюэля Прескотта, догнавшего их на выезде из Лексингтона, где у него было свидание. Ревир так и не добрался до Конкорда. Второй патруль англичан преградил им дорогу на полпути; Ревир был спешен, но в конце концов отпущен и пешком дошел обратно до Лексингтона. Его товарищи проследовали в Конкорд, продолжая предупреждать всех по дороге. Рота лексингтонских ополченцев под командованием капитана Джона Паркера собралась на общинном выгоне Лексингтон-Грин вскоре после того, как через город проехал Ревир. Там они прождали больше часа, не совсем понимая, зачем они вышли. Как впоследствии объяснил капитан Паркер, он собрал ополченцев для того, чтобы они сами решили, что им делать. После часового стояния на холоде в полной темноте они приняли решение разойтись и ждать развития событий. Всего ополченцев было сто тридцать, и те из них, кто жил недалеко от Лексингтон-Грин, вернулись домой, а остальные направились в таверну Бакмена, чтобы согреться. Паркер приказал им оставаться в полной готовности и ждать сигнала полкового барабана. Барабанная дробь раздалась в 4:30 утра, когда один из курьеров капитана Паркера, Таддеус Боумен, прискакал на взмыленной лошади и сообщил, что англичане уже близко. Паркер тут же принялся строить своих людей в боевой порядок; началась неразбериха, так как некоторые не слышали звук барабана или не обратили на него внимания, а другие, оставшиеся без боеприпасов, побежали к молитвенному дому, где боеприпасы хранились. Через несколько минут Паркеру, тем не менее, удалось выстроить две колонны из семидесяти с небольшим человек, выдвинувшихся по дороге в Конкорд, проходившей вдоль Лексингтон-Грин[494]. Скоро показалась легкая пехота Питкэрна, колонна из шести рот, одетых в форменные красные мундиры и белые панталоны; штыки англичан сверкали в лучах восходящего солнца. Завидев ополченцев, Питкэрн приказал отряду принять боевое построение: три линии, разделенные на две группы. Перегруппировка проходила под крики «ура!» со стороны арьергарда, с энтузиазмом вливавшегося в разворачивающиеся шеренги. Неудивительно, что по меньшей мере один ополченец, обескураженный численностью регулярных войск, а также их решимостью и ободряющими криками, предложил американцам покинуть Лексингтон-Грин. «Нас так мало, — утверждал он, — что оставаться здесь просто безрассудно!» Паркер оставил малодушие без внимания, ответив лишь, что «каждый, кто предложит бежать с поля боя, получит пулю в лоб». Однако почти сразу изменил свое мнение, так как Питкэрн и несколько его офицеров проскакали в какой-то сотне футов от ополченцев с криками: «Бросайте оружие на землю, чертовы мятежники, и проваливайте отсюда!» Паркер отдал приказ отходить, и его люди начали понемногу покидать Лексингтон-Грин, унося, впрочем, ружья с собой. Такие действия не устроили Питкэрна, который вновь прокричал американцам: «Черт бы вас побрал, почему вы не бросаете свое оружие?» Этот возглас подхватил и другой офицер: «Будь они прокляты, их надо уничтожить!»[495] То, что произошло потом, толком неизвестно, и картину эту вряд ли удастся воссоздать. Кто-то выстрелил: свидетели со стороны американцев обвиняли британского офицера, англичане, наоборот, отрицали, что солдаты стреляли первыми. Судя по всему, именно после этого один из английских офицеров отдал команду: «Стреляйте же, ради бога! Стреляйте!», — и один из отрядов открыл огонь. Питкэрн пытался остановить пальбу, но, прежде чем его расслышали, по ополченцам дали второй залп. Ответный огонь был слабым и беспорядочным, и британцы успели перезарядить ружья. Буквально за две минуты все было кончено: восемь ополченцев было убито, десять ранено, у англичан пострадал один рядовой, получивший легкое ранение в ногу. Среди раненых был и скончавшийся вскоре пожилой ополченец Джонас Паркер, проявивший твердость, не отступивший с Лексингтон-Грин и заряжавший свое ружье, — его сразил второй залп англичан[496]. Спустя несколько минут Питкэрн и его офицеры снова построили солдат в колонну, после чего подошли и гренадеры во главе с полковником Смитом, также дали залп, прокричали «ура!» и продолжили путь на Конкорд. На этот раз они уже не пытались держать в тайне свои передвижения, понимая, что скрытность операции нарушена, поэтому они торжественно выступали под звуки флейты и барабана. По мере приближения к Конкорду они видели вспыхивавшие то тут, то там сигнальные огни, созывавшие ополченцев за много миль от города. Курьеры сновали без передышки, и к закату дня к Лексингтону и Конкорду подтянулись ополченцы даже из Вустера, не говоря уже о более близких населенных пунктах. Задолго до этого, примерно в час ночи, Прескотт, избежав, как и Уильям Доус, ареста, известил Конкорд о наступлении врага. Под звон колокола три небольших отряда конкордских ополченцев собрались в городке. Они состояли из так называемых «минитменов», то есть людей, готовых действовать без промедления; четвертый отряд из пожилых людей и юношей, возглавляемый Джорджем Мино, присоединился к ним в городском парке. На рассвете в Конкорд также начали стекаться ополченцы из окрестных деревень: некоторые приходили организованными отрядами, другие поодиночке[497]. Колонна полковника Смита подошла к Конкорду около 7 утра. Главной целью англичан был дом полковника Джеймса Барретта, где, по слухам, и находилась большая часть оружия, предназначенного для ополченцев. Чтобы попасть к нему, нужно было миновать жилой квартал из 20–30 зданий, молитвенный дом и две-три таверны. Дорога вела через пригорок высотой примерно 60 футов, а затем резко поворачивала направо, где виднелся второй пригорок. Потом дорога спускалась влево и выходила к мосту Норт-бридж, перекинутому через реку Конкорд, и далее прямо к дому полковника Барретта. Господствующей над Норт-бриджем высотой в 200 футов был холм Панкатассет. Колонна английских солдат не встречала сопротивления в течение нескольких часов, хотя один из отрядов ополченцев выдвинулся ей навстречу, когда она приблизилась к центру города. Ополченцы просто дали понять, что они рядом, и отошли, не сделав ни единого выстрела. Также повели себя и их товарищи на первом пригорке, несмотря на то что Смит послал туда свою легкую пехоту. Вместо этого американцы, сильно уступавшие англичанам в численности, отошли ко второму пригорку, увеличив, таким образом, ряды тамошнего отряда. Пехота Смита вскоре заняла и эту высоту, а ополченцы отошли к холму Панкатассет. Послав три роты легких пехотинцев к дому Барретта и оставив еще три на самом мосту, Смит приказал гренадерам обыскивать жилые дома, таверны и другие здания. Добыча оказалась не так уж велика: немного пороху, 500 фунтов ружейных пуль, шанцевый инструмент и несколько деревянных ложек, но сам обыск обернулся катастрофой — в ходе его загорелась кузница и здание суда, и был ли это поджог или случайность, неизвестно до сих пор. Запах дыма взбудоражил ополченцев на холме Панкатассет, где к тому времени их собралось уже около четырехсот за счет организованных подкреплений из Эктона, Бедфорда, Линкольна, Уэстфорда и отдельных добровольцев-фермеров. Адъютант Барретта Джозеф Хосмер спросил у них: «Неужели вы позволите им сжечь город?» В ответ ополченцы выразили решимость «наступать к центру города, чтобы защитить его, отдав за это, если понадобится, свои жизни». Не откладывая дело в долгий ящик, они спустились с холма к Норт-бриджу, расположенному примерно в полумиле от основных строений города. Там они столкнулись с тремя ротами легких пехотинцев, которые, к счастью для ополченцев, были расположены весьма неудачно, одна за другой, что препятствовало ведению огня. Стрелять могла только первая рота, что она и сделала. Первые несколько выстрелов были сделаны выше строя, что вызвало изумленный возглас одного из командиров ополчения: «Боже мой, они стреляют!» Следующий залп пришелся уже по людям — два ополченца погибли, один был ранен. Ответный огонь американцев, находившихся в более выгодном положении, был эффективнее — три солдата были убиты, а еще девять, включая офицеров, ранены[498]. Англичане смешались под огнем ополченцев и отступили, оставив на поле боя погибших и одного раненого. Американцы показали себя несколько более дисциплинированными, но вскоре и они разбрелись и подошли к городу разрозненными группками. Воспользовавшись суматохой, три роты британцев, подошедших к дому Барретта, тут же вернулись назад и присоединились к отряду. Было около 11 утра, а к полудню полковник Смит началотступление к Бостону, везя раненых в двух почтовых каретах. Отряд прошел примерно милю, не встречая сопротивления, но около дома Мериамс-Корнер он вклинился в позиции ополченцев, и началась настоящая битва. Поле сражения представляло собой узкую лощину всего 300–400 ярдов в ширину. Американцы обстреливали врагов в упор или из-за деревьев, камней, зданий и оград. Британцы отвечали прямо из колонны, иногда им удавалось нанести нападавшим существенный ущерб, особенно когда легкие пехотинцы прижали ополченцев к обочине дороги. Хотя перевес в численности был на стороне ополченцев, которые к тому же были укрыты и знали местность, они не воспользовались выгодами своего положения, так как потеряли общее управление и начали сражаться каждый сам по себе. Британский отряд, впрочем, тоже вскоре потерял сплоченность из-за непрерывного огня с флангов и к моменту вхождения в Лексингтон представлял собой дезорганизованную толпу. На Лексингтон-Грине Смит попытался выстроить боевой порядок[499]. К счастью для него, к половине третьего на выручку прибыл бригадный генерал Перси с отрядом примерно в тысячу человек. Измотанные солдаты Смита отдыхали около часа, пока артиллерия Перси обстреливала ополченцев. Час прошел, и возросший отряд «красных мундиров» продолжил свое движение, не встречая противника вплоть до Менотоми, где свежие силы ополченцев, прибывшие из окрестностей, соединились со своими товарищами из Конкорда, преследовавшими англичан, и вступили в битву. Здесь бой принял особо жестокий характер, так как противники вступили в рукопашную: английские штыки против американских тесаков и дубинок. Британское командование, разделявшее злобу, испытываемую своими подчиненными, не препятствовало мародерству. Англичане нападали на мирных жителей, разрушая и сжигая их дома, а уж грабеж воспринимался как само собой разумеющееся. Близ Кембриджа Перси наконец оторвался от своих преследователей и направил свой потрепанный отряд к Чарлстауну — англичане достигли безопасного места как раз перед заходом солнца. Позади остались дезертиры, раненые, убитые и пропавшие без вести, а главное — ополченцы, число которых только увеличивалось. Британцы потеряли 273 человека, а американцы всего 95[500]. В определенном отношении это столкновение было нетипичным для сражений Войны за независимость: никогда больше длина «фронта» не составляла шестнадцати миль. При всех особенностях сражения оно обозначило основную проблему, с которой пришлось столкнуться британцам: как победить, имея против себя не армию противника, а восставшее население. Разумеется, было много сходства с другими войнами того же столетия, со столкновениями регулярных армий, использовавших хорошо известную тактику, но в Войне за независимость были и элементы партизанской войны с вовлечением гражданского населения и пренебрежением к обычным методам ведения боя. Война эта так и не превратилась в гражданскую, с восстанием широких народных масс против захватчика, но были моменты, когда это казалось неизбежным. И во всяком случае, противодействие народа Америки, его решимость и моральная сила играли гораздо более значительную роль в этой борьбе, нежели в любой другой войне XVIII века до Французской революции.13. «Половинчатая война»
I
Первое сообщение о битве при Лексингтоне достигло Уотертауна около десяти утра и вскоре распространилось по другим городам Массачусетса и Коннектикута. В нем содержались скупые факты: британцы атаковали ополченцев, шесть человек были убиты, четыре ранены; регулярные части отошли к Бостону. Автором этой депеши был полковник Джозеф Палмер, вручивший Израэлю Бисселу письмо, в котором сообщалось, чтобы Биссела беспрекословно снабжали свежими лошадьми по его первому требованию. Биссел служил почтовым курьером, обычно курсировавшим между Бостоном и Нью-Йорком, и следующие пять дней он скакал, загоняя лошадей, чтобы добраться до Филадельфии. Пока он был в пути, в разные стороны отправились и другие курьеры; у некоторых из них были до странности неточные отчеты о произошедшем в бою между Бостоном и Конкордом: наиболее диковинный отчет повествовал о захвате британского экспедиционного корпуса двадцатью тысячами американцев в районе Уинтер-Хилла. Также в этом отчете говорилось, что был убит граф Перси, возглавлявший отряд, шедший на выручку людям Смита. В тот момент совсем не собиравшийся умирать Перси был превозносим своими сослуживцами и сторонниками британцев за свой «героизм» 19 апреля[501]. Такие ошибки в сообщениях, посланных с поля боя, не могли умалить значение первого сражения, свидетельствовавшего о том, что началась война; и остальные колонии необходимо было известить об этом как можно скорее. Одно из писем содержало в себе наказ срочно передать его тем, кто живет к югу от Филадельфии:Вечер среды, Кристин-Бридж, двенадцать часов, передал письмо полковнику Томасу Каучу, эсквайру, который в свою очередь должен по прочтении передать его Тобиасу Рэндольфу, эсквайру, главе округа Элк в Мэриленде. Письмо должно передаваться из рук в руки ночью и днем. Дамфрис, 30 апреля, воскресенье. Джентльмены, письмо прибыло ко мне утром, около 10 часов. Через час я нанял курьера, доставившего его вам.По мере того как письмо передавалось из рук в руки, срочность только возрастала: «Ради всего святого, пошлите кого-нибудь передать письмо без промедления и припишите, чтобы мистер Мэрион передал его дальше в любое время суток!», «Умоляю вас, не медлите ни мгновения при передаче письма!», «Прошу вас, ради блага нашей страны, самой нашей жизни, свободы и процветания, не теряйте времени!»[502] Событие было поистине исключительным, и реакцию оно вызвало невероятную. Ополчение из других колоний Новой Англии стягивалось к Бостону; в течение нескольких дней тысячи людей столпились на холмах, окружавших город, отрезав, таким образом, Бостон от материка. К югу от провинции начался набор в ополчение, свозились оружие и обмундирование, все ждали новостей из Массачусетса. Вне всякого сомнения, вспыхнувшая война ввергла одних сторонников короля в отчаяние, других же только укрепила в их решимости поддерживать власть метрополии. Впрочем, в течение нескольких недель после Лексингтона и Конкорда лоялисты не осмеливались открыто выражать свои взгляды. Восставшие же не стеснялись в выражениях — они чувствовали себя преданными, обманутыми королевской армией, а кроме того, явственно увидели заговор против своих свобод. Обуреваемые такими настроениями американцы жаждали действий и хотели нанести ответный удар. Томас Джефферсон замечал в одном из своих писем: «Кажется, что последние надежды людей на мирное решение конфликта были в одночасье уничтожены». «Жажда мести, — писал Джефферсон о земляках-виргинцах, — охватила все без исключения слои населения»[503].
II
В начале мая американские ополченцы осадили форт Тайкондерога на юго-западном берегу озера Шамплейн, причем жажда мести здесь сочеталась со стратегической прозорливостью. Форт контролировал проход в Шамплейн со стороны озера Джордж. На этом месте французы в 1755 году построили форт Карийон, массивное сооружение, которое маркиз де Монкальм сумел удержать против многократно превосходивших сил Джеймса Аберкромби в 1758 году. Год спустя, однако, Джеффри Амхерст с еще более многочисленной армией сумел взять Карийон. Англичане восстановили стены форта, пострадавшие при осаде, и дали ему имя Тайкондерога[504]. В 1775 году стены, бастионы и бойницы если еще и не были в руинах, то изрядно обветшали и нуждались в восстановлении. Гарнизон смотрелся вполне соответствующим его состоянию: два офицера, 48 солдат, а также женщины и дети. Защищать форт они были не способны. Но жителей Новой Англии и Нью-Йорка тревожил сам факт наличия этого форта, а кроме того, те из них, кто знал это место, рассчитывали заполучить тяжелые пушки и мортиры, установленные в форте еще во времена Семилетней войны. Тревога к тому же росла из-за слухов, что Гай Карлтон, командующий британскими войсками в Квебеке, готовит отряд из французов, индейцев и регулярных войск, чтобы выступить от реки Святого Лаврентия, подняться к озерам Шамплейн и Джордж и, пройдя через долину реки Гудзон, разрезать территорию колоний надвое. Среди американских ополченцев, осадивших англичан в Тайкондероге, выделялись двое — Итан Аллен и Бенедикт Арнольд. Родившийся в Литчфилде (Коннектикут) Аллен (в прошлом рабочий свинцового рудника и фермер) переселился на нью-гемпширские земельные участки (ныне штат Вермонт), бывшие тогда предметом территориального спора между Нью-Гэмпширом и Нью-Йорком. Между бандой Аллена «Парни с зеленых гор» и нью-йоркскими поселенцами то и дело вспыхивали вооруженные столкновения, поэтому за голову Аллена в Нью-Йорке назначили круглую сумму. Полковник Аллен, как называли его подручные, не был, несмотря на свою внушительную физическую силу и габариты, а также любовь к крепким выражениям и склонность к агрессии, неотесанной деревенщиной. Он много читал и даже написал, в частности, проникнутый духом деизма трактат под названием «Разум как единственный оракул для человека»[505]. Бенедикт Арнольд уступал Аллену в физической силе, но превосходил его интеллектом и честолюбием. В 1775 году ему было 34 года, он был ладно сложен, обладал располагающей внешностью и был полон обаяния. Арнольд происходил из состоятельной семьи в Род-Айленде и сам был преуспевающим торговцем в Нью-Хейвене (Коннектикут). Вскоре после битвы при Лексингтоне небольшая группа торговцев и землевладельцев из долины Коннектикута представила Аллену план по захвату Тайкондероги. Аллен чрезвычайно обрадовался этому, и в начале мая возглавил отряд, состоявший из старых добрых «Парней с гор» и горстки ополченцев, нанятых его сподвижниками из Коннектикута, и подошел к местечку Хэндс-Коув, в двух милях от Тайкондероги. Тем временем Арнольд назначил себя начальником форта и убедил комитет безопасности Массачусетса профинансировать свое предприятие. Отсутствие у него войск не остановило Арнольда — 10 мая он прибыл в Хэндс-Коув, где увидел Аллена и две сотни его сторонников. Арнольд потребовал передать командование ему, на что Аллен ответил отказом. Перебранка между ними, однако, не помешала им взять на борт нескольких лодок максимально возможное число людей и приготовиться к атаке форта на рассвете следующего дня. Последующие события превратились в настоящий фарс, окончившийся, тем не менее, победой нападавших. Гарнизон в буквальном смысле был застигнут врасплох в своих постелях — кульминацией фарса стало обращение Аллена к лейтенанту Джоселину Фелтхэму, которое тот, сонный, с панталонами в руках, выслушивал на пороге собственной спальни. «Выползай из норы, чертова старая крыса!» (согласно некоторым источникам, Аллен употребил слово «скунс» либо «ублюдок»), а когда Фелтхэм спросил его, от лица какой власти он ведет себя подобным образом, Аллен воскликнул: «От лица великого Иеговы и Континентального конгресса», — очевидно, в его системе деизма это были равноценные силы[506]. Форт Краун-Пойнт пал два дня спустя — его гарнизон насчитывал всего десяток человек; в обеих этих акциях никто серьезно не пострадал. Через несколько дней Арнольд взял Сент-Джонс, укрепление на Ришелье-Ривер, и тут же оставил его. Аллен же считал, что Сент-Джонс нужно удерживать, поэтому занял его заново, однако вскоре был выбит оттуда «красными мундирами», подошедшими с реки. К концу мая власти Коннектикута приняли решение удерживать Тайкондерогу и Краун-Пойнт, не оставляя, однако, командование ни за Алленом, ни за Арнольдом. Власти Нью-Йорка, на чьей территории находилась Тайкондерога, смотрели на это с тревогой. Впрочем, основной ценностью форта признали не его местоположение или укрепления, а тяжелую артиллерию.III
Взятие Тайкондероги произошло 10 мая, и в этот же день в Филадельфии собрался второй Континентальный конгресс. Его члены встретились в той же атмосфере эйфории, что сопровождала роспуск первого конгресса. На место события членов конгресса сопровождали военные эскорты, а по дороге население приветствовало их и оказывало всяческие почести (или так казалось стороннему наблюдателю). Джон Адамс пожаловался было на «лишенный необходимости парад, устроенный в нашу честь», но на деле и он наслаждался каждой его минутой, несмотря даже на то, что его лошадь понесла и экипаж развалился на части[507]. Большинство членов первого конгресса сохранили свои места, хотя появились и новые заметные делегаты: Бенджамин Франклин и Джеймс Уилсон от Пенсильвании, Джон Хэнкок от Массачусетса, а в конце июня прибыл и Томас Джефферсон, заменивший вернувшегося домой Пейтона Рэндольфа. Самые большие изменения претерпела делегация от Нью-Йорка, куда были включены еще пять человек, среди которых Джордж Клинтон, Роберт Ливингстон и Филип Скай-лер. Не прислала своих представителей только Джорджия, хотя округ Сент-Джон и отправил в Филадельфию Лаймана Холла. Конгресс собрался на фоне невиданного энтузиазма населения колоний и желания начать войну. Во всех колониях формировалось ополчение, закупалось оружие, а в Новой Англии уже пролилась кровь. Делегаты не могли оставаться в стороне от происходящего, да и не хотели этого — многие из них возглавляли отряды ополченцев в своих колониях. В качестве напоминания конгрессу о природе бедствий в колониях Джордж Вашингтон всегда приходил на заседания в военной форме. Тем самым он, безусловно, напоминал конгрессу и о своем военном опыте, так что вскоре конгрессмены стали обращаться к нему за советами в военных делах. Джон Адамс со всем присущим ему воинственным пылом никогда не имел никакого отношения к армии, но жаждал к ней присоединиться: «О, если бы я был солдатом! И я буду им, я читаю книги по военному делу! Каждый из нас должен стать солдатом, и будет им!»[508] Если не каждый член конгресса и желал стать солдатом, то, во всяком случае, все они соглашались с тем, что армия нужна и после событий на дороге к Конкорду применение силы необходимо. Вместе с тем существовали разногласия в отношении целей войны: должна ли она закончиться примирением сторон или полной независимостью колоний? Возможно, наиболее заметной личностью из числа сторонников примирения был Джон Дикинсон, известный благодаря своему памфлету «Письма пенсильванского фермера». Подобно многим своим сторонникам, Дикинсон выступал за мир, если его условием станут гарантии неприкосновенности конституционных прав. Впрочем, он смотрел на будущее своего проекта без энтузиазма, скорее, напротив, суждения его были пессимистичны. В частности, у него не было твердой уверенности, кого с кем примирять: британцы, как ни посмотреть, начали войну «с избиения безоружных американцев». И далее он продолжал: «Какие резоны для предложения мира остались у меня и тех, кто думает, как я, чтобы предложить их моим соотечественникам? Что, проповедовать подчинение монарху или верность прародине? Нет, пока мы подчиняемся своей прародине и любим ее, она режет нас на куски»[509]. Естественно, в этих словах чувствуется горечь, но едва ли она была сильнее, чем отвращение, которое Дикинсон питал к идее независимости. Отвращение это, несомненно, имело скрытые и, видимо, иррациональные истоки. Также оно росло из-за страха за новую нацию, изолированную и потому уязвимую. При наличии затаившихся Франции и Испании, всегда готовых ударить по Британии и лишить ее колониальных владений, независимость колоний могла стать важным фактором в опасном окружающем мире. Эти соображения, впрочем, не обсуждались открыто в ходе заседаний конгресса, так как та часть конгрессменов, что стремилась к полному разрыву с метрополией, не скрывала, что независимость колоний является их конечной целью. Не скрывали они и своего скепсиса в отношении шансов на примирение сторон. Закулисными лидерами этой группы являлись оба Адамса и оба Ли, но они были вынуждены вести себя осмотрительно. Еще не угасли обвинения остальных колоний в неблаговидной роли Массачусетса, и фракция Адамса — Ли не могла не понимать, что для достижения необходимого единства конгресс не может двигаться быстрее, чем самые осторожные его члены. Джон Адамс уподобил конгресс кучеру и шестерке лошадей: «самых резвых лошадей в упряжке нужно придержать, а самым медленным дать хлыста, только тогда они пойдут ровным аллюром»[510]. В течение всей войны конгресс, однако, редко шел ровным аллюром, а уж в первое полугодие его деятельности обсуждение все разраставшихся текущих дел и вовсе шло рывками, как попало, то ускоряясь, то замедляясь. Как только конгресс собрался, его члены получили письма из Массачусетса, в которых рисовалась картина событий при Конкорде и Лексингтоне. После ознакомления с этими отчетами конгресс постановил опубликовать их. Вскоре пришло письмо от председателя конгресса провинции Массачусетс Джозефа Уоррена, где тот просил о «руководстве и помощи», а также рекомендовал создать «мощную армию» под началом Континентального конгресса. В письме содержались и вопросы, которые большинство членов конгресса желало обойти; особенно щекотливым был вопрос, собираются ли колонии самоорганизоваться в союз и продолжать борьбу совместно. Очевидно, что конгресс не был готов ответить на этот вопрос, поэтому запрос Уоррена был передан в комитет всей палаты, где, как надеялись депутаты, его удастся спустить на тормозах[511]. Однако вскоре события заставили конгресс повести себя тверже. Во-первых, нужно было ответить на запрос Нью-Йорка, что делать при вводе в колонию британских войск, который ожидался со дня на день. Конгресс высказался за то, чтобы жители Нью-Йорка «были начеку», покуда войска ведут себя «мирно и спокойно». Но как только англичане начнут возводить укрепления, захватывать собственность горожан или перерезать городские коммуникации, ньюйоркцы должны будут «ответить ударом на удар»[512]. Два дня спустя до Филадельфии дошли слухи о захвате Итаном Алленом и Бенедиктом Арнольдом форта Тайкондерога, и эту операцию никто не мог назвать оборонительной. Конгресс всерьез обеспокоился этим не только потому, что взятие Тайкондероги могло возбудить ярость британцев, но и потому, что оно подкидывало хворост в костер спора Нью-Йорка и Нью-Гэмпшира за земельные участки. Столь же неприятным был и неоспоримый факт, что ополчение Коннектикута и «Парни с зеленых гор» взяли форт, находившийся на территории Нью-Йорка, даже не побеспокоившись поставить в известность власти последнего. Члены конгресса предпочли игнорировать эти конфликты и лишь советовали перевезти орудия и военное снаряжение, захваченное в Тайкондероге, на южный берег озера Джордж, где все это должно было быть пересчитано, «для того чтобы вернуть имущество в целости и сохранности, после того как вновь наступит гармония в отношениях между Великобританией и колониями, гармония, которую колонии эти взыскуют со всем благоразумием, установленным верховенствующим законом самосохранения»[513]. Выспренность формулировки конгресса нельзя объяснить только тягой к «высокому стилю», так или иначе пронизывающему любые официальные документы. В данном случае на первый план вышло «благоразумие», порожденное внутренними разногласиями, которые признавали все стороны. Арнольд и Аллен, которых не заботили эти разногласия, протестовали против отвода своего отряда. Тогда Филадельфия изменила свое мнение и через несколько дней отправила воззвание к «угнетенному населению Канады», имея целью убедить тех присоединиться к борьбе за «общую свободу». Начиная с Франко-индейских войн американцы, по мнению конгресса, рассматривали канадцев как «родственных подданных империи», но после принятия Квебекского акта, превратившего канадцев в «рабов», американцы стали считать их «товарищами по несчастью». Чтобы продемонстрировать добрые намерения, 1 июня конгресс запретил всякое вторжение своих сил в Канаду. Правда, не прошло и месяца, как он аннулировал этот запрет и приказал генералу Филипу Скайлеру, недавно назначенному командующим северным фронтом, вторгнуться в Канаду и удерживать территорию[514]. Такое изменение политического вектора не сопровождалось провозглашением независимости — конгресс не решался на такой шаг еще в течение года, но, не высказываясь прямо о том, склоняется ли он к независимости или же ждет примирения, он начинал действовать как представительный орган суверенной нации. Решение одобрить вторжение в Канаду стало лишь одним свидетельством такой позиции. Еще месяц назад, отправляя петицию королю о возмещении Англией ущерба колониям и восстановлении мира и гармонии, конгресс побуждал колонии вооружаться. На следующий день, 27 мая, он сформировал бюджетный комитет, призванный обеспечить военные расходы. Неделю спустя состоялось голосование, результатом которого стал заем 6000 фунтов на покупку пороха. А 14 июня конгресс принял решение о формировании Континентальной армии на основе стрелковых рот из Пенсильвании, Виргинии и Мэриленда, которые должны были присоединиться к силам Новой Англии в районе Бостона. При этом Джордж Вашингтон был назначен главой комитета, призванного разработать программу обучения армии. Однако армия нуждалась в командующем, и уже на следующий день, 15 июня, Вашингтон стал командующим «всех континентальных сил, сформированных или формирующихся для защиты свобод американцев». В течение нескольких следующих дней конгресс приступил к организации армии, назначил основных помощников Вашингтона и одобрил содержание этой армии, выделив два миллиона долларов[515].IV
В то время как конгресс приступил к образованию Континентальной армии, два других соединения, англичане в Бостоне и ополченцы Новой Англии, сошлись вокруг города на холме Банкер-Хилл, где произошла кровопролитная, но не повлиявшая на положение вещей битва. Такой бойни не ожидала ни одна из сторон. В начале июня Гейдж решил занять Дорчестерские высоты, на которые до того никто не обращал внимания, хотя они господствовали над Бостоном и имели несомненное стратегическое значение. Вполне возможно, что Гейдж жаждал проявить какую-то агрессивность перед лицом своих новых коллег, генерал-майоров Уильяма Хау, Джона Бергойна и Генри Клинтона. Этот «триумвират чести» (по скромному определению Бергойном себя и своих товарищей) прибыл в конце мая этаким цербером и потребовал немедленных действий. Само присутствие генералов говорило о недовольстве министров поведением Гейджа, и он знал это. Чувствуя необходимость действий, 18 июня он приказал выступить к Дорчестеру. Комитету безопасности Массачусетса его намерения стали известны несколько дней спустя, и он приказал генералу Артемасу Уорду, командующему силами американцев близ Бостона, упредить врага и занять холм Банкер-Хилл на полуострове Чарлстаун, а также Дорчестерские высоты. Первой целью был Банкер-Хилл, который нужно было занять немедленно[516]. Генерал Уорд, в мирное время бывший фермером в Массачусетсе, имел опыт сражений во время Франко-индейской войны двадцать лет назад, но, разумеется, никогда не командовал армией, впрочем, как и любой другой колонист. Его неопытность вызывала естественную осторожность, граничившую с робостью. Уорд всеми силами не желал действовать активно, предпочитая готовиться, экономить ресурсы, окапываться — словом, все что угодно, лишь бы не совершать решительных операций. Но выбора у него практически не было: комитет безопасности требовал немедленного выступления армии, того же мнения придерживались и подчиненные Уорда в военном совете[517]. Двое из них уже проявили себя в достаточной мере, чтобы противопоставить себя командиру. Одним был бригадир из Коннектикута, 57-летний состоятельный фермер Израэль Патнэм, мужчина могучего телосложения, невысокий, коренастый, пышущий энергией. Однако ему недоставало вдумчивости и умения мыслить стратегически, что так ценится в командире, имеющем дело с войском, которое очень сложно контролировать. Патнэм — Старый Пат, — как назвала его легенда, — был самой настоящей силой, человеком, выжившим в ирокезском плену и после кораблекрушения у берегов Кубы, когда его отряд пытался захватить Гавану. Патнэм знал, что такое наступление, и был опытным солдатом, но понятий стратегии, тактики, плана сражения, который позволил бы наилучшим образом использовать силы и средства, были для него такой же загадкой, как и концепция «Нового Божества». Ему было мало равных на посту командира полка, идущего в атаку, поэтому неудивительно, что он выступал за бросок на полуостров Чарлстаун. Его поддерживал 49-летний полковник Уильям Прескотт, выходец из богатой и уважаемой семьи, командир Массачусетского полка. Прескотт редко действовал необдуманно; ему удавалось заставить собравшихся слушать себя и поступать в соответствии с его планами. Его мнение должно было серьезно повлиять на Уорда. На военном совете были и другие сторонники этого плана действий, например генерал Сет Помрой из Коннектикута: ему было почти 70 лет, он помнил еще осаду Луисбурга в 1745 году, а кроме того, отличался такой прямотой мыслей и поведения, что был, по сути, неподвластен вирусу безумия, порой охватывающего человека, когда ему необходимо выбирать между битвой и пассивными действиями. Джозеф Уоррен, в недалеком прошлом делегат провинциального конгресса, ожидавший производства в генерал-майоры, также выступал за решительные действия, хотя как раз он, возможно, в душе и разделял взгляды Уорда. Итак, желал он этого или нет, Уорд поставил Прескотта во главе отряда в тысячу человек, приказав укрепить Банкер-Хилл — самый высокий из трех холмов полуострова Чарлстаун. Полуостров представлял собой своего рода треугольник, основанием своим обращенный к Бостону, лежавшему в полумиле от него на другом берегу реки Чарльз. Вершина треугольника, примерно в миле к северо-западу, соединялась с материком перешейком, чья ширина не превышала нескольких сот футов; во время высоких приливов перешеек скрывался под водой. На северо-востоке полуостров был отделен от материка рекой Мистик-Ривер, а на противоположной стороне — бухтой, куда впадала река Чарльз. В ширину полуостров не превышал полумили. Чарлстаун, в мирное время бывший небольшим селением, но сейчас почти заброшенный, располагался в югозападном углу полуострова. Банкер-Хилл находился в 300 ярдах от начала перешейка, его высота была 110 футов. В 600 ярдах от него находился Бридс-Хилл (75 футов), с крутыми восточными и западными склонами, а на юго-востоке — Мултон-Хилл (всего 35 футов), близ которого сливались реки Чарльз и Мистик. На участке земли между Бридсом и Мултоном располагались огороженные пастбища, печи для обжига кирпича, резервуары для глины, а также было небольшое болотце. Отряд Прескотта (тысяча с небольшим человек) собрался в Кембридже ранним вечером 16 июня. Он состоял из трех массачусетских полков (включая его собственный), роты артиллерии из этой же колонии в количестве 49 человек и двух полевых орудий под командованием капитана Сэмюэля Гридли, а также около 200 человек из Полка Израэля Патнэма под началом капитана Сэмюэля Ноултона. Все были одеты в гражданское платье — формы еще не было — и вооружены самым разным оружием. У каждого был ранец, где содержался дневной паек, и шанцевый инструмент. Отряд во главе с Прескоттом выступил из Кембриджа около 9 часов вечера. У перешейка их встретил генерал Патнэм с повозками, груженными габионами (плетеными корзинами, наполненными грязью, предназначенными для укрепления траншей) и фашинами (связанными в тугой пучок хворостом и сучьями, также с целью возведения земляных укреплений). У Патнэма, судя по всему, также было небольшое количество орудий для земляных работ. Вскоре после прибытия к перешейку Прескотт отправил роту солдат к Чарлстауну, чтобы следить за приготовлениями англичан. Основной отряд вступил на полуостров и занял Банкер-Хилл, остановившись прямо у подножия Бридса. Здесь Прескотт и его штаб, к которому присоединились Патнэм и полковник Ричард Гридли, главный инженер армии, решили, что, несмотря на приказ окопаться на Банкер-Хилле, они лучше закрепятся на Бридсе. Причины этого до конца не ясны, скорее всего, дело было просто в том, что Бридс-Хилл находился ближе к Бостону. Также они решили оставить небольшой отряд на Банкер-Хилле и укрепить его, когда закончат работы на соседнем холме. Полковник Гридли взялся за дело, разметив практический квадратный редут с длиной стороны около 130 футов, со входом со стороны Банкер-Хилла, чтобы обезопасить людей от любых атак британцев. На стороне, обращенной к Чарлстауну, он выстроил редан — двустороннее укрепление У-образной формы, острием обращенное наружу. К тому Моменту, как Гридли начал окапываться, спустилась ночь. У американцев оставалось около четырех часов, чтобы закончить строительство укреплений с глубокими траншеями и высокими земляными стенами. Солдаты с кирками и лопатами немедленно принялись за работу, несмотря на ночную духоту й поднятую пыль. К рассвету они возвели стены высотой шесть футов с каждой стороны, но работы был еще непочатый край. Дневной свет облегчил их работу, но также сделал их видимыми с кораблей, стоявших на якоре в бухте. Первыми заметили колонистов с фрегата «Лайвли» и тотчас же открыли огонь. Вскоре адмирал Грейвз приказал фрегату прекратить огонь, но убедившись, что дело не закончено, отдал приказать возобновить стрельбу, и на этот раз к «Лайвли» присоединились и другие корабли, а также батарея с Копс-Хилла. Обстрел не нанес американцам большого ущерба, так как орудия с кораблей едва забрасывали ядра на высоту холма, а батарея на Копсе находилась слишком в стороне для ведения эффективного огня, тем не менее канонада взволновала многих людей Прескотта, не имевших военного опыта. К тому же один из снарядов разорвал солдата, работавшего близ редута, а второй разбил две большие бочки с водой, которые составляли весь запас отряда, который мог теперь рассчитывать только на колодцы Чарлстауна. Ближе к полудню колонисты уже задыхались от пыли и валились с ног от усталости: «Мы выбились из сил, мы устали от тяжелой работы и бессонной ночи», — с этими словами солдаты Прескотта понемногу начали уходить с поля боя[518]. Их энтузиазм улетучился, и они начали подозревать, что их бросили на произвол судьбы, так как были уверены, что после ночной работы их сменит свежий отряд. Прескотт хорошо видел, что происходит с его войском; неумелый командир поддался бы общему настроению, однако Прескотт не показывал своих сомнений и страхов, и ему удалось побудить подчиненных продолжать строить редут. Когда же словесных убеждений оказалось мало, он взобрался на стены редута и встал во весь рост под огнем противника, показывая своим людям, что опасность не в британских пушках, а в их собственных головах. Там, возвышаясь над всеми, он и расхаживал, подбадривая своих, иногда отдавая им приказы, а иногда с бранью требуя забыть о голоде, жажде и пролетающих снарядах и выполнять свою работу. Патнэм также держался браво: он носился от Банкера к Бридсу и дважды наведывался в Кембридж, требуя от Уорда подкреплений и снабжения. Другие офицеры, включая членов комитета безопасности, присоединились к его просьбам, и после долгих колебаний и размышлений Уорд послал к Чарлстауну два нью-гэмпширских полка. Здесь Патнэм, обуреваемый жаждой деятельности, совершил серьезную ошибку: он потребовал от Прескотта доставить ему шанцевый инструмент, чтобы закрепиться на Банкер-Хилле. Тот сопротивлялся этому как мог, опасаясь, что те, кто понесет кирки и лопаты, не вернутся назад. У него и так было менее 500 человек в редуте, и Прескотт понимал, что на счету каждый солдат. Однако Патнэм настаивал, обещая, что отправит назад всех, кто принесет инструмент, и Прескотт в конце концов уступил. Скольких он отправил, в точности неизвестно, но факт, что вернулось всего несколько человек — вопреки намерениям Патнэма. Но прежде чем Прескотт отправил инструмент с «добровольцами» назад к Банкер-Хиллу, он заставил их насыпать бруствер длиной 330 футов от юго-восточного угла редута к северо-восточному, по направлению к Мистик-Ривер. Дело было в том, что при свете дня он заметил, насколько уязвимы его позиции для флангового обхода со стороны Мистик-Ривер вне зоны обстрела из ружей колонистов. Другой фланг был почти так же открыт, хотя Чарлстаун и расположенные там войска обещали некоторую защиту. Теперь бруствер обеспечивал прикрытие с востока, хотя по-прежнему его можно было обойти с фланга. Канонада с «Лайвли» разбудила Гейджа, впрочем, возможно, он и не спал — тревога, проявлявшаяся во всех его письмах предыдущего месяца, не дала бы уснуть никому. Его беспокоила судьба голодавших в осажденном Бостоне людей, отрезанных от поставок продовольствия с материковых ферм, а также вести о, расширяющейся территории мятежа. В мае он писал Дартмуту о том, что Коннектикут и Род-Айленд находятся в состоянии «открытого мятежа», а Нью-Йорк, Пенсильвания и более южные колонии вовсю вооружаются. Все это выводило его из равновесия, и ничто из того, что он видел утром 17 июня в Чарлстауне и на полуострове, не придавало ему уверенности[519]. Молился ли Гейдж в то утро, доподлинно неизвестно, но, во всяком случае, он советовался со «святой троицей» в лице Хау, Клинтона и Бергойна. От них он получил то, что нередко получаешь от разного рода военных советников и штабных офицеров, — противоречивые советы. Клинтон предлагал высадиться позади редута и использовать флот, чтобы препятствовать проходу подкреплениям колонистов через перешеек. Высадка второго отряда у подножия полуострова позволила бы британцам удушить колонистов в смертоносном кольце. План Клинтона был эффективен именно в том, что позволял флоту контролировать ситуацию с воды, но нарушал военный закон, согласно которому армия не должна была оказываться между двумя вражескими соединениями. Именно поэтому Гейдж возражал Клинтону и был поддержан двумя другими генералами. В ходе дальнейшей дискуссии родился план высадки в юго-восточном углу полуострова (у Мултон-Пойнт, близ одноименного холма), продвижения вдоль Мистик-Ривер и выхода в тыл противника. Хотя сам по себе этот план был логичен, решение о высадке именно в Мултон-Пойнт таковым не было. Шел отлив, и Гейдж должен был ждать полудня, чтобы Хау, возглавивший экспедиционный отряд, смог высадиться на сушу, в то время как высадка на пристань Чарлстауна могла быть осуществлена в любое время и не очень дорогой ценой, так как пристань почти не охранялась. К моменту высадки Хау американцы осознали, что их левый фланг по-прежнему слаб, и приняли меры к его укреплению[520]. Отряд Хау состоял из десяти рот легкой пехоты и десяти рот гренадеров (всего четыре полных полка и часть пятого — 1500 человек). В резерве находилось около 700 человек: солдаты и офицеры двух полков и два батальона морской пехоты; резерв должен был оставаться при артиллерийской батарее, пока не понадобится. Заместителем Хау являлся бригадный генерал сэр Роберт Пигот[521]. Около полудня отряд высадился с 28 больших барок и построился в две колонны. Перед высадкой войска являли собой удивительную картину: солдаты сидели прямо и неподвижно на барках, их красные мундиры полыхали на солнце, ружья обращены прикладом вниз, штыки примкнуты и сияют в солнечном свете. По мере приближения барок к суше военные корабли усилили бомбардировку, в основном стреляя по перешейку, стараясь изолировать американцев на Банкер-Хилле и Бридс-Хилле, разрушить редут и расчистить плацдарм для высадки. Только на судах насчитывалось 80 орудий, к тому же Гейдж увеличил плотность огня, выведя плавучие батареи и полностью задействовав батарею Копс-Хилл. Дым от снарядов полз над водой, сопровождаясь постоянным гулом и вспышками. К часу дня Хау высадился на берег у Мултоне-Пойнт. Высадке никто не препятствовал, что позволило англичанам быстро развернуться в боевое построение — три длинных шеренги. Как только они выстроились, Хау позволил сделать привал, ожидая прибытия оставшихся солдат из своих полутора тысяч, а также части резерва. Ему требовалась пауза: когда план высадки получил одобрение, никакого бруствера колонистов еще не было, как не было и колонны, маршировавшей от Банкер-Хилла к Бридсу; по мнению Хау, это было подкрепление защитникам редута. Если бы Хау знал, что Прескотт намерен еще более усилить свой левый фланг, он, скорее всего, приказал бы атаковать с ходу. Между тем американец совершенно верно предположил, что, судя по месту высадки, главный удар «красных мундиров» будет нанесен по его левому флангу. Открытое пространство к востоку от бруствера волновало его настолько, что он послал капитана Ноултона во главе 200 человек для защиты этого участка. Эта оборонительная линия не была продолжением бруствера, а представляла собой ограду в двухстах ярдах от него и шедшую почти параллельно брустверу. Люди Ноултона соорудили и второй ряд ограды, навалив камней и накрыв их свежескошенным сеном. Это «укрепление» смотрелось эффектно, но отнюдь не было эффективным. Вскоре после этого подошла колонна, которую наблюдал Хау, и присоединилась к Ноултону. Это были столь неохотно выделенные генералом Уордом два полка из Нью-Гэмпшира под началом полковников Джона Старка и Джеймса Рида. Старк тут же дал понять, что у него есть не только полк, но и смекалка с инициативностью, так как не только примкнул к солдатам Ноултона, но и немедленно соорудил другой бруствер из камней вдоль берега реки. В этом месте Мистик-Ривер выходила к пляжу, спрятанному от открытого участка отвесным утесом примерно девяти футов в высоту. Хотя пляж был довольно узким, но все же достаточным, чтобы по нему могла Пройти колонна шириной в четыре или пять человек[522]. Столь пунктуально соблюдавший незыблемое правило, запрещавшее располагать войска между двух отрядов неприятеля, Хау все же пренебрег им при атаке редута. Возможно, пренебрежение это было вызвано проявлением застарелого и иллюзорного чувства превосходства, которое испытывали британцы, имевшие дело с «провинциалами». В любом случае, он проигнорировал и такую азбучную истину, что укрепленные позиции необходимо атаковать колонной, а не развернутой шеренгой, в которую Хау построил свой отряд. Атака колонной позволяет осуществлять быстрое движение и концентрировать усилия множества людей. Эта максима принадлежала генералу Джеймсу Вульфу, одному из героев американского театра Семилетней войны и поэтому нашла отражение в учебниках по тактике боя. Смысл такого построения заключался в том, чтобы загнать обороняющихся в траншеи и не дать им перестрелять атакующих шеренгой, прежде чем те перейдут в штыковую. Вульф также рекомендовал располагать между колоннами наступавших небольшие группы снайперов, задачей которых было стрелять поверх окопа, подавляя огонь защитников. В таком случае колонна могла быстро обрушиться на траншеи и разбить врага, просто раздавив его численностью[523]. На своем крайнем правом фланге, проходившем по пляжу вдоль Мистик-Ривер, Хау все же использовал атакующую колонну (у него просто не было другого выбора), сведя одиннадцать рот легких пехотинцев в колонны по четыре человека. Над пляжем он выстроил остальные 26 рот в две шеренги, переднюю из которых составляли гренадеры. Эта группировка должна была взять укрепленную изгородь, причем сам Хау присоединился к солдатам и встретил первые залпы американцев бок о бок с ними; если ему и недоставало тактической гибкости и воображения, то с личной храбростью у него все было в порядке[524]. Итак, правый фланг англичан состоял из 37 рот, остальные 38 Хау отправил на левое крыло под командование генерала Пигота. Эта группировка состояла из трех рот легкой пехоты, трех рот гренадеров, 38, 43 и 47-го полков, а также 1-го полка морских пехотинцев. Эти войска были развернуты в три шеренги по образцу отряда Хау. Всего в распоряжении наступавших было 2200 солдат и офицеров, шесть полевых орудий, две легких 12-фунтовых пушки и две гаубицы. План Хау состоял в координированном продвижении, в котором главная роль отводилась правому флангу британцев. Отряд Пигота должен был двигаться слева, но его первая атака скорее была бы ложным маневром, призванным отвлечь внимание американцев, защищавших редут. После удара легкой пехоты и гренадеров справа Пигот должен был развить атаку, наступая от реки вглубь суши. Таким образом, бруствер и редут оказались бы отрезанными от основных сил и их можно было взять ударом с фланга. Исполнение этого плана, однако, столкнулось с препятствиями вследствие его сложности, нехватки времени и координации. Войска выступили одновременно, но изгороди, высокая трава, печи для обжига и резервуары для глины на правом фланге британцев сломали строй практически сразу. Необходимость замедлить движение и ждать, пока орудия выстрелят и их перекатят на новые позиции, создавала еще большую сумятицу. Ко всему прочему артиллерия оказалась практически бесполезной, так как выяснилось, что снаряды были неподходящего калибра. Слева Пигот также наступал через изгороди, высокую траву и вдобавок под огнем американцев, засевших среди домов Чарлстауна в двустах ярдах от редута. Вскоре в Чарлстаун угодил зажигательный снаряд, вызвавший пожар и бегство защитников селения. Тем не менее при развитии наступления Пигот столкнулся с проблемами[525]. Легкая пехота, в авангарде которой выступал 23-й королевский валлийский фузилерный полк, не встретила препятствий в виде травы или изгородей; пляж был узок, но ровен. Фузилеры двигались быстро, со штыками наизготовку, так как они не собирались открывать огонь, а просто должны были подавить «провинциалов» числом и напором. Полковник Старк заметил, как они выходят из-за каменного барьера, иприказал своим людям не выдавать себя. Только когда колонна «красных мундиров» приблизилась к его позициям на расстояние полсотни ярдов, он отдал приказ стрелять. С такого расстояния нельзя было не попасть в колонну, и передние ряды фузилеров рассыпались, сраженные тяжелыми ружейными пулями. Они были храбрыми солдатами и продолжали наступать: офицеры гнали их вперед, несмотря на массированный заградительный огонь Старка. «Нашу легкую пехоту подавали на стол целыми ротами», — прокомментировал случившееся один британский офицер несколькими днями позже. Ее пожирал ружейный огонь, и 96 тел не остались на пляже, где, по грустному замечанию другого офицера, «они валялись как овцы в загоне»[526]. Даже отличавшиеся высокой дисциплиной королевские фузилеры не вынесли бойни и через минуту-другую повернули назад; некоторые говорили, что они бежали в панйке. Над ними, около изгородей, гренадеры также пали жертвой своей атаки. Им тоже позволили приблизиться на удобное для стрельбы расстояние. Гренадеры продвигались вперед с похвальной настойчивостью, сдержанно отмечал Хау, но «не уделив должное внимание дисциплине, так как порядок, в котором они шли в штыковую атаку, нарушился вследствие преодоления ими очень высоких и труднопроходимых изгородей и шквального огня, умело ведшегося мятежниками. Они начали стрелять в ответ, после чего столпились в беспорядке, и вторая шеренга смешалась с первой». Вид его войск, застрявших в изгородях и высокой траве, превратившихся под огнем ополченцев в неуправляемую массу, поразил Хау: «Такого момента я еще никогда не переживал». Его переполняло чувство ужаса и (в этом бы он вряд ли признался) страха, что его войска будут побеждены и, возможно, полностью уничтожены[527]. Далее Хау упоминает о доблести своих офицеров, которым в такой катастрофической ситуации удалось поднять войска на вторую атаку, завершившуюся, при поддержке Пигота слева, взятием редута и бруствера[528]. Возможно, здесь его подводит память, объединившая две атаки в одну, так как у нас имеются свидетельства, что гренадеры атаковали изгороди и бруствер (а Пигот — редут) дважды, и обе эти попытки провалились, наткнувшись, как писал британский офицер, «на непрекращающийся шквал огня»[529]. Стоило добавить, что огонь был не только непрекращающийся, но и прицельный, так как Прескотт расходовал пули и порох столь же скупо, как какой-нибудь литературный скряга золото. Нехватка боеприпасов беспокоила его с самого начала: его люди не были обучены технике стрельбы залпами (многие вообще ничему не были обучены), но они могли беречь патроны, подпуская врага поближе, что Прескотт и приказал делать. Несмотря на все усилия Прескотта, отражение второй атаки англичан стоило почти всего запаса пороха и пуль. Третья атака Хау, случившаяся полчаса спустя после второй, имела основной целью захват бруствера и редута — Старка на пляже и Ноултона у изгороди оставили в покое. К тому времени Хау получил подкрепление в четыреста свежих солдат — 2-й батальон морской пехоты и 63-й пехотный полк. Как и в ходе второй атаки, солдаты начали наступать колоннами (Хау вспомнил учебники тактики) и только перед решающим приступом развернулись в шеренги. На этот раз артиллерия оказала пехоте существенную поддержку, и та, возглавляемая гренадерами, понеслась по холму, сверкая штыками, с криками: «Ломи, ломи!»[530]Американцы, собравшиеся внутри редута, берегли заряды и открыли огонь только в последний момент. Группировке в правой части редута удалось остановить морскую пехоту Пигота, причем среди убитых англичан был и майор Питкэрн, бывший заметной фигурой в Конкордском сражении. Гренадеров, однако, остановить не удалось — американцы спасались бегством, бросая оружие. Несколько минут спустя гренадеры ворвались в редут, кто-то с фронта, кто-то с тыла… Большинство колонистов в беспорядке бежало, но по меньшей мере 30 человек попали в редуте в ловушку и были заколоты штыками — таким образом английские пехотинцы мстили за погибших товарищей[531]. Впрочем, вскоре отступление американцев приняло организованный характер. Отряды Ноултона и Старка обеспечили отступающим, включая отряд Прескотта, огневое прикрытие, повернув назад к Банкер-Хиллу. Те, кто находился за бруствером, уже отошли назад под пушечным огнем. Американцы понесли тяжелые потери, в числе убитых оказался Джозеф Уоррен: по-видимому, он был в числе последних, кто оставлял редут. Преследование со стороны британцев развивалось медленно вследствие неразберихи, возникшей около редута. Войска взяли Бридс-Хилл, но совершенно потеряли порядок — их построение для преследования врага потребовало времени. Генерал Клинтон, не выдержавший мук неизвестности в Бостоне и прибывший на поле боя во время решающего штурма, взял на себя командование измочаленными частями на Бридс-Хилле и перегруппировал их, чтобы двигаться к Банкер-Хиллу. Но к тому моменту как ему удалось воссоздать строй солдат, американцы уже отходили с полуострова: некоторые просто бежали без оглядки, но большинство шло строем под командованием разочарованных офицеров. К ночи все было кончено: британцы овладели территорией вплоть до Чарлстаунского перешейка. Эта победа, если ее можно так назвать, стоила им 226 человек убитыми и 828 ранеными. Американцы потеряли 140 человек убитыми и 271 раненым[532].V
Спустя всего лишь две недели после битвы при Банкер-Хилле, 2 июля, в Кембридж прибыл Джордж Вашингтон. Он не излучал большой уверенности в себе и в перспективах американской армии. Хотя выступление ополченцев против регулярной армии Хау и воодушевило его, он не был уверен, что американцы могут выиграть войну или заставить британцев признать американские свободы. Свой пост он принял с опасениями, которыми поделился и с конгрессом: «Мои способности и военный опыт могут не оправдать ваше безоговорочное и столь важное для меня доверие». Вашингтон страдал от самой мысли о возможном поражении и о том, как оно скажется на его «репутации» (это слово активно употребляется им в письмах того времени). Однако отклонение предложения стать командующим армией запятнало бы его «честь» — еще одно слово, которое он часто использовал и которое отражало один из фундаментальных его принципов. Отказавшись возглавить армию, он не только обесчестит себя, но и причинит «боль друзьям и близким», писал он «моей дражайшей» жене Марте. Все это — сомнения в перспективах колоний, честь, репутация, внимание к друзьям и неуверенность в собственных талантах — придавало двойственность его натуре[533]. Несмотря на достоинство и солидность, видимое спокойствие, а также несомненное умение решать жизненные проблемы, Вашингтон, находившийся уже в зрелом возрасте, по-прежнему страдал от тревог и забот, одолевавших его в молодые годы. В юности его обуревала жажда славы и богатства — обычные устремления молодежи его круга в ХУЛ! веке. Не исключено, что он был даже чрезмерно честолюбив, возможно, потому что не чувствовал себя полностью принадлежащим к джентри, как его сверстники. Сейчас же, в 1775 году, честолюбие все еще владело им, но оно больше не было единственной направляющей силой. Он мог рискнуть своей репутацией ради великого дела. Вашингтон родился в 1732 году в семье виргинских плантаторов, предки которых эмигрировали в колонии в прошлом столетии. Августин Вашингтон, отец Джорджа, принадлежал к джентри, но крупным плантатором не являлся: социальное положение семьи было достаточно высоким, но не блестящим. Вашингтон-старший не оставил следа в политике: хотя ему довелось быть шерифом округа и мировым судьей, он никогда не избирался в палату представителей Виргинии. К моменту своей кончины в 1743 году он владел земельными угодьями в 10 000 акров. После смерти отца Джордж жил со старшим братом Лоуренсом в родовом поместье Маунт-Вернон; их мать, Мэри Болл Вашингтон, возможно, полагая себя обделенной после смерти мужа, отнюдь не старалась сделать жизнь сыновей безоблачной. Наоборот, она постоянно жаловалась на свою нелегкую судьбу и пренебрежение к ней детей, что вызывало склоки в доме. Джордж не любил мать, но сыновний долг требовал от него почитания и послушания. Ему приходилось учитывать эти требования и выказывать матери если не любовь, то уважение и внимание. В юности Вашингтон был нескладным увальнем. Любой. считал своим долгом осмеять его ручищи, да и не менее крупные ноги служили ему помехой. Он никогда не был душой компании, хотя упорно стремился к этому. Как многие мальчики в то время, он прибегал к помощи книги под названием «Поведение юноши, или Правила хорошего тона при общении между мужчинами»[534], своего рода кодекса хороших манер, содержащей инструкции по превращению неотесанного мужлана в джентльмена, например:В присутствии других людей нельзя напевать себе под нос, равно как стучать пальцами по столу или ногами по полу. Не тряси головой, не болтай ногами, не вращай глазами, не поднимай одну бровь выше другой, не криви рот и не плюйся в другого человека, наклоняясь к нему слишком близко, чтобы что-то сказать[535].Из этой книги Джордж вынес нечто большее, чем не плеваться и не скрипеть стулом. Хотя образование его оставляло желать много лучшего, он научился хорошо владеть слогом (письма его отличаются напором и быстротой мысли), а также неплохо разбирался в математике. Благодаря своим способностям в этой науке он выбрал карьеру землемера и в шестнадцать лет уже считался опытным специалистом. Эта профессия, скорее всего, способствовала развитию его любви к земледелию, которой отличалось большинство виргинских плантаторов. Будучи землемером, он понял, что существуют возможности беспрепятственно спекулировать земельными участками, особенно на западе, и, работая там в 1748 году, прибавил к своим землям еще 1500 акров. К 21 году он владел примерно 7000 акров, взял в аренду Маунт-Вернон (который вскоре перешел в его собственность), стал майором ополчения и окружным землемером. В это время Вашингтон был одержим желанием прославиться в той же мере, как и желанием скупать земельные участки, и вскоре ему представилась такая возможность. В те годы обострилось соперничество между Англией и Францией за западные территории Америки, особенно в районе рукавов реки Огайо. «Компания Огайо», которой владели земельные спекулянты, в 1753 году приняла решение построить на реке форт, прямо в сердце спорных земель, на которые притязала как компания, так и французские власти. Встала задача вытеснить французов. Джордж Вашингтон, чей брат Лоуренс владел долей в «Компании Огайо», был послан губернатором Виргинии с письмом к французам, в котором содержалось требование покинуть Огайо. Вашингтон пересек пустынную местность, вручил письмо, получил вежливый отказ и вернулся в Виргинию, где написал отчет о своей экспедиции, который настолько впечатлил губернатора, что тот приказал отдать его в печать. Это небольшое эссе произвело резонанс даже в Лондоне, где было перепечатано. Будущее Вашингтона заиграло радужными красками. Справившись с первым заданием, Вашингтон получил в следующем году второе: ему поручили возглавить экспедицию, целью которой было закрепить территорию Огайо за Виргинией. Дело окончилось катастрофой: после кровопролитного боя Вашингтон и его отряд попали в плен к французам, но Вашингтон вел себя достойно, и его репутация не пострадала. Джордж писал своему брату об этой битве: «Я слышал свист пуль, и поверь мне, в этом звуке есть нечто завораживающее» (фраза попала в газеты и добавила славы молодому военному)[536]. Последующие пять лет прошли ни шатко ни валко. Вашингтон принял командование над виргинским ополчением и выполнял задачу по защите фронтира. К сожалению для него, основной театр военных действий находился в другом месте. К тому же командовать ополченцами было практически невозможно: штатские, составлявшие костяк милиции, терпеть не могли какую-либо власть над собой, да и положиться на них в военном отношении также было нельзя. Вашингтон управлялся с ними в меру своих сил и сдержанно негодовал по поводу того, что считал небрежностью со стороны Виргинии и армии Его Величества в Америке. Чувствуя себя забытым и к тому же сталкиваясь с множеством трудностей, он часто жаловался, будучи еще совсем молодым человеком, на бремя, которое ему приходится нести, а заодно и на высокомерие кадровых британских офицеров, причем одновременно он жаждал сделать карьеру в регулярной армии. В эти годы Вашингтон не выглядит располагающим к себе человеком. Он обуреваем жаждой славы и признания, не получает ни того, ни другого, теряет спокойствие духа и способность видеть перспективу — что было бы для него нужнее, чем забота о репутации. В конце 1758 года Вашингтон вышел в отставку и вернулся в Маунт-Вернон. Вскоре он женился и занялся выращиванием табака. Его женитьба на богатой вдове Марте Кастис не была браком по любви, однако браком по расчету ее также нельзя было назвать. Они выглядели увлеченной друг другом парой, и их совместная жизнь была вполне счастливой. Пятнадцать лет с 1759 по 1774 год прошли в тишине и спокойствии, но, тем не менее, важны для понимания личности Вашингтона. К моменту женитьбы Вашингтон являлся разочарованным в жизни офицером, амбициозным человеком, щепетильно относящимся к своей чести и репутации, чувствительным к проявлению пренебрежения в свой адрес, эгоистичным и находящимся в поисках себя, словом, его личность все еще нельзя считать зрелой. За эти пятнадцать лет с ним произошла перемена: его воинское честолюбие остыло, внимание переключилось с себя на окружающих — семью, друзей, соседей. Можно сказать, что обидчивость и ранимость уступили место умиротворенности, а эгоизм — широте души. Мы можем только домысливать тот процесс, благодаря которому произошли такие перемены. Нам известно лишь то, что ответственность, которую нес Вашингтон, выросла, и она (это, наверное, более важно) была уже абсолютно иного сорта, выйдя за рамки военных амбиций и стремления к славе. Управление плантацией — ежедневная рутина: к плантатору приходят друзья, просящие совета, денег, в конце концов желающие просто провести время. Таковы будни. В это время политическая активность Вашингтона выходит из коридоров суда (он был мировым судьей) в собрание прихожан округа и, наконец, в палату горожан Виргинии. Все свои обязанности он выполнял неукоснительно и, насколько нам известно, с достоинством. Он не был властителем дум в палате Виргинии, более того, не был и одним из теневых лидеров, хотя к его мнению по важным вопросам постепенно стали прислушиваться. В эти годы он стал своего рода патрицием; его суждения отличали здравомыслие и взвешенность, а также забота об общественном благе. Эти качества Вашингтона оказались на виду во время второго Континентального конгресса в Филадельфии. Сейчас, в 1775 году, он находился во главе армии близ Бостона, и его столь долго пестуемое самообладание проходило серьезную проверку на прочность. Ему поручили возглавить войска сомнительных боевых качеств, его поддерживали колонии, не имевшие единого мнения о задачах войны, и сражаться ему придется против мощнейшей державы Европы. В течение последующих восьми военных лет Вашингтон эксплуатировал внутренние ресурсы и характер, которые он так долго формировал в себе. Кроме того, он пришел по меньшей мере к двум глубоким убеждениям. Во-первых, он ощущал себя в этой войне инструментом Провидения. Сам он весьма красноречиво изложил это убеждение в одном из писем (несколько даже скромничая): «Но так как я был призван на свою службу самой судьбой, я надеюсь, что принятие мной командования обернется ко благу»[537]. Второе убеждение состояло в преданности тому, что Вашингтон назвал «славным делом», — защите свобод американцев.
VI
Второго июля, когда Вашингтон прибыл в Кембридж, чтобы принять командование армией, британцы, запертые в Бостоне, все еще зализывали раны после Банкер-Хилла. Несмотря на это, они оставались опасным противником, хорошо вымуштрованным, оснащенным и с большим количеством опытных офицеров. В июле численность «красных мундиров» составляла 5000 человек; когда же Хау, сменивший Гейджа в октябре, эвакуировал Бостон в марте следующего года, число солдат и офицеров увеличилось вдвое[538]. Во многих отношениях британские войска представляли собой типичную европейскую армию XVIII века, обученную вести обычную войну. В этом столетии до Французской революции, серьезно изменившей в том числе и военное дело, ведение войн было уделом монархий, театры военных действий были невелики, а цели войн — ограниченны. Обычно войну вели два класса: аристократия, из которой набирался офицерский корпус, и простой народ — крестьяне, бродяги и всяческие отбросы общества, которых забирали в солдаты. Фридрих Великий, король Пруссии, однажды сказал, что войца безуспешна, если о ней знает большинство, поэтому он, как и все венценосные особы Европы, прилагал усилия, чтобы защитить средний класс, состоятельных торговцев и ремесленников от ужасов кровопролития[539]. Армию, состоявшую из городских низов, было трудно набрать, трудно обучить и дорого содержать. Также такие армии были, естественным образом, невелики. «Естественным образом» — то есть из-за больших расходов на них и из-за самого характера монархий, испытывавших хронический дефицит средств и невозможность поставить под ружье неравнодушных людей, согласных сражаться за их идеалы добровольно. Таким образом, войны велись исключительно ради целей правящих династий и не являлись войнами национальными, что стало правилом в XIX столетии. Монархи XVIII века боялись вооруженного народа, и не без оснований — Французская революция наглядно показала обоснованность этого страха. Сам состав армии требовал хорошей муштровки и жесткой дисциплины. Бродяги, невежественные крестьяне, а во многих случаях и иностранцы, которых призывали силой или вербовали за деньги, не имели никаких моральных обязательств перед правителями или уважения к нации, которой в современном смысле даже не существовало. У аристократии, однако, такие чувства были, поэтому офицерство муштровало и дисциплинировало рядовых. Фридрих Великий, стоявший у истоков учреждения и дальнейшей разработки тогдашней военной доктрины, призывал не полагаться ни на кого, кроме дворян. Он с презрением относился к офицерам-буржуа, считая, что у тех нет иного мотива сражаться, кроме как набить свой кошелек. Однако ни Фридрих, ни какой-либо иной правитель XVIII века не мог избежать зависимости от иностранных наемников. Вербовщики отлавливали разного рода маргиналов, официальные лица нанимали «легионеров», а офицеры-аристократы причесывали всех под одну гребенку, внедряя жесточайшую подчас дисциплину. Несмотря на все меры, дезертирство цвело пышным цветом. Один французский путешественник отмечал, что основной обязанностью урожденных пруссаков в армии Пруссии было удерживать иностранцев от побегов. Неудивительно, что имея армию, практически полностью состоявшую из представителей низов, с трудом обучаемых и неспособных проникнуться понятием чести, а кроме всего этого обходившихся казне очень дорого, командиры расценивали ведение боевых действий как искусство сохранения армии не в меньшей степени, чем искусство побеждать. Их озабоченность набором и обучением солдат вынуждала пускать тех в бой лишь тогда, когда боя избежать было невозможно. Военные операции, как правило, осуществлялись в хорошую погоду, а зимние кампании были редкостью. Зимние квартиры подбирались тщательно, чтобы обеспечить достаточно комфортное пребывание, возможности пополнения живой силой и снабжения. А в хорошую погоду победа в сражении не получала развития из-за опасности поражения или непомерных потерь. Командующие неохотно искали поводы к битве; один немецкий офицер весьма выразительно назвал сражение последним выходом для отчаявшегося человека. Концепция тотальной войны и ее естественного итога — тотальной победы — появится только в будущем. В основе ведения кампании лежала тактика. Искусство тактики состояло в маневрировании до тех пор, пока вступление в битву не будет сопряжено с наименьшими потерями. Такие маневры иногда обесценивали итоги сражения: поражение с меньшими потерями смотрелось выгоднее победы с потерями большими. Французский военачальник маршал Сакс на полном серьезе утверждал, что умение маршировать является искусством более важным, чем умелое обращение с оружием и знание его особенностей, включая умение стрелять. В этом лежат истоки необыкновенной энергии офицеров, направленной на строевую подготовку, шагистику и репетицию сложных парадных фигур, которые должны были исполняться безукоризненно. За шагистикой следили особенно пристально: все интервалы между солдатами были четко определены и войска муштровались до тех пор, пока не выполняли все движения автоматически, как части машины, послушные лишь окрикам офицеров. Несколько поколений военачальников стремились создать совершенно бездушные армии, солдаты которых были бы простыми винтиками, двигающимися строго по приказу. Строевому шагу уделялось даже большее внимание, чем дисциплине: шагистика учила маршировать на плацу, а солдаты потом повторяли эти движения на поле боя, и это делалось не только ради «шоу», в чем убедились многочисленные американские наблюдатели в ходе Войны за независимость. Определенный темп марширующих войск был необходим для того, чтобы держать ровный строй. Офицеры Фридриха Великого настаивали, чтобы их солдаты держали «прусский шаг», то есть тянули носок, не сгибая ноги в коленях. Британцы предпочитали высоко поднимать колени и ставить ногу на землю всей тяжестью. Маршировали обычно в колоннах, причем место солдата в колонне соответствовало месту в огневой шеренге. В английской армии, как и в ее континентальных двойниках, пехота разворачивалась в три шеренги: первый ряд пехотинцев вставал на левое колено, причем их правая нога оказывалась рядом с левой их товарищей из второго ряда, а правая нога последних — рядом с левой солдат из третьего ряда. Такое построение называлось у британцев «замком», и название это очень точно определяло его цель: крепко удерживать в строю множество людей, обеспечивая концентрированный и контролируемый огонь из ружей. В таком строю, как и в большинстве других, огонь велся залпами по приказу офицеров[540]. Ружейный залп, в свою очередь, венчал собой очередной ряд мудреных операций, каждая из которых начиналась и завершалась по приказу. Стандартное руководство для британских пехотинцев, «Инструкция по воинской дисциплине» Хамфри Бленда, требовало отдавать семнадцать различных команд солдату, заряжающему ружье[541]. Выстрелить же пехотинец не мог, не дождавшись шести других команд (не считая седьмой команды «внимание!», начинавшей этот процесс). Такой подробный набор приказов кажется абсурдным, и именно так склонны его оценивать современные историки, однако в реальности он прекрасно соответствовал стремлению рационально контролировать такой иррациональный процесс, как ведение военных действий. Если бы солдатам разрешили перезаряжать ружья кто во что горазд, они могли мешать друг другу, так как «Бурая Бесс», как в просторечии называли ружье образца 1722 года, была длинной, тяжелой, с ней было трудно управляться и еще труднее заряжать. Было бы гораздо труднее управлять беспорядочным огнем, осуществляемым без команды офицеров, так что самодеятельность не поощрялась, а залповый огонь всей шеренги был значительно более смертоносным. После того как пехотинец производил выстрел, он выполнял и другую операцию, также требовавшую неукоснительной дисциплины. Так как из ружья невозможно было произвести больше трех выстрелов в минуту, а эффективной стрельба была на расстоянии не дальше ста ярдов, приходилось пускать в дело штыки, особенно когда пехоте противостоял многочисленный или окопавшийся противник. Штыковая атака могла дать результат, только если она была массовой — вот еще одна причина иметь в атакующем строю три шеренги. Маршал Сакс рекомендовал выстроить и четвертую линию, вооруженную пиками, но английские командиры предпочитали три ряда, иногда вообще воздерживаясь от стрельбы в пользу жестокой внезапности штыковой атаки. Так, Хау положился на такую атаку при Бридс-Хилле[542]. Джордж Вашингтон слыл поклонником европейской военной доктрины. Он начал штудировать труды европейских стратегов, еще будучи командиром ополчения Виргинии, и со многим в них соглашался. То, что книги (иногда) говорят правду, не удивило его, но обучение ополченцев разочаровало. Собравшиеся в ополчении его земляки-виргинцы напоминали себя же гражданских — упрямых, недисциплинированных и лишенных патриотического духа. Волею судеб ставшие солдатами граждане, которых он увидел под Кембриджем, были родом из Новой Англии, но с тем же успехом они могли быть и выходцами из Виргинии. «Дисциплина — душа армии», — писал молодой Вашингтон в 1757 году, и теперь, в 1775-м, он должен был превратить тех, кого сам считал бостонской деревенщиной, в армию. После недели пребывания в Кембридже он писал Ричарду Генри Ли: «Злоупотребления в этой армии мне кажутся весьма значительными, и перестройка ее перед лицом врага, от которого мы ежечасно ждем нападения, представляется делом чрезвычайно трудным и опасным». По мнению Вашингтона, слабость его армии была свойством любого непрофессионального формирования: интересы и чаяния как ее офицерского, так и рядового состава не имели ничего общего с интересами и чаяниями профессиональной армии. В определенной степени ополчение всегда оставалось ненадежным, так как было сборищем гражданских, временно призванных на службу[543]. Кроме того, Вашингтон, будучи виргинцем с предрассудками, свойственными жителям этой колонии, обнаружил еще одну слабость в армии Новой Англии. Большинство солдат были родом из Массачусетса, известного в Виргинии своими уравнительно-демократическими настроениями, а демократы, по мнению Вашингтона, не могли быть хорошими солдатами. Он сталкивался с «бессчетными случаями демонстрации глупости низших слоев этого народа», глупости, «ставшей отличительной чертой массачусетских офицеров, похожих как две капли воды на своих солдат»[544]. Случаи эти были бессчетными, и Вашингтон считал их следствием идеологии равенства. Массачусетские рядовые избирали своих офицеров, что имело предсказуемые последствия при командовании ими: «Назначение офицеров, способных добиваться исполнения приказов, — дело неслыханное здесь, так как главной заботой офицеров является заискивание перед рядовыми, которые их избрали и от хорошего настроения которых, по сути дела, зависит дальнейшая карьера»[545]. Хотя Вашингтон имел ясное представление, какой бы армией он хотел командовать, он не был слепым адептом традиционной европейской тактики и понимал, какие войска находятся в его распоряжении. И в 1775 году в Кембридже, и в ходе дальнейшей войны при всем своем стремлении создать регулярную армию он оказался способен отклоняться от шаблона. Так, он вел зимние кампании, использовал иррегулярные войска, каким, вне всякого сомнения, являлось ополчение, он апеллировал к политическим принципам и к стране; кроме того, он не пытался свести войну к делу горстки аристократов и сражающихся под их началом отбросов общества.VII
Первые же шаги Вашингтона в Кембридже выказали присущие ему практицизм и рассудительность. На второй день своего пребывания там он затребовал отчеты о точной численности частей и количестве пороха. На решение этой простой задачи потребовалась неделя, и в течение этой паузы он понял, сколь плохо организована и управляема его армия. Ответ на его запрос также не обнадеживал: в армии числилось 16 600 солдат и сержантов, из которых в наличии и пригодны к службе было не более 14 000. По оценкам Вашингтона, для успешной осады ему требовалось не менее 20 000 человек, так как силы британцев, по его мнению, составляли 11 500 человек, а кроме того, они контролировали акваторию Бостона, что позволяло им перебрасывать войска на угрожаемые участки[546]. Следующим шагом стал осмотр боевых позиций, который занял два дня, но не потому, что американцы надежно укрепились на хорошо выбранных позициях, а прямо по противоположной причине. На северной стороне, выходящей к полуострову Чарлстаун, на холмах Винтер-Хилл и Проспект-Хилл находились два хлипких редута; подобие засеки на Бостон-роуд и траншея, пересекавшая главную улицу селения Роксбери, предположительно блокировали перешеек. Венчал картину бруствер на Дорчестер-роуд в северо-восточной части, около кладбища. Дорчестерские высоты, господствующие над Бостоном, не были заняты ни одной из сторон. Ни один из этих фактов не успокоил встревоженного командующего, который немедленно приказал воздвигнуть новые укрепления. Далее, если Вашингтон хотел вести действия против британцев в Бостоне и изгнать врага из города, ему нужно было параллельно обучать свою армию. Обучение осаде не подразумевало обучение тактике, например, тому, как разворачивать батальонные колонны или как переходить из маршевых порядков в атакующие. Да, возможно, Вашингтон порой и сожалел, что не может позволить себе такую роскошь, но ему не хватало времени познакомить солдат даже с искусством осады. Обучение необходимо было свести к простейшим, даже примитивным, азам. Нужно было дисциплинировать армию, научить ее исполнять приказы и элементарные задачи без халтуры и лености, к которым ополченцы питали большую склонность. Они ночевали вдали от лагеря и окопов, по-видимому с разрешения своих офицеров; часовые оставляли пост до прихода смены; кто-то совершал вылазки за линию патрулей, чтобы пострелять в британцев с предельного расстояния — последнее приводило Вашингтона в изумление и вызывало досаду. Патрульные и их начальники переговаривались с врагом во время несения службы. Увольнительные выдавались по первому требованию, при этом требование бдительности, требовавшее максимального присутствия солдат в полной боевой готовности, игнорировалась вообще. Санитарное состояние лагеря было неудовлетворительным, уборные были расположены в небезопасных местах и вычищались крайне нерегулярно. Младшие офицеры не интересовались нуждами своих подчиненных, пренебрегая своей первейшей обязанностью — надзором за продовольственным снабжением и условиями проживания[547]. В регулярной армии ее командующему не требовалось решать все эти вопросы лично, для этого годились и сержанты с лейтенантами. В распоряжении Вашингтона было очень мало настоящих офицеров, и поэтому его ежедневные приказы пестрели подробностями, предназначенными для сержантов и младшего офицерского состава. Все они били в две мишени. Первым делом они касались состояния войск: генерал-квартирмейстер должен был расследовать жалобы солдат на «кислый и омерзительного вида» хлеб; ротные командиры должны были проверять довольствие солдат и походные кухни; у солдат всегда должна быть свежая солома для тюфяков; «выгребные ямы нужно заполнять неделю, после чего рыть новые; улицы и траншеи мести ежедневно, а весь мусор и падаль около лагеря немедленно сжигать». Также большое внимание в приказах Вашингтона уделялось дисциплине. Так, он немедленно довел до сведения солдат, что под его командованием они отныне находятся в распоряжении конгресса как Армия ОБЪЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ Северной Америки, и так как они сражаются за свою свободу, то спрос с них будет велик. Они должны воздерживаться от «богохульства, сквернословия и пьянства», кроме того, от них требуется «обязательное посещение церковной службы, где они должны молить небеса о защите и безопасности». Дальнейшие приказы касались запрета тратить порох без необходимости, разговаривать с врагом, беспечно относиться к караульной службе, а от ротных офицеров требовали как можно строже относиться к неподобающему поведению подчиненных. А чтобы не осталось никаких сомнений в серьезности намерений командующего, Вашингтон учредил военный трибунал. Увольнения, разжалования офицеров, штрафы и шпицрутены стали применяться с пугающей регулярностью. Офицеры, распустившие вверенные им части, вскоре были изгнаны из лагеря с позором[548]. Помимо превращения вольного ополчения в настоящую армию нужно было и проводить операции против англичан. По всему фронту началась подготовка фортификационных сооружений. Противник занимался тем же самым, и обе стороны настороженно поглядывали друг на друга. К концу августа укрепления американцев были практически закончены, и вскоре Вашингтон предложил план прорыва через перешеек со стороны Роксбери по суше и с использованием лодочной флотилии на реке, но он не был одобрен на созванном им военном совете. Вашингтон уступил, так как помнил инструкцию конгресса не совершать действий без одобрения старшими офицерами армии. Это стало первым из нескольких случаев, когда его пиетет перед гражданской властью и уважение к чужому мнению замедляли необходимые действия. К началу осени во весь рост встала проблема нехватки пороха, что должно было усугубиться и нехваткой солдат после того, как в декабре и январе должен был истечь срок службы ополченцев из Коннектикута и Род-Айленда.VIII
Хотя главной заботой Вашингтона было ведение операций в районе Бостона, в соответствии с пожеланиями конгресса планировал он и экспедицию в Канаду. Справедливости ради надо сказать, что в начале лета было нелегко разгадать намерения Филадельфии, так как конгресс не делился своими планами до конца июня, когда приказал генералу Филипу Скайлеру завоевать Канаду, если он сочтет это «выполнимым и не вызовет неудовольствия» канадцев. Подавляющее большинство канадцев было французского происхождения, и в конгрессе существовали сомнения, разделяет ли эта община чаяния американцев. Пока Скайлер готовился к экспедиции в западной части провинции Нью-Йорк, Вашингтон направил из Массачусетса отряд под командованием Бенедикта Арнольда. В конце августа и начале сентября тот набирал людей и заготавливал припасы, а поход планировал начать вдоль рек Мэна, двигаясь к Квебеку. Арнольд был уверен, что через двадцать дней он потребует капитуляции от самого сэра Гая Карлтона, британского генерала, исполнявшего обязанности губернатора Канады. Оптимизм Арнольда был сравним с его же полным незнанием географии северо-востока Америки, так как он полагал, что нужно пройти лишь 180 миль; в реальности же ему предстоял переход в 350 миль, что заняло бы полтора месяца. Вскоре после выступления Арнольд понял, что поход на Квебек станет для его людей большим физическим и моральным испытанием. Первые три недели движения по пустынным уголкам Мэна он верил, что его бойцы способны двигать горы. 19 сентября они отплыли из Ньюберипорта до устья реки Кеннебек, в 150 милях от Квебека. Река была достаточно широкой и глубокой для его судов, и через три дня экспедиция достигла Гардинерстауна. Далее двинулись рекой, пешком вдоль берега и на плоскодонках, способных вмещать шесть-семь человек и провиант. К 11 октября отряд вышел к волоку, где лодки нужно было тащить на протяжении 12 миль. Задолго до этого лодки стали протекать, а также, по словам Арнольда, «почти весь хлеб пришел в негодность». Чтобы пополнить запасы провизии, солдаты принялись ловить форель в прудах около переправы и за час поймали не меньше сотни рыб. Тащить лодки оказалось крайне тяжело — каждая плоскодонка весила 400 фунтов, кроме того, нужно было нести оружие, боеприпасы и провизию. Однако, по сообщениям Арнольда, боевой дух оставался высоким, несмотря на тяжесть груза и усталость. Дальше отряд поплыл по Дэд-Ривер — Мертвой реке. Так неудачно, пожалуй, не называлась ни одна река Америки, а у этой еще и было необыкновенно быстрое течение, несущее подтопленные деревья и сучья, которые делали движение практически невозможным. Уже по пути вверх по Кеннебеку солдаты проводили столько времени в воде и под водой, что Арнольд сравнил их с «амфибиями». Теперь они вымокли насквозь, особенно после 19 октября, когда пошел ливень, длившийся три дня и заставивший реку выйти из берегов. Но отряд упорно шел к цели, хотя продовольствия уже почти не оставалось.
К концу октября большая часть отряда преодолела 30-мильный участок от Дэд-Ривер до Хайт-оф-Лэнд — водораздела между реками Кеннебек и Шодьер. К этому времени многие солдаты были больны, обморожены (уже выпал снег), голодны, их одежда и обувь пришли в негодность. Им предстояло пересечь озеро Мегантик, после чего плыть по Шодьеру до реки Святого Лаврентия, которой отупевшие от усталости люди достигли 9 ноября. К тому времени экспедиционный корпус насчитывал 675 человек: 300 повернули назад, остальные умерли или остались умирать по дороге. Отряд Арнольда оказался в четырех милях от Квебека и, конечно же, на другом берегу от города. До 13 ноября они не могли форсировать реку из-за разразившейся грозы — ничто другое не могло остановить Арнольда, после всех невзгод похода жаждавшего битвы, но таковой не суждено было состояться до конца декабря. Квебек не располагал значительным гарнизоном, но взять город силами плохо снаряженного отряда с большим числом больных было нельзя. Город располагался на холме, омываемым рекой Святого Лаврентия и ее притоком, рекой Сен-Шарль. Эта местность изрядно напоминала огромный большой палец или несколько пальцев, тесно сжатых вместе и обращенных к северо-востоку. На юго-востоке находился мыс Кейп-Даймонд, возвышавшийся над рекой Святого Лаврентия больше чем на 300 футов. С севера нижнюю часть города окружала стена, за которой гнездились пригороды. Главной частью Квебека был Верхний город, находившийся на возвышенности и защищенный с трех сторон крутыми утесами, а с запада — стеной высотой в 30 футов, протянувшейся от одной реки до другой. Стена выходила на так называемые равнины Авраама, место сражения англичан и французов в 1759 году, в котором погибли оба командующих, генерал Вульф и маркиз Монкальм. В стене было шесть укрепленных пунктов и трое ворот. В укрепленных пунктах защитники Квебека сосредоточили свою артиллерию. В Верхнем городе британцы сосредоточили также и 1800 вооруженных людей: ополченцев, шотландцев, горстки морских пехотинцев и большого числа матросов, снятых с кораблей, стоявших в гавани. Арнольд несколько дней стоял в виду укреплений, после чего отошел на 20 миль к местечку Пуант-о-Трамбль, где в начале декабря к нему присоединился отряд под командованием Ричарда Монтгомери, заместителя Скайлера. Монтгомери был человеком, замечательным во всех отношениях, храбрецом и красавцем, как большинство героев романсов XVIII века. Он проложил себе путь через Монреаль, взяв город в ноябре, после чего отправился вместе со своими 300 солдатами, нагруженными провизией, теплой зимней одеждой, пушками и амуницией навстречу полумертвым бойцам Арнольда. Последний радостно приветствовал Монтгомери, и в течение трех недель оба командира готовились к взятию Квебека. Генералы приняли решение взять город штурмом, а не осадой. Дело было в том, что солдаты Арнольда из Новой Англии должны были покинуть расположение войск в начале нового года, так как срок их службы истекал. Впрочем, даже если бы они остались на своих постах, осада не могла продолжаться долго — весной, после того как на реке Святого Лаврентия растаял бы лед, британцы прислали бы по воде подкрепления. После ложной атаки 27 декабря через четыре дня рано утром начался штурм города. Он проходил в условиях снежной бури, при порывистом ветре и температуре значительно ниже нуля. Только для построения войск потребовалось три часа. В два часа ночи они начали движение — 600 солдат Арнольда с северной стороны Нижнего города и 300 солдат Монтгомери с южной стороны. Англичане замерли в ожидании — уже неделю они спали, не снимая с себя одежды, и укрепили Нижний город как раз в местах, куда устремились штурмующие. Около 5 утра американцы пошли на штурм укреплений. Отряд Арнольда прорвался через первую линию укреплений, воздвигнутых противником, но был остановлен на второй. Арнольд получил ранение в ногу, и его унесли, истекающего кровью, в безопасное место. Монтгомери же был убит почти сразу — пуля попала ему в голову. Несмотря на всю храбрость Дэниела Моргана, возглавившего авангард отряда Арнольда, атака с севера захлебнулась, а войска Монтгомери отступили. В течение пары часов все было закончено: свыше 400 американцев попали в плен, не пробившись сквозь снег, лед и искусно созданные англичанами укрепления, 50–60 человек были убиты и ранены. Арнольд отошел от города на милю. В течение следующих месяцев он получал небольшие подкрепления, но с наступлением весны, все еще страдая от полученного ранения, сдал командование и медленно отправился в Монреаль. Солдаты, которых он оставил под началом генерал-майора Дэвида Вустера, надеялись провести лето 1776 года внутри городских стен Квебека. Храбрость и высокий моральный дух привели американцев к городу, заставив их совершить один из самых впечатляющих марш-бросков XVIII века. Эти люди и те, кто присоединился к ним уже в Канаде, не могли не надеяться на то, что в конце концов город удастся взять. По крайней мере, они заслужили право на надежду.
IX
Пока развивались события в Канаде, в Бостоне осада закончилась на удивление внезапно. Американская армия форсировала события, оставив англичанам выбор между вылазкой в попытке снять осаду и эвакуацией города, чтобы таким образом покончить со своим незавидным положением. Генерал Хау выбрал второй путь. Началом конца стал необыкновенно холодный февраль, заставивший Вашингтона искать возможности для атаки — его наступательный пыл постепенно разгорался. Сейчас условия были благоприятными: лед сковал реки и был настолько прочен, что мог выдержать тяжесть армии, стоявшей между Кембриджем и Бостоном.Вашингтон снова созвал военный совет и уговаривал офицеров согласиться на штурм города. По его словам, армия насчитывала 16 000 бойцов — 7000 ополченцев и 9000 солдат Континентальной армии, а также свыше 50 тяжелых орудий, недавно доставленных из Тайкондероги и Краун-Пойнта молодым полковником артиллерии Генри Ноксом[549]. Нокс был донельзя похож на одну из своих мортир: высокий, плотно сложенный (в то время он весил около 280 фунтов), с громовым голосом, но веселый, дружелюбный, располагающий к себе человек. Также он разбирался в своем деле, более того, стремился учиться даже в неблагоприятных для себя обстоятельствах. В ноябре 1775 года Вашингтон послал Нокса в Тайкондерогу, чтобы доставить захваченную там артиллерию. Этот эпизод стал одним из самых впечатляющих примеров упорства и смекалки, проявленных в ходе войны[550]. Несмотря на отсутствие дорог и транспорта, Ноксу удалось переправить в Олбани 44 пушки, четырнадцать мортир и гаубицу. Сначала он плыл по озеру Джордж на плоскодонных баржах, затем пробивался сквозь снег и лед на специально сделанных для этого тяжелых санях, а также четыре раза переправлялся через реку Гудзон. На пути из Олбани в Беркшир он сделал остановку только один раз, чтобы выловить из воды тяжелую пушку, проломившую лед, — вся артиллерия ехала в повозках, запряженных лошадьми и волами. К концу января Нокс уже был во Фремингэме, а в начале февраля все орудия были установлены на лафеты и готовы к бою. Несмотря на прибытие артиллерии и свежих отрядов, военный совет вновь отклонил план Вашингтона. Вместо этого он рекомендовал занять Дорчестерские высоты, на которые по-прежнему никто не обращал внимания, в надежде на то, что Хау решит повторить ошибку Банкер-Хилла. Установка орудий на этих высотах сделала бы Бостон уязвимым — Хау вынужден был бы реагировать или ждать, пока его солдат разнесут бомбами на куски. Вашингтон благосклонно выслушал возражения и принял предложение совета занять Дорчестерские высоты. Трудность выполнения этого плана состояла в том, что гавань Бостона покрылась льдом, равно как и окружавшая ее суша, включая холмы на полуострове Дорчестер. Требовалось решить вопрос, как укрепиться там за ночь, что удалось раньше сделать на Бридс-Хилле. Окопаться было невозможно, по крайней мере за такое короткое время, так как земля слишком промерзла. Слабость же обороны спровоцировала бы немедленное нападение британцев, которое необстрелянная американская армия, вполне возможно, не смогла бы отразить. Полковник Руфус Патнэм предложил решение проблемы: укрепиться нужно на земле, а не в ней. В конце февраля солдаты у Дорчестера принялись сооружать своего рода канделябры, большие конструкции из дерева, которые предполагалось набить габионами, фашинами и кипами сена. Патнэм также посоветовал сделать засеку из росших поблизости фруктовых деревьев, которая бы опоясывала укрепления, а также наполнить землей бочки и установить их за бруствером. Бочки эти выглядели как укрытие, но на самом деле их в любой момент можно было покатить на штурмующих холм англичан[551]. Пока близ Дорчестерских высот шла стройка, а солдаты вгрызались в мерзлую землю, которой нужно было наполнить габионы и бочки, Вашингтон готовил войска в Кембридже — им предстояло штурмовать Бостон через Бэк-Бэй. Командующим этой операцией был назначен доблестный «Старый Пат», Израэль Патнэм, а за переправу отвечали Джон Салливан и Натаниэл Грин. Эта операция должна была служить ответом на любые попытки британцев выбить американцев с Дорчестерских высот. К 1 марта все было готово. Чтобы скрыть свои намерения, Вашингтон приказал устроить в ночь на 2 марта легкую бомбардировку Бостона с Личмир-Пойнта, Коббл-Хилла и Роксбери. Было произведено лишь несколько залпов, а ущерб был причинен разве что гордости американцев, так как разорвалась «Старая свинья» — одна из тяжелых мортир. Огонь возобновился следующей ночью уже в ответ на залпы англичан. В ночь на 4 марта артиллерийская дуэль продолжалась, а около 7 часов вечера, когда стемнело, генерал Томас отправился на Дорчестерские высоты. Он возглавлял отряд в 1200 рабочих, которым предстояло соорудить брустверы, а также 800 пехотинцев, готовых их прикрывать. Помимо этого в его распоряжении было свыше 300 повозок, запряженных волами, и телег, на которых лежали канделябры, габионы, фашины и шанцевый инструмент. Группа рабочих начала сооружать редут, а пехота заняла временные позиции на холме Нукс-Хилл. Рано утром на вершины холмов поднялись свежие рабочие, сменившие тех, кто уже находился там, и к рассвету два редута были практически готовы. Утром 5 марта Хау с изумлением смотрел на перемены в ландшафте. Высоты были заняты американцами, хорошо защищенными и готовыми сомкнуть зубы на его горле. Командующий британским флотом контр-адмирал Молино Шалдхэм, в декабре прибывший на смену Грейвзу, также не порадовал хорошими новостями: флот не сможет оставаться в гавани, если противник установит свои орудия на холмах[552]. Несколькими неделями ранее Хау принял решение эвакуировать Бостон — он ненавидел это место, чувствуя себя в ловушке, как ранее Гейдж. Инструкции, полученные им из метрополии, давали свободу действий, но сейчас он должен был начать эвакуацию, не закончив приготовления к ней, или же ему было нужно выбить американцев с высот, чтобы выиграть время. Поначалу он склонялся к атаке: корабли и баржи начали сосредотачиваться, развертывались войска, началась раздача провианта и боеприпасов. Согласно плану, войска должны были высадиться на полуостров ночью и утром начать штурм. Но прежде чем подготовка завершилась, сомнения, вызванные воспоминанием о фиаско при Банкер-Хилле, привели к тому, что он свернул все приготовления и приказал эвакуировать город. Сильный ветер и ливень, бушевавшие всю ночь с 4 на 5 марта, позволили Хау сохранить честь мундира: ветер разбросал суда англичан, и в таких условиях об атаке не могло идти и речи[553]. Пока Вашингтон, всегда предполагавший худшее, тревожно вглядывался вдаль, британские корабли подошли к пристаням Бостона, где в течение двух недель на них грузили оружие, запасы, снаряжение и, наконец, войска. Операция не была продумана, суда грузились наспех, поэтому неудивительно, что многое осталось на берегу, включая артиллерийских и драгунских лошадей. Как бы британцы ни спешили, они нашли время на разграбление жилых домов и лавок, оставив, таким образом, еще более дурную память о своем пребывании. 17 марта загрузился и отправился последний корабль, оставив Бостон армии Вашингтона. Однако еще добрых десять дней англичане не могли покинуть внешнюю гавань порта — погрузка осуществлялась столь небрежно, что требовалось закрепить груз, которому предстояло долгое плавание в открытом море. Впрочем, 27 марта 1776 года они оставили и эту гавань, что было концом британского правления в Бостоне. Прошел почти год с момента начала боевых действий, и если их нельзя назвать «половинчатой войной», как ее в свое время окрестил Джон Адамс, то в равной степени нельзя утверждать и то, что американцы использовали все свои ресурсы. Попытка захватить Канаду опровергла утверждение Адамса о том, что колонии удовлетворятся действиями «на линии обороны», то есть, другими словами, ведением оборонительной войны, и его разочарование можно было понять[554]. Он хотел большего, чем осада Бостона и экспедиция на север, — он жаждал объявления Америкой независимости. В марте 1776 года такая декларация была ближе, чем Адамс мог предполагать. Вряд ли он был, впрочем, доволен, если бы независимость была объявлена на следующий день после эвакуации англичан из Бостона. Джон Адамс никогда не был человеком терпеливым, но он был проницательным и даже (иногда) мудрым деятелем. В 1776 году его соотечественники проявили больше терпения, чем он, и, возможно, большую мудрость.14. Независимость
I
Пока мучения английской армии в Бостоне подходили к концу, прения на втором Континентальном конгрессе находились в разгаре и пока не вылились в Декларацию независимости. Второй конгресс собрался 10 мая 1775 года, как раз между сражениями при Лексингтоне и Банкер-Хилле. С самого начала был обозначен самый насущный и мучительный вопрос: в лоне Британской империи или вне ее американцы смогут лучше защитить свои свободы? И пока делегаты спрашивали себя о целях предпринимаемых американцами действий, они в то же время знали, что действовать необходимо. А действовать предстояло безотлагательно. Противники, все еще не отойдя от кровопролитного сражения на Лексинггон-роуд, стояли друг перед другом у Бостона. Предложение, внесенное едва ли не сразу после сбора делегатов, казалось, проистекало из логики событий: конгресс должен набрать регулярную армию. Следующие полтора месяца конгресс занимался преимущественно этим и в результате взял вопросы ведения войны в свои руки. Однако параллельно с присвоением генеральских званий, созывом войск и расходованием денег (которых у него не было) на нужды армии конгресс также взволнованно обсуждал, как наилучшим образом защитить права американцев. Весной 1775 года лишь немногие делегаты отстаивали идею независимости, и из этих немногих вообще никто не выступал за ее немедленное провозглашение. Скорее они считали, что если попытка примирения с англичанами и провалится, предпринять ее стоит, хотя бы потому, что за мир выступает большинство американцев[555]. Джон Адамс выступал за отделение от Великобритании, хотя и говорил: «Я являюсь таким же сторонником мира, как и все мы…» Однако Адамс не очень рассчитывал на мирное решение, так как король, парламент, министры и население Британии, угнетая колонии, «уже много лет постепенно идут по пути морального разложения». Ясно, что «раковая опухоль [разложения властвующих] укоренилась настолько глубоко и пустила столь сильные метастазы, что ее можно удалить только скальпелем»[556]. Чтобы получить шансы на успех, политическая хирургия требовала поддержки народа, но народ Америки был разделен по этому вопросу, как и делегаты конгресса, где большинство было против столь решительных действий. Адамс сравнивал народ с «громоздкой, неповоротливой машиной»; им нельзя управлять, а можно только позволить идти своими путями, пока он сам в конце концов не поймет, как нужно защищать собственную свободу[557]. В любом случае, в мае ни Адамс, ни кто-либо иной не предлагал заявить о независимости. Адамс уверял коллег, что сношения с метрополией можно осуществлять через короля, а парламент должен быть отстранен от управления колониями. С ним не соглашался Джон Дикинсон, агитировавший за уступки. Он предлагал оплатить груз чая, уничтоженный в Бостоне, позволить парламенту регулировать торговлю колоний и составить еще одну петицию в адрес короля с требованием устранения несправедливостей[558]. Недели шли, а привести стороны к согласию удавалось с трудом. Конгресс санкционировал набор армии буквально за пару дней до сражения при Банкер-Хилле, и почти сразу же после этого Джордж Вашингтон отъехал из Филадельфии к войскам. Джон Дикинсон и сгруппировавшиеся вокруг него умеренные делегаты не возражали против создания армии, а также не пытались продвинуть на место Вашингтона, известного своим скептическим отношением к попыткам мира с Англией, кого-то из своих единомышленников. В начале июля им удалось убедить конгресс послать королю вторую петицию, так называемую «Петицию оливковой ветви», где короля просили найти способ прекратить конфликт. Джон Адамс был глубоко разочарован верноподданническим тоном петиции, но ему пришлось смириться с колебаниями в стане делегатов. Хотя неукротимый дух Адамса не ведал умиротворения, все же его успокаивал рост рядов сторонников твердой линии. Один из них, Томас Джефферсон, прибыл в Филадельфию как раз тогда, когда конгресс получил сведения о Банкер-Хилле. Кроме того, по мере поступления британских ответов на американские инициативы оставаться сторонником примирения с ней становилось все затруднительнее[559]. Джон Дикинсон чувствовал себя в еще более двусмысленном положении, чем остальные: он одновременно составлял вторую петицию королю и работал вместе с Джефферсоном над декларацией о причинах и необходимости создания армии. Джефферсон предложил первый, достаточно мягкий ее вариант, который Дикинсон, чувствуя себя после Банкер-Хилла обязанным доказать, что является горячим сторонником свобод, ужесточил. Декларация, обвинявшая парламент в «попытке жестоким и бесцеремонным образом подавить колонии силой, что вынудило конгресс прибегнуть к необходимости удовлетворить просьбу последних о вооруженной защите», была принята 6 июля. Два дня спустя конгресс согласился с отправкой второй петиции королю, а в конце месяца отверг инициативы Норта, так называемое Предложение о примирении[560]. Возможно, во всех этих летних декларациях и было что-то «причудливое», как охарактеризовал работу конгресса тот же Адамс. Конгресс колебался и не мог решиться на что-то определенное: он готовился к войне, но просил о мире; он декларировал свою решимость бороться за свободы американцев и одновременно подавал миролюбивые петиции; он выражал свою лояльность королю и в то же самое время обещал стереть с лица земли его армию[561]. Однако на деле ничего причудливого в эти летние жаркие дни не происходило. При Банкер-Хилле погибли люди, и всякий раз, когда погибал хотя бы один американец, исчезал и один сторонник умеренной линии. Эхо гибели ополченцев и страданий населения раздавалось далеко за пределами Новой Англии. По мере того как вести о битве доходили до центральных и южных колоний, тамошние ополченцы собирались в отряды и двигались к Бостону. Они покидали свои дома, и вместе с ними их покидал дух компромисса. Официальные лица метрополии совершили столько ошибок, что уничтожили на корню всю поддержку, которую им могли оказать умеренные. После начала войны немногие министры кабинета Норта сохраняли умеренность. Слова Норта казались миролюбивыми, но для успокоения разгневанного короля их было совершенно недостаточно. Дартмут мог бы помочь Норту обуздать требовавшую крови партию войны, но Дартмуту почти никто не доверял, и осенью он оставил пост. Сменивший его лорд Джордж Джермен был явным сторонником твердой руки и мечтал поставить зарвавшихся американцев на место[562]. Вести о Конкорде и Лексингтоне уменьшили вероятность компромисса, а Банкер-Хилл сделал ответ англичан еще более жестким. В конце августа король выразил общее (и личное) негодование поведением американцев, заявив, что колонии находятся в состоянии «неприкрытого и явного мятежа». Два месяца спустя в своем обращении к парламенту он объяснил, что в Америке действуют «отчаянные заговорщики», ведущие повстанческую войну, «целью которой является создание независимой империи»[563]. После начала военных действий многие члены парламента, вне всякого сомнения, пришли к тому же выводу. Они последовали примеру министров, и, прежде чем закончился год, 22 декабря 1775 года парламент принял Запретительный акт, прекращавший всякую торговлю со стороны колоний. Данный статут сделал американские суда и их грузы мишенью для королевского флота; все корабли, торгующие с колониями, должны быть «конфискованы в пользу Его Величества, как если бы эти корабли и их грузы принадлежали нашим врагам, а экипажам должен быть вынесен приговор в любом адмиралтейском суде либо в других судах»[564]. Если бы король, его министры и парламент задались целью убедить американцев отделиться от империи, они бы не смогли предложить лучших законов, чем те, что стали приниматься начиная с апреля. Британская армия маршировала по колониям и убивала жителей в двух кровопролитных столкновениях; петицию конгресса сочли недостойной ответа; американцы были названы предателями и мятежниками, которых нужно подавить силой. На первый взгляд, торговая блокада не была таким уж знаменательным событием, однако Для жителей колоний она совершенно справедливо еще раз продемонстрировала, что слова короля и его правительства не расходились с делом. Такие ярлыки как «предатели», «заговор», «враги» не оставляли большой надежды на ведение переговоров, и с течением времени ситуация только загонялась в тупик. «Красные мундиры» продолжали угрожать Новой Англии, и намерения парламента и кабинета министров уничтожить экономику Америки стали ясны. Когда в октябре пришли свежие новости из Англии, американцы узнали, что король объявил их мятежниками. Почти сразу же стало известно и о том, что король отказался принять к сведению петицию, одобренную конгрессом в июле, а также пошли слухи об отправке в Америку новых частей регулярной британской армии. В феврале 1776 года, когда конгресс уведомили о Запретительном акте, перспектива примирения отдалилась как никогда прежде. Но конгрессмены по-прежнему медлили с провозглашением независимости. В Филадельфии ждали какого-нибудь очевидного доказательства того, что за отделение от метрополии выступает весь народ Америки. Кроме того, колебания были вызваны тем, что меньшинство делегатов вынашивало надежду, что мирные переговоры, которые смогут залечить кровоточащие раны, нанесенные событиями прошлого года, все еще возможны. В некоторых колониях британские официальные лица показали, что фатальные промахи не являются монополией министров Его Величества. Летом губернаторы Северной и Южной Каролины после неуклюжих попыток продиктовать легислатурам провинций свою волю просто-напросто сбежали из своих резиденций под защиту британского флота, курсировавшего вдоль побережья. Тем самым они последовали примеру лорда Данмора, губернатора Виргинии, ставшего первым в ряду тех, кто нашел убежище на британских фрегатах. После того как палата горожан Виргинии отвергла «мирное» предложение Норта, Данмор распустил ее и теперь с борта военного корабля наблюдал за тем, как конвент (палата нашла себе новое название) взял на себя управление колонией. К ноябрю Данмор испытывал чувство безысходности, расхаживая взад и вперед по качающейся палубе и обозревая английскую эскадру, которая, как и сам он, совершенно не знала, что делать. В начале месяца Данмор призвал рабов Виргинии к восстанию, пообещав им свободу, если они будут сражаться против своих хозяев. Если в Виргинии к тому времени и оставались лоялисты, то их теплые чувства к британской короне испарились тотчас после воззвания Данмора. Для белого американца вероятность восстания рабов никогда не казалось ничтожной, к его возможности относились с ужасом. 1 января 1776 года Данмор приказал кораблям обстрелять Норфолк. В городе начались пожары, которые, можно сказать, видела вся Виргиния[565].II
Британцы совершали одну ошибку за другой, а колониальные правительства тем временем пытались строить новую власть. Особенно тяжело приходилось Массачусетсу: за последний год парламент перетряхнул состав его легислатуры до основания. Столкнувшись с военными действиями в районе Бостона, провинциальный конгресс запросил рекомендаций Континентального конгресса в отношении своих дальнейших шагаов: принимать ли акты, нацеленные на сопротивление британцам, или вернуться к хартии 1691 года? В июне конгресс высказался за то, чтобы провинция не соблюдала требования Массачусетского правительственного акта (одного из «Невыносимых законов»), а вернулась к своим старым уложениям, разумеется без королевского губернатора. Такое решение было вполне реалистичным, так как отражало господствующее внутри самого Массачусетса общественное мнение, а также придерживалось традиционных основ властных структур. Пять месяцев спустя конгресс еще явственней дал понять колониям, что они могут действовать как независимые образования, порекомендовав конвенту Нью-Гэмпшира собрать народную ассамблею. Члены конвента могли при необходимости «учредить такую форму правления, какая, согласно их разумению, наилучшим образом подойдет народу Нью-Гэмпшира» и останется неизменной, пока продолжается «текущий конфликт» с Великобританией. Вскоре такие же рекомендации были даны и Южной Каролине, также попросившей совета[566]. Эти шаги встревожили противников независимости среди членов конгресса, в особенности Джона Дикинсона. По его совету ассамблея Пенсильвании несколько дней спустя после рекомендаций конгресса Нью-Гэмпширу наказала своей делегации не соглашаться с отделением от метрополии или с изменением формы правительства Пенсильвании. Ее примеру последовали и легислатуры Делавэра и Нью-Джерси: их делегаты получили соответствующие инструкции еще до конца года, а Мэриленд — в январе 1776[567].III
Несмотря на подобные действия отдельных легислатур, в обществе вызревали совершенно противоположные настроения, которые грозили отодвинуть в сторону осторожные органы власти. Настроения эти, говоря простым языком, означали потерю веры во все английское и все больше и больше выражали поддержку идее независимости. В январе красноречивым выразителем таких настроений стал Томас Пейн, написавший один из основополагающих манифестов Войны за независимость — трактат «Здравый смысл»[568]. Томас Пейн, сын английского квакера, зарабатывавшего на жизнь изготовлением корсетов, прибыл в Америку лишь за год до публикации «Здравого смысла». Ему было 39 лет, и до той поры его постигали неудачи во всем, за что он брался. Подобно своему отцу, он пытался стать корсетным мастером, но не преуспел. Затем он был учителем, сборщиком налогов, лавочником, и везде его ждал провал. Он даже был дважды женат, но его первая жена умерла при родах, а вторая была женой лишь номинально, так как супружеских отношений между ними не было[569]. Друг Пейна, акцизный чиновник Джордж Скотт, в 1774 году познакомил его с Бенджамином Франклином, который как раз завершал свою миссию в Англии в качестве посланника колоний. Очевидно, Франклин разглядел в Пейне какой-то талант, который дремал глубоко в душе, и, когда Пейн сообщил ему, что хотел бы уехать в Америку, снабдил его рекомендательным письмом к своему зятю, филадельфийскому торговцу Ричарду Баху. По всей видимости, Пейн не планировал заниматься в Америке коммерцией, но после своего прибытия 30 ноября 1774 года разыскал Баха. Вскоре в местных газетах стали появляться его стихи и очерки[570]. Судя по всему, набив шишки на своих многочисленных неудачах, Пейн научился хорошо излагать свои мысли, и теперь он направил это умение на благо того дела, которое, как он надеялся, осчастливит человечество. Его обращения к американцам подвергали сомнению некоторые из их глубочайших убеждений, а именно то, что их права дарованы древними конституциями, а также то, что их интересы защищены историческими связями с Британией. Эти убеждения Пейн называл «иллюзорными». По его мнению, никакая непреложная политическая истина более не была таковой. Британская конституция, далекая от того, чтобы считаться благом цивилизации, ее части «являются порочными остатками двух древних тираний» — монархии и аристократии. Большая часть американских публицистов избегала нападок на короля даже после начала войны — их точка зрения выражалась в том, что король находится под влиянием своих недобросовестных министров. Пейн с презрением обрушился на такое благодушие. Монархия, пояснял он, «самое ловкое из ухищрений дьявола для насаждения идолопоклонства». Что касается наследственной монархии, то эта практика извращает законы самой природы, которая иначе «не обращала бы их в насмешку, преподнося человечеству осла вместо льва». Весь трактат пестрел такими меткими сравнениями, равно как и изобретательными нападками на институты, которые американцы привыкли считать связующими их с метрополией. Большинство убийственных доводов подавалось в контексте текущей политической ситуации или излагалось языком, понятным среднему американцу. Например, Пейн пересказывал ветхозаветную историю монархии, а если его аудитория не улавливала связи с язычеством, то он без обиняков сравнивал монархию с государственным папизмом[571]. Тем, кто не был столь впечатлителен или был лишен протестантских предрассудков, Пейн призывал на помощь «простые факты, ясные доводы и здравый смысл», касающиеся положения Америки, доказывая, что оно непременно ухудшится, если пойти на временное примирение. Для подкрепления своих выводов Пейн пользовался традиционными аргументами, демонстрирующими противоположность интересов англичан и американцев, однако самым убедительным доводом, раньше не звучавшим, стало то, что кровь американцев уже пролилась, и с каждой каплей этой крови их привязанность к «стране предков» ослабевает. Борьба идет на уровне страстей, и той страстью, что обращена на Британию, стала ненависть. Вывод казался очевидным: «Примирение — обманчивая мечта»[572]. Многое из того, что писал Пейн, на самом деле было предметом обсуждения уже девять месяцев, что прошли после Лексингтона. Текущие события, сделавшие очевидной упрямство и враждебность короля и парламента, сделали примирение сторон труднодостижимым. «Здравый смысл» помог американцам осознать, насколько далеко они зашли в борьбе за свои права, помог понять, что они больше не смогут вернуться к status quo 1763 года. Если Пейн говорил правду, то ни король, ни парламент, ни народ Англии также не имели никакого желания соблюдать прежние договоренности. Часть аргументов Пейна уже высказывалась в различных памфлетах, опубликованных за эти двенадцать лет, по мнению авторов, заговор против колоний осуществлялся полным ходом. Однако Пейн пошел дальше: он показывал, что этот заговор был заложен в самой природе англо-американских соглашений. И так как заговор был неотделим от монархии и британской конституции, то американцы, по сути дела, были лишены выбора — им нужно было провозглашать независимость. Декларация независимости могла быть продиктована только здравым смыслом, и Пейн твердо верил, что это может стать историческим прорывом. Всего в нескольких словах он указывал американцам на значимость того, что они делали: «В нашей власти начать строить мир заново. Со времен Ноя до настоящего времени не было положения, подобно существующему». Мы не можем сказать, насколько серьезно аудитория Пейна воспринимала его фразеологию. Несомненно, Пейн апеллировал к тому, что осталось от христианского милленаризма, прошлого жителей колоний, и, проповедуя исторический разрыв, он одновременно лил бальзам на души своих читателей, уверяя, что Американская революция должна занять свое место в истории христианства[573]. Разумеется, Пейну отвечали, он реагировал, и между ним и его корреспондентами началась полемика. Но все, кто принимал участие в этом споре, продвигались к истине, и им удалось увидеть отблески будущего Америки. Критики «Здравого смысла» и его основного утверждения, что независимость должна быть объявлена незамедлительно, предлагали целый ряд контраргументов. Одни утверждали, что время еще не пришло, другие возражали, что сама идея независимости неверна, так как американские свободы никогда не включали в себя безопасность, гарантированную прежними конституциями. Некоторые корреспонденты Пейна сделали упор на его мечтаниях о начале новой истории Америки — их ответы пестрили пугающими для XVIII века словами «новаторство», «утопия», «визионерство» и «анархия». Пейн отвечал под псевдонимом Лесной житель, выбранным им, скорее всего, чтобы показать, насколько жизнь в Америке свободна от европейской аморальности, отстаивая утверждение, что независимая Америка — это чистый лист, на котором можно писать историю. Чего, вопрошал он, бояться Америке, «кроме ее Господа», ибо Америка, «находящаяся вдали от жестокого мира, может наслаждаться покоем под охраной океана и пустыни…»[574]. Пейн опубликовал «Здравый смысл» в Филадельфии, и его очерки от лица Лесного жителя появились в городских газетах. Его друзья сделали своей трибуной филадельфийскую прессу, так же поступили и его политические оппоненты, но, вследствие того что полемика затрагивала «континент», «Здравый смысл» был перепечатан во всех больших городах Америки и во многих малых. Естественно, дебаты вокруг трактата ширились, вовлекая и влиятельных лиц, таких как Джон Адамс. За несколько месяцев было напечатано свыше 100 000 экземпляров «Здравого смысла», а все газеты стали ареной борьбы сторонников независимости и примирения[575]. Один из тезисов, выдвигаемых Пейном, состоял в том, что исторические враги Британии в Европе будут более склонны поддерживать колонии, если те объявят о независимости. Ни одна европейская держава не вмешается во внутренний спор Британии с ее колониями, если те могут вновь объединиться против внешнего врага, как бывало в прошлом. Объявление независимости убедит Европу, в особенности Францию, на которую некоторые члены конгресса смотрели как на страну, способную оказать поддержку финансами и оружием.IV
В первые месяцы 1776 года ряды партии тех членов конгресса, которые выступали за международную поддержку, росла. Эти «радикалы» (а их радикализм состоял в отстаивании идеи независимости) согласовали ряд шагов, которые, по их мнению, давали надежду на успех войны за независимость. Братья Адамс, братья Ли и их сторонники считали, что первым важным шагом будет создание новых институтов власти в колониях. Хотя у них не было ясной идеи, какими должны быть эти органы, их создание должно было послужить сплочению американцев вокруг идеи независимости. Когда колонии образуют институты власти, следующими шагами должны стать, как писал Джон Адамс Патрику Генри, «образование конфедерации и определение основных пунктов континентальной Конституции; объявление колоний суверенным государством или несколькими конфедеративными государствами; и наконец, заключение договоров с иностранными государствами». Письмо Адамса Генри датировано 3 июня, когда уже было совершенно понятно, что все эти шаги — лишь вопрос времени, поэтому их порядок не очень важен[576]. А в феврале «радикалы» серьезно относились к последовательности своих действий как к важному для осуществления своих планов фактору, причем эти планы, хотя и имели в виду те шаги, которые Адамс перечислил в своем письме, включали в себя ряд мер, которые были по плечу только оформившемуся государству. Эти меры можно увидеть в проекте меморандума, составленного Джоном Адамсом: заключение союза с Францией и Испанией; отправка послов в эти страны; регулирование валютной системы; создание и обеспечение вооруженных сил в Канаде и Нью-Йорке; поощрение производства пеньки, парусины, селитры и пороха; взимание налогов; подписание договоров с Францией, Испанией, Голландией и Данией; начало каперской войны; объявление независимости и войны Англии. В программе «радикалов» были и другие пункты, но приоритетным оставалось объявление независимости[577]. «Радикалы» столкнулись с серьезной, хотя и малочисленной («Здравый смысл» послужил началу отказу общественного мнения от идеи примирения) оппозицией в конгрессе. Непростым вопросом являлось и взаимодействие радикалов с такими политиками. «Умеренные» не были настроены менее патриотично, чем «радикалы», не были они и менее озабочены защитой американских свобод — они соглашались, что последние подверглись за последний год жестокому подавлению. Но «умеренные» предпочитали видеть Америку свободной в лоне империи, а не саму по себе. Некоторые из них сомневались, что у колоний хватит сил существовать как самостоятельные государства, без поддержки со стороны метрополии. Конгресс создал комитет, призванный дать ответ на обвинения Георга III в том, что колонии хотят отделиться от Великобритании, куда вошли пять представителей «умеренных»: Джеймс Уилсон и Роберт Александер от Мэриленда, Джеймс Дуэйн от Нью-Йорка, Уильям Хупер от Северной Каролины и Джон Дикинсон. Вполне возможно, что «радикалы» согласились на такой состав комитета, чтобы вынудить «умеренных» прояснить свою позицию по вопросу о независимости. Уилсон представил от имени комитета отчет (документ, подвергаемый нападкам и злословию и тогда и сейчас), где говорилось, что колонисты желают оставаться британскими подданными, но полны решимости также оставаться и свободными людьми. Эта устаревшая уже формулировка больше никого не трогала, и когда 13 февраля отчет был заслушан, «радикалам» удалось снять его с повестки дня. Судьба отчета Уилсона не сильно расстроила «умеренных», так как одна за другой приходили новые новости, свидетельствующие о намерениях англичан; вскоре все узнали о том, что иностранные наемники англичан уже находятся в пути[578]. Тем временем с началом весны ««радикалы» стали проявлять большую активность в конгрессе. В конце марта конгресс выпустил воззвание, гласившее, что «жителям колоний… разрешается снаряжать военные суда для действий против врагов Соединенных колоний на море»[579]. Джон Адамс, ранее жаловавшийся на то, что колонии ведут половинчатую войну, теперь говорил Горацио Гейтсу, что сейчас началась «война на три четверти»[580]. А в начале апреля, после нескольких месяцев напряженных дискуссий, конгресс согласился с началом торговли со всеми странами, кроме Британии. Шаги конгресса были отчасти обусловлены распространением в обществе мысли, что объявление независимости будет единственным возможным выходом. Колониальные легислатуры (или замещавшие их провинциальные конгрессы) начинали понимать, куда ветер дует, и одна за другой отменяли свои ограничительные наказы делегациям Континентального конгресса. Южная Каролина 21 марта позволила своим делегатам присоединиться к большинству конгресса и делать все необходимое для защиты интересов Америки; эту туманную фразу все поняли как готовность объявить о независимости. Вскоре после этого делегация Джорджии получила еще более завуалированные инструкции, в которых, однако, тоже разрешалось голосовать за независимость. Провинциальный конгресс Северной Каролины 12 апреля предоставил своим делегатам полномочия «действовать сообща с делегатами других колоний в голосовании по вопросу независимости и заключения союзов с иностранными державами…». Наиболее решительно действовал Род-Айленд, в первую неделю мая объявивший о собственной независимости. Также эта колония дала своим делегатам довольно широкие полномочия в деле совместных усилий колоний оказывать сопротивление общему врагу[581]. Все эти акции были разрозненными, и все они остановились буквально за шаг до предложения объединить страну. Как и в конгрессе, в провинциальных легислатурах существовало соглашение о том, что колонии должны объединиться в лигу свободных государств, прежде чем они объявят независимость от Британии. И подобно членам конгресса, члены местных органов были уверены, что для победы в освободительной войне необходим союз с Францией. Даже Патрик Генри, убежденный сторонник свободы Америки, опасался объявления независимости до образования американской конфедерации[582]. Виргиния, включая даже Эдмунда Пендлтона, которого за глаза звали «старик Умеренность», 15 мая избавилась от последних колебаний. В этот день появилась составленная Пендлтоном резолюция, где делегатам от Виргинии предписывалось согласиться с тем, что конгресс объявит колонии «свободными и независимыми государствами», и с «любыми шагами», которые конгресс сочтет необходимыми для «заключения союзов с иностранными державами и образования конфедерации колоний в то время и таким образом, которое окажется наилучшим для них. При этом подразумевается, что полномочия по созданию исполнительных органов и органов, ответственных за ведение внутренних дел в колониях, останутся у колониальных легислатур»[583]. Эта резолюция спустя несколько дней оказалась в распоряжении виргинских делегатов и была зачитана в конгрессе 27 мая. Отныне в конгрессе доминировали «радикалы», чье число возрастало пропорционально новым фактам британской агрессии. Из Европы продолжали приходить слухи и сообщения о том, что британское правительство полно решимости покорить «мятежников» силой. Никаким иным образом нельзя было объяснить новости о массовой вербовке наемников в немецких княжествах. Если метрополия не намеревается вступать в мирные переговоры, то, спрашивали себя делегаты, как может начинать такие переговоры Америка? Итак, надежда на мир практически угасла, но проблема, что делать дальше, оставалась. Столь долго обсуждавшийся первый шаг был сделан 10 мая, за пять дней до виргинской резолюции, когда конгресс порекомендовал колониям создать правительства, «необходимые для ведения текущих дел», правительства, которые «кратчайшим путем приведут к счастью и благоденствию свои народы в частности и всю Америку в общем»[584]. Данная резолюция возражений не вызвала, но, когда спустя три дня Джон Адамс предложил к ней преамбулу, они появились. Преамбула эта, одобренная 15 мая, заслуживает того, чтобы привести ее почти полностью.Вследствие того что Его Британское Величество, Палата лордов и Палата общин Великобритании лишили, согласно недавнему акту парламента, жителей Соединенных колоний защиты короны; вследствие того что на верноподданнические петиции колоний об устранении несправедливостей и примирении с Великобританией ответа не было и, скорее всего, не будет, но, наоборот, вооруженные силы Великобритании и иностранные наемники отправлены для уничтожения благонамеренных жителей этих колоний; вследствие того что давать какие-либо клятвы верности и демонстрировать лояльность любому государственному институту под эгидой британской короны для жителей этих колоний противоречит здравому смыслу и собственной совести… необходимым является прекращение деятельности всяких органов власти вышеупомянутой короны и передача их полномочий властям, избранным жителями колоний, с целью сохранения внутреннего мира, добродетелей и порядка, а также защиты жизни, свобод и собственности жителей от вражеского вторжения и опустошения земель…[585]Такая преамбула нивелировала все попытки объявить о независимости пошагово, после подготовительных мер, и уж точно она противоречила самой резолюции, декларировавшей важные, но ограниченные действия. В разрез этому, указывали «умеренные», преамбула фактически объявляет колонии независимыми; особенно ясно это прослеживается в параграфе, требующем прекращения деятельности органов власти короны и передачи власти новым органам, действующим от имени народа. Такая интерпретация на самом деле адекватно отражала настроения «радикалов», распространившиеся по всем колониям[586]. Что интересно, сами «радикалы» не понимали до конца создавшейся ситуации, того, насколько большое влияние они получили. Несколько недель они колебались, пока наконец 7 июня Ричард Генри Ли не внес предложение «объявить Соединенные колонии тем, чем они должны быть, то есть свободными и независимыми Штатами, избавленными от всякой зависимости от британской короны, так что любые политические отношения между ними и государством Великобританией являются (и должны являться) полностью исчерпавшими силу»[587]. Следующим днем, в пятницу, а затем в понедельник 10 июня конгресс обсуждал резолюцию Ли. Поправки и дебаты шли в привычном ключе: обе стороны приводили разумные доводы, хотя, вероятно, и ошибались в оценке своей поддержки народом. «Радикалы» и «умеренные» соглашались, что срединные колонии, особенно Пенсильвания и Мэриленд, еще «не готовы распрощаться с британским прошлым, но быстро подвигаются к этому…». «Умеренные» указывали на политическую незрелость жителей этих колоний и рекомендовали конгрессу подождать, «пока мы не услышим голос народа, ибо он — наша власть». «Радикалы» считали, что народ уже готов: «Он одобряет независимость, хотя инструкции, данные некоторыми из его представителей, говорят об обратном». Народ всего лишь «ждет, пока мы его возглавим». «Умеренные» выдвигали и другую причину для отсрочки: альянс с иностранными державами, по их мнению, можно было заключить на лучших условиях после победоносной военной кампании, на которую они рассчитывали летом. Ответ «радикалов» не замедлил себя ждать: «Объявление независимости позволит заключить более полезный альянс»[588]. Члены конгресса после обмена мнениями решили по предложению Ли отложить окончательное решение на 1 июля, а чтобы не тратить время, сформировали комиссию по подготовке Декларации независимости, если таковую будет решено принять. Эта комиссия, состоявшая из Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана, Роберта Ливингстона и Томаса Джефферсона, закончила свою работу 28 июня — большую часть документа составил Джефферсон. В 1776 году Джефферсону было 33 года. Он родился в Шэдуэлле, округ Гучленд (ставший частью округа Албемарл через год после его рождения), и был третьим ребенком Питера Джефферсона и Джейн Рэндольф. Питер Джефферсон перевез свою молодую жену вверх по течению Риванна-Ривер, притока реки Джемс, незадолго до рождения их сына. Питер был человеком амбициозным и незадолго до своей смерти в 1757 году стал одним из самых уважаемых плантаторов западной Виргинии. Хотя в приданом его жены не числилось земельных и прочих угодий, женитьба, безусловно, помогла его возвышению — Рэндольфы считались весьма влиятельной семьей, и принадлежность к ним выделяла человека из среды рядовых плантаторов. Питер Джефферсон хотел, чтобы его сын получилобразование, и отправил его к местному приходскому священнику, который преподавал ему латынь и греческий — так зародилась любовь Томаса к классическим наукам. Он продолжил обучение в колледже Вильгельма и Марии с 1760 по 1762 год, а затем готовил себя к карьере адвоката, обучаясь у Джорджа Уита, известного в Уильямсбурге юриста и поклонника классического образования. Возможно, Джефферсон познакомился с Уитом через Уильяма Смолла, профессора натурфилософии в своем колледже. Смолл разглядел в Джефферсоне талант и стал для него не только преподавателем, но и другом; Джефферсон не мог бы найти в Уильямсбурге лучших наставников и друзей. И Смолл и Уит были высокообразованными людьми, оба они служили примером для юного Джефферсона, и хотя его не нужно было побуждать к учебе, его наставники, несомненно, научили предъявлять к себе определенные требования. Джефферсон был прилежным студентом, но оставался живым молодым человеком. Уит велел ему прочесть трактат «Кук о Литтлтоне» — первую из четырех частей составленного Эдвардом Куком свода законов Англии. Вскоре Джефферсон прочитал все четыре части, но не без отвращения. Своему другу Джону Пейджу он признавался: «Я искренне надеюсь, что душу старика Кука забрал дьявол, ибо я ни от чего так не уставал, как от этого ветхого, скучного мерзавца». Когда он произносил это, ему было девятнадцать лет. Ему был невыносим Кук, и он жаждал общества своих друзей: «Передавай мои нежные приветы, — писал он Пейджу, — всем юным леди, с которыми я знаком». Юный виргинский джентльмен обычно мог похвастаться обширными знакомствами, и список пассий Джефферсона был длинен. Так, туда входила некая Элис Корбин, на которую он имел виды, а его переписка той поры рисует образ привлекательного юноши, пылко превозносящего свою «Белинду», как он называл Ребекку Бервелл, а также мечтающего о танцах и обществе молодых леди и не вполне ясно представляющего себе будущее. Каковы бы ни были мечты Джефферсона, он должен был понимать, что его будущее связано с адвокатской практикой и выращиванием табака, и он рьяно принимается за то и другое с ответственностью, необычной для молодого человека. Отец Томаса умер, когда ему было четырнадцать лет, и к 21 году на его плечах лежала забота о матери и младшей сестре Элизабет. Он мужественно принял вызов: бережливо вел семейное хозяйство, начав выращивать табак примерно в одно время со вступлением в адвокатскую коллегию. Финансовые отчеты, которые он делал в те годы, рисуют нам портрет рачительного человека, старавшегося фиксировать любые расходы. Так, например, если во время своих деловых поездок ему нужно было отдать вещи в стирку и он оставлял шиллинг для прачки, то этот факт непременно находил отражение в его записях. То же самое происходило, когда ему требовалось подковать лошадь. Джефферсон, судя по всему, снискал уважение своих соседей и более важными деяниями, так как в 1769 году они выдвинули его в палату горожан Виргинии от округа Албемарл. Три года спустя, 1 января 1772 года, он женится на молодой вдове Марте Уэйлс Скелтон. Хотя Джефферсон почти не упоминал о своей жене в письмах и не говорил о ней даже своим друзьям, брак был очень счастливым с обеих сторон. Вплоть до начала войны в 1775 году жизнь Джефферсона ничем не отличалась от жизни прочих виргинских плантаторов, но в следующем году 33 лет от роду он уже прослыл человеком невероятных способностей. Его отличали не только широкий круг интересов и блестящее образование — казалось, что ему интересно все происходящее вокруг и почти все, чему можно научиться из книг. Он изучал архитектуру, музыку, классическую литературу, политику, юриспруденцию, историю и естественные науки, однако выделял его не багаж знаний, а интеллект. Джефферсон не был мыслителем или теоретиком. Не беспокоили его и формальные проблемы философии. Так, к Платону он относился без всякого уважения; он не питал интереса к абстракциям, но его ум был чрезвычайно пытлив. Джефферсон задавал вопросы по всем предметам, что изучал, и искал эмпирические ответы на них. Он не удовлетворялся поиском доказательств, что было присуще законникам, — у него были склонности и задатки настоящего ученого. И самое главное, Джефферсон имел воображение, развитое более чем у кого бы то ни было из его современников. Революция стимулировала это воображение и прояснила перспективы, разворачивавшиеся перед гражданами свободной Америки. К 28 июня все колонии, кроме Нью-Йорка, позволили своим делегатам голосовать за независимость. Пенсильвания особенно неохотно присоединялась к общей тенденции, но народные активисты, взяв на вооружение преамбулу Адамса от 15 мая, стихийно собрали толпу и буквально заставили легислатуру принять нужное решение. Итак, когда 1 июля дебаты возобновились, подавляющее большинство конгресса выступало за независимость. Однако голосование показало, что делегации Пенсильвании и Южной Каролины выступили против проекта, а мнения двух представителей Делавэра разделились. Делегаты Нью-Йорка ответили, что поддерживают объявление независимости, но не могут голосовать «за», так как повинуются старым наказам. На следующий день, 2 июля, явился третий член делегации Делавэра, и она присоединилась к большинству; так же поступили Южная Каролина и Пенсильвания. Таким образом, в оппозиции находился только Нью-Йорк, одобрение конвента которого появилось в конгрессе только 15 июля. Но еще до того, 4 июля, конгресс принял Декларацию независимости, внеся несколько поправок в проект[589]. Официальная Декларация, принятая в июле 1776 года, вызвала огромный резонанс, но еще до этого, с апреля по июль, было обнародовано порядка 90 деклараций меньшего масштаба, составленных во всех колониях. Так поступили девять колоний, некоторые сказали об этом в инструкциях делегатам; Род-Айленд, всегда имевший собственное мнение, принял законодательный статут; другие колонии ограничились преамбулами к своим конституциям. По меньшей мере девять округов послали соответствующие наказы провинциальным конгрессам или легислатурам. О своей независимости заявили три коллегии присяжных, полдесятка частных или полугосударственных корпораций, например ремесленники Нью-Йорка и батальоны ополченцев в Пенсильвании. Декларации выпустили более 50 городов[590]. Все эти документы так или иначе отражали историю конфликта с Великобританией, ряд из них весьма детально. В некоторых из них, написанных витиевато, в громоздких выражениях излагаются причины разрыва с королем и парламентом. Вот, например, образец декларации коллегии присяжных округа Чероуз, Южная Каролина: «Когда мы лишились, без всякой на то причины, защиты со стороны [короля и парламента], и ее заменили жестокость и угнетение; когда тирания, насилие и несправедливость пришли на смену равенству, кротости и дружелюбию; когда кровопролитие, убийства, грабежи, пожары и преследования выявили злонамеренность Англии, то самосохранение и забота о благосостоянии и безопасности стали важнейшей необходимостью». Несмотря на все упражнения в изящной словесности, декларации завершались вполне определенными выводами. Коллегия присяжных из Чероуз говорила об «отделении» так: «Оно доказывает свою полезность тем, что является единственно возможным залогом счастья и безопасности». В первые месяцы 1776 года такой вывод казался очевидным многим американцам, не только остававшимся в городах и селениях, но и тем, кто сражался в Континентальной армии и ополчении[591].
V
Солдаты, построившиеся на плацу 9 июля, слушали, как офицеры зачитывают им текст Декларации независимости, а в последующие дни и большинство гражданских услышали этот текст или сами прочитали его в газетах. И военные, и гражданские лица откликнулись приветственными возгласами и поздравлениями, но неясно, что им понравилось в Декларации больше всего. Наиболее вероятным кажется, что это объявление конгрессом независимости от Британии. Независимость де-факто была очевидна для многих уже в течение года, сейчас же она была закреплена де-юре, и нужно было подтвердить это, даже если потребуется жертвовать жизнями. Что именно американцы думали и как относились к «истине», которая представляется как «самоочевидная», а именно, что все люди «наделены их Творцом… неотчуждаемыми правами», среди которых «жизнь, свобода и стремление к счастью», остается неясным. В обществе не возникло какой-то спонтанной дискуссии по этому поводу, не было споров и вокруг утверждения, что все люди «созданы равными». Слова эти принадлежат Томасу Джефферсону, и хотя в то время да и долгие годы спустя они воспринимались как само собой разумеющиеся (как и весь текст Декларации), на самом деле в них, вполне возможно, содержится ряд более новаторских положений, чем принято считать. Декларация обычно считается выражением теории общественного договора Джона Локка, и в соответствии с последней как непреложный факт принимается то, что правящие круги Британии, управлявшие Америкой, нарушили фундаментальные принципы, определявшие их связь с американцами. Король Великобритании нарушал этот договор систематически, что в конце концов привело американцев к провозглашению своей независимости, но только после того, как им отказали в устранении несправедливостей. Соответственно объявление независимости, как считали жители колоний все эти двенадцать лет, стало следствием того, что они защищали свои права, и они пошли на крайнюю меру только после того, как все остальные закончились неудачей[592]. Документ, одобренный конгрессом 4 июля, возлагал большую часть вины за кризис отношений на короля и парламент. В черновике, представленном Джефферсоном, обвинение предъявлялось еще одной стороне — «нашим британским братьям», то есть населению метрополии. Согласно Джефферсону, народ Британии, подобно королю и «их легислатуре»,оставался глух к голосу справедливости и общей крови, а когда благодаря английскому законодательству ему предоставлялись возможности сместить со своих постов тех, кто нарушал нашу гармонию, он, народ, вновь и вновь оставлял их у власти. В то же самое время народ Британии позволил своим властям послать для нашего завоевания и уничтожения не только солдат одной с нами крови, но и иностранных наемников. Это стало последней каплей, переполнившей наше терпение, и дух мужества побуждает нас навсегда расстаться с этими бесчувственными братьями. Поэтому мы вынуждены забыть нашу прежнюю любовь к ним и рассматривать их, как мы рассматриваем и остальную часть человечества, в качестве врагов во время войны и друзей в мирное время. Мы могли бы стать свободными и великими народами, но отношения в духе благородства и свободы, как кажется, ниже их достоинства. Пусть будет так, как они решили. Дорога к славе и счастью открыта теперь и для нас. Мы будем идти по ней в независимом государстве и признаем необходимость окончательного и бесповоротного расставания![593]В окончательной редакции конгресс убрал большую часть обвинений в адрес народа Британии и сделал главным виновником событий короля, оставив, однако, упоминание об «общих кровных узах» с английским народом и пассаж о том, что последний «глух к голосу справедливости и общей крови», включив его, таким образом, в число угнетателей Америки. В преамбуле Декларации, одобренной конгрессом, американский народ назывался расторгающим «политические узы», связывающие его с другим народом. Если бы конгресс намеревался объяснить решение отделиться от метрополии чем-то большим, нежели протестом народа против своеволия властелина, нарушившего фундаментальный контракт, то в финальный текст Декларации были бы включены фразы о народе Британии из черновика Джефферсона. В противовес утвердившемуся мнению историков во многих отношениях проект Джефферсона был гораздо более убедительным заявлением, чем окончательный вариант, принятый конгрессом. Разрыв одного народа с другим, некогда связанным с ним «любовью», — знаменательное и исключительное событие. И гораздо более волнующим его делает признание в том, что солдаты «общей с нами крови» посланы через океан убивать американцев. В этих строках сквозит мотив предательства, мотив того, что американцы брошены своими соотечественниками, людьми одной крови, братьями, утратившими способность ценить справедливость и узы дружбы, ставшими поистине «бесчувственными братьями». Конгресс понимал народ Америки лучше, чем Джефферсон, вот почему страстные обвинения последнего не вошли в окончательный текст Декларации. В 1776 году американцы в большинстве своем уже не любили своих британских братьев, даже если представить, что они действительно некогда испытывали столь глубокие чувства. Иммиграция ослабила кровные узы, а провинциализм, отличавший жизнь простых американцев за пределами крупных городов (да в принципе и в них тоже) делал их чувства значительно более спокойными. Связи с Британией были важны, и колонии в XVIII веке много раз подтверждали это в торговле, в имитации английских государственных принципов, в поддержке страны предков в ее войнах против Франции, другими способами… Но во всех этих случаях американцами двигала собственная выгода и сила привычки, а не глубокое чувство привязанности. Таким образом, в версии Декларации, одобренной конгрессом 4 июля 1776 года, традиционный общественный договор заменил страстные призывы Джефферсона. Процесс, ведущий к независимости, описанный в Декларации, вряд ли лишен эмоций, но эти эмоции раскрыты не в обманутой привязанности, но в праведном гневе, возбужденном тираном и угнетателем, лишившим нацию прав и нарушившим фундаментальный закон. Поэтому Декларация конгресса является более солидным и менее творческим документом, чем проект Джефферсона. Джефферсон не просто обвинял один народ — он заявлял, что второй, американский народ, полностью сформирован, и этот народ способен на «благородство и свободу». Еще в 1774 году он высказывал убеждение, что американский народ является свободным еще со времени основания колоний в XVII веке. Покинув Британию, первые переселенцы отделились от страны предков, и у них остались лишь политические связи формального подданства короне. Самые сокровенные узы — узы привязанности, соединявшие американцев с британскими братьями, были разорваны из-за той поддержки, которую «братья» оказали тирану[594]. По Джефферсону, остался «американский народ», защищающий свои неотчуждаемые права. Если бы конгресс проявил больше воображения в ущерб реализму, то могла быть принята джефферсоновская версия американской истории. Если бы случилось так, Декларация возымела бы гораздо более эмоциональную и символическую силу, разрешив раз и навсегда щекотливый вопрос: кто объявил о независимости, «свободные, независимые штаты» или «единый народ» в общем порыве? Как народ американцы имели много общего, гораздо больше, чем они сами предполагали, но они еще не до конца научились работать вместе или концентрировать власть в одних руках. Конгресс же, их верховный политический институт, научился с 1774 года многому, однако ни он, ни легислатуры штатов не могли скоординировать свои усилия. Например, в 1774 году конгресс выпустил «Ассоциацию», призвавшую к тотальному бойкоту торговли, но помогали ее претворить в жизнь местные комитеты, но не правительства колоний. Традиционные институты власти, как правило, с опозданием реагировали на кризисные ситуации, в течение всех десяти лет, предшествовавших созыву первого Континентального конгресса. Но если местные органы власти порой вели себя нерасторопно или по крайней мере неэффективно, то за ними стояли простые люди, едва начавшие осознавать свое единство. Поколение, жившее до волнений 1760-х годов, пережило много испытаний: это и Великое пробуждение, возродившее религиозные чувства, и войны с французами и индейцами, стимулировавшие патриотизм колонистов. Эти события были в определенном смысле событиями континентального, если не национального масштаба. Конфликт, зародившийся в 1760-е годы, постепенно помог сформировать нацию. Джефферсон проявил дальновидность, утверждая, что американцы начали свою историю как свободные люди — с образованием первых поселений в XVII веке. Его черновик Декларации не был попыткой реконструировать историю; скорее он говорил об эмоциональных узах, которые сплачивали американцев. Это было страстным заявлением, призванным заставить американцев проявить все то лучшее, что есть в их душах. Он стремился напомнить им, что их объединили не только узкоэгоистические интересы, но и добросердечие, взаимное уважение, любовь к людям. В войне, которую они вели, взаимоуважение было очень важным фактором, а в национальном государстве, которое они собирались построить, — необходимостью.
VI
Многие американцы были рабовладельцами, однако конгресс включил максиму Джефферсона о том, что «все люди созданы равными», в свой вариант Декларации. Джефферсон, сам владевший рабами, полагал, с одной стороны, что чернокожие, будучи людьми, равны белым, так как обладают «нравственным чувством» — категорией, собственно, делающей людей людьми. Однако он не верил, что они когда-нибудь смогут достигнуть равенства в обществе, где перемешаны с белыми. История угнетения и предрассудки белых жителей делают мультирасовое общество иллюзией. Позже Джефферсон в своих «Заметках о штате Виргиния» пояснил свое убеждение: институт рабства настолько отравил отношения между черными и белыми, что их совместное проживание в равных условиях невозможно[595]. В Декларации он попытался выставить короля охранителем рабства в Америке, зачинщиком насилия на расовой почве. Первое обвинение было абсурдным, да и второе мало похоже на правду: виргинский губернатор Данмор призывал рабов восстать против своих хозяев и обещал им за это свободу. Но конгрессу было прекрасно известно, что не король, а белые американцы учредили институт рабства и всячески поддерживали его. Поэтому конгресс убрал почти все подобные обвинения Джефферсона, оставив лишь одно, смысл которого был не вполне ясен: король «подстрекал нас к внутренним мятежам». Взамен конгресс принял постулат Джефферсона о равенстве всех людей. Скорее всего (точно мы никогда не узнаем), большинство американцев воспринимало фразу «созданы равными» как созданы равными в глазах Господа. Как бы то ни было, белые американцы не желали освобождения рабов, а также не пытались предоставить небольшому числу свободных чернокожих те права, за которые они воевали с Великобританией. Немногие белые полагали, что они должны как-то действовать, чтобы всеобщее равенство нашло признание. Для большинства из них борьба за независимость приобрела такую важность, что все остальные проблемы отошли на задний план. Декларация независимости, принятая конгрессом, объявила американцев свободными от власти Британии. Эта Декларация определила цели народа и установила некие идеалы, за которые уже отдало жизнь немало людей и еще большему числу только предстояло сражаться — и погибнуть. Для большинства белых американцев недостаточно было просто объявить о независимости от Англии — с тех пор как их соотечественники отдали за это свою жизнь, независимость превратилась в подвиг.15. Война укреплений
I
В начале сентября 1776 года, через два месяца после подписания Декларации независимости, Джордж Вашингтон постарался донести до конгресса стратегию войны, которую вела его армия. Война эта, писал он, является «войной укреплений», «оборонительной» войной, в ходе которой американская армия пытается сохранить свое единство и избежать «генерального сражения», крупномасштабной битвы, которая может окончиться тотальным ее поражением. Озабоченность Вашингтона таким поражением была понятна: все лето он проникался пессимизмом, получая вести о катастрофической ситуации в Канаде, а 27 августа пессимизм перешел в отчаяние, когда Хау нанес американцам жестокое поражение на Лонг-Айленде. Будущее своих войск Вашингтон также видел в черном свете, так как армия, стоявшая на Манхэттене, готова была разбежаться: солдаты все чаще дезертировали, спеша домой, а Хау готовил следующий удар[596]. Хотя поражение и подсказывало мысль о переходе к обороне, Вашингтон смирился с этим задолго до того, как Хау выбил его с Лонг-Айленда. Разумеется, инстинктивно Вашингтон хотел наступать, ибо наступление будило храбрость, поднимало дух и возвращало честь, а все это, в свою очередь, вело к славе, но такие инстинкты, свойственные его юности, Вашингтон надежно держал в узде. Горький опыт, полученный во время Семилетней войны, научил его сдерживать свои порывы, этому же научало и штудирование трудов его современников — военных историков. В некотором смысле одна модель поведения, жажда славы, уступила место другой — доктрине благоразумия, владевшей умами европейских военачальников. Дремавшая глубоко внутри Вашингтона воинственность порой прорывалась сквозь броню самообладания, как, например, при осаде Бостона, когда лишь возражения генералов на военном совете не позволили ему послать войска по льду залива в решительную атаку на осажденных англичан. В конце лета 1776 года осторожничать его побуждали разные причины — не только то, что генерал Хау дал понять, что Нью-Йорк это далеко не Бостон. Под Нью-Йорком в распоряжении Вашингтона всякий раз оказывалась, по сути дела, новая армия, которую нужно было обучать (потоки новобранцев, сновавших туда-сюда по его лагерю, не заканчивались), в то время как приходилось защищать главную гавань города, не имея флота. А противником его был генерал Уильям Хау, к которому как раз в июне стали подтягиваться подкрепления: порядка 30 000 солдат, транспорты и военные корабли под командованием его брата, лорда Ричарда Хау. У братьев Хау было гораздо больше людей и судов, поэтому они могли диктовать, где и когда развернется сражение. Вашингтон, по не вполне понятным причинам, считал себя обязанным защищать Нью-Йорк до последней капли крови. Конгрессу вскоре удалось вывести его из этого заблуждения, но не настолько быстро, чтобы не состоялось «генерального сражения», которого так не желал Вашингтон и в котором его войска потерпели сокрушительное поражение. Итак, после Лонг-Айленда, когда он с минуты на минуту ожидал второго удара, Вашингтон садится писать письмо конгрессу, где рассчитывает изложить свое видение ситуации на театре военных действий. Оборонительная война осталась единственным возможным действием для его разбитой армии, но почему он называл ее «войной укреплений» (war of posts)? Почему было не сделать ее войной отступлений, когда армия начинает партизанскую борьбу, совершая набеги на позиции британцев, которые вечно будут отставать, скованные обозом и боязнью за свои магазины? И после того как Вашингтон и конгресс, казалось, поняли, что Британия планирует привести американские колонии к подчинению путем их военной оккупации, почему было не постараться поднять на борьбу население колоний?[597] Если доктрина оборонительной войны диктовалась относительной слабостью американской армии, то выбранный метод обороны — война укреплений и фортов — проистекал из понимания Вашингтоном силы врага и возможностей своих собственных войск. Британцы контролировали моря и прибрежные территории, а в большинстве случаев и реки. Не допустить их перехода через Ист-Ривер и НортРивер (как называли Гудзон) казалось практически невозможным. Контроль над водными артериями позволял перебрасывать войска и достаточно быстро сосредотачивать их на различных участках. Вашингтон инстинктивно понимал всю важность концентрации сил и отдавал себе отчет в том, что его транспортные средства не идут ни в какое сравнение с вражескими. На суше английские войска также имели преимущество, так как были регулярной армией, дисциплинированными профессионалами, знавшими свое дело и применявшими свои навыки на практике как в неблагоприятных, так и в выигрышных ситуациях. Американская армия такую оценку получить не могла, во всяком случае со стороны ее командующего. Впрочем, Вашингтон никогда не жаловался на армию конгрессу, даже в конфиденциальной переписке. Все, что он мог себе позволить, было «мучительное» признание того, «что наши войска не смогут исполнять свой долг». Словом, ради которого Вашингтон составил эту туманную фразу, было «долг». Оценивая своих солдат не самым лестным образом, он имел в виду то, что его неопытной армии не хватает ответственности (или верности идеалам). Идти на самопожертвование заставляет чувство чести, и Вашингтон так никогда и не смог понять, почему некоторые люди нечувствительны к его зову. «Желание прослыть храбрым защитником не является достаточным стимулом в минуты, когда успех весьма неочевиден и сохраняется угроза попасть в руки врага», — с досадой сообщает он. Именно потому Вашингтон решил полагаться на «укрепления» — это было сделано не из-за тактических преимуществ, а для того, чтобы убедить американского солдата исполнять свой долг. Именно потому, что на «неопытную армию» нельзя было положиться, он избегал размещать войска на «открытой местности против сил, превосходящих их численно и морально». По его словам, он «ни на минуту не откладывал кирку и лопату» и признавал, «что не видел в своих войсках решимости любой ценой защищать даже самые мощные укрепления, что является необходимым для получения преимуществ от их возведения»[598]. Почему неопытная армия Вашингтона раз за разом отказывалась принимать бой? Командующий объяснял это тем, что его солдаты были свободными людьми; такое объяснение наполняло его одновременно отчаянием и гордостью. Свободолюбие побудило их начать революцию, но именно оно парадоксальным образом делало из них плохих солдат. Свободолюбие, которое отмечал Вашингтон, оставило свой отпечаток на характере армии: американцы были свободными, но терпеть не могли ограничений и дисциплины, а именно дисциплиной крепка армия. Дисциплина была следствием упорного обучения, а упорное обучение требовало долгого срока службы. По ходу войны Вашингтон стал понимать, что дух свободы, переполнявший его соотечественников, не только ухудшает боевые качества его войск, но также препятствует созданию крупной регулярной армии и, в более широком смысле, политической организации населения колоний, столь необходимой для широкой поддержки фронта[599]. Возможно, Вашингтон так никогда и не осознал несбыточности своего желания совершить революцию силами современной регулярной армии, установить независимость Америки с помощью организации, систематически подавлявшей независимость ее членов. Однако он никогда не отказывался от своих надежд: он страстно верил в американское дело и определял его так же, как и все наиболее просвещенные его сторонники — как борьбу за права человека. Если перенести эти права на личностный уровень и поведение отдельного человека, они не обязательно должны разлагать волю и дисциплину армии, если, естественно, речь идет о настоящей армии, где выполняются приказы и солдаты сознают свой долг. Но разве стоит ожидать от разношерстных личностей, составлявших ополчение, чтобы они отчаянно сражались и стойко держали фронт, когда их жизни угрожает опасность? Они должны сражаться, настаивал Вашингтон, за свою честь, славу и признание — все те аристократические добродетели, которые свободные люди любого сословия могут ценить, если их этому научить. Свободные люди могут сражаться как за свою честь, так и за общее великое дело. Но они не смогут сражаться, находясь в своем нынешнем состоянии — в виде ополчения с его местническими устремлениями, некомпетентными избираемыми офицерами, пренебрежением к дисциплине и коротким сроком службы[600]. Недоверие Вашингтона к гражданским лицам под ружьем было настолько велико, что он не допускал и мысли о том, чтобы поднять на войну все население страны, так что идея эта с успехом была реализована только двадцать лет спустя в ходе Французской революции. Вашингтона не пугали призраки социальной революции и классового переворота — он просто не рассматривал такую возможность. Народ, вследствие недостатка исполнительности и неспособности жертвовать собой во имя организованности и дисциплины, виделся ему беспомощным. Лучшее, что можно было сделать в ходе Войны за независимость, — это создать постоянную армию из свободных людей, лишенных худших черт характера, которые заложены в свободолюбии. По мнению Вашингтона, такие люди превзойдут обычных наемников — у них есть цель, и если удастся пробудить в них чувство чести, то они смогут стать чем-то вроде регулярной армии. Но пока в его распоряжении такой армии не было, все, что ему оставалось делать, это возводить укрепления, защищая брустверы, валы и траншеи, так как гражданским добровольцам, проходившим в бесконечном круговороте через его лагерь, катастрофически недоставало гордости и чести. Поэтому война укреплений оставалась для Вашингтона единственным выходом.II
Стратегии британцев, в свою очередь, недоставало простоты стратегии противника. Пока Хау не эвакуировал Бостон в марте 1776 года, у кабинета министров вообще не существовало никакого общего плана ведения войны. Мало того, можно высказать предположение, что такого плана так и не появилось. Проблемы британцев состояли в том, что в 1775 году, после Лексингтона, у них не было понимания того, что происходит, а без такого понимания ни о какой стратегии не могло быть и речи. Хау сидел запертым в Бостоне едва ли не год; все это время король знал, чего он хочет: подчинения колоний собственной и парламентской власти. В конце концов, полагал он, все должно вернуться к началу, до нагнетания ситуации, начавшегося в 1764 году. Норт не казался человеком, который мог бы добиться удовлетворявшего короля решения, но, будучи государственным мужем, он стал действовать в этом направлении. Лорд Джордж Джермен, заменивший Дартмута на посту госсекретаря по делам Америки, разделял энтузиазм короля, стремившегося нанести американцам поражение, а затем вновь присоединить их к империи, но, как и другие члены правительства, не имел ясного представления, как превратить желание военной победы в реальную победу над Америкой[601]. Частично проблемы правительства были обусловлены выбором метода ведения войны. Адмирал Ричард Хау, осуществлявший общее руководство всеми силами в Америке, был человеком выдающихся способностей и значительного влияния. Лорд Хау с 1758 года находился во главе располагавшей большими связями семьи Хау, став четвертым виконтом Хау после гибели своего старшего брата. Члены семьи периодически занимали важные посты, а некоторые многие годы заседали в парламенте. Также они пользовались расположением при дворе; так, мать Хау после замужества получила ренту от Георга I, а позже вошла в придворный штат. Адмирал Ричард, лорд Хау, также занимал при дворе видное положение; во время Семилетней войны на его эскадре служил брат Георга III; королева Шарлотта была крестной матерью его старшей дочери, а сам король прислушивался к его суждениям по вопросам военного флота[602]. Несмотря на свои достоинства и дружбу с королевской четой, Хау держался в стороне от политики, был независим в суждениях и отказывался поддерживать политику принудительных мер против колоний. Вместо этого он слыл сторонником примирения и оставался на своих позициях вплоть до назначения командующим вооруженными силами в Америке. Он проникся уважением к Америке и американцам, по всей видимости, после того как на деньги Массачусетса в Вестминстерском аббатстве был установлен памятник его брату Джорджу Огастесу, третьему виконту Хау, погибшему в сражении при Тайкондероге в 1758 году. В феврале 1776 года король назначил лорда Ричарда Хау главнокомандующим в Америке, несмотря на его политические взгляды. Кабинет министров хотел во что бы то ни стало покорить колонии, и весной адмирал получил недвусмысленные инструкции на этот счет. Ему запрещалось вступать в переговоры, пока колонии не признают верховную власть парламента без всяких условий и ограничений. В инструкциях, данных Хау, также оговаривались и шаги, которые он должен был предпринять: прекращение любой торговой деятельности колоний, блокада американских портов и уничтожение всех военных кораблей, складов и укрепленных сооружений врага. Примерно в это же время Джермен достиг взаимопонимания с Уильямом Хау, командующим сухопутными войсками в Америке. Джермен уже не меньше года был убежден, что Нью-Йорк должен оставаться основной целью операции на суше. Хау был согласен с этим, а также с тем, что туда нужно переправить части из Галифакса, присоединить к ним небольшой отряд Клинтона из Каролины и укрепить их большой армией, посланной из Англии. Таким образом, к лету в распоряжении Хау в районе Нью-Йорка могло оказаться порядка 30 000 человек. Эта армия должна была двигаться вверх по Гудзону на соединение с небольшим отрядом из Канады под командованием Карлтона. Если Вашингтон решится воспрепятствовать этому маневру, то две армии окружат его и полностью уничтожат. В случае же отхода американцев «красные мундиры» вступят в колыбель мятежа, Новую Англию, и покорят ее. Главной стратегической целью было разделение колоний надвое, после чего покорение колоний к югу было неизбежно. Соответствовала ли такая стратегия целям и задачам кабинета — вопрос открытый и неразрешимый. Если бы британцам удалось разбить армию Вашингтона, отрезать Новую Англию, привести к «покорности» ее и другие колонии, стали бы они реставрировать свою американскую империю в прежнем объеме? Вполне вероятно, что они столкнулись бы с упорным скрытым противостоянием, которое в конечном итоге вылилось бы в более кровопролитную и жестокую войну. Но даже если бы все закончилось миром, то цена торжества законности и нравственности была бы слишком высока и сделала владычество в колониях бесполезным: в народе, чья созидательная энергия подавляется насильно, тлел бы огонь неповиновения. Как уже упоминалось, стратегия на лето 1776 года имела гораздо более существенный изъян: она не учитывала того, что Уильям Хау боялся рисковать своей армией в генеральном сражении. После высадки на Статен-Айленде в начале июля его солдаты оставались там в бездействии на протяжении семи недель. Храбрость Хау никуда не делась, но он опасался, что потеря армии может положить конец пребыванию британцев в Америке. Таким образом, Вашингтон и Хау боялись примерно одного и того же, и тревога их основывалась на скудости сил. Хау одну за другой выискивал причины не ввязываться в сражение: так он уверял, что в войсках не хватает походных котлов для кухни, что неблагоприятно скажется на здоровье солдат. Кроме того, он жаловался, что его солдат нельзя заменить: «а это тот ресурс, в котором Америка сможет черпать силы для национальной армии»[603]. Хау был не одинок в этом убеждении: например, лорд Перси, спасший от уничтожения британский корпус при Конкорде в предыдущем году, летом 1776 года писал: «Наша армия настолько мала, что мы просто не можем позволить себе победу». Генерал-адъютант Перси озвучил мнение, которое гуляло по действующей армии после начала боевых действий: «нас уничтожат по кусочкам», а генерал Уильям Мюррей, также находившийся вдалеке от событий, на Менорке, писал после битвы при Банкер-Хилле, что «американцам стоило бы проигрывать по сражению каждую неделю, пока британская армия не иссякнет; может быть, наши войска и непобедимы, но они не бессмертны». Мюррей подытожил проблемы Хау сакраментальным военным афоризмом того времени: «Итоги всякого сражения, по меньшей мере, неопределенны»[604].III
Когда Вашингтон в апреле повел свою армию от Бостона к Нью-Йорку, он мало задумывался о нежелании британцев вступать в бой. Нью-Йорк или возможное сражение мало его занимали, хотя он и предполагал, что в один прекрасный день англичане двинутся на среднеатлантические колонии. В настоящее время его больше заботил канадский театр, где он надеялся, что американцы перехватят инициативу, и если не захватят Квебек, то по крайней мере помешают британцам отрезать Новую Англию от остальных колоний. Он опасался, что Хау проплывет по реке Святого Лаврентия и отбросит остатки измученного отряда Арнольда и подкреплений, отправленные туда по приказу конгресса. Правда, ему придавало уверенность то, что новый командующий осадой Квебека генерал-майор Джон Томас был способным офицером. К сожалению, Томас, прибывший под Квебек 1 мая 1776 года, уже через месяц, 2 июня, скончался от оспы. Канада забирала лучших из лучших среди американских командиров — бригадный генерал Дэвид Вустер, заменивший Томаса, был мало того что некомпетентным — он даже не осознавал этого. Июнь стал смертоносным месяцем не только для генералов, но и для простых солдат. Как только река Святого Лаврентия весной разлилась и на деревьях набухли первые почки, американский отряд в 2000 штыков под командованием бригадного генерала Уильяма Томпсона атаковал позиции противника под Труа-Ривьер. Британцы легко отразили наскок, а затем окружили отряд и почти без боя взяли всех в плен. Неделю спустя Арнольд отвел жалкие остатки своего отряда, всего три сотни человек, от Монреаля к Иль-о-Нуа. Там он нашел 7000 американцев, не меньше половины из которых были больны или ранены. К концу месяца об этих бедствиях узнал и Вашингтон[605]. Уильям Хау прибыл в Нью-Йорк также в июне. Британские военные корабли и транспорты были замечены с косы Сэнди-Хук еще 29 июня, а 3 июля основные силы высадились на Статен-Айленде. Через два дня стало ясно, что британцы также придают большое значение киркам и лопатам, так как войска на Статен-Айленде стали окапываться там. За полтора месяца прибыло еще немало кораблей, доставив 12 июля Ричарда Хау и войска из Галифакса, Англии и Южной Каролины. К середине августа в Нью-Йорке собралось 32 000 человек, включая 8000 гессенских наемников. Сам Вашингтон наблюдал за этими приготовлениями спокойно, но от других военачальников поступали взволнованные донесения. Его солдаты в ожидании вражеского десанта воздвигали укрепления на южной оконечности Манхэттена. Бруклин-Хайте на Лонг-Айленде считались ключом к Нью-Йорку, поэтому американцы сооружали траншеи и там. Армия нуждалась не столько в укреплениях, сколько в свежих силах, и Вашингтон решил обратиться к конгрессу, а в ожидании неминуемой атаки британцев проводил и тактическое обучение солдат. Этим летом в полном масштабе проявилось умение Вашингтона не пренебрегать деталями, умение уделять внимание как глобальным целям, так и малому. Многим солдатам требовалась огневая подготовка, и в начале июля он приказал каждому солдату сделать по два залпа — упражнение необременительное, но большего количества тренировочных патронов просто не было. Также Вашингтон приказал офицерам и солдатам совершать марш-броски от лагерей к траншеям, чтобы, когда начнется наступление врага, они были знакомы с рельефом местности. Солдатам вменялось в обязанность наполнять свои фляги каждый вечер, так как бой мог начаться в любой момент, и у них не было бы возможности сделать это. Кроме того, Вашингтон приказал снять свинец с крыш зданий — армии требовались пули; порох и кремни были в дефиците, несмотря на все усилия пополнить их запасы[606]. В конце концов настала очередь и морального духа. В начале месяца до армии дошли слухи о принятии Декларации независимости. Каких-то масштабных празднований не было, но, когда 9 июля штаб-квартира получила официальное подтверждение, Вашингтон выстроил войска и зачитал Декларацию вслух. Весь следующий месяц он рассылал приказы, едва ли не проповеди, где напоминал солдатам о великом деле, частью которого они являются, — защите завоеваний свободы. Армия защищает не только права американцев, говорил он, но и естественные права каждого человека. Ближе к концу августа Вашингтон получил возможность повторить свои патриотические призывы с еще большей страстью. На рассвете 22 августа Хау приступил к высадке крупного отряда со Статен-Айленда на Лонг-Айленд в районе бухты Грейвсенд-Бей. Первую часть десанта, состоявшую из легкой пехоты, гренадеров и корпуса гессенцев полковника Карла фон Донопа, возглавили Клинтон и Корнуоллис. С моря высадку прикрывали четыре фрегата. К середине дня было доставлено 15 000 человек и 40 орудий, а 25 августа прибыли еще две бригады гессенских гренадеров под командованием генерала Филипа фон Хайстера, ветерана Семилетней войны[607]. Поначалу Вашингтон недооценил размеры вражеской группировки на Лонг-Айленде, а также не понял намерения Хау, в течение двух-трех дней полагая, что вся высадка является ложным маневром, призванным отвлечь внимание американцев от Нью-Йорка. По мнению Вашингтона, стоило ему двинуться к Лонг-Айленду, как Хау возьмет лишенный защитников город с моря. Эти опасения были резонны, но они плохо соотносились с задачами американцев на Лонг-Айленде и с видением Вашингтоном системы обороны Нью-Йорка. Он решил укреплять Бруклин-Хайте, потому что понимал, что они господствуют над южной оконечностью Манхэттена, точно так же как Дорчестер-Хайтс господствовали над Бостоном. Исходя из этого он решил разделить свою армию, притом что Хау контролировал все подходы с моря и мог воспользоваться этим, чтобы изолировать американцев на обоих островах. Цель Вашингтона была практически невыполнимой, учитывая отсутствие у него флота[608]. Чтобы удержать Бруклин-Хайте, американцы окопались близ Бруклин-Виллидж; их правый фланг расположился к югу от Гованус-Крик, а фронт изгибался к северу от Уоллабаут-Бей — и на том и на другом участке были соленые болота, обеспечивавшие естественную защиту. В миле от этой линии протянулись высоты Гуан — гряда холмов высотой 100–150 футов, покрытых частым кустарником и лесом. Южная сторона, повернутая от Бруклина, составляла возвышенность в 80 футов — она считалась непроходимой благодаря рельефу и частоколу деревьев. Деревья также препятствовали доставке конными упряжками орудий навершины холмов. Между холмами Гуан пролегало четыре прохода: прибрежный близ Гованус-Крик (там стоял правый фланг американцев), Флэтбуш в миле к востоку, Бедфорд еще в одной миле и Джамейка — в трех. Знание местности американцами исчерпывающим, наверное, не было, но Вашингтон в общих чертах понял свои тактические возможности еще до высадки британцев. Решение оборонять Гуан было разумным, так как Хау должен был растянуть свои порядки, что в какой-то степени нивелировало бы его преимущество в живой силе. Если бы британцам позволили сконцентрировать ударный кулак против Бруклин-Хайте, они неминуемо бы смяли серьезно уступавшую им по численности американскую армию. Однако если план Вашингтона можно было назвать логичным, то диспозицию его войск — нет, так как ему не удалось обезопасить свой левый фланг. До некоторой степени вину за это должен нести генерал Салливан, центр и левый фланг — проходы Флэтбуш, Бедфорд и Джамейка — были зоной его ответственности, но он оставил самый восточный проход, Джамейку, без защиты (не считать же таковой патруль из пяти человек). На следующий день после высадки Хау Вашингтон, ничего не зная о положении своей группировки на Лонг-Айленде, послал туда еще шесть полков и выпустил приказ, содержавший настоятельную просьбу своим солдатам «вести себя как подобает мужчинам». Хотя очередная «проповедь» Вашингтона сводилась к защите «дела» («Приближается час, когда от чести и успеха нашей армии будет зависеть безопасность нашей истекающей кровью отчизны»), там содержались угрозы, ссылки на недавнюю историю и инструкции, как вести себя под огнем врага. «Офицеры и солдаты, помните, что вы являетесь свободными людьми, сражающимися за ценности свободы! Рабство уготовано вам и вашим потомкам, если вы не будете вести себя, как положено мужчинам! Вспомните, как жестокие захватчики ни в грош не ставили вашу храбрость и ваш дух, проявившиеся под Бостоном, Чарлстауном [отсылка к Банкер-Хиллу. — Примеч. авт.] и в других сражениях! Помните, что вы — храбрые люди, сражающиеся за свою собственную страну ради достойнейшего из всех возможных дел против презренных наемников»[609]. «Презренными наемниками», безусловно, считались гессенцы. Вашингтон постарался донести до своих солдат, как нужно поступать с ними и с их английскими хозяевами: «Будьте хладнокровными и решительными, не стреляйте издалека, ждите приказа своих офицеров». Вашингтон настолько сомневался в боевом духе своих солдат, что приказал немедленно расстреливать «симулянтов», тех, кто «сложит оружие» или «побежит с поля боя без приказа». Он надеялся, что в его «армии не наймется таких негодяев, наоборот, каждый солдат будет стремиться победить или умереть, предоставив решать это небесам, но каждый будет вести себя храбро и решительно. Тот, кто проявит себя с особенной доблестью и будет добросовестно исполнять все приказы, может рассчитывать на поощрения и награды. Если армия будет вести себя, как все наши храбрые соотечественники в других частях Америки (а я не сомневаюсь, что так и будет!), то одержит славную победу, спасет свою страну и покроет себя неувядаемой славой»[610]. Упоминание о Чарлстауне или Банкер-Хилле было мудрым шагом, так как вызывало в памяти вид «красных мундиров», сперва превратившихся в окровавленное месиво, а затем позорно бежавших на кораблях из гавани. Вашингтон никогда не упускал случая призвать к доблести во время битвы, а также к ее неизменному спутнику — «неувядаемой славе»; он всегда напоминал об этом своим войскам, хотя, несомненно, надежды его не были слишком велики[611]. Хау, скорее всего, не говорил со своими войсками в таком ключе, более того, он не был уверен, что отстаивает какое-то великое дело. Иногда он хвалил своих солдат перед строем, а затем приказывал им примкнуть штыки и готовиться к схватке — сугубо профессиональная рекомендация. Сейчас же на Лонг-Айленде он делал то, что так часто у него хорошо получалось — то есть ничего не делал до 25 августа[612]. Лишь во второй половине дня 26 августа Хау решился наступать. Драгуны и легкие пехотинцы Клинтона шли в авангарде, Корнуоллис с гренадерами и двумя пехотными полками в сопровождении артиллерии находился в резерве, сам же Хау вместе с Перси двигался с основными силами. Армия направилась проселочными дорогами к проходу Джамейка. В три часа утра Клинтон достиг прохода, взял в плен пять ошарашенных американцев, и «красные мундиры» хлынули через проход. К рассвету англичане вышли на дорогу Бедфорд-роуд, шедшую на запад, в тыл позициям американцев на гряде Гуан. Они маршировали сосредоточенно и тихо, пилили, а не рубили деревья, когда требовалось расширить дорогу для прохода обоза и артиллерии, и старались не обнаруживать себя, пока американцы не окажутся в ловушке[613]. Волноваться им было не о чем: примерно в то же время, когда Клинтон подошел к проходу Джамейка, генерал Джеймс Грант совершил набег на правый фланг американцев, находившийся в районе Гованус-роуд. Вялая перестрелка началась в районе трех часов утра, и Уильям Александр Стерлинг (которого в армии прозвали Лорд), командовавший силами американцев на этом участке, начал готовиться к большой атаке. В центре фронта гессенские канониры Хайстера принялись обстреливать Флэтбуш, чтобы удержать Салливана и его части там и у Бедфорда на месте. Все сложилось для англичан как нельзя лучше: к 9 утра Хау и его силы достигли Бедфорд-Виллидж и обнаружили свое присутствие залповым огнем. Это послужило сигналом для егерей Хайстера, прорвавшихся через проход Бедфорд и захвативших мост. Сторожевые посты Салливана сдались почти сразу, и уже через час его солдаты были обойдены с флангов.
Отряды Стерлинга на правом фланге — необученный мэрилендский полк Уильяма Смолвуда и делавэрский полковника Джона Хаслета — сражались упорно. Это было их боевым крещением, они ничего не знали об особенностях рельефа Лонг-Айленда, так как прибыли всего день назад, но они стояли насмерть в течение двух часов. Вскоре к ним присоединились пенсильванцы и янки из Коннектикута. Стерлинг не выстраивал их за деревьями и камнями, а развернул на открытом участке, заставив сражаться на европейский манер. Около 11 часов утра они попали в почти полное окружение, после чего Стерлинг отвел большую часть войск через Гованус-Крик и «непроходимые» болота к Бруклину. Для прикрытия он оставил лишь часть мэрилендцев Смолвуда и возглавил их лично. Корнуоллис находился у него в тылу и с левого фланга, но Стерлинг повел 250 мэрилендцев в наступление, шесть раз атаковав гренадеров Корнуоллиса, пока его отряд не был сметен огнем превосходящих сил англичан. К полудню 27 августа все было кончено. Хау отбил холмы Гуан и оттеснил потрепанные войска Вашингтона к Бруклин-Виллидж. Хау не воспользовался плодами своего успеха, несмотря на энтузиазм солдат, почти не понесших ущерба и почувствовавших вкус победы. Во второй половине дня Вашингтон пытался привести в порядок свою разбитую армию. На следующий день, 28 августа, по-прежнему преисполненный решимости удерживать Бруклин-Хайте, он переправил три полка с Манхэттена на Бруклин. Этим же вечером Хау начал сооружать траншеи и брустверы близ вражеских позиций. Это было обычной тактикой ведения осадной войны, хотя англичанам противостоял не хорошо укрепленный противник, а павшие духом разрозненные отряды, кое-как вырывшие траншеи и которым отчаянно недоставало палаток, пищи и других припасов. В этот же день задул норд-ост с дождем, промочившим до нитки обе армии и сделавшим американцев особенно уязвимыми для штыковой атаки, которую любили британские гренадеры и легкие пехотинцы[614]. Уже 29 августа Вашингтон понял, сам или с помощью своего военного совета, безнадежность защиты своих позиций. Необходимо было эвакуировать Лонг-Айленд, пока не уляжется ветер и адмирал Хау не введет свои фрегаты в Ист-Ривер, после чего капкан для американцев захлопнется. Под покровом ночи на 30 августа два массачусетских полка, солдаты которых были привычны к плаванию на малых судах, перевозили армию через реку в Нью-Йорк. Всего было переправлено 9500 человек и большинство орудий (несколько самых тяжелых, по сообщению Вашингтона, увязли в грязи по самые ступицы), а также провиант, оборудование и лошади. Происходящее осталось незамеченным врагом. Эвакуация была проведена блестяще, за что Вашингтон заслуживает похвалы не в меньшей степени, чем критики за катастрофу 27 августа[615]. Факт того, что Вашингтон отвел свои войска, не вызвал у Хау желания подойти к американцам ближе. Он медлил точно так же, как и в июне прошлого года под Бостоном, когда американцы заняли Банкер-Хилл, и этим летом после высадки на Лонг-Айленде, и 27 августа, когда он остановился перед Бруклин-Хайте. Мы не сможем дать точного объяснения такому упорному нежеланию развивать очевидный успех. Мы только знаем, что Хау не желал идти на большие потери ради победы, поскольку предстояли другие сражения, а возможности получения подкреплений были весьма ограниченны. Теперь 1 сентября преследование противника (через Ист-Ривер на Манхэттен) требовало неимоверных усилий. Противник хорошо окопался на острове — американцы потратили целое лето, сооружая укрепления на южной оконечности Манхэттена, — а флот, который мог бы перевезти туда армию Хау, слишком зависел от ветра, прилива и уровня организации экспедиции. В любом случае высадка в логове врага не была продиктована необходимостью — продвинувшись вглубь острова, можно было поймать Вашингтона в ловушку в южной его части. Таким образом, Хау практически сразу начал готовиться к прыжку на север. Вашингтон, разумеется, дорого бы дал, чтобы вызнать намерения противника. Ему нужно было уделить внимание самым насущным проблемам своей армии, если, конечно, дезорганизованную и павшую духом толпу можно было так назвать. Может быть, солдаты и были благодарны своим командирам, вытащившим их из тяжелейшей ситуации, но они не демонстрировали совершенно никакой готовности сражаться дальше. Ополченцы, как и боялся Вашингтон, оказались абсолютно ненадежными, дезертируя едва ли не целыми полками. Их паника заражала и Континентальную армию. Как обычно, всевозможные запасы подходили к концу, и во многом из-за этого наблюдался всплеск болезней, но справедливости ради заметим, что в потерпевшей поражение армии больных всегда будет больше, чем в одержавшей победу. Вашингтон и его офицеры в который раз прибегли к проверенным методам, чтобы привести полки в должный вид. Призывы уже не работали, тогда были применены меры прямого действия: военные суда и порка плетьми. Ни тогда, ни когда-либо еще в 1776 году не проводилось сколько-нибудь регулярное обучение солдат, но, чтобы хоть как-то остановить бесконечную ротацию, вносившую хаос, Вашингтон ввел постоянные построения и требовал сведений, которые могли бы дать ему представление об имевшихся в его распоряжении людских ресурсах. Низкий боевой дух, недостаток дисциплины и организованности, дефицит всего и вся превращались не только в текущие, но и в хронические трудности армии. Наиболее насущной проблемой была выработка дальнейшего плана действий. Нужно ли и дальше пытаться удерживать Нью-Йорк или лучше вывести из него войска и сжечь город, как предлагал генерал Натаниэль Грин?[616] Вскоре конгресс разрешил сомнения Вашингтона по второму пункту: ему не следует уничтожать Нью-Йорк, если армия будет вынуждена покинуть город. Конгресс дал понять главнокомандующему, что ему не нужно защищать Нью-Йорк во что бы то ни стало — эту самоубийственную идею он вынашивал все лето. Избавившись от морального давления, Вашингтон начал планировать эвакуацию Манхэттена, пока она была еще возможна. Офицерский совет побуждал его двигаться на север, к Кингсбриджу, где Гарлем-Ривер впадала в Гудзон. В этот день начался вывоз припасов и больных, а войска принялись готовиться к отступлению, которое выглядело трудноосуществимым, так как длина коммуникаций составляла 16 миль[617]. Тем временем Хау решил не покушаться на южную оконечность Манхэттена и высадиться там, где концентрация вражеских войск была не такой высокой, чтобы обойти американцев с фланга еще раз. Построив 13 сентября солдат, он напомнил им, как они разбили врага на Лонг-Айленде, и рекомендовал, как записал в своем дневнике один британский офицер, «полностью положиться на штыковую атаку, с помощью которой они всегда добьются успеха, которого всецело заслужили своей храбростью»[618]. Такая речь вполне подходила кадровым солдатам армии Хау: она не содержала ни высокопарных призывов постоять за «священное дело», ни упоминаний благословенных свобод, но в ней говорилось о внимании к штыковой атаке и отваге на поле боя, присущих английскому солдату. Для успешной высадки в районе Кипс-Бей требовалось нечто большее, чем острые штыки. Адмирал Хау провел пять кораблей вверх по Ист-Ривер примерно в 200 ярдах от береговой линии. Около 11 утра они открыли бортовые люки с целью, по выражению Вашингтона, «расчистить землю и обеспечить высадку войск». Снаряды действительно расчистили землю, падая на слабые — несколько траншей — укрепления и вынудив ополченцев, которые никогда еще не находились под подобным огнем, бежать без оглядки. Спустя час баркасы доставили войска с Лонг-Айленда; те высаживались беспрепятственно, и к концу дня все были на берегу. Задолго до того как они высадились, всякое сопротивление было подавлено, более того, сам Вашингтон, бросившийся из Гарлема в Кипс-Бей, как только узнал о входе кораблей, едва избежал плена. Прибыв к бухте, Вашингтон стал свидетелем беспорядочного бегства ополченцев, большинство которых было из коннектикутской бригады капитана Уильяма Дугласа. Возмущенный до глубины души Вашингтон потерял самообладание, которое так ценили его подчиненные, и принялся охаживать хлыстом офицеров и солдат. В ярости он уронил шляпу на землю и не обращал внимания на приближающихся англичан. В конце концов один из адъютантов подхватил поводья его лошади и вывез Вашингтона в безопасное место[619]. Остаткам армии на юге города также удалось спастись благодаря удачному стечению обстоятельств, решительности отдельных командиров (а точнее, храбрости Израэля Патнэма) и очередному приступу летаргии у Хау. Патнэм всегда проявлял себя наилучшим образом перед лицом катастрофы, вот и сейчас он возглавил колонну ополченцев и повел ее вдоль западной части острова по заброшенным тропам (молодой Аарон Бёрр стал проводником нескольких отрядов). Патнэм продирался вдоль течения реки Гудзон, поторапливая солдат то окриками, то уговорами. Большая часть обоза и тяжелая артиллерия Нокса были брошены на произвол судьбы, так как войска стремительно бежали в надежде, что легкая пехота Хау не отрежет им путь. Хау между тем оставался на восточной стороне Манхэттена, хотя и двинул колонны слева и справа (то есть к югу и северу) от Пост-роуд, главной дороги острова. Вскоре солдаты вступили в город, захватив повозки и оставшиеся без расчетов орудия. Отряд, двигавшийся к северу, какое-то время шел параллельным курсом с дезорганизованными ополченцами, но Хау не решился нападать на них, и когда сгустились сумерки, американцы выбрались на возвышенность Гарлем-Хайтс; их левый фланг оперся на Гарлем-Ривер, а правый — на реку Гудзон. На следующий день беззаботность британцев и их презрение к врагу стали причиной боя при Гарлем-Хайтс, в действительности вылившегося в перестрелку между несколькими сотнями легких пехотинцев и коннектикутским полком полковника Томаса Ноултона, прикрывавшим строй американцев. Как записал капитан полка валлийских фузилеров Фредерик Маккензи в своем ставшем знаменитом дневнике, легкая пехота преследовала американцев без «надлежащей поддержки», попала в затруднительное положение «и понесла тяжелые потери». Эта «победа» дала американцам некоторый заряд бодрости, хотя в этом бою они потеряли полковника Ноултона, бывшего одним из лучших полковых командиров в армии[620].
IV
В течение следующих двух месяцев армия Вашингтона оставляла один укрепрайон за другим, пока Корнуоллис 20 ноября не захватил Форт-Ли на левом берегу Гудзона. Три недели после взятия англичанами форта и вплоть до переправы через реку Делавэр у Трентона в Пенсильванию американские войска только и делали, что отступали, отчаянно пытаясь избежать встречи с Корнуоллисом. Большую часть этого времени, до падения Форт-Ли, Вашингтон выглядел нерешительным и временами даже неумелым. Нерешительность его объяснить было легко: он не знал планов Хау. Нанесет ли тот удар по южной части Новой Англии или пойдет на Филадельфию через Нью-Джерси? Несвойственная Вашингтону неловкость не нанесла ущерба войскам — больше всего она проявилась во взаимоотношениях с высшими офицерами, особенно с генералом Чарльзом Ли. После сражения 16 сентября обе армии замерли на Гарлем-Хайтс. Американцы насыпали укрепления, передислоцировали и пытались реорганизовать свои войска. Британцы в общем делали то же самое, хотя и не в таком сумасшедшем темпе, как их противник. Вашингтон демонстрировал высокую активность, пытаясь консолидировать армию и решить самую мучительную ее проблему — пополнение, так как окончание срока службы ополченцев в ноябре и декабре грозило его войскам полным распадом. Вскоре после битвы на Лонг-Айленде конгресс санкционировал набор 80 000 человек, что было весьма своевременным и обнадеживающим, но конгресс предполагает, а Господь располагает… В сложившихся обстоятельствах конгресс постарался ускорить процесс, обязав легислатуры колоний создать комитеты, которые назначили бы строевых офицеров, которые в свою очередь занялись бы вербовкой. Легислатуры действовали неторопливо, иногда по нескольку месяцев ничего не предпринимая, в личном составе полков зияли бреши, а Вашингтон отчаянно требовал пополнений[621]. Проблема встала во весь рост, но тут как раз Хау временно отвлек Вашингтона от нее, отправив 12 октября четырехтысячный отряд по берегу перешейка Трогс-Нек, который иногда называли Фрогс-Нек или Фрогс-Пойнт. Этот перешеек часто превращался из полуострова в остров и обратно, в зависимости от приливов и впитывания воды почвой, и выдавался в пролив Лонг-Айленд почти строго на восток от позиций американцев. В тумане корабли королевского флота прошли через узкий пролив Хеллгейт и беспрепятственно высадили десант, однако выбраться с Трогс-Нек было не такой простой задачей, так как сторожевые отряды американцев охраняли ведущие оттуда пути — несколько бродов и небольшую дамбу через ручей[622]. Так Хау удалось обойти с фланга на американскую армию Гарлем-Хайтс. Через четыре дня Вашингтон решил двигаться на север к Уайт-Плейнс на расстоянии дневного перехода, и 18 октября начал отвод войск с Гарлем-Хайтс. Из-за нехватки лошадей и повозок переход занял четыре дня, причем солдаты тащили орудия на себе. Хау никак не беспокоил американцев, хотя в день, когда враги начали отход, высадил еще один десант в верхней части пролива в Пелл-Пойнте. Недоукомплектованная бригада полковника Джона Гловера попыталась навязать бой высадившимся гессенцам, но те вскоре заняли Пелл-Пойнт без особых проблем. Еще десять дней британцы избегали движения на Уайт-Плейнс, пока наконец 28 октября не взяли приступом Чаттертон-Хилл, холм на крайнем правом фланге американских позиций. Три дня спустя Вашингтон отвел армию к Норт-Каслу и возвел новую линию укреплений. Хау последовал было за ним и занял оставленные позиции, но ночью 4 ноября отвел войска (Вашингтон ошибочно посчитал этот маневр «отступлением») и через десять дней сосредоточил армию вокруг форта Вашингтон на восточном берегу Гудзона, к югу от Кингсбриджа[623]. Все эти десять дней Вашингтон строил догадки о намерениях Хау и готовился отправить часть армии из Норт-Касла для проведения операций в Нью-Джерси. Не оставалось сомнений, что Хау попытается взять форт Вашингтон, но ведь он этим не удовлетворится? Изучая поведение Хау, Вашингтон приписал тому одну из черт собственного характера, а именно заботу о репутации. Вашингтон всегда придавал большое значение тому, что другие думают о нем. Его убежденность, что и враг руководствуется теми же соображениями, хорошо иллюстрирует риторический вопрос, который он как-то задал в отношении Хау: «Он должен предпринять что-то, чтобы подтвердить свою репутацию, ибо что он уже сделал, имея столь внушительную армию?» Непосредственная задача Хау была очевидна: захват форта Вашингтон, но каков будет его следующий шаг в случае успеха? Возможно, он направится в южные колонии, а может, через Нью-Джерси двинется на Филадельфию, где заседал конгресс. Пока же на повестке дня стоял форт Вашингтон и вопрос звучал так: «Смогут ли американцы его удержать?» Вскоре этот вопрос трансформировался в другой, более развернутый: необходимо ли удерживать форт после того, как английские корабли прошли по Гудзону между фортом Вашингтон и фортом Ли на западном берегу реки? Американские орудия обоих фортов дали залп по кораблям, но не нанесли практически никакого ущерба, если не считать мелких повреждений парусов и такелажа, и корабли прошли вверх реке[624]. Как только британцы продемонстрировали, что форты не могут помешать флоту, Вашингтон стал задумываться об эвакуации форта. Казалось благоразумным не рисковать тремя тысячами солдат гарнизона, особенно учитывая, что Хау имел над ним троекратное, если не четырехкратное, преимущество. Но Джорджа Вашингтона не было на месте событий, а непосредственный командующий силами американцев Натаниэль Грин и начальник гарнизона форта полковник Роберт Маго были уверены, что смогут продержаться. Вашингтон в своем письме Грину от 8 ноября выразил свои сомнения, но не решился отдать прямой приказ оставить форт. Он не желал подвергать риску гарнизон и боеприпасы форта Вашингтон, но: «так как Вы находитесь непосредственно на месте, то оставляю на Ваше усмотрение, стоит ли эвакуировать форт и отменить приказ, данный полковнику Маго защищаться до последнего солдата»[625]. Находиться «непосредственно на месте» было предпочтительно для самого Вашингтона. Он был не из тех командиров, которые доверяют отвлеченным рассуждениям, а также никогда не стремился принимать решения, находясь вдалеке от событий. Он хотел все видеть своими глазами и поступал в соответствии с этим: так, в Кембридже он лично проводил рекогносцировку и инспектировал лагеря; на Лонг-Айленде он не отдавал приказа об отступлении, пока лично не убедился в его необходимости; он устремился к Кипс-Бей, чтобы видеть катастрофу своими глазами, а у Гарлем-Хайтс находился настолько близко к схватке, насколько позволяло благоразумие. Он производил впечатление кабинетного генерала, но по склонностям своим таковым не был. Вашингтон мог хорошо мысленно представлять диспозицию армии и поле боя, но предпочитал находиться в гуще событий. В юности он стал хорошим землемером, а эта профессия подразумевала посещение земельных участков, а ведь он был еще и плантатором, и земельным спекулянтом. Вашингтон, безусловно, мог командовать и на расстоянии, но он всегда желал сам удостовериться в происходящем, прежде чем принимать решения. Вашингтон появился у форта как раз в момент движения к нему англичан, и там он встретил Натаниэля. Грина — обаятельного, уверенного в себе, способного чеканно выражать свои мысли офицера, который считал, что сможет защитить форт[626]. Право иметь свою точку зрения, находясь в гуще событий, Грин имел, но полагаться на его правоту было недальновидно. Тем не менее Вашингтон ему доверился, поступив вопреки своему предчувствию, подкрепленному личной рекогносцировкой командующего, произведенной 14 ноября. В этот решающий момент сильная, трезвомыслящая личность уступила энтузиазму другой, более молодой, энергичной и оптимистически настроенной. Однако 16 ноября Хау лишил Грина иллюзий и подтвердил опасения Вашингтона. Сутками ранее британцы заняли позиции, окружив силы американцев. Позиции эти, растянувшийся на добрые пять миль, находились очень далеко от форта, вставшего на Вашингтон-Хайте, холмах высотой в 230 футов над уровнем Гудзона. Хау потребовал от оборонявшихся сдать форт, на что Маго ответил насколько патетически, настолько и, как показали дальнейшие события, бессмысленно: «Позвольте мне уверить его превосходительство в том, что, будучи преданным самому великому делу, за которое когда-либо сражалось человечество, я намерен защищать форт до самой крайности!»[627] На следующий день генерал Перси нанес удар с юга по пенсильванцам подполковника Ламберта Кадуоладера, генерал Эдвард Мэтьюс, имея Корнуоллиса в резерве, обрушился на ополченцев полковника Бакстера с востока, а генерал Вильгельм фон Книпхойзен повел своих гессенцев на мэрилендский и виргинский полки подполковника Мозеса Роулингса. Гессенские наемники понесли наибольшие потери, но через три часа укрепления на всех трех участках были преодолены нападавшими. Зажатые в своих укреплениях, дезорганизованные, близкие к панике американцы не могли больше держаться. Этого и не произошло, и во второй половине дня Маго сдался. Британцы потеряли убитыми немало — почти 300 человек, но общие потери американцев были гораздо более существенными: 54 человека убитыми, 100 ранеными и 2858 попавшими в плен. Боеприпасы, продовольствие и артиллерия также достались «красным мундирам»[628]. Через четыре дня, утром 20 ноября, Корнуоллис во главе 4000 солдат пересек Гудзон и высадился в Клостере, Нью-Джерси, в шести милях выше по течению реки от форта Ли. Его целью была американская армия в Нью-Джерси, разбросанная между рекой Хакенсак и фортом Ли. 9 и 10 ноября Вашингтон отправил на другой берег Гудзона в Пикскилл двухтысячное подкрепление; таким образом, у находившегося там генерала Хита оказалось 3200 солдат, охранявших подходы к южной части Новой Англии. Чарльз Ли и 5500 человек с ним оставались в Норт-Касле. Корнуоллис, стремясь завершить захват фортов вдоль Гудзона, проделал марш на юг и едва не застал врасплох гарнизон форта Ли. После того как ему не удалось зажать Вашингтона и Грина между Хакенсаком и Гудзоном, Корнуоллис решил отложить преследование врага до следующей недели[629].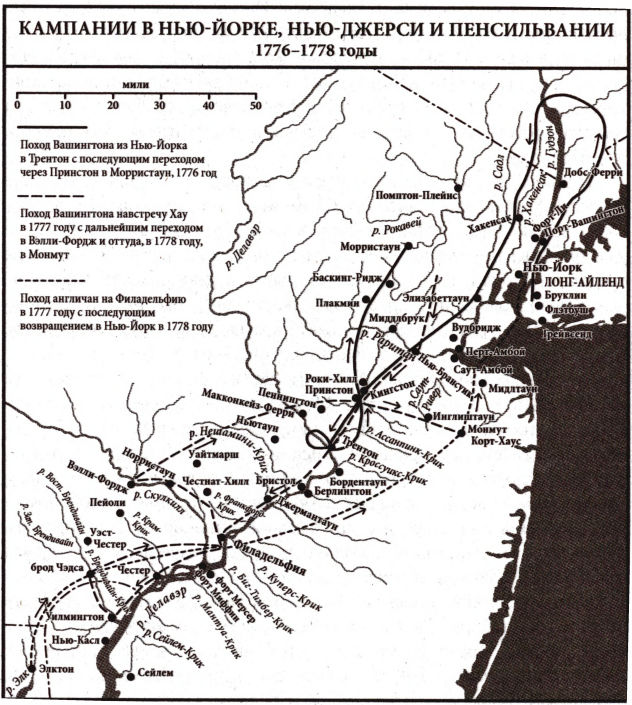
Вашингтон и оставшаяся часть армии (трехтысячный неорганизованный и павший духом отряд) в беспорядке начали отход от Хакенсака 21 ноября. На следующий день американцы достигли Ньюарка, где отдыхали пять дней. В конце недели Корнуоллис вновь вернулся к активным действиям — 28 ноября авангард англичан вошел в Ньюарк сразу после того, как оттуда ретировались последние солдаты Вашингтон. 29 ноября американцы добрались до Нью-Брансуика, а на следующий день их расположение покинули 2000 ополченцев из Нью-Джерси и Мэриленда, чей срок службы подошел к концу. Эти люди выдержали все, что могли, и теперь отправлялись по домам. Корнуоллис пытался двигаться по размытым дорогам как можно быстрее, но его темп замедляли дожди и холодная погода. Он опять почти догнал Вашингтона 1 декабря в Нью-Брансуике, но был остановлен приказом Хау. Все равно солдаты Вашингтона, переправившись через реку Раритан, обрушили мост, подрубив его деревянные опоры. И современники Корнуоллиса, и позднейшие историки критиковали его за пассивность, но справедливость требует указать на сильное утомление его людей и получение соответствующего приказа от начальства[630]. Третьего декабря армия Вашингтона достигла Трентона на реке Делавэр; Хау, присоединившийся к Корнуоллису три дня спустя, приказал возобновить преследование, и на следующий день в который уже раз едва не поймал американцев у Принстона. Утром 8 декабря британцы, войдя в Трентон, обнаружили, что река разлилась, а лодок найти невозможно: переправившись на другой берег, Вашингтон приказал вывести из строя или отогнать к западному берегу все лодки, которые только можно было найти вниз и вверх по течению[631]. Хау неделю метался вдоль берега Делавэра, пока посланные им патрули пытались найти лодки. Может, он и рассматривал возможность построить для переправы плоты, но всерьез до этого не дошло. 14 декабря Хау приказал войскам отойти на зимние квартиры, так как стало уже очень холодно, а никакой встречи с врагом в ближайшее время не предвиделось. Большая часть британской армии отправилась в Нью-Йорк, где пребывание было более комфортным, и Хау вместе с ними. Корнуоллис получил разрешение вернуться в Англию, а Клинтон, к тому времени полностью разочаровавшийся в Хау, остался фрондировать в Ньюпорте. Честь патрулирования территории вдоль берега Делавэра выпала гессенским наемникам. В это же самое время Вашингтон вновь и вновь сталкивался со своими старыми, хорошо знакомыми неприятностями, главными из которых были недостаток людей и боевых качеств у тех, кто еще оставался с ним. Пока в его распоряжении было 3000 человек, но свыше половины из них должны были покинуть лагерь в конце месяца — истекал срок их службы. Разумеется, некоторые не хотели дожидаться конца месяца. Вашингтон с горечью смотрел на свою стремительно таявшую армию, и отчаяние его становилось все сильнее, так как он оценивал численность войск противника по меньшей мере в 10 000 человек[632]. Не добавил ему настроения и провал попытки генерала Чарльза Ли прийти к нему с корпусом в 5500 солдат, оставленных в Норт-Касле, когда Вашингтон в начале ноября двигался в Нью-Джерси. Вашингтон покидал Норт-Касл, предупредив Ли, что продвижение британцев вглубь Нью-Джерси может оказаться ложным маневром: «Они вполне могут нанести визит и вашей армии». Однако Вашингтон также уведомил Ли, что если вся английская армия или большая ее часть пойдет за ним в Нью-Джерси, то ему, Ли, следует присоединиться к Вашингтону: «У меня нет никакого сомнения в том, что вы тотчас пойдете ко мне навстречу со всей возможной быстротой, оставив в случае необходимости ополченцев и небоеспособных прикрывать границу Коннектикута». Здесь не столько примечательно насмешливое упоминание небоеспособных рядом с ополченцами (Вашингтон ставит между ними знак равенства), сколько неопределенность его обращения к Ли. На этом этапе взаимоотношений между двумя генералами рефлексирующий провинциал Вашингтон слишком заискивающе относился к опытному командиру Ли, понюхавшему пороху в Европе, чтобы отдавать тому приказы. На протяжении целого месяца после этого в письмах Вашингтона эта почтительность сохраняется. Так, в письме от 21 ноября он говорит Ли, что «интересы государства» требуют от того привести его армию в Нью-Джерси (в этот день Ли приказал бригадному генералу Уильяму Хиту направить ему 2000 человек из Пикскилла, но получил холодный отказ); 24 ноября Вашингтон пишет опять, пребывая в заблуждении, что Ли уже начал свое движение. Хотя 27 ноября он берет решительный и сухой тон: «Мои предыдущие письма, касавшиеся необходимости вашего появления в Нью-Джерси, были настолько ясны и конкретны, что больше нет необходимости что-либо добавлять по этому поводу»; но уже 10 декабря он возвращается к прежнему стилю; «Я могу лишь настоятельно просить вас» (присоединиться к основной армии). К тому времени Ли уже и вправду пересек Гудзон, но передумал двигаться дальше, ожидая возможности ударить по армии Хау с тыла. Такого шанса ему не представилось, так как 13 декабря в таверне около Вил-Тауна его захватил британский патруль[633]. Призывая Ли поторопиться, Вашингтон вдруг понял, что сам не верит в то, будто отряд Ли, даже присоединившись к его войскам, сделает американскую армию серьезной силой. Однако отряд Ли, отнюдь не являясь крупным, так или иначе усилит армию, и к тому же «народная молва преувеличит ее численность, что позволит считать нашу группу настоящей армией». Видимость была важна, почти столь же важна, как и сама реальность, особенно для поддержания духа войск да и всего народа Америки, который должен был поверить, что может победить в войне[634]. Принимая во внимание шаткость и ненадежность позиций американцев, следующий шаг Вашингтона может ретроспективно показаться нам на удивление рискованным, авантюрным, если не сказать глупым. Он решил предпринять наступление на Трентон в надежде потом нанести удары по Принстону и Нью-Брансуику, где размещались самые значительные магазины британской группировки в Нью-Джерси. Зачем ему это было нужно?[635] Частично ответ нужно искать в его столь долго подавляемых инстинктах, желании покрыть себя славой и честью, каковые могло принести стремительное возвращение за Делавэр. Кроме того, он хотел ослабить эффект неизбежного наступления британцев на Филадельфию весной: «Я боюсь за Филадельфию», — отмечал он в одном из писем. Однако был ли этот город так важен для него, чтобы поспешное наступление могло считаться оправданным? Филадельфия на тот момент была столицей Америки, и ее потеря могла нанести серьезный моральный урон общему делу, «ранив в сердце каждого благонамеренного американца», как говорил Вашингтон Джону Хэнкоку. Итак, мотивами наступления было поддержание боевого духа в армии и игра на патриотических струнах общества. Ибо «конец свободе», который британцы «хотят увидеть, заключается в распространении своего владычества над Америкой так глубоко, как это только возможно, в том числе и сея безнадежность в душах американцев, что естественным образом приведет к прекращению притока добровольцев в армию, от которой зависят все наши надежды, — именно этого они всеми силами и добиваются». Все надежды возложены на армию, а армия полагается на население — такой была максима, в истинности которой Вашингтон был совершенно убежден. Между тем и армия и население порой приводили Вашингтона в ярость: первая стремительно таяла в ходе отступления по Нью-Джерси, а поведение второго Вашингтон в письме своему брату называл «позорным» за ту поддержку, которую гражданские оказывали врагу. Территориальное ополчение — «разлагающая умы, недешево обходящаяся и неуправляемая толпа» — так злорадствовало при каждом успехе противника, что Вашингтон какое-то время выступал за его разоружение. В моменты, когда он старался мыслить логически и переставал поддаваться эмоциям, он понимал, что множество людей по всему Нью-Джерси просто наблюдают за событиями, ожидая, какая из сил возьмет верх; симпатия их не принадлежит ни одной из сторон, а их «предательство» «обусловлено, помимо всего прочего, и желанием видеть армию, идущую на врага с открытым забралом». Именно поэтому он и принял решение переправиться через Делавэр и встретиться с врагом лицом к лицу. Он должен был так поступить, чтобы сохранить армию: если же не будет армии, то потерпит крах и революция[636]. Гессенцы, несшие караульную службу на том берегу реки, и без того каждый день ощущали, будто находятся лицом к лицу с врагом. Они растянулись от Трентона к Берлингтону, командовал ими генерал фон Доноп, чья ставка располагалась у южной границы постов близ Маунт-Холли. Полковник Ролл с тремя полками находился в самом Трентоне, а генерал Лесли оставался в Принстоне. В Нью-Брансуике расположился командующий всеми британскими силами в Нью-Джерси генерал Джеймс Грант, подчинявшийся непосредственно Хау. Последний, с комфортом устроившийся в Нью-Йорке, писал обстоятельные письма лорду Джермену о том, что его силы слишком разбросаны по провинции («Цепочка моих войск кажется мне чрезмерно растянутой»), но, буквально тут же объяснял: «Я был вынужден занять Берлингтон, чтобы защитить округ Монмут, где много лояльных к нам жителей»[637]. Подобно Вашингтону, Хау также обращал внимание на политическую составляющую войны: ему важна была поддержка лоялистов, и поэтому он должен был обеспечить им защиту. Его прокламация о прощении всем, кто признает власть Короны, привела к тому, что колебавшиеся до того лоялисты осмелели, соответственно их нужно было защищать. Однако ресурсы Хау были ограниченны. Люди, в отличие от Вашингтона, у него были, но благодаря уничтожению последним провизии и фуража перебои в снабжении начались и у англичан. Разумеется, у Вашингтона не было ни времени, ни намерения применять тактику выжженной земли, просто он стремился не дать британцам обобрать местных фермеров. Как и большинство оккупационных войск во все времена, британцы находились в щекотливой ситуации: они должны были одновременно «защищать» население Нью-Джерси и эксплуатировать его, за что жители никак не могли относиться к ним с благодарностью истинных патриотов. Хау чувствовал такие настроения, поэтому отдал приказание Донопу делать запасы, но выдавать фермерам расписки на все, что у них реквизировалось, особенно скот и зерно. Впрочем, приказы Хау оставляли широкое поле для злоупотреблений: «Любое количество соли или муки, превышающее необходимое для потребления одной семьей, расценивается как запасы для мятежников» и может быть «изъято для нужд королевской армии»[638]. Последствия вряд ли могли кого-то удивить. Гессенским наемникам почему-то оказалась чуждой политическая деликатность Хау, и они просто брали себе все, что плохо лежало, что привело к всплеску враждебности, которая в общем-то тлела и раньше. Уже долгое время командиры гессенцев жаловались, что нести службу в той тонкой цепи, в которую их растянул Хау, небезопасно. Чтобы отправить письмо в Принстон, полковнику Роллу приходилось снаряжать эскорт из пятидесяти человек. Патрули, фуражиры и сторожевые посты регулярно страдали от партизан и рейдов с западного берега реки Делавэр. Ролл даже не потрудился укрепить подходы к Трентону: по его словам, враг был вокруг него и не было никакой возможности защитить себя должным образом[639]. Но ни Ролл, ни его начальство не ожидали атаки Вашингтона под Рождество. Погода стояла плохая: шел дождь со снегом, Делавэр еще не покрылся льдом, но большие льдины уже проплывали вниз по течению. Вашингтон тщательно готовил план атаки, хотя и не надеялся, что погода поможет скрыть его маневр. Наступление должно было развиваться по трем направлениям: 700 человек под командованием Джеймса Юинга переправлялись через реку на переправе Трентон-ферри и захватывали мост через Ассунпинк-Крик на южной окраине города. Подполковник Джон Кадуоладер высаживался еще южнее, в районе Бристоля, и наносил удар по позициям Донопа у Маунт-Холли — его задачей было вовлечь гессенцев в перестрелку и помешать им прийти на выручку Трентону. Трентон рассматривался главной мишенью — город должен был взять сам Вашингтон с основными силами, а затем, в случае успеха, двинуться к Принстону и, может быть, даже к Нью-Брансуику, где находился основной склад британской армии[640]. Вечером в сочельник основной отряд американцев, насчитывавший примерно 2400 человек, сосредоточился позади невысоких холмов, выходивших на переправу Макконки-ферри. Вашингтон планировал к полуночи перейти на тот берег и начать движение к югу. До Трентона оттуда было девять миль, и генерал рассчитывал достичь городских стен к пяти утра, задолго до рассвета. Однако гроза, волнение на реке и льдины выбили его из этого графика. Артиллерия, которой командовал Нокс (всего 18 орудий), застревала в снегу и смогла достичь противоположного берега только к трем часа утра. Вашингтон, к тому времени уже переправившийся со своим авангардом, стоял на берегу и ждал, сознавая, что его присутствие не может долго оставаться незамеченным, пусть и в темноте. К четырем часам утра все было готово к маршу на Трентон. Было сформировано две маршевые колонны: одна шла чуть выше, по Пеннингтон-роуд, вторая — ниже, по Ривер-роуд. Первую колонну возглавили сам Вашингтон и Натаниэль Грин, вторую поручили Салливану. По счастливому совпадению или же вследствие искусного управления, обе колонны подошли к Трентону с интервалом в несколько минут — на часах было 8 утра. Ривер-роуд изгибалась, переходя в городскую улицу с юга, а Пеннингтон-роуд перетекала в Кингс-стрит и Квинс-стрит — две главные улицы города, шедшие с севера на юг. Авангард Вашингтона в сопровождении передового патруля вошел в город с севера и в считанные минуты установил пушки на этих улицах. Орудийными расчетами командовали два молодых капитана: Томас Форрест (Квинс-стрит) и Александр Гамильтон (Кингс-стрит). После первых же залпов два полка гессенцев высыпали на улицы, третий оставался в резерве на юго-восточной окраине города. Полковник Ролл, накануне отмечавший Рождество с присущим ему размахом, был поднят с постели и принял командование, но вскоре был сражен американской пулей, а без него никто не смог наладить эффективное сопротивление. Большая часть города опустела еще три недели назад, когда почти все жители покинули Трентон, поэтому их дома и хозяйственные постройки стали сценой ожесточенных штыковых атак. Американская артиллерия не позволяла гессенцам сомкнуть строй, а пехота постепенно окружала их, пока штыки и ружейные приклады не довершили дело. Через час все было кончено: 22 гессенца мертвы, 98 ранены и около тысячи взяты в плен. У американцев было всего четыре раненых: два офицера и два солдата. Не меньше полутысячи гессенцев и горстка английских драгун спаслись бегством через Ассунпинк-Крик, так как Юинг не смог переправиться через реку. Фиаско ждало и отряд Кадуоладера: хотя его авангард высадился на восточном берегу, спустя короткое время ему пришлось вернуться восвояси, после того как стало ясно, что погода и бурное течение препятствуют переправе основных сил. После полудня Вашингтон отвел своих утомленных, но торжествующих солдат обратно за Делавэр — он узнал о неудаче Кадуоладера, и выбора у него не оставалось. Его солдаты слишком устали, чтобы продолжать движение к Принстону, и к тому же до него дошли сведения, что гессенцы приближаются кТрентону с юга. Насчет последних его дезинформировали — напротив, в течение нескольких следующих дней наемники оставили все укрепленные посты на реке, которые были под их контролем. Чувствуя себя в глупом положении и желая доказать храбрость свою и своих людей, Кадуоладер пересек реку на следующий день и вступил в опустевший Берлингтон. Два дня спустя Вашингтон повторил маневр, на этот раз переправившись прямо в Трентон. Находясь в городе, он приказал Кадуоладеру двигаться к северу, тот же приказ получил и генерал Миффлин, выдвинувшийся к Бордентауну с 1600 ополченцами. К концу года у Вашингтона в Трентоне было 5000 человек и 40 гаубиц[641]. Перед американской армией встала гораздо более трудная задача, чем взятие Трентона: Хау послал Корнуоллиса из Нью-Йорка в Принстон, для того чтобы тот перехватил инициативу. Вскоре Корнуоллис вышел из Принстона с 5500 солдатами регулярной армии и 28 орудиями. Вашингтон стремился затруднить его движение на юг: помимо того, что дорогу из Принстона совершенно развезло, летучие отряды пенсильванцев и виргинцев больно жалили британцев на марше. К вечеру 2 января Корнуоллис подошел к Трентону, где Вашингтон встал на его пути на берегу притока Ассунпинк-Крик. Несколько безуспешных попыток авангарда англичан форсировать ручей убедили Корнуоллиса, что атаку основными силами следует отложить на следующий день. Пара его подчиненных имела другое мнение, утверждая, что на следующее утро американцев там уже не будет, тогда как Корнуоллис видел Вашингтона, попавшего в его капкан: никуда, мол, не денется[642]. Ночью Вашингтон посрамил обе стороны, так как ушел по дороге, недавно проложенной юго-восточнее от разбитой принстонской. Англичане не обнаружили исчезновения врага до рассвета, так как американцы оставили на месте несколько сот солдат, которые жгли костры, а также имитировали земляные работы, производя как можно больше шума, что успокоило англичан. Ранним утром авангард Вашингтона достиг окраин Принстона, где столкнулся с двумя полками подполковника Чарльза Мохуда. Какое-то время шел отчаянный бой, потрепавший отряды Хью Мерсера и Джона Кадуоладера. В тот момент, когда американцы были готовы сломать свой строй, появились основные силы Вашингтона. Вид сидевшего верхом Вашингтона ободрил солдат, американцам удалось сомкнуть боевые порядки, а британцы обратились в бегство. Мохуд в конце концов прорвался к Трентону, но его полк фактически перестал существовать[643]. Полк, оставленный Мохудом в Принстоне, не вступил в бой, а потом попытался уйти в Нью-Брансуик. Это удалось не всем: американский полк из уроженцев Нью-Джерси взял в плен почти двести человек. Когда Вашингтон заметил, насколько его люди истощили свои силы, он отказался от намерения взять Нью-Брансуик. Четыре дня спустя он отвел войска на зимние квартиры в Морристаун. Корнуоллис, опасаясь очередных неприятностей от своего неуловимого врага, совершил от Трентона марш к Нью-Брансуику, но складам англичан пока ничего не угрожало. Хакенсак и Элизабет сдались американцам 8 января, в день, когда армия Вашингтона вступила в Морристаун. Хау, еще каких-то две недели назад чувствовавший себя в Нью-Джерси как дома, увидел, что он, по сути, контролирует только Амбой и Нью-Брансуик.
16. Маневренная война
I
С наступлением зимы в боевых действиях между двумя армиями наступила передышка. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что дело происходит в Европе с ее обычаем отвода войск на зимние квартиры. Солдаты обеих сторон занялись налаживанием своего быта, пытаясь поудобнее устроиться в условиях, неудобных по своему существу. Те времянки, которые соорудили для себя солдаты Вашингтона, мало подходили для отдыха и расслабления. Обогрев жилья требовал больших усилий — центральное отопление появилось лишь в конце века, но заготовка дров по крайней мере заставляла людей шевелиться. Неприятель в Нью-Йорке тоже не изнывал от зноя, зато там к услугам военных были таверны, общественные здания и частные дома, где они чувствовали себя вполне комфортно. Часть солдат Вашингтона в Морристауне последовали примеру многих, кто служил до них, и сделали то, что со временем вошло у американцев в традицию: закончили свою военную службу без разрешения — то есть попросту дезертировали. В войсках генерала Хау тоже были случаи дезертирства, но далеко не столь многочисленные, ведь его солдатам было некуда податься, кроме как к врагу. Вскоре жители Нью-Йорка начали завидовать дезертирам. С наступлением зимы уровень жизни в городе резко упал, и оккупационная армия не принимала никаких мер, чтобы исправить положение — во всяком случае, она ничем не помогала гражданскому населению. Еды не хватало, так как партизанские отряды на Лонг-Айленде и на другом берегу Гудзона нападали на партии, посылаемые за продовольствием. Эта жестокая и грязная маленькая война велась в нарушение всех известных правил. В пределах города жители были защищены от насилия и грабежа, но солдаты регулярной армии не обращали на них внимания, а если и обращали, то исключительно для того, чтобы чем-нибудь у них поживиться. В XVIII веке военные гарнизоны и гражданское население, которое они «защищали», не уважали друг друга, и то, что пережили ньюйоркцы зимой 1776/77 года, неоднократно наблюдалось в прошлом, в частности незадолго до того в Бостоне. Регулярные войска в обоих городах ставили себе целью уничтожить врага, но вместо этого наживали себе новых врагов. Между тем солдаты Вашингтона очень скоро лишились части своих приверженцев в Морристауне — не потому, что дурно себя вели, а потому, что они принесли с собой оспу, а их командующий распорядился разместить больных в домах горожан, чтобы «изолировать» их и обеспечить надлежащий уход. Через три дня после вступления сил Вашингтона в Морристаун главный врач колониальной армии Джон Морган постановлением конгресса был отстранен от должности, и госпитали, которые и прежде не соответствовали нормам, пришли в еще больший упадок. У Вашингтона не было других ресурсов, кроме его собственных полковых госпиталей и городских домов, поэтому он попытался изолировать оспенных больных и ввести в практику прививки, то есть начать искусственно заражать тех, кто еще не заболел, в надежде на то, что они перенесут менее опасную форму болезни, чем в случае заражения от других больных. Вполне естественно, что фермеры Морристауна воспринимали перемены, которые армия внесла в их жизнь, без всякого энтузиазма — ведь теперь им приходилось дорого платить за свои принципы[644]. Сам город был небольшим — от силы пятьдесят дворов, церковь, да непременная таверна — и представлял собой идеальное место для зимних квартир, подступы к которому с востока были затруднены горами. Но, хотя к городу было трудно подобраться, он располагался в достаточной близости (примерно в 25 милях к западу) от Нью-Йорка, чтобы давать Вашингтону возможность наблюдать за врагом. Нью-Брансуик и Амбой находились примерно на том же расстоянии от Морристауна, так что город не находился в изоляции, и стоявшие в нем войска не могли быть отрезаны от остальных сил, так как у них всегда была возможность отойти через горные перевалы на запад. И если бы Хау вздумалось двинуть свою армию из Нью-Йорка на Филадельфию, его можно было бы атаковать во фланг. Армия из Морристауна могла нанести удар по Хау также и в том случае, если бы тот рискнул отправиться вверх по долине Гудзона. За два месяца гарнизон настолько уменьшился в размерах, что теперь уже никому не доставлял хлопот. Среди тех солдат — числом примерно в тысячу, кого в Трентоне завербовали за десять долларов на шестинедельную службу, — нашлись такие, кто расторг договор в одностороннем порядке, как только угасло воодушевление от побед. Еще часть солдат разбрелась по домам в первых числах февраля, так что к началу марта армия насчитывала менее трех тысяч человек. Как обычно, вербовка оказалась хлопотным делом, хотя в связи с августовским поражением на Лонг-Айленде конгресс распорядился сформировать 88 новых батальонов. В декабре было принято решение о создании еще одиннадцати пехотных батальонов, не считая полевой артиллерии, инженерных войск и трехтысячной кавалерии[645]. Но армия на бумаге и действующая армия — далеко не одно и тоже. Завлечение людей на военную службу стоило вербовщикам неимоверных усилий, особенно ввиду того, что жалование, которое они могли предложить, зачастую было намного ниже тех, что платили штаты, формировавшие собственное ополчение. Вашингтон пытался воздействовать на такие штаты увещеванием, объясняя им, что их практика наносит вред его армии, а когда это не помогло, он перешел к угрозам — например, в том случае, когда он прямо заявил губернатору Род-Айленда, что если его штат не снизит размер платы ополченцам, Континентальная армия не придет ему на помощь в критической ситуации. Увещевания и угрозы принесли свои плоды: в начале мая, когда холмы вокруг Морристауна покрылись зеленью, батальоны, ранее существовавшие лишь на бумаге, начали облекаться в плоть и кровь. К концу месяца численный состав армии достиг почти 9000 человек — 43 батальона; и их можно было вооружить и экипировать ружьями, порохом и обмундированием, поступившими из Франции, по-прежнему пристально следившей за борьбой и оказывавшей тайную поддержку американцам[646]. Военные действия возобновились в мае, как только англичане вышли из зимней спячки. Ввиду недостаточного снабжения они были вынуждены все чаще снаряжать отряды за фуражом. Эти отряды подвергались атакам наступающих подразделений армии Вашингтона, а в Нью-Джерси они становились мишенью для партизан. Хау ненавидел эти мелкие кровопролитные стычки. Он мечтал о генеральном сражении, которое дало бы ему возможность разделаться с противником раз и навсегда, и в середине июня начал провоцировать Вашингтона на большую битву. 17 июня Хау двинулся с крупными силами со Статен-Айленда в Нью-Джерси и проделал около девяти миль в направлении Филадельфии. Вашингтон вступал только в мелкие стычки и, несмотря на опасения, что Хау попытается захватить город, уклонился от боя. Неделю спустя Хау снова двинул свои войска на Филадельфию, затем отвел их назад, а когда Вашингтон пустился в преследование, опять повернул и перешел в наступление. В самый последний момент Вашингтону удалось избежать ловушки, после чего Хау полностью вывел свои силы из Нью-Джерси, оставив весь штат в руках повстанцев[647].II
Хау не заманил Вашингтона в ловушку, зато он заставил его ломать голову над разгадкой британских намерений. Истинные замыслы англичан были главным предметом обсуждений в американском штабе в начале лета. Цель июньских рейдов на территорию Нью-Джерси казалась вполне ясной, но что означал полный вывод войск из штата? В июле разведка бодро отрапортовала о посадке англичан на корабли в нью-йоркской гавани. По мере роста флотилии у американцев росло чувство неопределенности. К этому моменту Хау наконец-то определился с планом действий. Он отправился в Филадельфию морем. Во время плавания ему пришла в голову мысль изменить место высадки — мысль, имевшая далеко идущие последствия. Он принял решение о штурме Филадельфии, не посовещавшись с правительством, хотя и проинформировал министров о своем плане, или скорее планах, поскольку весной он неоднократно менял свое решение относительно наиболее подходящего способа захвата Филадельфии. В течение большей части зимы 1776/77 года он планировал идти на город по суше через Нью-Джерси. Однако в апреле он изменил свое решение в пользу вторжения с моря — от Нью-Йорка на юг, затем вверх по реке Делавэр[648]. Правительство в Англии, в свою очередь, тоже выработало стратегию на 1777 год, которая была одобрена королем. Одна из главных задач этих центров стратегической мысли состояла в том, чтобы каким-то образом согласовать свои планы, однако правительство и Хау не имели представления о намерениях друг друга, и их планы остались нескоординированными. О том, что Хау намеревается занять Филадельфию, правительство узнало еще в начале зимы. Однако оно не знало — а когда узнало, то было уже слишком поздно, — что Хау решил отказаться от сухопутной экспедиции в пользу морской. В течение зимы государственный секретарь по делам колоний лорд Джордж Джермен, отвечавший за разработку стратегии подавления восстания, ознакомился с амбициозным планом генерала Джона Бергойна, предусматривавшим вторжение с территории Канады. Бергойн вернулся в Англию из Канады после неудачной попытки сэра Гая Карлтона летом 1776 года форсировать озеро Шамплейн. Бергойн сопровождал Карлтона в этом походе, но избежал порицания за его провал и по возвращении в Англию выступил в пользу второй подобной экспедиции, на этот раз более основательно подготовленной. Ее он вызвался возглавить лично. Королю эта идея пришлась по душе, особенно когда Бергойн объяснил, что цель экспедиции состоит в отсечении Новой Англии от остальных колоний. Флотилия Бергойна должна была пересечь озеро Шамплейн, а затем спуститься по Гудзону до Олбани и таким образом аккуратно изолировать очаг восстания. Чтобы придать своей экспедиции еще больший размах, Бергойн предложил подключить к ней силы под началом подполковника Барри Сент-Лежера, который должен был отплыть из Осуиго и спуститься по Мохоку, притоку Гудзона. Эти две реки сливаются близ Олбани, так что именно там должны были соединиться две группировки британской армии[649]. Бергойн не настаивал на том, чтобы еще одна экспедиция поднялась по Гудзону и соединилась с его армией. Он явно рассчитывал играть ведущую роль, а потому лишь для видимости заявил о своем согласии перейти в подчинение Хау по прибытии в Олбани. Он не стал предлагать, чтобы Хау присоединился к его силам или чтобы в Олбани его ждала армия Хау, готовая оказать ему поддержку или включить его силы в свой состав. Он также не стал объяснять, каковы будут его дальнейшие действия по прибытии в Олбани или каким образом вступление его армии на эту территорию приведет к реальной изоляции Новой Англии. Джермен не требовал объяснений и не пытался возразить Бер-гойну, что при всем своем размахе его план может оказаться трудновыполнимым. Между тем он понимал, что планы Бергойна и Хау должны быть как-то согласованы. Несмотря на это понимание или скорее смутное предчувствие, он не предпринимал никаких действий, пока уже не стало слишком поздно. В те дни, когда Бергойн убеждал Джермена и короля в необходимости новой попытки наступления с территории Канады, в Англии находился сэр Генри Клинтон. Клинтон понимал, что если Бергойн и Хау предпримут наступательные действия независимо друг от друга, это может привести к печальным последствиям, но, как и другие в Англии, тогда еще не знал, что Хау намерен двинуться на Филадельфию морским путем. Поэтому он, при всей своей неприязни к Хау, не мог никого предупредить о его безумной морской авантюре. Кроме того, он сам хотел командовать экспедицией с территории Канады и знал, что, если ему хватит духа ходатайствовать о своем назначении командующим экспедицией, его просьба будет удовлетворена, так как он был старше Бергойна по званию. Но Клинтон не умел просить за себя: как тогда, так и позднее его «скромность», его неспособность прилагать усилия к получению того, к чему он действительно стремился, заставляла его молчать. В марте командование было возложено на Бергойна; Клинтон получил орден Бани и приказ вернуться в Америку в качестве заместителя Хау. Когда Клинтон и Бергойн уже отплыли (первый в Нью-Йорк, второй в Канаду), в Лондон пришло известие об окончательном плане Хау по захвату Филадельфии[650]. В апреле Хау написал Джермену, что, поскольку ему не высылают подкреплений, которые он запрашивал, он выводит свой авангард из Нью-Джерси, раз и навсегда отказывается от идеи сухопутного похода и направляется к Филадельфии морским путем. Ранее в том же году Хау подумывал об одновременном морском и сухопутном наступлении; но теперь, в апреле, потеряв всякую надежду на получение подкреплений, он еще раз изменил свои планы в пользу вторжения с моря[651]. Почему он принял такое решение, остается неясным. В депеше от 2 апреля, в которой он сообщал Джермену о своем намерении переправить свои войска морем из Нью-Йорка в устье реки Делавэр, Хау констатировал, что уже не надеется на окончание войны в текущем году. Оставшись без подкреплений, он, по-видимому, решил не подвергать свою армию (численностью около 21 тысячи человек) риску, связанному с пешим походом через Нью-Джерси. Морская операция, безусловно, обусловливала неучастие его армии в северной кампании, по крайней мере пока армия будет в море и в течение еще какого-то времени после высадки, ибо она будет находиться далеко от долины Гудзона[652]. Похоже, Хау не слишком интересовало то, что затевалось в Канаде. Возможно, что идея захвата Филадельфии занимала его далеко не так сильно, как многие полагали тогда и полагают сегодня, но он рассуждал в соответствии с опытом, который он вынес из нью-йоркской кампании 1776 года. Главная задача в те дни состояла в том, чтобы разгромить армию Вашингтона, а когда операция провалилась — захватить крупный американский центр, перекрыть морские торговые пути, установить контроль над окрестной областью и заручиться поддержкой колонистов, сохранивших верность Короне. Захват Филадельфии и долины реки Делавэр открывал сходные перспективы: в регионе шла бурная экономическая жизнь, фермерские хозяйства процветали, а восточная часть Пенсильвании была заселена по преимуществу лоялистами, с нетерпением ожидавшими прихода войск Его Величества[653]. Хау был если не одержим, то, во всяком случае, поглощен этими планами в такой степени, что канадские проблемы были ему глубоко безразличны. На английском правительстве и прежде всего на госсекретаре по делам американских колоний лорде Джордже Джермене лежала обязанность убедить Хау в том, что война с повстанцами и текущая операция в Канаде составляют одно неделимое целое. Джермену удалось лишь одно: дать Хау понять, что на севере что-то назревает. В период между 3 марта, когда фактически было принято решение о назначении Бергойна командующим северной экспедицией, и 19 апреля Джермен писал Хау восемь раз и ни в одном из писем не удосужился сообщить ему о назначении Бергойна. Правда, он отправил Хау копию своего письма Карлтону в Канаду, в котором говорилось, что командование вторжением возложено на Бергойна. Но к этому посланию не прилагалось никакого объяснения выбранной стратегии — и никаких призывов к Хау координировать свои действия с действиями Бергойна. Зато в своих письмах к Хау Джермен не скупился на слова одобрения и поддержки, в результате чего у Хау не могло не сложиться впечатление, что планы его филадельфийской кампания произвели хорошее впечатление и, вопреки его собственным мрачным ожиданиям, она может привести к счастливому окончанию войны. Возможно, Джермен искренне верил всему, что он писал Хау, а если и сомневался в разумности планов генерала, то, возможно, просто не решался открыто возражать ему. На данном этапе истории американской войны человеческие характеры и перипетии личных взаимоотношений приобрели — пусть и ненадолго — решающее значение. Характером, сыгравшим столь большую роль, был характер Джермена, что же касается взаимоотношений между людьми, то речь идет о людях, вовлеченных в английскую политику. Из всех министров, отстаивавших жесткую линию в отношениях с американцами, никто не мог соперничать по жесткости с Джерменом — одной из самых бескомпромиссных фигур в правительстве. Джермен, которому в 1777 году исполнился 61 год, сменил Дартмута на посту госсекретаря по американским делам в ноябре того самого года, когда состоялись сражения при Лексингтоне и Конкорде — и Банкер-Хилле. Норт и король были окрылены тем оптимизмом, с которым он смотрел на американскую проблему: американцы, уверял он, непременно уступят, признают главенство законов, издаваемых британским парламентом, и тогда уже, вероятно, можно будет выслушать жалобы и удовлетворить справедливые претензии. Примерно таких же взглядов придерживался и сам король. Нет никаких оснований сомневаться в их искренности, однако не исключено, что Джермен просто не решался уточнить позиции, то есть смягчить, ибо король стоял на том, что американцы должны капитулировать. Между тем Джермен всегда был крайне чувствителен к обвинениям в слабости и уж тем более трусости. Его назначение на важный государственный пост было триумфом упорства и, более конкретно, неожиданным следствием застарелой вражды между Лестерами (оплотом фракции, традиционно поддерживавшей престолонаследника) и монархом (в данном случае Георгом II, дедом Георга III). Во время Семилетней войны Джермен, в ту пору лорд Джордж Сэквилл, служил на континенте под началом принца Фердинанда. В ходе Минденского сражения (1759) он ввел английскую кавалерию в бой не так быстро, как того желал принц, и последний обвинил его в неподчинении приказу. Джермен предстал перед военным судом, который осудил лорда за трусость и тем самым обрек на бесчестие и безвестность. Дело получило широкую огласку, однако лишь те, кто был в курсе политических интриг, понимали, что причиной столь сурового обхождения с Джерменом была его близость к дому Лестеров[654]. После того как на трон взошел юный Георг III, доброе имя Джермена было постепенно восстановлено благодаря назначениям на различные второстепенные посты и членству в парламенте. К тому моменту, когда он занял кресло в кабинете Норта, в Америке уже вовсю шла война. Он доказал свою ценность своим непримиримым отношением к претензиям колоний на самостоятельность. Но Джермен всегда тяготился своим постом в правительстве, и, вероятно, ему было неловко напрямую отдавать приказы одному из Хау, которые обладали большим влиянием и были королевскими фаворитами. Занимать жесткую позицию в вопросах колоний — это было одно; отдавать приказы Уильяму Хау — в частности, сообщить ему, что он должен объединиться с Бергойном, когда тот прибудет из Канады, — другое. Джермен не отдавал таких приказов.III
Один из разработчиков британской стратегии на 1777 год, генерал Джон Бергойн 6 мая вернулся в Америку из Лондона, где он провел зиму. В этот день английский корабль «Аполлон» с Бергойном на борту пристал к берегам Квебека. Бергойн, человек кипучей энергии, на этот раз получил то, к чему всегда страстно стремился: полномочия независимого командующего и возможность использовать их. Он вернулся в свою армию после зимы, полной ярких впечатлений, включавших по меньшей мере одну конную прогулку с королем в Гайд-парке и совещания, на которых ему удалось убедить короля, что наступление из Канады вниз по Гудзону приведет к окончательному разгрому повстанцев[655]. Сэр Гай Карлтон, по-прежнему занимавший высокий пост в Канаде, встретил Бергойна с радушием, пусть даже и показным, и оказал ему всю поддержку, на которую тот только мог рассчитывать. В несколько недель была укомплектована армия, которая затем направилась в город Сент-Джонс на реке Ришелье. Эта армия представляла собой весьма разнородную, но внушительную силу — численностью чуть более 8300 человек, она состояла из 3700 солдат британских регулярных войск, 3000 немцев, большей частью брауншвейгцев, 650 канадцев и 400 ирокезов. Бергойна также сопровождал обоз из 138 гаубиц и пушек и около 600 артиллеристов для их обслуживания. У него были надежные подчиненные, среди которых следует выделить генерал-майора Уильяма Филлипса, его заместителя, бригадного генерала Саймона Фрейзера, возглавлявшего важную ударную группу, и барона Фридриха Адольфа фон Ридезеля, командовавшего немецким контингентом. Барон фон Ридезель, сопровождаемый своей супругой, тремя дочерьми и двумя служанками, был исключительно толковым и энергичным офицером, мгновенно распознававшим слабые места противника на поле боя и не оставлявшим без внимания ни одну брешь в неприятельской обороне. Хорошие солдаты и опытные старшие офицеры радовали Бергойна, который уже был заранее доволен собой и тем, что ему предстояло совершить[656]. Если бы Бергойн знал, какая неразбериха царит в стане его противника, он был бы настроен еще более оптимистично. Генерал Филип Скайлер командовал северной группировкой Континентальной армии, или Северной армией, но его положение было далеко не стабильным, и он это знал. Многие из его солдат были уроженцами Новой Англии и относились к нему презрительно. Скайлер не снискал себе славы в ходе ранних канадских кампаний, и его солдаты помнили это. Для нелюбви к нему были и другие причины: голландец Скайлер, владелец поместья с феодальными привилегиями, гордился своим статусом и с подозрением относился ко всем проявлениям того, что он считал новоанглийским эгалитаризмом; его солдатам из Новой Англии претили его аристократические манеры, его брезгливое отношение к простым людям и его холодность в общении. Неприязненное отношение солдат из Новой Англии не смогло бы ослабить контроль Скайлера над его армией, если бы у него не было соперника в лице всеми обожаемого Горацио Гейтса, бывшего офицера британской армии, ныне виргинского плантатора, культивирующего табак и конгрессменов. Гейтс хотел быть и был полной противоположностью Скайлеру. Сын экономки, Гейтс имел невыразительную, даже некрасивую внешность, но был очень приятным в общении человеком. В отличие от Скайлера он не был сторонником строгой дисциплины и не скрывал своего восхищения ополченцами из Новой Англии — чувство, которое возвращалось ему сторицей. Кроме того, Гейтс был профессиональным армейским офицером и ветераном: он служил под началом Брэддока во время Франко-индейской войны и вышел в отставку в чине майора, чтобы обзавестись хозяйством в долине Шенандоа. Его прямота и видимая бесхитростность были обманчивыми, и Джордж Вашингтон, с чьей подачи в 1775 году он был назначен бригадным генералом Континентальной армии, очень скоро его раскусил. У Гейтса были честолюбивые планы: он хотел возглавить Северную армию. В конце зимы 1777 года после активного лоббирования кандидатуры Гейтса в конгрессе его желание сбылось, но лишь на короткое время — в мае командующим армией был вновь назначен Скайлер. Эта смена командования произошла в те дни, когда Бергойн начал собираться с силами для решительного броска на юг[657]. Не имея представления об истинном состоянии войск противника, Бергойн привел свою армию в движение с полной уверенностью в успехе. Он вывел свои войска из Монреаля на боевые позиции в конце мая — начале июня. Солдаты разделяли уверенность своего командующего в близкой победе. Как выразился по поводу этой всеобщей уверенности один офицер, армия начала кампанию в твердом убеждении, что «ее сопровождают все видимые признаки успеха»[658]. Через несколько дней похода это убеждение приобрело характер мании величия: «У нас возникла уверенность в своей непобедимости»[659]. Эта соблазнительная идея поощрялась самим Бергойном, который 20 июня выпустил воззвание, изобилующее угрозами и лицемерными посулами, попеременно призывающее американцев встречать своих воинов горячими объятиями и сулящее адские муки тем, кто не будет этого делать. Его намерения состояли в том, чтобы «предложить стране благополучие — и разорение». Он действовал ради восстановления «прав конституции», в отличие от «противоестественного бунта», ставившего себе целью установление «системы абсолютной тирании». Угнетаемые своими собственными соотечественниками, колонисты должны позволить ему и его армии защитить их. Не надо выводить из строя мосты и дороги, не надо прятать зерно и скот. Надо лишь довериться ему — человеку, который предлагает присоединяться: «…в ясном осознании христианского долга, милосердия моего августейшего господина и солдатской чести… А тот, кто оставит мои слова без внимания, пусть не уповает на расстояние между своим домом и нынешним местоположением моего лагеря. Стоит мне только дать знак индейским племенам, состоящим у меня на службе, и тысячи воинов обрушатся на закоренелых врагов Великобритании и Америки. Я считаю их врагами, где бы они ни таились. Если, несмотря на эти меры и искреннее намерение осуществить их, безумие враждебности не утихнет, клянусь, я буду оправдан в глазах господа и людей, когда призову государство к отмщению этим отъявленным злодеям — посланники правосудия и гнева ожидают их в поле, и разорение, голод и всякая сопутствующая кара, проистекающая из неохотного, но обязательного выполнения воинского долга, преградят им путь к возвращению»[660]. Едва ли Бергойн мог подобрать более неподходящий тон или выпустить воззвание, которое могло бы причинить больший вред ему и его войскам. Его притязания на конституционность, патриотизм и христианские чувства в сочетании с грубой угрозой натравить на колонистов индейцев вызывали возмущение и насмешки. Подобно многим британским военачальникам, действовавшим в этих местах до него, Бергойн обладал талантом создавать оппозицию. Его соотечественники в Англии разглядели его просчет сразу, как только прочли его выспреннее послание: для Хораса Уолпола, человека с языком змеи, Бергойн отныне стал «болтуном Бергойном», «Помпозо» и, наконец, «Хурлотрумбо»[661]. В Америке Бергойн не только навлек на себя презрение, но и вызвал более серьезное чувство — страстное желание остановить его. Пусть для умных людей, таких как Уолпол, Бергойн был «Помпозо», но его солдаты видели в нем командира, сочетавшего в себе интуицию с профессиональной компетентностью. Для солдат одним из доказательств его профессионализма стало лаконичное указание полагаться на штык, ибо «в руках отважного бойца штык неотразим»[662]. Это совет не раз испытывался в деле и не раз выдерживал испытание. Экспедиция непобедимых 20 июня отплыла из Камберленд-Хед на озере Шамплейн и сошла на берег в Краун-Пойнт, в 13 км к северу от Тайкондероги. Там Бергойн устроил склады и госпиталь. Неделю спустя он снова двинулся в поход, и в конце месяца его войска стояли на расстоянии пушечного выстрела от форта Тайкондерога[663]. Форт располагался на обеих сторонах озера, но основные укрепления, состояние которых оставляло желать лучшего, находились на западном берегу. Укрепления на возвышенности Маунт-Индепенденс на противоположном берегу озера, ширина которого в этом месте составляет не более полкилометра, соединялись с Тайкондерогой понтонным мостом. Бергойн решил атаковать с обеих сторон и разделил свои силы, разместив английских солдат на западном берегу, а немцев под началом Ридезеля — на восточном. С покрытой густым лесом горы Шугар-Лоуф-Хилл, возвышавшейся на 220 метров примерно в двух километрах к западу от Тайкондероги, форт был виден, как на ладони. В течение многих дней солдаты Бергойна прорубали просеку через клен и сосну, и лишь 5 июля на вершине Шугар-Лоуф была установлена артиллерия. Когда в тот день заговорили пушки, генерал Артур Сент-Клэр, комендант Тайкондероги, принял решение оставить форт. На другое утро, еще до рассвета, он переправил своих людей, около двух тысяч бойцов, через мост на противоположный берег. Перед этим он погрузил всех больных и максимально возможное количество припасов в плоскодонки. По завершении переправы армия Сент-Клэра двинулась к селению Хаббардтон, расположенному примерно в 24 милях к юго-востоку от Маунт-Индепенденс[664]. Узнав, что американцы покинули крепость, англичане тут же пустились в погоню. Отряд преследователей числом около 850 человек возглавлял генерал Саймон Фрейзер, толковый и бывалый офицер. 7 июля в пять часов утра отряд Фрейзера нагнал американский арьергард численностью порядка тысячи человек во главе с полковником Сетом Уорнером. Основные силы Сент-Клэра к этому моменту ушли на шесть миль вперед в направлении Каслтона. Несмотря на то что они были захвачены врасплох, люди Уорнера «вели себя», как впоследствии выразился граф Балкаррес, командир британской легкой пехоты, «с беспримерной отвагой»[665]. Сражение было жестоким, притом что ни та ни другая сторона толком не понимала, где находится враг, и в рядах солдат царила полная неразбериха. На исходе третьего часа перевес стал клониться на сторону Уорнера. Фрейзер, начавший преследование сутками ранее, не дожидаясь Ридезеля, теперь дорого бы отдал за то, чтобы увидеть своего немецкого собрата по оружию — и в самый последний момент тот явился с ротой стрелков и восемью десятками гренадеров. Их огневая мощь и живая сила сломили сопротивление Уорнера, и через несколько минут американцы обратились в бегство[666]. На следующей неделе американцы продолжали отступление с удвоенной скоростью. Бергойн, поднявшийся по озеру до Скенсборо, едва не настиг плоскодонки с больными из Тайкондероги. На суше англичане захватили форт Энн, но ни одному из отрядов не удалось догнать Сент-Клэра, который 12 июля достиг форта Эдвард на реке Гудзон. Худшая часть кампании — но не худшая часть сражений — для американцев закончилась. Для англичан она только начиналась. В июле перед Бергойном встала задача добраться из Скенсборо в верхней части озера Шамплейн до форта Эдвард на Гудзоне. Лучшим способом, обдуманным самим Бергойном еще в Англии, было вернуться в Тайкондерогу, переправить суда на озеро Джордж и плыть вверх по этому озеру. Так он достиг бы форта Джордж, удобной базы, откуда было бы рукой подать до Гудзона — около 10 миль по уже прорубленной дороге. Несмотря на всю практичность этого плана, Бергойн отверг его по одному ему ведомым причинам. Через два года после кампании он объяснил свое решение тем, что «попятное движение» нанесло бы ощутимый удар боевому духу его армии. К тому же, если бы он повернул назад, неприятель остался бы в форте Джордж, зная, что теперь ему не отрежут путь к отступлению. Единственным способом сдвинуть американцев с места в такой ситуации было «рытье траншей» — то есть осада, которая привела бы к дополнительной задержке наступления. С другой стороны, пеший переход из форта Энн в форт Эдвард «улучшил» навыки солдат в несении «лесной службы» — с точки зрения Бергойна, это было железное оправдание[667]. Улучшили ли солдаты свои навыки в несении «лесной службы» или нет, но за время перехода из Скенсборо в форт Эдвард они насытились этой службой по горло. Их путь лежал вдоль реки с говорящим названием Вуд-Крик (Лесная), петлявшей по долине, поросшей гигантским болиголовом и еще более гигантскими соснами. Дорога пересекала реку не менее чем в сорока местах, многие из которых представляли собой глубокие овраги с перекинутыми через них мостами. Генерал Скайлер хорошо знал эту местность и прекрасно осознавал открывающиеся перед ним возможности[668]. Бергойн выступил из Скенсборо не сразу. Ему не хватало волов и лошадей для фургонов, а он не путешествовал отнюдь не налегке. Бергойна сопровождала в походе его любовница, подобно тому как барона фон Ридезеля — жена и три дочери. Офицеры более низкого звания тоже не спешили расстаться с багажом, так что экспедиция была отягощена изрядным количеством не самого нужного груза. Часть этого груза составляли слуги и непременные маркитанты. Когда, наконец, армия снова отправилась в путь, ее продвижение затруднялось лежащими поперек дороги деревьями, отсутствием мостов, которые были предусмотрительно взорваны повстанцами, каменистым дном Вуд-Крика и пересеченной местностью. Зато солдаты не встречали сопротивления со стороны американцев, поскольку Скайлер «благоразумно», как выразился один английский офицер, ретировался, сохранив свои 4500 солдат целыми и невредимыми. 3 августа Скайлер дошел до Стиллуотера, расположенного ниже Саратоги на 12 миль по течению Гудзона. Оттуда он совершил еще один двенадцатимильный переход и вышел к устью реки Мохок. 4 августа был издан приказ, согласно которому командующим Северной армией вместо Скайлера назначался Гейтс. В армии, чья численность стремительно сокращалась из-за природной склонности американцев к дезертирству, это известие было воспринято с ликованием. Если бы солдаты знали, что период унизительного отступления перед силами Бергойна закончился, они бы ликовали еще сильнее[669].
30 июля, накануне перемен в американском командовании, передовой отряд Бергойна вступил в форт Эдвард. Вид на развалины крепости не придал солдатам бодрости, зато они наконец добрались до Гудзона. Переход из Скенсборо занял три недели и истощил солдат, животных и запасы продовольствия. Столкнувшись с нехваткой всего и вся, за исключением боеприпасов, Бергойн с интересом выслушал предложение Ридезеля снарядить экспедицию в восточном направлении, к реке Коннектикут, за фуражом для скота и лошадей. Ридезель советовал отправить большую партию, надеясь, что она вернется с продуктами для солдат и лошадьми для его безлошадных брауншвейгских драгун. Для немцев пеший переход в форт Эдвард был настоящей пыткой. Бергойн не испытывал особой симпатии к немцам, но он нуждался в продуктах питания и знал, что посылать за ними в Тайкондерогу было пустой затеей[670]. Во главе шести сотен фуражиров был поставлен подполковник Баум. Он, не говоривший по-английски, получил указание заручаться поддержкой местного населения. В письменных приказах Бергойна экспедиция Баума именовалась «секретной», и она была поручена не кому-либо, а именно немцам, чтобы, по язвительному выражению историка Кристофера Уорда, «способствовать ее сохранению в тайне». Отряд покинул форт И августа. 15-го числа он был окружен под Беннингтоном вдвое превосходящими силами противника под началом бригадного генерала Джона Старка и фактически полностью уничтожен. Отряд, отправленный на подмогу 14 августа, тоже был уничтожен ополченцами Старка в считанные часы[671]. Известия об этой «катастрофе», как назвал ее один из офицеров Бергойна, дошли до основной части армии 17 августа. Бергойн отреагировал с не характерной для него оперативностью: уже в 2 часа ночи армия находилась в состоянии «готовности к немедленному выступлению». Не прошло и двух недель, как поступили еще более удручающие известия. Подполковник Барри Сент-Лежер снял осаду форта Стэнвике. Британские командиры, которые и раньше чувствовали себя покинутыми, теперь осознали в полной мере, в какой изоляции оказалась их экспедиция[672]. Англичане не находились в изоляции, что бы они ни думали по поводу своей ситуации. Но их положение было критическим, и Бергойн это знал. У него был месячный запас продовольствия, и его солдаты были в достаточно хорошей форме. Тем не менее до склада на озере Шамплейн было далеко, и с учетом недостаточных запасов и отсутствия зимних квартир они не могли оставаться там, где находились — на восточном берегу Гудзона, далеко от озера Шамплейн и на приличном расстоянии от Олбани. Бергойн мог вернуться в Тайкондерогу, но он даже думать не хотел об отступлении, которое было бы всеми расценено как признание поражения. Поэтому он принял мужественное решение продолжить поход на Олбани[673]. Одновременно Бергойн принял решение перебраться на западный берег Гудзона. Он мог бы остаться на восточном берегу и проследовать до Олбани, практически не встречая сопротивления, но переправа через Гудзон у Олбани была связана с большим риском, и не только потому, что в том месте река была шире, но и потому, что американцы непременно сосредоточили бы там свои силы, чтобы воспрепятствовать ему. В результате он приказал навести понтонный мост и 13 сентября начал переправку солдат на западный берег. В ходе этой операции, занявшей два дня, неприятель не бездействовал. Еще четырьмя неделями ранее Гейтс прибыл в свою армию, стоявшую в Олбани, и двинул ее на север. К этому времени ее численность выросла до шести или семи тысяч человек. За день до того, как Бергойн начал переправу своих войск на западный берег Гудзона, Гейтс начал укрепляться на высотах Бемис-Хайтс, в трех милях к северу от Стиллуотера. На этом участке река бежала через узкое ущелье, образованное утесами высотой 200–300 футов. Возвышенность Бемис-Хайтс, поднимавшаяся примерно на 200 футов над водой, огибали небольшие овраги, промытые ручьями, впадавшими в Гудзон. Большая часть территории между рекой и склонами была покрыта густыми полосами дуба, сосны и клена. Бенедикт Арнольд, самый блестящий офицер в окружении Гейтса, выбрал Бемис-Хайтс в качестве опорного пункта. Арнольд и польский инженер, полковник Тадеуш Костюшко возвели линии укреплений, тянувшиеся от берега вверх по склону до гребня Бемис-Хайтс. Укрепления представляли собой трехсторонние брустверы из земли и бревен, длина каждой из сторон составляла примерно три четверти мили. Южная сторона, находившаяся в наибольшем отдалении от наступающих англичан, была оставлена без прикрытия, тем более что проходивший там овраг обеспечивал некоторую защиту. В середине каждой стороны укреплений были построены редуты для артиллерии. В целом укрепления были возведены грамотно, но американцы не обратили внимания на высокий склон в километре к западу от линии укреплений. С этой высоты прекрасно простреливались американские позиции на Бемис-Хайтс, и если бы англичанам удалось установить на ней пушки, они получили бы большое тактическое преимущество[674]. Бергойн переправился через Гудзон примерно в десяти милях выше Бемис-Хайтс и в течение следующих двух дней медленно двигался в южном направлении, высматривая неприятеля. За это время его армия, шедшая тремя колоннами — Ридезель слева вдоль реки, бригадный генерал Джеймс Гамильтон в центре по дороге (шириной в фургон), Фрейзерсправа по лесу — преодолела около шести миль. 18 сентября один из фуражных отрядов Бергойна был разгромлен американским патрулем, и Бергойн получил некоторое представление о диспозиции неприятеля. На другое утро, как только рассвело, он отправил свои три колонны вперед с целью нанесения противнику удара по левому флангу и с тыла. Согласно его плану, Фрейзер должен был повернуть на запад, занять возвышенность, после чего повернуть на восток и прижать американцев к реке, где их можно было бы легко перебить. Сражение началось в 10 часов утра, как только выстрелом из пушки был дан сигнал к наступлению. Согласованное начало операции было единственным согласованным действием армии Бергойна в тот день. Правое крыло под командованием Фрейзера имело в своем составе десять рот легкой пехоты и десять рот гренадеров, отряд брауншвейгских стрелков численностью в роту, семь артиллерийских орудий, некоторое количество колонистов-тори и 24-й полк. Общая численность этих сил составляла около 2000 человек. Гамильтон вел центральную колонну, состоявшую из четырех полков общей численностью 1100 человек и шести легких полевых орудий. Левой колонной командовали генералы Ридезель и Филлипс, в распоряжении которых было три брауншвейгских полка и восемь полевых орудий[675].

Когда сигнальный выстрел привел все три колонны в движение, американцы сидели за своими брустверами на Бемис-Хайтс — солдаты Гейтса справа над рекой, солдаты из Массачусетса и Нью-Йорка во главе с бригадным генералом Эбенезером Лерндом в центре и смешанные силы ополченцев и солдат регулярной армии во главе с Арнольдом на левом фланге. Услышав о движении англичан в сторону его позиций, Гейтс никак на это не отреагировал. За него это сделал Арнольд, который начал убеждать Гейтса выдвинуть часть солдат навстречу врагу, пока тот не приблизился к укреплениям и не лишил американцев возможностей для маневра. По мнению Арнольда, пассивное ожидание делало американцев уязвимыми, но если бы они начали боевые действия в лесу, они лишили бы Бергойна того преимущества, которое давала ему артиллерия. Гейтс оставался глух к этим аргументам на протяжении почти трех часов, хотя наблюдатели, забравшиеся высоко на деревья, постоянно докладывали ему о «красных мундирах», наступающих со штыками наперевес[676]. Около полудня Гейтс поддался уговорам Арнольда и направил полковника Даниеля Моргана с его виргинскими стрелками в сторону правого фланга неприятеля. Морган, к которому вскоре присоединились легкая пехота Генри Дирборна и часть отряда Арнольда, встретился с центральной колонной англичан в месте, известном как Фрименс-Фарм, примерно в полутора километрах к северу от Бемис-Хайтс. Там, на открытом участке протяженностью 300 метров, разгорелось сражение. В течение большей части дня, вплоть до наступления сумерек, центральное крыло армии Бергойна под командованием генерала Гамильтона удерживало северный край поля. Солдаты Арнольда контролировали южный край. Каждая из сторон неоднократно бросалась вперед через открытое пространство и углублялась в лес противника. Солдаты Гамильтона поначалу «полагались на штык» — вероятно, в расчете на то, что люди Моргана и другие силы противника дрогнут и обратятся в бегство. Однако те не двигались с места и встречали наступающую английскую пехоту ружейными залпами. Ни Арнольд, ни Морган не верили в эффективность позиционной обороны и, вместо того чтобы ждать, пока им нанесут удар, стремились наносить удар первыми. Поэтому Арнольд несколько раз бросал своих солдат через поле на позиции англичан. В ходе этих атак американцы оттесняли противника вглубь леса и даже захватывали орудия, но англичане всякий раз возвращались и отбивали орудия, так как во главе их стояли офицеры не менее опытные и храбрые, чем Арнольд и Морган. Ближе к вечеру, когда поляна и окружающий лес были завалены телами павших, артиллерия англичан начала действовать менее эффективно. Отряд Гамильтона понес чудовищные потери, между тем как перед началом сражения он имел численное превосходство. Сильнее всего от американского огня пострадал 62-й полк — из 350 его солдат к концу дня в живых осталось всего шестьдесят. Британские офицеры, участвовавшие в Семилетней войне в Европе, впоследствии отмечали, что никогда прежде не сталкивались с таким интенсивным обстрелом. Бергойн был с ними, и его личная отвага, несомненно, способствовала поддержанию боевого духа англичан. Зато Фрейзер так и не появился: все это время он со своими людьми блуждал по лесу к западу от места сражения, пытаясь выбраться на возвышенность. Когда, наконец, подошла колонна Ридезеля, несколько часов прокладывавшая себе дорогу через лес от скалистого берега реки, силы Гамильтона были на исходе. Прибытие подкрепления предотвратило окончательный разгром его отряда, и в сгущающихся сумерках отступал уже Арнольд, а не его противник. Поле боя осталось за англичанами, но их потери были невосполнимыми. Британская регулярная армия потеряла убитыми и ранеными 556 человек[677]. Арнольд был убежден, что в тот день он мог полностью уничтожить противника, если бы Гейтс внял его просьбе и послал подкрепления, пока еще сражение было в полном разгаре. Но Гейтс; как и его противник, не сосредоточил свои войска для нанесения массированного удара. Бергойн не сделал этого из-за своей изначальной диспозиции — три отдельных, практически изолированных, команды, блуждающие по лабиринту лесов, ущелий и крутых склонов. Гейтс не сделал этого по причинам, ведомым лишь ему одному. Совершенно очевидная истина, что сторона, концентрирующая силы, как правило, одерживает верх, в тот солнечный сентябрьский день была упущена из виду. Хотя Гейтс имел более четкое представление о местонахождении противника, чем Бергойн, он не мог быть уверен в том, что три вражеские колонны не пробьются на Бемис-Хайтс. Более проницательный военачальник воспользовался бы невыгодным положением, которое Бергойн навязал сам себе, более смелый военачальник непременно бросил бы своих людей в гущу боя. Если бы американцам удалось разбить Гамильтона, колонна Ридезеля, пробиравшаяся через ущелья вдоль реки, оказалась бы изолированной и уязвимой для нападения. Так или иначе обе стороны понесли тяжелые потери, но Гейтс имел возможность восполнить их, в то время как у Бергойна такой возможности не было. Разделенные расстоянием примерно в милю, обе армии оказали первую помощь раненым и выслали патрули, между которыми то и дело вспыхивала перестрелка. Бергойн пока еще не считал свое положение отчаянным, а два дня спустя после сражения он получил письмо из Нью-Йорка от Генри Клинтона, которое добавило ему оптимизма. В своем письме, написанном 11 сентября, Клинтон обещал «атаку на Монтгомери примерно через десять дней», уточняя, что речь идет об атаке на два форта на реке Гудзон — форт Монтгомери и расположенный в 40 милях к северу от него форт Клинтон. Клинтон планировал эти атаки как отвлекающие для помощи Бергойну, и не рассчитывал дойти до Олбани. Что творилось в голове у Бергойна, можно только гадать, но он явно возлагал большие надежды на эту операцию. Как он вспоминал два года спустя, у него не было оснований не рассчитывать на взаимодействие с генералом Хау. К несчастью для него, оснований рассчитывать на это взаимодействие у него тоже не было[678]. Генри Клинтон сдержал свое слово. Получив свежие подкрепления, он отправил внушительную часть своего семитысячного гарнизона к фортам на Гудзоне, и 4 октября оба форта были у него в руках. На следующий день он очистил прилегающий участок Гудзона от рогаток и боновых и цепных заграждений, установленных американцами с целью воспрепятствования продвижению английских судов вверх по реке. Но этим его помощь и ограничилась[679]. Надежды Бергойна на то, что действия Клинтона вынудят Гейтса послать часть своей армии на укрепление тыла и тем самым ослабить свои силы, не оправдались. Гейтс не только прочно обосновался на Бемис-Хайтс, но и получил свежие отряды, привлеченные «победой» при Фрименс-Фарм, так что численность его войск вскоре выросла до 11 тысяч человек. Бергойн, разумеется, не получил никаких подкреплений и мок под дождем, наблюдая за тем, как его солдаты впадают во все большее уныние при виде страданий и смерти своих раненых товарищей. В начале октября Бергойн наконец осознал всю незавидность своего положения. Он еще не был отрезан от Канады, но состояние его армии исключало возможность быстрого отступления: среди солдат было много больных и раненых, транспорта не хватало, продовольственные запасы стремительно иссякали. Взвесив все за и против, он решил сделать попытку прорваться сквозь ряды неприятеля. Утром 7 октября Бергойн выслал большой рекогносцировочный отряд от Фрименс-Фарм в том направлении, где, по его мнению, должен был находиться левый фланг неприятеля. При обнаружения слабого места он намеревался атаковать неприятеля всеми имеющимися в наличии силами. Его генералы отнеслись к этому плану без особого энтузиазма. Ридезель предложил отступить к Бэттен-Килл, небольшому притоку Гудзона, и Фрейзер поддержал его; Филлипс занял нейтральную позицию. Бергойну была ненавистна сама мысль об отступлении, и он отстоял свой план, отправив рекогносцировочный отряд тремя колоннами с десятью полевыми орудиями в диапазоне от шестифунтовых пушек до легких гаубиц. Отряд продвинулся на километр, но ничего не обнаружил. Тогда три колонны заняли линию протяженностью в тысячу ярдов. Солдаты застыли в ожидании[680]. В два тридцать пополудни американцы, которым диспозиция англичан была известна лучше, чем англичанам диспозиция американцев, пошли в атаку. Бригада Пора — солдаты из Нью-Гэмпшира под началом Эноха Пора — атаковала левый фланг англичан, а чуть позже Даниель Морган прорвал левый фланг англичан и обошел противника с тыла. При виде наступающих со всех сторон американцев британский строй дрогнул. Тогда Бергойн послал своего адъютанта Фрэнсиса Кларка к Фрименс-Фарм с приказом об отступлении, но по пути Кларка сразила пуля, и он умер, так и не передав приказ. Между тем на поле боя появился еще один участник — генерал Бенедикт Арнольд. Этот достойный, энергичный и храбрый офицер за несколько дней до описываемых событий был отстранен Гейтсом от командования, что было равносильно приказу покинуть зону военных действий. Гейтс не переносил Арнольда и даже не упомянул его в своей депеше конгрессу, в которой сообщал о сражении 19 сентября. Арнольд, разумеется, тоже не был в восторге от Гейтса; он пропустил его намек мимо ушей и остался в лагере. Как только засвистели пули, Арнольд вступил в сражение. Он воодушевлял солдат личным примером, храбро появляясь на своем коне то перед центром, то перед правым флангом противника. Солдаты обожали Арнольда и с готовностью следовали за ним в самые жаркие атаки. Арнольд дрался, как лев, но главной причиной успеха стало смятение в рядах противника. Строй англичан был смят и вскоре окончательно рассыпался; Арнольд не успокоился на достигнутом и бросился на основные укрепления с тем же бешеным энтузиазмом. К концу дня его солдаты заняли часть укреплений неприятеля на его крайнем правом фланге, на северной оконечности Фрименс-Фарм. На позднем этапе сражения Арнольд, получивший ранение, был вынесен в тыл, после чего напор американцев несколько ослаб. Тем не менее поля боя осталось за ними, и положение Бергойна стало еще более плачевным, чем прежде[681]. Всю ночь и весь следующий день армия Бергойна покидала позиции, усталая, разбитая и павшая духом. Больные и раненые, всего около трехсот человек, были оставлены в полевом лазарете. 9 октября англичане достигли высот близ Саратоги; Гейтс шел за ними и настиг 12 октября. Бергойн слишком долго мешкал, и после неудачной попытки переправиться на другой берег ему ничего не оставалось, как запросить условия капитуляции. 16 октября состоялись переговоры двух военачальников, и на следующий день британские солдаты покинули позиции и сложили оружие. «Конвенция», как было названо соглашение между сторонами, предусматривала возвращение армии в Англию через Бостон. Конгресс, однако, пренебрег заключенным соглашением из опасения, что Великобритания снова отправит этих людей сражаться против американцев. В результате «конвенционная армия» была отправлена в Виргинию, где должна была оставаться до конца войны, не принимая участия в боевых действиях. Всего американцами было захвачено около 5800 офицеров и солдат, 27 полевых орудий и 5000 единиц стрелкового оружия, боеприпасы и другие трофеи[682].
IV
В те дни, когда пала Тайкондерога и кампании Бергойна, казалось, был гарантирован успех, озадаченный Джордж Вашингтон пассивно наблюдал за тем, как Уильям Хау готовится в Нью-Йорке к походу. Гавань была забита кораблями, но Хау откладывал посадку вплоть до 8 июля, и даже тогда, отправив на борт около 18 тысяч солдат, медлил с отплытием еще две недели. В штабе Вашингтона считали, что флот намеревается подняться по Гудзону с целью поддержки Бергойна. Но когда 24 июля суда миновали Санди-Хук и исчезли на просторах Атлантического океана, в окружении Вашингтона появилось предположение, что Хау направляется к Филадельфии. У Вашингтона были «сильные сомнения» — Хау уже не раз устраивал ему неприятные сюрпризы, — и он, несомненно, ожидал, что Хау вернется или объявится в каком-нибудь неожиданном месте. Но флот не вернулся, и 31 июля Вашингтону сообщили о его появлении у мысов залива Делавэр. Затем Хау ко всеобщему удивлению снова растворился на просторах Атлантики. Обнаружив сильные укрепления, он не рискнул идти вверх по Делавэру. Догадки, строившиеся в штабе Вашингтона и в конгрессе, где к маневрам Хау относились с той же настороженностью, теперь сосредоточились на Чарлстоне в Южной Каролине. «Большинство считает, — писал Джон Адамс своей драгоценной Абигейл, — что Хау направился в Чарлстон. Но это предположение безумно. И все же не исключено, что оно верно, потому что Хау — безумный генерал». Вашингтон не разделял того мнения, что Хау собирается нанести удар на юге, и, безусловно, был прав. В начале августа разведка доложила о входе британских судов в Чесапикский залив, а 25 августа Хау начал высадку войск на западный берег реки Элк в штате Мэриленд. Два дня спустя они дошли до местечка Хед-ов-Элк, где отдыхали до первых дней октября. Отдых был необходим: в течение почти двух месяцев солдаты жили в тесных помещениях, причем половину этого времени провели в море, да еще при такой жаркой погоде, какой на памяти жителей побережья еще никогда не было[683]. Узнав о местонахождении Хау, Вашингтон почти сразу двинул свою армию на юг. Осознавая всю важность поддержания морального духа граждан, он провел своих солдат через Филадельфию. Для неопытного глаза эти войска не производили впечатления «настоящих солдат. Они сбивались с шага. Они держали голову недостаточно прямо и выворачивали носок наружу не так прилежно, как следует. Их головные уборы не были заломлены набекрень, и все носили их по-разному»[684]. Сколь бы малозначительными ни казались нам эти оценки, в них зафиксирован один важный изъян американской армии: отсутствие жесткой дисциплины, без которой армия не может называться боеспособной. Тем не менее в последующие недели эти «полусолдаты» сражались превосходно, хотя порой их подводили собственные командиры. Солдаты Хау были приучены к строгой дисциплине, но и они порой выходили из-под контроля, особенно когда оказывались среди гражданского населения, тем более если этим населением были презренные американцы. В Чесапикском заливе дружественно настроенные американцы подплывали в лодках к их кораблям и предлагали за деньги фрукты, дичь и молоко. Эти мэрилендцы, жители побережья, держались бесстрашно, по-видимому, даже не подозревая, что армия иногда берет то, что хочет, безвозмездно. Гражданское население юга Пенсильвании, напротив, в страхе покидало свои дома и угодья, бросая на произвол судьбы скот, жилье и урожай. В сентябре солдаты Хау не голодали: дважды в неделю в их рационе было мясо, овощи и фрукты сыпались на них как из рога изобилия. Солдаты жили в свое удовольствие. Некоторые из них не могли устоять перед соблазном и грабили покинутые дома. Хау понимал, что подобные действия ведут к подрыву дисциплины, столь необходимой в бою, и что они не усиливают симпатий гражданского населения к его армии. Он применил телесные наказания и казнь через повешение, но сделал это уже после того, как слухи о бесчинствах англичан распространились по всему штату и привели к росту отчужденности между английскими солдатами и населением и увеличению числа желающих вступить в американскую армию[685]. Эта армия, усиленная ополчением, должна была задержать англичан. После марша через Филадельфию Вашингтон временно перенес свой штаб в Уилмингтон и отправил несколько отрядов навстречу наступающим англичанам и немцам с целью «изматывания противника». Это выражение, традиционно используемое для обозначения постоянных мелких атак, как нельзя лучше характеризует тактику американской армии в те дни. Благодаря постоянному контакту своих солдат с противником Вашингтон всегда имел точное представление о расположении неприятельских частей, и его небольшие отряды, занятые «изматыванием противника», не давали покоя вражеским пикетам и патрулям, расстреливая их из засады и доводя до полной потери самообладания. Разумеется, Хау продолжал наступать, несмотря на рост раздражения в войсках, и 10 сентября ему доложили, что Вашингтон сосредоточил свои силы для крупного сражения[686]. Вашингтон растянул свои войска вдоль восточного берега Брендивайн-Крик — неглубокой реки с лесистыми берегами, переправиться через которую можно было только вброд. Центр американских позиций у брода Чэдс был образован частями Грина и Энтони Уэйна, слева от них стоял Джон Армстронг с ополченцами из Пенсильвании, справа Салливан, Стерлинг и Стивен. Такая диспозиция предлагала ряд преимуществ, включая сильный центр, через который проходила главная дорога на Филадельфию, и эффективное сосредоточение сил, однако она не позволяла американцам контролировать броды Тримбле на западном и Джеффрис на восточном рукавах севернее по течению реки. Правый фланг висел в воздухе, и холм, возвышавшийся позади него и над тылом американских позиций, оставался незащищенным[687]. «Безумный генерал» Уильям Хау, чье «безумие» носило предсказуемый характер, направил немцев под началом Клипхаузена к броду Чэдс с целью отвлечения Вашингтона и в четыре часа утра двинул своих солдат с позиций у Уэлч-тэверн и Кеннет-сквер проселочной дорогой к бродам Тримбле и Джеффрис. Хау уже неоднократно применял подобную уловку — в частности, незадолго до того на Лонг-Айленде — и был уверен, что она принесет ему успех и на этот раз. В десять утра заговорили пушки Книпхаузена, и Вашингтон истолковал их грохот как прелюдию к форсированию реки у брода Чэдс. Американская артиллерия дала ответные залпы; в центре, казалось, назревало крупное сражение. Между тем Хау и служивший под его началом Корнуоллис начали обходить американцев с флангов. К двум тридцати пополудни их войска пересекли оба брода и сосредоточились за холмом Осборн-Хилл. Вашингтону сообщили об этом передвижении неприятеля еще в девять утра, но он не внял предупреждению. Когда англичане появились на Осборн-Хилл, стало очевидно, что американцы в очередной раз позволили себя обхитрить. Салливан действовал оперативно: он развернул Стивена и Стерлинга под углом к реке, чтобы они встали против Хау и Корнуоллиса. А командиры британцев, похоже, не спешили. Они методично выстраивали свои колонны в две длинные линии, почти не удостаивая вниманием передвижения противника. Перестроившись, англичане неподвижно стояли на месте, ощетинившись штыками, на которых играли отблески солнца. Возможно, они надеялись обескуражить американцев своим спокойствием, но если так, то у них ничего вышло — их невозмутимость не произвела на противника никакого впечатления. В четыре часа дня Хау дал сигнал к наступлению, и англичане начали спускаться с холма под бодрый «Марш британских гренадеров» под аккомпанемент оркестра. Солдаты Салливана, Стерлинга и Стивена не запаниковали, но при торопливом перестроении они оставили в своих рядах брешь протяженностью в несколько сотен метров. Виноват в этом, по-видимому, был Стивен, который не примкнул свой левый фланг к правому флангу Стерлинга. Как бы то ни было, образовавшаяся брешь предоставляла англичанам возможность вклиниться между двумя линиями противника, и они не преминули воспользоваться этой возможностью. Когда легкая пехота и гренадеры вклинились в левый фланг американцев и начали расширять участок прорыва, прибыла бригада Натаниэля Грина. Бригада была послана Вашингтоном, узнавшим о появлении Хау на своем правом фланге. Солдаты Грина примчались на место схватки бегом, покрыв за сорок пять минут четыре мили. То, что начиналось как классическое сражение XVIII века — английские гренадеры, наступающие плотным строем со штыками наперевес под звуки «Марша гренадеров», — очень скоро выродилось в беспорядочную и грязную бойню. Дым от ружейной и пушечной стрельбы усугублял неразбериху, мешая бойцам отличать своих от чужих. Соблюдение надлежащих интервалов между отдельными подразделениями также оказалось затрудненным, так как из-за пересеченной местности строй постоянно ломался. Один британский офицер, пытавшийся вспомнить ощущения, испытанные им во время этого боя, прибегнул к шутливому тону, выдававшему его неспособность четко сформулировать свои впечатления:Описать сражение? Все было совсем не так, как нам показывают в «Друри-Лейн» или «Ковент-Гарден». Возможно, вы видели картины Лебрена или гобелены в Бленхеймском дворце. Разве так выглядят настоящие сражения? Фи! Пушки и ружья извергают адский огонь. Со всех сторон команды: «Бегом на правый фланг! Бегом на левый фланг! Стой! В атаку!» и все такое. Артиллерия не замолкает. Ядра вспахивают землю. Над головой трещат деревья. Листья, срезанные картечью, сыплются на землю, как поздней осенью[688].Английские полки, несмотря ни на что, сохраняли строй, чего нельзя сказать об американцах. Пересеченная местность мешала им так же, как англичанам, и когда они столкнулись лицом к лицу с атакующей пехотой англичан, то начали отступать, но не организованно, а вразнобой. Главный сержант Джон Хокинс из Собственного полка конгресса скинул ранец, когда на него «навалился один из этих чертовых шотландцев, которые стремительно наступали с тыла, ведя плотную пальбу». И пока он бежал сломя голову среди всеобщей неразберихи и клубов дыма, то потерял из виду однополчан, и ему пришлось продолжить отступление вместе с частями из Северной Каролины[689]. В то время как американский правый фланг пытался удержаться на своих позициях, центр был атакован с другого берега реки Книп-хаузеном. Объединенные силы англичан и немцев стояли в бездействии у брода Чэдс до тех пор, пока не услышали звуки сражения выше по течению. Тогда они бросились в реку и по крайней мере первые несколько минут несли тяжелые потери. Как вспоминал один немецкий офицер, солдаты Энтони Уэйна и Уильяма Максвелла «держались упорно», посылая залпы крупной картечи и пуль через реку, вода в которой скоро «окрасилась в цвет крови», но в конце концов атакующие захватили американские орудия и обратили их против неприятеля[690]. С наступлением темноты сражение закончилось на обоих «фронтах». Войска Вашингтона отступили к Честеру, поле битвы осталось за Хау. Англичане одержали блистательную победу, но, подобно многим победам той войны, она не стала решающей. Армия Вашингтона отступила в беспорядке, но спаслась. И, что еще более важно, она по-прежнему преграждала Хау путь в Филадельфию.
V
Преградить Хау путь в Филадельфию — именно к этому стремился Вашингтон. Несмотря на позорное поражение своих войск на берегах Брендивайна, он сохранил веру в свою способность остановить Хау. Его солдаты отнеслись к своему поражению с таким же спокойствием, хотя часть из них по обыкновению дезертировала. Чтобы восполнить потери, Вашингтон затребовал две с половиной тысячи солдат регулярной армии из Пикскилла и обратился к штатам с просьбой прислать ополченцев. В течение двух недель он принял 900 солдат и 2200 ополченцев из Мэриленда и Нью-Джерси[691]. В ожидании пополнений основная армия находилась в движении, пытаясь прикрыть Филадельфию. Это маневрирование сопровождалось мелкими стычками, одна из которых, состоявшаяся 16 сентября у Уоррен-тэверн, на полпути между городами Ланкастер и Филадельфия, вполне могла перейти в полномасштабное сражение, если бы не пошел проливной дождь. Вода проникла в ящики с патронами и порох намок. Вашингтон был вынужден отступить, и Хау не выказал ни малейшего желания принуждать его к бою. Пять дней спустя у Паоли, примерно в двух милях к юго-востоку от Уоррен-тэверн, генерал-майор Джеймс Грей предпринял неожиданную атаку на силы Энтони Уэйна, которые не отступили вместе с Вашингтоном, взяв на себя миссию «изматывания» Хау. Около часу ночи солдаты Грея ворвались в лагерь американцев, спавших безмятежным сном. По распоряжению Грея англичане заранее вынули кремни из своих ружей — Грей решил перестраховаться на тот случай, если бы какому-нибудь нетерпеливому рядовому пришло в голову нажать на спусковой крючок — и теперь безжалостно орудовали штыками. Многие из спавших так и не проснулись, в результате этой кровавой бойни американцы потеряли 300 человек убитыми и ранеными и еще сотню взятыми в плен. Потери англичан составили всего восемь человек. Уэйн, которому удалось спастись, с того дня проникся уважением к «Джеймсу-без-кремня» и штыковой атаке[692]. «Резня у Паоли» потрясла Вашингтона, который отныне маневрировал с большой осторожностью, чтобы не попасть в очередную ловушку. Хау воспользовался его растерянностью и 22 сентября обманным маневром заставил его армию подняться на 10 миль вверх по течению реки Скулкилл, а сам перешел на восточный берег реки через брод Фэтленд и 26 сентября вступил в Филадельфию. Годом ранее потеря этого города нанесла бы ощутимый удар по боевому духу американцев. Теперь этого не произошло, отчасти потому, что американская армия осталась целой, отчасти потому, что среднеатлантических штатов достигали обнадеживающие известия с севера, где армия Бергойна медленно, но неуклонно разваливалась[693]. Когда Хау занял Филадельфию, Вашингтон расположился лагерем вдоль реки Скиппак-Крик в 40 км к западу от города. Однако он не собирался сидеть сложа руки. В нем горела неистребимая воля к действию, подпитываемая убеждением в том, что его солдаты, какими бы молодыми и неопытными они ни были, в случае необходимости будут сражаться, не щадя живота. Такая необходимость возникла в начале октября. Жизнь Хау в Филадельфии была далеко не безоблачной. Он контролировал город, но не реку Делавэр, обеспечивавшую удобный доступ в него. Американские форты, расположенные по берегам реки, блокировали все перевозки и не давали британским судам возможности доставлять своим соотечественникам припасы и подкрепления. В своем изолированном положении Хау опасался рассредоточивать солдат по гостиницам и частным домам Филадельфии, а потому расположил около девяти тысяч своих людей биваком под Джермантауном на восточном берегу Скулкилла, в пяти милях к северу от Филадельфии. Еще три тысячи были отправлены для сопровождения транспорта с припасами из Элктона, ползшего сухим путем. Четыре батальона остались в Филадельфии и еще два отправились для захвата Биллингспорта, стоявшего в 12 милях ниже по течению Делавэра. Таким образом, Хау расставил все свои фигуры[694]. Узнав о разрозненности сил противника, Вашингтон вознамерился атаковать самое крупное скопление неприятельских войск, а именно лагерь под Джермантауном. Возможно, его солдаты не нуждались в напоминании о необходимости сражаться, но Вашингтон чувствовал себя обязанным еще раз назвать причины, по которым они должны были это делать. Вводная часть его приказа по армии выражала его собственную волю к борьбе и, что еще более важно, убедительно демонстрировала, насколько далеко он продвинулся в своем понимании революции и своей армии. Теперь он убедился, что по меньшей мере у части его солдат появилась профессиональная гордость, и воззвал к ней, напомнив, что далеко на севере, у Фрименс-Фарм, их товарищи нанесли сокрушительное поражение Бергойну. Он присовокупил к этому напоминанию об успехе, одержанном на севере, пламенные слова, посвященные общему делу американцев: «Эта армия, главная американская армия, бесспорно, не позволит своим северным братьям превзойти себя в героизме; ее солдаты никогда не потерпят такого унижения, но, воодушевленные стремлением стать свободными людьми, борясь за правое дело, они выкажут героический дух еще более высокий, нежели тот, что переполнял сердца их товарищей и, столь благородно проявленный, принес им неувядающую славу. Жаждите, мои соотечественники и братья по оружию! Жаждите вашей доли славы за ваши подвиги! Да никто никогда не скажет, что в час смертельной схватки вы показали спину врагу; да не восторжествует враг!»[695].
Эти призывы к гордости, героизму и благородству звучали и раньше, но их привязка к «правому» и славному делу, которому служило все «Отечество», свидетельствовала об определенной перемене, о расширении понимания. В заключение Вашингтон связал эти возвышенные идеи с сиюминутными и личными интересами своих солдат. Враг, напомнил он им, «клеймит вас уничижительными словесами. Неужели вы будете терпеливо сносить эти поношения? Неужели вы смиритесь с тем, что оскорбления, нанесенные вашему Отечеству, останутся неотмщенными?» Далее он напомнил своим солдатам об их семьях, чья участь в случае поражения повстанцев была бы незавидной, так как участие в восстании неизбежно стало бы рассматриваться как государственная измена: «Неужели вы допустите, чтобы ваши родители, жены, дети и друзья стали жалкими рабами надменного и наглого супостата? И чтобы на ваши шеи была накинута веревка?»[696] Пожалуй, лишь в случае революционной войны солдаты, идущие в бой, делают выбор между «правым делом» и веревкой на шее. Эти люди не сомневались в правоте дела, за которое они боролись, пусть даже они не разбирались в тонкостях республиканской идеологии. Нужно было только дать им понять, что они сражаются за себя, а не за могущественного хозяина и повелителя. Первоочередная задача под Джермантауном состояла в том, чтобы застичь англичан врасплох. Если бы американцы направились к городу нормальным шагом, противник обнаружил бы их приближение и принял соответствующие меры. Поэтому Вашингтон, свернув свой лагерь, находившийся в 20 милях к западу от Джермантауна, в ночь на 4 октября прибыл на позиции форсированным маршем. В два часа пополуночи он остановился в 3 км от британских пикетов[697]. Джермантаун, отстоявший в пяти милях от Филадельфии, растянулся примерно на две мили по обеим сторонам дороги Скиппак-роуд, соединявшей Филадельфию с Редингом. Все находившиеся там английские силы располагались на восточном берегу Скулкилла, как, впрочем, и большая часть города. Англичане в основном располагались в южном конце города, хотя, разумеется, не забывали выставлять пикеты на северной окраине. В Джермантаун вели четыре дороги, предоставлявшие возможность атаковать максимально широким фронтом, и Вашингтон решил, что его войска должны сойтись у лагеря Хау и нанести удар превосходящими силами. Он составил план, согласно которому четыре колонны американской армии должны были одновременно атаковать Хау 4 октября в 5 часов утра. Майор Джон Армстронг и его пенсильванские ополченцы должны были обойти левый фланг англичан по дороге Манатони и образовать американский правый фланг. На солдат Салливана и пополненную бригаду Уэйна была возложена задача нанести главный удар вдоль Скиппак-роуд, делившей город на две части; Грин должен был направить свои силы, включая дивизию Стивена и бригаду Александра Макдугалла, по Лаймкилн-роуд на северо-восток от Скиппак, а Смоллвуд с ополченцами из Мэриленда и Нью-Джерси должны были дойти до старой Йорк-роуд, вклиниться в английский правый фланг и ударить с тыла по главным укреплениям противника[698]. На карте замысел Вашингтона выглядел блестяще, и он почти сработал на местности. В два часа ночи американцы двинулись вперед и остановились на расстоянии нескольких сотнях ярдов от английских аванпостов, а около пяти часов утра, как только начало светать, бросились в атаку. Согласно приказу Вашингтона, атака на всех четырех дорогах должна была вестись «одними штыками, без стрельбы»[699]. Войска Салливана, вместе с которыми находился Вашингтон, ударили по вражеским пикетам у Маунт-Эри. Разразилась стрельба, причем с обеих сторон (американцы никогда не могли похвастаться жесткой дисциплиной) — и англичане начали беспорядочно отступать. Одной из причин их смятения был плотный туман, не позволявший видеть далее 50 ярдов и создававший преувеличенное представление о численности атакующих. Хау прибыл верхом на место схватки, чтобы разобраться в происходящем, и начал распекать свою пехоту за малодушие. «Назад! Назад!» — командовал он, добавляя, что ему стыдно за своих солдат, которые спасовали перед разведывательным отрядом[700]. «Разведывательный отряд» на поверку оказался пехотинцами Салливана в сопровождении легкой артиллерии, и они очень скоро избавили Хау от ошибочного представления, будто речь идет всего лишь о разведке боем. Солдаты Салливана тоже с трудом ориентировались в тумане, который мешал им выступать единым строем. И они испытали еще большее замешательство, когда на исходе первого часа сражения подошли к укрепленному пункту на Скиппак-роуд, известному как Чу-хаус и представлявшему собой большой старинный дом, сложенный из крупных камней; его занимал командир 40-го полка полковник Томас Масгрейв с шестью ротами. Первая попытка штурма потерпела неудачу, и пока Салливан строил свои ряды для второй атаки, англичане успели как следует подготовиться к обороне. Впрочем, даже эта задержка могла бы не стать губительной для штурма, если бы Уэйн, возглавлявший левый фланг Салливана, не попал под огонь Стивена, двигавшегося на правом фланге Грина. Последний начал наступление с опозданием на 45 минут, поскольку, для того чтобы занять исходное положение для атаки, ему пришлось пройти на две мили больше, чем Салливану. Нередко высказывалось мнение, что именно это опоздание стало причиной неразберихи в центре американских позиций и в конечном счете привело к поражению наступавших. Возможно, что задержка Грина сама по себе не сыграла столь важной роли и даже могла бы стать благотворной, если бы местность не была затянута туманом. Ведь когда Салливан бросился в атаку, англичане развернулись ему навстречу, и если бы Грин имел нормальный обзор, он мог бы ударить им в тыл. Однако из-за тумана левый фланг Салливана в течение часа оставался без прикрытия, и Уэйн двинулся на его защиту. Стивен, который все никак не мог решить, в каком месте сомкнуть свой фланг с флангом Уэйна, тянулся вслед за ним, а затем, почти ничего не видя из-за тумана, открыл огонь. Солдаты Уэйна стали стрелять в ответ, и прежде чем оба отряда осознали ошибку, они нанесли друг другу существенный урон, так что левый фланг и центр фактически развалились. По счастливой случайности или по точному расчету Хау бросил в контратаку три полка, в основном обрушившихся на левый фланг Салливана и прорвавших его, почти не встретив сопротивления. Эта атака обескуражила американцев, и за считанные минуты инициатива в сражении перешла к Хау. Американцы отступили, несмотря на отчаянные попытки Вашингтона заново построить войска. Томас Пейн, сопровождавший Вашингтона, позднее назвал этот отход «странным, ибо никто не торопился». Солдаты слишком устали, чтобы торопиться, и более всего напоминали стадо, медленно возвращающееся с пастбища. Грин тоже отвел свои войска, так как отступление Салливана оставило его один на один с явно превосходящими силами неприятеля. Один из его полков, 9-й виргинский, захвативший около сотни пленных, теперь сам попал в окружение и был вынужден сдаться, пополнив число пленных, взятых англичанами, на четыреста человек. Американский правый фланг не понес потерь, так как командовавший им Армстронг не повел своих солдат в сражение. Что касается крайнего левого фланга, то Смоллвуд подошел слишком поздно, чтобы нанести англичанам удар с тыла, и покинул позиции почти сразу после прибытия на них. К концу дня грязная и изможденная армия Вашингтона отступила примерно на двадцать миль на запад и остановилась у Пеннибейкерс-Милл[701]. Причина неудач, постигших американцев в тот день, несомненно, отчасти крылась в плане операции, который был слишком сложным для реализации. План предусматривал согласованные атаки четырьмя группами, отстоявшими одна от другой на большом расстоянии. Их неспособность скоординировать свои действия часто приводится в качестве главной причины поражения. Вашингтон возлагал всю вину на туман, но верховые курьеры и фланговые дозоры, которые по идее должны были посылаться каждой колонной, могли бы обеспечивать контакт между отдельными бригадами даже в густом тумане. Не исключено также и то, что туман помог американцам хорошо начать наступление, поскольку англичане не сразу смогли разобрать, с кем или с чем они имеют дело. Кроме того, американцы обычно достигали наибольших успехов, когда сражались из укрытия, а туман как раз служил своего рода укрытием. Как повернулось бы дело, если бы наступление было предпринято при ярком солнце в условиях хорошей видимости, остается только гадать. Англичане объясняли свой быстрый приход в себя и последующую победу совершенно другими факторами; дисциплина и контрнаступление — вот что, по их мнению, помогло им выиграть сражение. Тем не менее, как они сами, так и сторонние наблюдатели признавали, что выигранное ими сражение едва не было проиграно. Американцы в очередной раз понесли серьезные потери, но они, как отмечал Вашингтон, сражались доблестно. Англичане тоже сражались геройски. Большую пользу из этой баталии, пожалуй, извлекла армия Вашингтона: американцы поняли, что они способны атаковать вышколенную профессиональную армию, и не без успеха. Разумеется, они проиграли битву по причинам, которых нам никогда до конца не понять ввиду наличия множества случайных факторов и замешательства с обеих сторон. Но это поражение послужило для них очередным драгоценным уроком[702].
17. Революция становится европейской войной
I
Победа Хау при Джермантауне и его вступление в Филадельфию принесли британскому правительству чувство удовлетворения, но эти успехи не развеяли уныния, наступившего в связи с известием о капитуляции Бергойна. Это событие было воспринято как катастрофа. Масштабы катастрофы были оценены не сразу — в течение нескольких месяцев в правительстве жила надежда, что самых пагубных последствий еще можно избежать. Единственное, чего боялся кабинет, это возможного вступления Франции в войну на стороне американских колоний. Военные действия Франции против Великобритании могли превратить восстание в пределах империи в глобальный конфликт, разрастание которого неизбежно привело бы к распылению британских сил, и почти неизбежно — к обретению американцами независимости. Франция не забыла о том унижении, которому она была подвергнута в 1763 году, и мечтала отомстить британцам за поражение в Семилетней войне. Неудивительно, что восстание в британских колониях было воспринято французским правительством как шанс развалить Британскую империю. Шуазель, министр иностранных дел Людовика XV, понимал, что своим могуществом Великобритания во многом обязана своим колониям и торговле с ними, и наблюдал за ростом недовольства американцев с надеждой, что рано или поздно оно выльется в войну. Но у Шуазеля было и много других предметов для размышлений; например, каким образом восстановить французскую военную и военно-морскую мощь. Эта проблема была связана с другой — истощением казны в результате Семилетней войны. Агенты, посылавшиеся им в Америку в 1760-е годы, сообщали оттуда, что восстание неизбежно, но что произойдет оно не скоро — мнение, в справедливости которого Шуазель не сомневался[703]. Из всех преемников Шуазеля на посту министра иностранных дел Франции ни один не осознавал возможностей, кроющихся в раздорах между англичанами и американцами, более ясно, чем Шарль Гравье де Верженн. Вступивший в должность в начале правления Людовика XVI, Верженн, как и Шуазель, надеялся извлечь пользу из заморских проблем Великобритании. Но у этой надежды имелись пределы. В частности, Франция уже не рассчитывала вернуть себе свои бывшие владения в Северной Америке. Тем не менее Верженн считал, что Франция еще может вернуть себе право на ведение рыбной ловли у берегов Северной Америки и сохранить за собой владения в Вест-Индии. И он никогда не упускал из виду свою главную цель: ослаблять британскую мощь всюду, где только возможно, и тем самым восстанавливать ведущее положение Франции среди европейских держав. Верженн не собирался действовать против Англии в одиночку. Он стремился сохранять «династическое соглашение» с Испанией как основу для сильной позиции и поддерживать франко-австрийский альянс как противовес союзу Англии с Пруссией против Франции. Что касается войны, то Верженн считал, что Франция не должна вступать в войну с Англией, если не будет полностью уверена вуспехе[704]. Когда в 1770-х годах в колониях возобновились волнения, подобные тем, что имели место в 1760-х, реакция Верженна была осторожной. Британское правительство доказало свою способность благополучно переносить штормы в колониальных морях, и он не хотел, чтобы Франция стала жертвой разыгравшихся стихий. Самым опасным в этой ситуации было то, что преждевременное вмешательство Франции могло бы вернуть ее заклятого врага Четема во власть в качестве главы объединенных сил Британии и Америки: желание захватить французскую Вест-Индию вполне могло породить такой союз. В конце 1775 года, когда разразилась война, эта возможность представлялась ничтожной, и воспрянувший духом Верженн отверг идею нейтралитета в обмен на сохранение французских колоний в Вест-Индии как недостойную рассмотрения. Более того, в конце лета 1775 года он направил в Америку тайного агента Жюльена Ашара де Бонвулуара с заданием наблюдать за происходящим и обещать повстанцам поддержку. Примерно в то же время еще один агент, наделенный разнообразными талантами, обратил на себя внимание Верженна. Это был Пьер Огюстен Карон де Бомарше, драматург (автор «Женитьбы Фигаро») и авантюрист, человек, который, похоже, не столько ненавидел Англию, сколько любил интриги. У драматургов сильно развито воображение, и Бомарше вообразил себя пророком, предсказав поражение англичан ближайшим летом. В те дни он находился в Лондоне, где жадно впитывал сплетни и слухи, слепо принимая на веру — по крайней мере, на первых порах — самые абсурдные россказни о силе радикалов и слабости правительства. Вероятно, Верженн освободил Бомарше от его иллюзий. Во всяком случае, поскольку Бомарше мог быть полезен, Верженн решил использовать его: он сделал его платным агентом французской секретной службы и после собеседования в Париже отослал его обратно в Лондон с заданием внимательно прислушиваться ко всему, что говорят, и присылать подробные отчеты. Снова оказавшись в Лондоне, Бомарше сошелся с американским агентом Артуром Ли, братом Ричарда Генри Ли из Виргинии, человеком, который во многих отношениях идеально подходил на роль шпиона. Он был вспыльчив и мнителен, но вместе с тем обладал тонким, проницательным умом. После начала боевых действий в Америке Ли остался в Лондоне в качестве агента Массачусетса, и теперь у него появился новый хозяин — Континентальный конгресс. В начале 1775 года конгресс начал искать поддержку за океаном, отчасти по инициативе одного из своих членов, Бенджамина Франклина. Но поскольку многие из членов конгресса продолжали лелеять надежду на примирение с Великобританией даже после сражений при Лексингтоне и Конкорде, даже после Банкер-Хилла, конгресс остерегался иметь дело с иностранными державами. Несколько членов выдвинули предложение наладить прямые торговые отношения с Европой — шаг, эквивалентный провозглашению независимости и соответственно многим в то время показавшийся неприемлемым. Сделанное королем в августе 1775 года заявление о том, что колонии находятся в состоянии мятежа, увеличили число сторонников этого предложения. Тем не менее конгресс по-прежнему медлил и проявлял осторожность[705]. 29 ноября 1775 года конгресс учредил секретный корреспондентский комитет «с единственной целью ведения переписки с нашими друзьями в Великобритании, Ирландии и других частях света». Помимо Франклина, в комитет вошли Бенджамин Гаррисон из Виргинии, Томас Джефферсон, Джон Дикинсон, Джон Джей и спустя несколько месяцев Роберт Моррис. Комитет незамедлительно поручил Артуру Ли разведать отношение европейских держав к восстанию в Америке. Разумеется, в первую очередь комитет интересовался позицией Франции. Все это делалось с существенными оговорками — протестантский конгресс, представлявший протестантские колонии, сохранял вековую враждебность в отношении католиков и католических государств. (С другой стороны, трудно было ожидать от европейских монархов симпатий к восстанию против одного из их числа[706].) В течение зимы 1776 года Бомарше приводил в своих письмах веские аргументы в пользу вооруженной поддержки колоний в борьбе против Англии. Одно из его тщательно просчитанных предупреждений гласило, что нерешительность Франции рано или поздно приведет к примирению американцев с Великобританией. Верженн высказывал то же самое мнение более осторожно, тонко намекая на те выгоды, которые могла бы извлечь для себя Франция из противостояния колоний и метрополии. Весной сопротивление Людовика и большинства его министров ослабло и было принято решение об оказании секретной военной помощи американцам. Один лишь Тюрго, генеральный контролер финансов, был категорически против, считая, что если американцам суждено обрести независимость, они обретут ее и без содействия Франции, и что независимая Америка будет способствовать процветанию английской торговли в гораздо большей степени, чем нынешние колонии, но 2 мая 1776 года Людовик решил пренебречь этими прогнозами и распорядился выделить колониям финансовую помощь для закупки военного снаряжения в размере одного миллиона ливров. Десять дней спустя Тюрго подал в отставку[707]. Решение об оказании помощи было принято втайне и прикрыто заверениями в дружбе с Великобританией. Тогда же Верженн изложил свои планы по наращиванию французской военной и военноморской мощи. Он знал, что поставка снаряжений не скроется от глаз Великобритании и почти неминуемо приведет к войне. Тем не менее имелись веские основания скрывать эту помощь. Великобритания заявила бы свой протест даже в том случае, если бы помощь оказывалась тайно, однако она не стала бы торопиться с объявлением войны. В международных отношениях поддержание видимости с целью сохранения лица зачастую более приемлема, чем признание фактов. Видимость в данном случае состояла в том, что оказанием помощи занималась частная фирма «Родерик Горталес и компания». Делами этой фиктивной фирмы ведал сам Бомарше. Он вместе с несколькими коллегами организовал выплату денег за пушки, боеприпасы и другие военные поставки. Второй американский эмиссар, Сайлас Дин из Коннектикута, прибывший в Париж в июне в качестве представителя конгресса, тесно сотрудничал с Бомарше — даже слишком тесно, если верить Артуру Ли. Помощь, которую французское правительство рассматривало как займы, в отчетах Дина нередко фигурировала в качестве подарков. Как Дин, так и Бомарше, распоряжаясь поставками, находили возможность направлять часть денег в свои собственные карманы[708]. По мере разрастания конфликта помощь в виде снаряжения и денег удовлетворяла американцев все меньше, и они начали подумывать о втягивании в войну Франции и Испании, традиционных врагов Великобритании. Они не прельщали себя надеждой, что эти страны вступят в войну из восхищения Америкой и американскими принципами. Однако они надеялись, что Франция и Испания ухватятся за любую возможность свести старые счеты и, что более важно, восстановить баланс сил, который десятью годами ранее сместился в сторону Великобритании. У этих старых врагов опасно было просить слишком многого: ведь если бы они вступили в войну и победили, они бы, несомненно, могли бы закрепиться на американской земле в качестве новых хозяев американцев. Бенджамин Франклин начал задумываться над тем, какую пользу могут принести колониям европейские страны, задолго до начала войны. Конфликт из-за вопроса о полномочиях парламента подтолкнул его к просчету действий, которые могли бы предпринять колонии, оказавшись без руля и без ветрил в мире, принадлежащем алчущим наживы государствам. Недостаток силы, к такому выводу он пришел в 1770 году, не обязательно означает слабость, так как крупные государства, заботясь о своих собственных желаниях и интересах, порой совершают действия, идущие на пользу мелким государствам. В любом случае крупные государства, похоже, больше интересовались нанесением ущерба друг другу, нежели эксплуатацией далеких американских колоний[709]. Франклин, Джон Адамс, Томас Пейн и многие другие, кто внимательно следил за происходящим в Европе, безусловно, были правы в своей убежденности, что у Америки имеются все шансы втянуть Францию и Испанию в войну с Великобританией. Но они недооценивали трудность этой задачи. И вплоть до конца 1776 года они недооценивали размеры того вознаграждения, которое Франция и Испания могли запросить за свои услуги. Начавшаяся война заставила их более трезво взглянуть на вещи. В разгар военных действий идея обратиться за помощью к иностранным державам пришла сама собой. В первые шесть месяцев своего существования секретный комитет занимался исключительно организацией поставок оружия и нахождения средств для армии. Более решительные действия были бы равносильны провозглашению независимости — шагу, которому большинство в конгрессе сопротивлялись вплоть до последней минуты. Так, когда в феврале 1776 года делегат от Виргинии Джордж Уиз предложил конгрессу рассмотреть вопрос о праве на вступление в альянсы, ему так и возразили: рассмотрение этого вопроса будет фактически равносильно провозглашению независимости. Предложение Уиза было передано в комитет, где его подробно обсудили и оставили без ответа[710]. Независимость не положила конца неясности в вопросе о том, какого рода соглашения могут быть заключены с врагами Великобритании. Неудивительно, что конгресс был буквально завален советами по поводу дальнейших действий. Большая их часть исходила из необходимости торговли с Европой как важной скрепы между Старым и Новым Светом. Тогда и долгое время спустя американские государственные деятели выступали за свободную торговлю, так как в противном случае Америка попала бы в зависимость от какой-либо одной европейской державы, а американцы уже испытали все прелести подобной зависимости на своем собственном опыте. Что касается мотивов, по которым европейские державы должны были приветствовать подобные соглашения, то главным из них была экономическая выгода: Америка много покупала и много продавала. Потребность в торговле будет существовать до тех пор, как саркастично заметил Томас Пейн, «пока Европа не оставит привычку к еде»[711]. Джон Адамс не соглашался с Пейном по многим вопросам, но он разделял убеждение того (и других своих сподвижников), что для молодой республики торговая политика важнее внешней политики. Именно по инициативе Адамса конгресс занялся проектом «типового договора», призванного определить основу отношений Америки с Европой — и прежде всего с Францией, поскольку ожидалось, что Франция вступит в войну. Адамс работал над проектом весной 1776 года, незадолго до провозглашения независимости. Его заметки свидетельствуют о том, что он был сторонником осторожной политики, исходившей из предположения, что Франция придает большое значение торговле с Америкой и, безусловно, не упустит возможность досадить своему главному сопернику в Европе. «Можем ли мы рассчитывать на поддержку со стороны Ф[ранции]? — спрашивал себя Адамс. — В какие отношения мы можем вступить с ней безбоязненно?» И отвечал: «Во-первых, никаких политических отношений. Не подчиняться ни одному из ее органов власти — не принимать от нее ни губернаторов, ни чиновников. Во-вторых, никакого военного сотрудничества. Не принимать от нее никаких войск. В-третьих, только торговые связи, то есть заключить договор о заходе ее кораблей в наши гавани. Наши корабли должны иметь право захода в ее гавани — за оружием, пушками, селитрой, порохом, парусиной, сталью». Эти условия фактически исключали любой «альянс», любой политический союз с Францией и Испанией. Однако Ричард Генри Ли, который в июне 1776 года выступил с предложением о провозглашении независимости, настаивал на создании альянсов с иностранными государствами. Судя по всему, Ли не имел в виду жесткие политические связи, подразумевающие взаимные обязательства и ответственность, и уж, во всяком случае, он не имел в виду военные обязательства. В XVIII веке понятие альянса, или союза, имело довольно размытое значение и могло употребляться практически как синоним торгового договора. В любом случае Адамс и «типовой договор», одобренный конгрессом в сентябре, не обещали особых выгод тем иностранным государствам, которые решили бы оказать помощь Америке. В восьмой статье типового договора говорилось прямым текстом, что любое официальное соглашение может спровоцировать войну между Францией и Великобританией. На этот случай американцы обещали не оказывать Великобритании военную поддержку — «обязательство», предельно ясно демонстрирующее, насколько малое вознаграждение конгресс был готов предложить Франции за ее помощь[712]. Как и можно было ожидать, в следующем году конгресс был вынужден расстаться с этой ограниченной концепцией внешней политики. Военные поражения, сперва на Лонг-Айленде, затем выше по течению Гудзона и в Нью-Джерси, заставили его пожертвовать своими передовыми принципами. Первая крупная уступка в изменившейся ситуации была сделана в конце 1776 года, когда члены комиссии конгресса были наделены полномочиями предложить Франции британскую Вест-Индию в случае ее вступления в войну. Эта уступка, по-видимому, была воспринята как более радикальная, чем она была на самом деле. Конгресс, придавая столь большое значение торговле как мощному фактору в международных отношениях, исходил из убеждения, что торговля несет с собой власть. Конгресс ценил политическую власть столь же высоко, как это делало любое европейское министерство иностранных дел, но он не считал, что для ее получения необходимо следовать традиционным схемам. Реалии войны внесли изменения в это представление[713]. Комиссия, посланная в Европу, разделяла убеждение конгресса в возможности извлечения пользы из заинтересованности Старого Света в торговле с Америкой. Вместе с тем они знали, что шанс нанести ущерб Великобритании интересовал ее врагов еще больше и что этот шанс был главным козырем американцев, чья остальная колода состояла из одних шестерок. Среди тех, кто, по мнению конгресса, должен был предъявить этот козырь французскому правительству, были Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. Джефферсон отказался от назначения, так как у него болела жена и он не хотел ее покидать. Франклин дал свое согласие, равно как и Сайлас Дин, который и так уже находился в Европе. В поисках замены Джефферсону конгресс обратился к Артуру Ли, который, как и Дин, уже занимался в Европе американскими делами. Ли достаточно хорошо узнал Дина, чтобы не доверять ему. Впрочем, Ли, похоже, не доверял никому. В случае Дина у него были на то веские основания, поскольку тот использовал французскую помощь для личного обогащения. Когда комиссия приступила к работе, Дин зашел еще дальше — он начал передавать американские секреты Эдварду Бэнкрофту, доверенному секретарю комиссии, состоявшему на службе у британского правительства. Франклин, не знавший о махинациях Дина, прибыл во Францию в начале декабря 1776 года. Британское правительство открыто заявило о своей обеспокоенности в связи с тем, что французы принимают у себя агента повстанцев, а из переписки самого Франклина следует, что он не был уверен в теплом приеме. И у него были причины для этой неуверенности. Молодой король Франции Людовик XVI отнесся к американской революции скептически. Ни один европейский монарх не желал бы видеть другого европейского монарха отвергнутым своими подданными, так как это могло бы стать нездоровым прецедентом. Беспокойство короля разделяли и другие французы, а именно купцы, которые сомневались, что страна сможет позволить себе расходы еще на одну войну, и боялись, что их процветанию, возможному только в мирное время, придет конец. До прибытия Франклина Тюрго, в ту пору еще занимавший должность генерального контролера финансов, усилил опасения французов, предсказав, что торговые связи между Англией и Америкой будут развиваться и укрепляться даже после провозглашения независимости. Хотя Франклин и не развеял эти опасения, он почти сразу завоевал симпатии народа. Он прибыл во Францию на корабле «Возмездие» (Reprisal) в меховой шапке, служившей ему надежной защитой от ледяного ноябрьского ветра. Его скромный головной убор, его некрасивые очки, которые иной модник постеснялся бы надеть на публике, и, самое главное, его подкупающая простота и прямолинейность очаровали парижан. Французы, полные иллюзий в отношении жителей Нового Света, ожидали увидеть героя, и в лице этого гениального американца перед ними предстал наивный философ, мудрый и добрый представитель лучшей части населения девственной Америки. Франклину льстило всеобщее обожание, но он был слишком умен, чтобы позволить этому чувству вскружить себе голову. К тому же он не верил, что общественное мнение способно ускорить заключение договора между Францией и Америкой. Для заключения такого договора требовалась тщательная подготовка, а потому Франклин на время скрылся из поля зрения общественности, поселившись в Пасси, небольшом селении под Парижем[714]. Конгресс поручил своим уполномоченным «добиться немедленного и однозначного заявления Франции в нашу пользу, ибо в случае промедления не исключено воссоединение с Великобританией». В этих первичных инструкциях еще не упоминался союз, но уже через пару месяцев конгресс поручил членам комиссии наладить более тесные связи с Францией. Французы, со своей стороны, твердо решили строить свою политику на основе двух принципов: не вступать ни в какие соглашения, которые позволили бы американцам делать ставку на нечто меньшее, чем независимость, и не предпринимать никаких действий, не заручившись формальной поддержкой Испании[715]. Переговоры продвигались медленно, так как происходившие в Америке события то разделяли, то вновь сближали стороны. В феврале 1777 года уполномоченные конгресса уведомили Верженна, что Соединенные Штаты готовы дать обещание не заключать сепаратного мира с Великобританией в обмен на такую же гарантию со стороны Франции. В марте они объявили о своем желании вступить в альянс с Францией и Испанией. Верженн, не уверенный в исходе войны, не стал торопиться с ответом, а испанское правительство даже запретило Артуру Ли въезд в свою страну, опасаясь, что он начнет склонять общественное мнение в пользу Америки[716]. В течение всего лета комиссия продолжала добиваться признания и крупного займа от французов. В ноябре, когда пришло известие о вступлении Хау в Филадельфию, их усилия, казалось бы, потерпели крах. 4 декабря, однако, было получено сообщение о капитуляции Бергойна. Через несколько дней Верженн пригласил комиссию на повторное обсуждение предложения о заключении франко-американского союза. Франклин составил проект договора, и 17 декабря 1777 года Верженн объявил о согласии Франции признать Соединенные Штаты и вступить в союз с ними. Но прежде подписания каких-либо документов следовало еще раз обратиться к Испании с призывом вступить в союз с Францией и Америкой. В конце месяца испанцы заявили о своем отказе, и тогда Верженн, встревоженный известием о переговорах Дина и Франклина с британским агентом Полом Уэнтвортом на предмет возможного заключения мира между Америкой и Великобританией, решил обойтись без участия Испании[717]. В начале февраля 1778 года стороны подписали договор о дружбе и торговле и договор о союзе. Торговый договор включал в себя клаузулу о наиболее благоприятствуемой нации и предусматривал беспрепятственный вход американских кораблей в несколько портов в Вест-Индии и в самой Франции. Согласно союзному договору, подлежавшему вступлению в силу лишь в случае начала боевых действий между Францией и Великобританией (в чем практически не было сомнений), целью двух государств являлась обеспечение свободы и независимости Соединенных Штатов. Самой важной, по общему мнению, была восьмая статья этого договора: «Ни одна из двух сторон не может заключить перемирие, ни мир с Великобританией без предварительного получения формального согласия другой стороны; обе стороны взаимно обязуются не складывать оружия до тех пор, пока независимость Соединенных Штатов не будет официально или подразумеваемым образом удостоверена договором или договорами о прекращении войны». Не менее важными были обещание Франции не заявлять свои права на какие-либо английские территории на североамериканском континенте и ее согласие с тем, что любая такая территория, захваченная в ходе войне, будет принадлежать Соединенным Штатам[718]. Сразу после подписания договоры были отправлены в Америку, куда они прибыли 2 мая, буквально накануне поступления мирных предложений из Великобритании, которые, однако, не подразумевали признания независимости Америки. Договоры с Францией были ратифицированы конгрессом 4 мая, а 14 июня 1778 года началась война между Францией и Британией.II
Вступив в войну, Британия столкнулась с огромными стратегическими проблемами, не говоря уже о внутренних политических и финансовых неурядицах. До разгрома Бергойна под Саратогой британские стратеги следовали ошибочным курсом. В декабре 1777 года Сандвич открыто выразил свое недовольство в связи с неудовлетворительным использованием военно-морского флота, который занимался конвоированием транспорта, подвозившего войска к местам ведения боевых действий, но сам практически никогда не участвовал в этих действиях. В его словах была предельно ясно описана та жалкая роль, которую играл военно-морской флот, и высказанное им тогда же соображение, что при надлежащем использовании военноморские силы способны поставить колонии на колени набеговыми операциями и блокадой портов, подразумевало, что военные действия на море являются единственным видом стратегии, имевшимся у Британии. Для такой великой морской державы, какой она была в XVIII веке, было бы естественным выбрать войну на море. Между тем незадолго до того, как Сандвич выступил в защиту этой стратегии, план совершенно другого рода, а именно сухопутная кампания без какой-либо поддержки со стороны военно-морского флота, привел к катастрофе[719]. Однако ни Сандвич, ни другие британцы, отстаивавшие идею войны на море, никогда по-настоящему не пытались осмыслить причины военных неудач Великобритании. И вообще в течение первых двух лет Великобритания воевала без какой-либо всеобъемлющей, хорошо продуманной концепции. Война началась не на британских условиях, и, наступая на Лексингтон, Гейдж не выбирал обстоятельства для войны с Америкой. Он действовал, имея перед собой весьма ограниченную цель, после чего, к своему удивлению, был почти на год блокирован в Бостоне. Хау эвакуировал армию из Бостона в Галифакс и затем вернулся со свежими пополнениями в Нью-Йорк, исполненный решимости разгромить армию Вашингтона. Это намерение поглощало его в течение следующих пятнадцати месяцев, хотя поход на Филадельфию летом 1777 года также имел своей целью заручиться поддержкой лоялистов южной Пенсильвании. У всех замыслов Хау был один существенный изъян: недостаточное понимание того, что подавление восстания и ведение боевых действий — это далеко не всегда одно и то же. Правительство в Великобритании тоже путало два этих дела и никак не могло определиться с тем, каким из двух оно занимается или как они соотносятся между собой. Одобряя план Бергойна по изоляции Новой Англии, правительство, вероятно, надеялось с помощью военной операции достичь политической цели. Если бы Бергойн двинулся на Олбани с достаточно многочисленной и боеспособной армией, он бы действительно нанес ощутимый урон повстанцам, особенно в том случае, если бы на пути к Гудзону он разбил армию Гейтса. Капитуляция Бергойна и вступление Франции в войну вынудили британских политиков и военачальников пересмотреть свою стратегию, однако это не привело к улучшению согласованности их планов. Когда поступили первые известия о поражении под Саратогой, казалось, все стало ясно. Сандвич подверг критике все предыдущие кампании и выступил в защиту войны на море, утверждая, что из всех возможных стратегий лишь она одна предлагает надежное средство изнурения американцев вплоть до окончательного слома их воли к сопротивлению. В течение зимы 1777/78 года идея морской войны расположила к себе министров и получила одобрение Амхерста — этого, пожалуй, наиболее популярного военачальника Великобритании — и самого короля. После Саратоги у этих двух людей сложилось убеждение, что вступление Франции в войну неизбежно и что Испания последует ее примеру. Их переписка и беседы в ту зиму были проникнуты чем-то вроде чувства облегчения. Они ощутили себя в родной стихии — стихии войны с государствами, которыми правят Бурбоны. Тем не менее эта война не была для них желанной — более того, ее приближение внушало им страх. Зато такая война, в отличие от восстания в колониях, была чем-то понятным и привычным. Как заметил Сандвич в пространном докладе Норту, Франция и Испания — это «наши заклятые враги». Амхерст уверял короля, что в той ситуации, когда главную озабоченность вызывает Франция, колониальная война является делом второстепенной важности. Британские военные суда должны блокировать порты в колониях, настаивал Амхерст; образумить американцев можно только с помощью военно-морского флот[720]. Все это мало вдохновляло Норта, который был раздавлен известием о разгроме Бергойна и, похоже, не думал ни о чем другом, кроме как об отставке. Получив секретные сообщения о ходе франко-американских переговоров, король мгновенно уяснил новую ситуацию. После разговора с Амхерстом он начал обдумывать стратегии, пригодные в предстоящей войне. Среди них было предложение, явно принадлежавшее Амхерсту, оставить колонии в покое и, усилив присутствие британских войск в Канаде, Флориде и Новой Шотландии, атаковать Францию и Испанию в Вест-Индии и Луизиане. Одновременное ведение боевых действий на суше против колоний и против Франции и Испании, как написал он Норту в феврале, предполагает распыление сил и, как следствие, не имеет шансов на успех[721]. На основе этих оценок были составлены приказы, врученные 8 марта 1778 года генералу Генри Клинтону, сменившему Уильяма Хау на посту главнокомандующего. Первые удары было решено нанести с моря, и Клинтон получил распоряжение содействовать военно-морскому флоту в набеговых операциях на всем протяжении американского побережья от Нью-Йорка до Новой Шотландии. Кроме того, Клинтон должен был приготовиться к наступлению на обе Каролины и Джорджию, давно считавшиеся слабыми местами в американской обороне. Поскольку эти новые планы подразумевали снижение значения Филадельфии, Клинтону было предписано отвести свои силы в Нью-Йорк, хотя Джермен, который готовил эти инструкции, сделал оговорку, в соответствии с которой Клинтон мог по своему усмотрению остаться в Филадельфии, если того потребует местная ситуация[722]. Пять дней спустя, когда французское правительство объявило о подписании договоров о дружбе и торговле с Соединенными Штатами, эти инструкции были фактически отменены. Хотя до начала войны между Великобританией и Францией оставалось еще три месяца, уже теперь было ясно, что война неизбежна, и вся текущая стратегия Великобритании отныне строилась на убеждении, что она должна нанести удар первой. В течение нескольких дней король, Норт и Амхерст обсуждали возможность вывода всех британских сил из колоний, однако 21 марта, когда Джермен подготовил вторую серию приказов, столь радикальный шаг еще не представлялся необходимым. И все же новая стратегия требовала смены направления и перераспределения ресурсов. Запланированная морская блокада не была однозначно отменена, но она уже не считалась делом первостепенной важности. Объектом главного удара отныне была Франция — «вероломная и надменная», как горько выразился король, — и Клинтон получил приказ нанести этот удар. Он должен был отправить 5000 солдат на захват острова Сент-Люсия в Вест-Индии, еще 3000 в качестве подкрепления во Флориду, а остальные силы отвести в Нью-Йорк, который следовало удерживать в руках британцев для усиления переговорной позиции комиссии лорда Карлайла — группы дипломатических агентов, направленных в Америку с инструкциями заключить мир с повстанцами, не давая согласия на независимость — условие столь же нелепое, сколь и безнадежное[723]. Правительство без долгих раздумий приняло решение начать войну с французами в Вест-Индии. Эти острова не в первый раз служили театром военных действий, сливки британской армии находились в Америке, а военных ресурсов для нападения на Францию через Ла-Манш попросту не существовало (отсутствовало и соответствующее желание, так что этот вариант даже не рассматривался)[724]. Вест-Индия была лакомым куском. С точки зрения экономики, основанной на принципах меркантилизма, острова обладали неизмеримо большей ценностью, чем континентальные колонии: торговля с Вест-Индией приносила гораздо больше прибыли, чем торговля с материковой Америкой. В 1778 году вест-индийские купцы, как и следовало ожидать, потребовали защиты, и с учетом их важности на это требование нельзя было не откликнуться. Впрочем, даже если бы они промолчали, результат был бы тем же. Начало боевых действий против французов в Вест-Индии было фактически предопределено, и соответствующее решение было принято без раздумий. Остров Сент-Люсия был выбран по веским тактическим соображениям. Он расположен в цепи Наветренных островов чуть южнее Мартиники, где Франция в то время располагала великолепной гаванью. Далее к югу лежат Гренада и Тобаго, в то время принадлежавшие Великобритании, а в сотне миль к востоку — Барбадос, крупный производитель сахара. Наветренные острова являются главной частью Малых Антильских островов. В северной части Наветренных островов основным оплотом Великобритании был остров Антигуа. Важнейшие из островов архипелага принадлежали Франции, которая в сентябре 1778 года захватила еще и британскую Доминику, остров между Гваделупой и Мартиникой. В тысяче миль к западу от Наветренных островов лежит Ямайка, самый крупный и самый богатый британский остров в Карибском море, но в силу его отдаленности и господствующих ветров он не мог быть использован в качестве опорной базы для ведения боевых действий против Франции в районе Малых Антильских островов. В этом качестве, если бы ее удалось захватить, могла быть использована Сент-Люсия, ибо этот остров располагал удобными якорными стоянками, с которых британские военные корабли могли бы выходить навстречу судам противника, держащим курс на Мартинику или покидающим Мартинику. Решение нанести удар по французам в Вест-Индии получило единодушную поддержку в правительстве. Теперь оставалось решить проблему с французским флотом, стоявшим в Бресте и Тулоне. Когда Франция объявила о своем вступлении в союз с Америкой, она располагала 21 линейным кораблем в Бресте и еще двенадцатью в Тулоне. В течение весны она увеличила свой военный флот по меньшей мере на двенадцать кораблей. В марте Великобритания располагала 55 линейными кораблями, находившимися в различной степени боеготовности. Если бы французы отправили значительную часть своего флота в американские воды, где у Великобритании пока было военно-морское превосходство, ситуация там серьезно бы изменилась. У британцев было два способа противостоять такому неблагоприятному развитию событий. Во-первых, они могли воспользоваться методом, примененным ими в предыдущей войне, когда посредством морской блокады они фактически преградили французским военным кораблям выход из европейских вод. Блокада, однако, была сопряжена с большими трудностями, особенно в районе Бреста. Ближнюю блокаду, предполагавшую постоянное присутствие большого количества английских кораблей в прибрежных водах было бы трудно поддерживать, так как состояние многих английских судов оставляло желать лучшего, а длительные периоды пребывания на воде только ухудшили бы их мореходные качества. Кроме того, это отрицательно сказалось бы на здоровье моряков, среди которых по-прежнему была распространена цинга. Что касается «открытой» блокады, подразумевавшей патрулирование английских фрегатов около Бреста, то ее было бы намного легче поддерживать, но она тоже была связана с определенными рисками. Один из них состоял в том, что Франция могла разделить свой флот и отправить часть его в Америку. В этом случае англичанам пришлось бы послать следом отряд кораблей, положившись на опытность моряков и счастливый случай, которые, возможно, привели бы их именно в ту точку на американском побережье, где французы планировали нанести удар. В отношении тулонского флота можно было принять примерно такие же меры — блокировать, к примеру, Гибралтарский пролив или отрядить эскадру в американские воды. Вскоре после того как Франция заявила о подписании договоров, тулонский флот начал готовиться к выходу в море. Командование было возложено на графа д’Эстена, и британцы тут же начали строить догадки относительно его намерений. Поведет ли он флот к Бресту для соединения с главными силами или же возьмет курс на Америку? Этот вопрос и порожденные им противоречивые предположения бурно обсуждались на заседаниях кабинета в течение двух месяцев. Сандвич и адмирал Огастес Кеппель, командующий флотом метрополии, или «Великим флотом», как гордо именовал его сам Кеппель, с жаром утверждали, что Британским островам грозит опасность и что флот ни в коем случае не следует дробить на части. Они были одержимы идеей защиты родных островов — «нашей главной целью должна стать оборона дома», как писал в начале апреля Сандвич. Оба выступали против плана задержать д’Эстена в Гибралтарском проливе, так как в случае провала этой операции французские суда могли бы проскользнуть позади «Великого флота», завлеченного в Средиземное море, и обрушиться на побережье Великобритании[725]. Джермен считал вторжение маловероятным и стремился предотвратить утрату военно-морского превосходства в Америке. Задержка тулонского флота в Гибралтарском проливе представлялась ему единственным разумным вариантом — вероятно, потому, что всеми его мыслями давно и прочно владела Америка. Эти разногласия поставили короля и Норта перед сложной дилеммой. Они соглашались с тем, что французы в настоящий момент являются их главной головной болью, но ограничивать флот отечественными водами казалось им довольно странным способом борьбы с неприятелем. Если бы они поделили флот между Ла-Маншем и Гибралтарским проливом, это увеличило бы риск вторжения; если бы они этого не сделали, у противника оказались бы развязаны руки для устранения британского превосходства в Америке. Между тем 13 апреля тулонский флот покинул родные берега и 16 мая миновал Гибралтарский пролив. За месяц, прошедший после отплытия д’Эстена из Тулона, король, Норт и большинство кабинета изменили свое мнение относительно оптимальной реакции на действия французов. В конце месяца вышел приказ об отправке тринадцати линейных кораблей под командованием адмирала Джона Байрона по прозвищу Джек Ненастье в подкрепление Ричарду Хау. Кабинет в тот момент был уверен, что д’Эстен направляется в Америку. Сандвич и Кеппель по-прежнему придерживались мнения, что д’Эстен намерен соединиться с брестским флотом, и им удалось поколебать уверенность короля до такой степени, что 13 мая тот приказал адмиралу Байрону задержать отплытие[726]. Флот, парализованный нерешительностью короля, не двигался с места вплоть до 2 июня, когда фрегат «Прозерпина», дежуривший в Гибралтарском проливе, прибыл с известием, что 16 мая д’Эстен вышел в Атлантический океан и взял курс на Америку. Фрегат в течение двух дней следовал за д’Эстеном, чтобы окончательно убедиться, что действия французского флота не являются обманным маневром. Байрон получил приказ отплывать, но из-за встречного ветра не мог выйти в открытое море в течение еще одной недели. На пути через Атлантику его корабли попали в шторм, были рассеяны и получили серьезные повреждения, в результате чего эскадра достигла американских вод лишь в начале августа[727]. Клинтон и адмирал Хау не знали об этих перемещениях кораблей, а Сандвич явно не торопился сообщить им, что скоро у них появятся гости из Франции. Раздосадованный тем, что ему не удалось помешать отправке части флота в Америку, он отказался выделить Джермену фрегат, который мог бы доставить в Америку известия о приближении д’Эстена. По мнению Сандвича, Джермен вполне мог обойтись и пакетботом. Джермен отправил сообщение с пакетботом, и 29 июня Хау узнал, что в ближайшее время д’Эстен должен появиться у американских берегов. Клинтон, заступивший на пост главнокомандующего английскими войсками вместо Уильяма Хау 8 мая, на следующий день получил приказ вывести войска из Филадельфии и отправить их в Вест-Индию и Флориду[728]. Новый командующий, которому фактически велят распустить свою армию, обычно относится к этому без особого энтузиазма. Подобно большинству военных, Клинтон никогда не был доволен тем, что ему давали, и потому решил не расставаться с тем, что он уже имел, по крайней мере до тех пор, пока не будет завершен вывод войск из Филадельфии. Поэтому он не стал торопиться с отправкой восьмитысячного контингента на юг.III
Джордж Вашингтон давно привык к регулярному исчезновению своих солдат — нередко задолго до истечения срока их службы. Но в 1778 году он был настроен намного более оптимистично, чем минувшей зимой, и не только потому, что узнал о договорах с Францией и ожидал поступления помощи. Более веская причина состояла в том, что за зимние месяцы, проведенные в Вэлли-Фордж, состояние его армии значительно улучшилось. Место, известное как Вэлли-Фордж и традиционно ассоциируемое с тяжелой зимой 1777/78 года, находится в 20 милях к северо-западу от Филадельфии, там, где река Вэлли-Крик впадает с юга в реку Скулкилл. Вопреки названию, там нет никакой долины, а кузница (forge), где когда-то выплавлялось железо, была давно заброшена. Территория между реками Вэлли-Крик и Скулкилл состояла из ряда низких лесистых холмов и была примерно две мили в длину и милю с четвертью в ширину[729]. Вашингтон выбрал для зимовки Вэлли-Фордж, руководствуясь тем, что это место было труднодоступным и что благодаря расположению на возвышенности и водным потокам его было легко оборонять. Оно находилось в отдалении от крупных населенных пунктов, но в то же время было не настолько отрезано от мира, чтобы армия не имела возможности следить за англичанами в Филадельфии. Как объяснил Вашингтон своим солдатам, на них лежит долг защищать Пенсильванию от ее «разорения врагами». В то же время он не хотел, чтобы его армия была обузой для тех областей штата, которые и так уже были переполнены беженцами, спасавшимися от наступающих войск Хау. «Человеколюбие воспрещает нам умножать их лишения», — говорил он своим солдатам, которые сами испытывали немалые лишения, включая голод. Отсюда выбор Вэлли-Фордж — места, имевшего удачное стратегическое расположение, удобного для обороны и находившегося в стороне от населенных мирными жителями областей[730]. Армия, пришедшая в Вэлли-Фордж, была измученной и усталой. После битвы при Джермантауне, состоявшейся в начале октября, она осторожно маневрировала, чтобы оторваться от армии Хау, которая и сама, похоже, не горела желанием вступать в очередное сражение. Время от времени случались небольшие бои, в том числе ожесточенные и кровавые, но дело ни разу не доходило до крупного сражения между основными силами каждой стороны. Это едва не произошло под Уайтмаршем, в 12 милях к западу от Филадельфии, где в начале ноября Вашингтон разбил лагерь. Хау, который через две недели после Джермантауна вернулся в Филадельфию, в начале декабря снова выступил в поход. Две армии стояли друг против друга нескольких дней, но войска Вашингтона занимали возвышенность, и Хау пришел к выводу, что нападение не принесет успеха. Он вернулся на зимовку в Филадельфию, а через несколько дней, 21 декабря, американцы пришли в Вэлли-Фордж[731]. Армия Вашингтона насчитывала 11 тысяч офицеров и солдат, из которых в строю были 8200. Место, где они разбили лагерь, было стратегически выгодным, однако этим его преимущества и исчерпывались. У солдат, и без того уже усталых и голодных, не было практически ничего, что требуется для выживания армии. До этого они в течение многих недель вели полуголодное существование, и теперь устроились на зиму в той части Пенсильвании, где не было возможности доставать пропитание. В течение многих недель они жили под открытым небом и теперь нуждались в казармах или квартирах, которые могли бы защитить их от зимних холодов. В Вэлли-Фордж почти не было жилых строений, и солдатам пришлось самим заняться строительством. Недавняя кампания потрепала не только обмундирование, но и самих людей. Среди бесплодных холмов нельзя было рассчитывать найти ни одежду, ни пищу. То же относилось ко всему остальному, что необходимо для более или менее сносного существования. Через несколько дней после прибытия армии в Вэлли-Фордж Вашингтон обратил внимание на отсутствие мыла, но, как сам же и рассудил, в нем и не было особой необходимости, так как мало кто из солдат имел больше одной рубашки, а у иных не было и одной. И еще он заметил, что, хотя рядом с лагерем протекали две реки, Вэлли-Крик и Скулкилл, воду для всех нужд приходилось доставлять с большого расстояния, достигавшего мили или более[732]. Деревьев было в изобилии, и солдаты почти сразу приступили к сооружению хижин. Вашингтон распорядился, чтобы лагерь был разбит по всем правилам. Хижины размером 14 на 16 футов строились из бревен, в качестве крыш служили доски. Зазоры между бревнами заделывались глиной, из которой также делалиочаги. Гвоздей, разумеется, не было, и в бревнах приходилось вырубать пазы. Каждая хижина вмещала двенадцать человек. Вашингтон дал себе слово разделять вместе с солдатами их лишения до тех пор, пока не будут построены первые хижины, и, прежде чем вселиться в один из немногих имевшихся в Вэлли-Фордж домов, жил в палатке. 13 января была сооружена последняя из хижин[733]. Внутреннее пространство хижин не изобиловало удобствами. Во многих из них полом служила голая земля, порой даже не покрытая соломой. Хуже всего было то, что солдатам часто нечего было есть. На момент их прибытия в Вэлли-Фордж весь запас провианта составлял 25 бочек муки — и ничего больше, ни мяса, ни рыбы. Солдаты рубили деревья и строили хижины на голодный желудок. Как вспоминал Элбидженс Уолдо, врач Коннектикутской бригады, по вечерам окрестные холмы оглашались хором голосов — «Нет мяса! Нет мяса!» Сей «тоскливый клич» солдаты разнообразили своими версиями карканья ворон и уханья сов[734]. Подражание птичьим голосам свидетельствует о том, что даже в самые трудные минуты солдатам не изменяло чувство юмора. Одним из неизменных предметов для зубоскальства служил так называемый «костровой хлеб» — тонкая лепешка из муки и воды, испеченная на костре. Немало доставалось и интендантам. Уолдо приводит несколько диалогов примерно следующего содержания: «Чем вас кормят, ребята? — Ничем, кроме лепешек и воды, сэр». Вечером: «Джентльмены, пора ужинать. Что у вас на ужин? — Лепешка и вода, сэр». Утром: «Что у вас на завтрак, ребята? — Лепешка и вода, сэр». И комментарий самого Уолдо: «Боже, сделай так, чтобы наши интенданты жили на одних лепешках и воде, пока у них не слипнутся кишки»[735]. Было три периода, когда не хватало даже костровых лепешек — в последнюю неделю декабря, в начале января и в течение двух недель в середине февраля. Хуже всего, по-видимому, было в феврале, поскольку 6 февраля 1778 года Вашингтон писал о своих солдатах как о «голодающих», а 16 февраля — как об «умирающих от голода». К тому моменту солдаты существовали на голодном пайке уже два месяца, при этом они постоянно мерзли, многие из них болели[736]. Вашингтон сочувствовал их страданиям и сознательно ограничивал себя в пище. Более того, он делал все, что от него зависело, чтобы добыть продукты и доставить их в Вэлли-Фордж. Его возможности были ограничены уважением к правам граждан, которые он ни в коем случае не хотел нарушать, хотя эта щепетильность не самым лучшим образом сказывалась на желудках его солдат. Члены конгресса, узнав о голоде в Вэлли-Фордж, убеждали Вашингтона изымать продукты у населения силой. Вашингтон сопротивлялся подобным предложениям, понимая, что спасение солдат от голода такими средствами подорвет принципы революции и лишит ее поддержки народа. Вместо этого он отправил своих интендантов на поиски провизии в Нью-Джерси, Пенсильванию, Делавэр и штаты Верхнего Юга. Иногда он все же прибегал к принудительным или с отсрочкой платежа закупкам, но и в этих случаях старался защищать интересы продавцов, насколько это было возможно. Например, когда зимой из-за бескормицы пали по меньшей мере пять сотен лошадей, Вашингтон распорядился найти им замену и отправил солдат на близлежащие фермы. Солдатам было приказано оставлять фермерам достаточное количество лошадей для ведения хозяйства, давать расписки и оценивать стоимость взятых лошадей без обмана. В качестве гарантов справедливой компенсации привлекались незаинтересованные третьи лица, фермерам предоставлялось право голоса при выборе таковых, а также право присутствия при оценке животных[737]. Поиск провианта был нелегким делом, но его доставка в лагерь порой давалась еще труднее. Ввиду нехватки лошадей и фургонов приходилось прибегать к помощи гражданских лиц — купцов, возчиков и т. д., но у этих людей, многие из которых имели своих постоянных клиентов, зачастую была возможность использовать свой транспорт более выгодно. Свинину, закупленную в Нью-Джерси, невозможно было вывезти оттуда из-за отсутствия фургонов, и она приходила в негодность. Частные подрядчики поставляли муку из Пенсильвании в Новую Англию, где цены были выше, в то время как солдаты Вашингтона сидели на голодном пайке. И многие фермеры в окрестностях Филадельфии, вместо того чтобы принимать обещания платежа от Вашингтона, предпочитали продавать свою продукцию находившимся в городе англичанам, которые платили наличными[738]. Не имея иных занятий, кроме постоянных раздумий о пище и тепле, солдаты в Вэлли-Фордж порой пытались облегчить себе жизнь своими методами. Количество случаев дезертирства не превышало норму, которая, впрочем, была достаточно высокой, но не это беспокоило Вашингтона, а то, что офицеры начали в массовом порядке подавать в отставку. Солдаты фактически остались предоставленными самим себе (одним из слабых мест американской армии было отсутствие строгого распорядка дня с обязательной военной подготовкой и муштрой), и некоторые из них повадились грабить окрестные фермы. Самовольные отлучки были обычным делом, причем солдаты иногда «забывали» обратную дорогу в лагерь, и настоящим проклятием армии были те, кто ублажал слух себе и терзал слух другим бесцельной пальбой из ружей. Но самой серьезной проблемой было ограбление фермеров, которые сами едва сводили концы с концами. Вашингтон пытался пресечь мародерство — «низкое, жестокое и вредящее делу, которому мы себя посвятили» — путем ужесточения дисциплины. Отныне при выходе из лагеря требовалось предъявлять пропуск, и солдаты, задержанные за пределами лагеря без пропуска, заключались под стражу. Вашингтон также распорядился проводить регулярные переклички и наказал своим офицерам как можно чаще производить осмотр солдатских хижин. Те, кто устраивал беспорядочную пальбу, отныне получали по двадцать ударов плетью «на месте», а оружие разрешалось носить только во время дежурства[739]. Истинной причиной низкой дисциплины была нужда. Если бы удалось улучшить условия жизни солдат, количество нарушений дисциплины резко бы сократилось. Но в условиях острой нехватки продовольствия и обмундирования едва ли не единственным действенным средством поддержания дисциплины было пресечение преступных действий. Приказы Вашингтона свидетельствуют о том, что он не забывал о стандартных мерах по поддержанию дисциплины. Некоторые были жизненно необходимыми, в том числе приказ зарывать в землю трупы лошадей и отбросы, другие менее важными — например, запрет на игру в карты и кости. Офицерам было приказано регулярно производить обследование своих частей и проверять жилищные условия солдат[740]. Все эти меры, безусловно, принесли определенную пользу. Постепенное восстановление системы снабжения дало еще больший эффект. Когда армия вступила в Вэлли-Фордж, ее службе снабжения было почти три года. С момента своего основания во время осады Бостона в 1775 году эта служба претерпела значительные изменения, но не улучшилась. В ее состав входили интендантский отдел, задачей которого было снабжение армии продовольствием, и квартирмейстерский отдел, отвечавший за удовлетворение большинства других потребностей, включая одежду. До зимы 1777/78 года главным интендантом был Джозеф Трамбалл, который прекрасно справлялся со своими обязанностями. Однако ему пришлось выйти в отставку, так как конгресс реорганизовал интендантский отдел и, помимо прочих нововведений, взял в свои руки назначение помощников главного интенданта. Эта мера фактически лишила главного интенданта возможности контролировать работу своих помощников, в то время как сам конгресс оказался не в состоянии выполнять функцию контроля. Помощники, которые фактически осуществляли большую часть закупок и занимались распределением продовольствия, использовали свое сравнительно независимое положение для личной наживы. А те, кто противился искушению, не могли удовлетворять потребности армии без надлежащей координации своих действий и соответствующих инструкций[741]. Преемником Трамбалла на посту главного интенданта стал Уильям Бьюкенен. Он попробовал свои силы на новом поприще, потерпел неудачу и ушел в отставку по примеру Трамбалла. В конце зимы 1778 года конгресс, убедившись в нежизнеспособности новой системы, предпринял еще одну реорганизацию службы и поставил в ее главе Джереми Уодсворта. Реорганизованное интендантство отныне функционировало с использованием системы материального поощрения, контроль над которой осуществлял глава службы. Главный интендант сам назначил своих помощников — уполномоченных по закупкам — и их подчиненных, которые получали определенный процент от своих сделок. Чем больше провизии они поставляли войскам, тем больше денег перепадало им самим. Система была далеко не идеальной, но она способствовала четкому разграничению полномочий, облегчала контроль и гарантировала ответственность. Квартирмейстерский отдел пережил сходную историю, включая вмешательство конгресса, и вернулся к нормальной работе лишь в марте 1778 года, когда его возглавил Натаниэль Грин. Система поощрений усилила служебное рвение сотрудников отдела, которые, как и интенданты, были подчинены непосредственно главе отдела. Самому Грину были даны широкие полномочия в сфере назначения своих помощников. В частности, он получил право назначать по своему усмотрению фуражиров и вагенмейстеров. В феврале армию в Вэлли-Фордж спасла от голода не только дисциплина, но и предприимчивость. Грин под контролем Вашингтона обеспечивал как дисциплину, так и предприимчивость, регулярно отправляя фуражные отряды во всех направлениях. Энтони Уэйн перешел через Делавэр в районе Гошена и занялся поисками продовольствия на территории Нью-Джерси. Местность вдоль реки изобиловала заготовленным сеном, чего нельзя было сказать о домашнем скоте и лошадях, которых можно было бы им кормить, так как фермеры прятали скот и лошадей в лесу. Уэйн быстро нашел способ разрешения этой ситуации, и его солдаты в короткий срок собрали большое количество животных. За конфискованный скот выдавались расписки, и Уэйн был уверен, что эта мера «примиряла» большинство владельцев скота с «формой, необходимостью и справедливостью» конфискаций. Следовал ли Уэйн приказу Грина не выдавать расписки тем, кто прятал свой скот, доподлинно неизвестно[742]. Генри Ли отправился еще дальше — в Делавэр и на восточное побережье Мэриленда, где его ждала богатая добыча. В Делавэре фуражиры нашли больше коров, чем лошадей, и почти повсюду сена было больше, чем зерна. Пожалуй, самое большое количество лошадей было собрано на островах реки Делавэр — тамошние луга и особенно болота изобиловали пастбищами. Солдаты Грина прочесывали острова, сжигая все сено, которое они не могли взять с собой ввиду нехватки лошадей и возов. Такая тактика, разумеется, не добавляла им популярности среди фермеров Нью-Джерси и Делавэра. Но Грин и Ли пребывали в убеждении, что в этих двух штатах живут сплошные лоялисты. Жесткие действия американской армии противоречили интересам местных жителей, зато они лишали британцев продовольствия и фуража, которые американцы не могли взять с собой в Вэлли-Фордж[743]. В марте исхудалые, похожие на скелеты фигуры, едва передвигавшие ноги в Вэлли-Фордж и его окрестностях, начали превращаться в нормальные человеческие тела. И на эти тела теперь были надеты рубашки и брюки. Заслуга в этом принадлежала не только реорганизованному интендантству и квартирмейстерскому отделу, но и Вашингтону с его фуражными отрядами. В течение зимы солдаты сидели сложа руки. Их физическое состояние исключало возможность любого физического напряжения, и они были предоставлены самим себе. В предыдущие месяцы армия столь часто передвигалась с места на место, что ни о каком четком распорядке дня не могло быть и речи. Ввиду отсутствия общих предписаний каждый командир полка лично решал, когда и как проводить военную подготовку. Большинство командиров сами не имели военной подготовки, и нередко случалось так, что они учили своих солдат совершенно бесполезным вещам. Возможность переломить ситуацию — дать рядовым хорошую подготовку и сделать из них профессиональных солдат — появилась в конце февраля в лице приглашенного пруссака, гордо именовавшего себя Фридрихом Вильгельмом Августином Генрихом Фердинандом фон Штойбеном, или попросту бароном фон Штойбеном. Он прибыл в Америку с рекомендательным письмом к конгрессу от Бенджамина Франклина и Сайласа Дина. В своем письме они оценивали его весьма высоко, хотя далеко не так высоко, как он оценивал себя сам. По его словам, он был генерал-лейтенантом, генерал-квартирмейстером и адъютантом Фридриха Великого. Здесь барон несколько преувеличивал, подобно тому как он «преувеличивал» свое имя. Четырнадцатью годами ранее он действительно выполнял определенные функции в армии Фридриха, но то, что он рассказывал об этих функциях, было столь же далеко от истины, как и все остальное, что он рассказывал о себе. На самом деле он был солдатом удачи, которая, впрочем, никогда ему не сопутствовала. Он с упоением описывал свое имение в Швабии, хотя в действительности не имел никакой собственности вообще, равно как и никакого определенного рода занятий. Однако, в отличие от большинства из тех, кто рекомендовал себя конгрессу, он не требовал ни вознаграждения, ни выгодной должности. Его единственное желание, по его словам, состояло в том, чтобы поступить в распоряжение генерала Вашингтона. Взамен он попросил лишь возмещения своих расходов. Утешенный и обрадованный этой необычайной скромностью, конгресс направил его в Вэлли-Фордж[744]. Вашингтону понравилось то, что он увидел в Штойбене, и когда Штойбен упомянул о своем желании помочь с обучением одетых в лохмотья солдат, Вашингтон предоставил ему полную свободу действий. На первых порах Штойбен занимал должность генерала-инспектора, и его главная обязанность состояла в обучении солдат строевому шагу и обращению с оружием. Несмотря на тот факт, что Штойбен отлично знал свое дело, ему пришлось нелегко, так как он не знал английского языка. Поскольку у американской армии не было ни письменного устава, ни письменных инструкций по строевой подготовке, он написал инструкции на французском языке, и его секретарь Пьер Дюпонсо, юноша семнадцати лет, перевел их на английский. Джон Лоренс и Александр Гамильтон, состоявшие при штабе Вашингтона, отредактировали этот перевод, в необходимых случаях перефразировав его таким образом, чтобы он стал понятным для американских солдат. В заключение инструкции были занесены в книги приказов и распоряжений различных полков. Затем Вашингтон предоставил в распоряжение Штойбена сто человек, которые должны были послужить в качестве образцовой роты. Штойбен лично занялся строевой подготовкой этого подразделения. Тем самым он отказался от существовавшего в британской и американской армиях обычая, согласно которому все обучение проводилось сержантами. Барон начал с того, что приказал одному из взводов роты выйти на плац, после чего стал водить его строем взад и вперед на глазах у остальной роты и большого количества солдат и офицеров из других подразделений. И он почти сразу столкнулся с серьезной проблемой. К этому времени он заучил наизусть многие слова и фразы на английском языке и отдавал свои команды по-английски, но скверная память и сильный акцент вкупе с раздражительностью сбивали марширующих с толку. Строевая подготовка, подобно другим элементарным составляющим военной подготовки, имеет свои специфические сложности. Когда барон в очередной раз начал сыпать ругательствами на французском и немецком языках (его знание английской брани исчерпывалось примитивным God damn), капитан Бенджамин Уокер предложил ему свои услуги в переводе его команд на английский язык. Штойбен с готовностью принял предложение капитана. Начиная с этого момента муштра проходила достаточно гладко, хотя отдача команд дважды — сперва на французском, затем на английском языках — порой приводила солдат в растерянность. Подобные уроки строевой подготовки шли на пользу не только тем, кто маршировал, но и тем, кто наблюдал. Даже если в соответствии с пословицей считать подражание самой искренней формой лести, оно так или иначе является эффективным способом обучения строевому шагу и обращению с ружьем. Те, кто маршировал под строгим взглядом барона, вскоре сами начали обучать других. За строевой подготовкой последовало обучение ружейным приемам и грамотному применению штыка. В конце марта все полки армии проходили подготовку по методу барона. Судя по дошедшим до нас рассказам очевидцев, эта форма военной подготовки утвердилась отчасти благодаря удовольствию, которое офицеры и солдаты получали от наблюдения как за самой экзерцицией, так и за бароном фон Штойбеном. Они явно восхищались и одновременно забавлялись им, особенно в те моменты, когда он давал волю языку. Военные любой национальности имеют пристрастие к сквернословию, и многие являются истинными виртуозами нецензурной брани. Штойбен был одним из них, но, не прекращая при каждом удобном случае разражаться бранью и проклятиями, он вскоре осознал, что его попытка внушить американским солдатам уважение и страх обречена на неудачу. У вооруженных республиканцев был своеобразный нрав, о котором он писал своему старому европейскому товарищу: «Прежде всего, дух этой нации не имеет ничего общего с духом пруссаков, австрийцев или французов. Если вы скажете своему солдату: „Сделай это", он это делает, в то время как здесь я вынужден говорить: „Вот причина, по которой ты должен это сделать”, и только тогда он это делает»[745]. Из этого наблюдения можно сделать вывод, что американские солдаты знали, за что они сражаются. Они были убеждены в правоте своего дела. К тому же солдаты в Вэлли-Фордж были ветеранами — многие из них участвовали в битве при Брендивайне, и, вероятно, еще больше было тех, кто сражался при Джермантауне. Новобранцев можно дисциплинировать, их своенравие можно обуздать интенсивной муштрой на плацу. В случае ветеранов подобные меры неэффективны. Участие в боевых действиях уже воспитало в них потребность в жестком руководстве и беспрекословном подчинении приказам. Строевая подготовка и освоение ружейных приемов помогали им делать то, что они должны были делать на поле брани. Одной из главных составляющих тактики профессиональных армий XVIII века было грамотное выполнение движений, и строевая подготовка на плацу, по сути дела, учила пехоту более эффективному ведению боя. Ветераны в Вэлли-Фордж сознавали важность строевой подготовки и многого другого, чему их мог научить Штойбен. Они смеялись, когда он гневался — и он смеялся вместе с ними, но всегда подчинялись его приказам. В мае эти свежеприобретенные навыки были подвергнуты первому испытанию. Вашингтон узнал от своих шпионов в Филадельфии, что англичане готовятся покинуть город — возможно, с целью возвращения в Нью-Йорк. Молодые офицеры в Вэлли-Фордж жаждали активных действий после скучной, небогатой на события зимы. Маркиз де Лафайет, тосковавший по делу сильнее, чем все остальные, вызвался возглавить отряд, который должен был наблюдать за противником и при возможности нанести удар по его источникам снабжения. Вашингтон согласился и отправил Лафайета с отрядом в 2200 человек. 20 мая несколько крупных британских отрядов, выступивших из Филадельфии, едва не окружили Лафайета у Баррен-Хилл, в двенадцати милях к западу от города. Лафайет ускользнул из клещей противника, которые наверняка раздавили бы его отряд наголову, путем искусного маневрирования и стремительного марша — маневрирования и марша, на которые могли быть способны лишь солдаты, прошедшие соответствующее обучение в лагере[746]. В первый год своего пребывания в Америке Лафайет приобрел много знаний и умений, необходимых для эффективного ведения боевых действий, и продемонстрировал свои знания в этой короткой схватке под Баррен-Хилл. Двадцатиоднолетний юноша прибыл в Америку в июне 1777 года, несмотря на недовольство своей семьи и своего короля. Никто не хотел, чтобы он рисковал своей жизнью, принимая участие в американской войне. Однако Лафайет был непоколебим в своем стремлении снискать славу и внести свою лепту в победу над британской тиранией. Тот факт, что тирания была британской, имел большое значение, ибо Лафайет, как и большинство его соотечественников, горел желанием насолить старому врагу. Насколько хорошо он понимал принципы, за которые боролись американцы, неизвестно. Позднее, уже после войны, когда его ум достиг зрелости, он объяснял свое прибытие в Америку желанием послужить великим принципам революции. Каковы бы ни были его убеждения во время войны, он прежде всего был молодым аристократом — богатым, обаятельным и отважным. Эти качества впечатлили Джорджа Вашингтона, который при первой встречи с Лафайетом в июле 1777 года проникся столь сильной симпатией к юноше, что предложил ему место при своем штабе. Лафайет, произведенный решением конгресса в генерал-майоры, с восторгом принял предложение. Его восторженность вскоре переросла в нечто близкое к благоговению перед своим начальником. И Вашингтон, который обычно держал людей на почтительном расстоянии, отвечал ему искренней привязанностью и сердечным отношением.IV
Генерал Клинтон сменил Хау в мае, и в середине июня был готов к отводу войск из Филадельфии. Вместе с ним собирались покинуть город почти три тысячи лоялистов. С помощью лорда Ричарда Хау, который оставался командующим флотом вплоть до начала осени, Клинтон погрузил этих людей, а также больных и некоторое количество продовольствия на транспортные суда, стоявшие на реке Делавэр. Остальная часть его армии численностью порядка 10 000 человек двигалась по суше вместе с обозом из 1500 фургонов. За восемь месяцев, проведенных в Филадельфии, его войска разжились всевозможным добром, делавшим их жизнь более или менее комфортабельной, и нет ничего удивительного, что они захватили его с собой в Нью-Йорк. Помимо пожиток солдат и личных вещей офицеров обоз включал прачечные, пекарни и кузницы, без которых в XVIII веке не могла обходиться ни одна армия, а также почти столь же необходимый вьючный скот, личные экипажи, медикаменты и перевязочные материалы и непременных «маркитанток». Клинтон привел всю эту массу в движение 18 июня в три часа пополудни. Для переправы людей и транспорта через Делавэр в округ Глостер, штат Нью-Джерси, потребовалось семь часов[747]. До Нью-Йорка можно было добраться несколькими путями. Самый удобный из них — и первый, который пришел в голову Клинтону, — пролегал через Хаддонфилд, Маунт-Холли, Кроссуикс, Аллентаун, Кранберри и Нью-Брансуик, где следовало переправиться на другой берег Раритана, чтобы оттуда добраться до Статен-Айленда. Клинтон построил свою армию в Нью-Джерси и в прямом смысле слова пополз по направлению к Нью-Йорку. Его обоз из 1500 фургонов растянулся на двенадцать миль, приведение его в движение потребовало нескольких часов, и солдатам пришлось изрядно потрудиться. За следующие шесть дней армии удалось добраться до Аллентауна, находящегося примерно в 35 милях от Филадельфии. Клинтон мог бы потребовать ускорить темп, но не хотел чрезмерно утомлять своих людей. Вашингтон узнал о выводе английских войск из Филадельфии через несколько часов после того, как неприятель покинул город. Он уже давно размышлял над тем, какие шаги следует предпринять в случае ухода англичан из Филадельфии. За день до этого события Вашингтон созвал своих генералов на совет. У каждого генерала была своя точка зрения, но преобладающее мнение склонялось в пользу того, чтобы дать англичанам уйти, ограничившись «беспокоящими действиями». Чарльз Ли протестовал даже против мелких атак, и некоторые генералы приняли его сторону. Вашингтон не хотел подвергать своих людей лишнему риску, но в то же время склонялся к тому, чтобы нанести противнику как можно больший урон, хотя и он, похоже, не стремился к крупномасштабному сражению. Потребность в активном действии, как всегда, одержала в нем верх, и сразу по получении информации об отводе английских войск он отправил на перехват англичан несколько полков. К этому времени численность его армии выросла до 13 500 человек. Около 1300 солдат под началом бригадного генерала Уильяма Максвелла были отправлены к Маунт-Холли, также на другой берег реки перешел генерал Филимон Дикинсон с 800 ополченцами из Нью-Джерси. На следующий день почти все войска Вашингтона оставили Вэлли-Фордж. 23 июня они перешли Делавэр, воспользовавшись переправой Кориэллз-Ферри, и днем позже расположились лагерем в Хоупвелле, в 25 км к западу от Кранберри. За шесть дней армия численностью в 10–11 тысяч человек проделала путь в 57 миль[748]. Поход поднял дух солдат, но не изменил настроений военачальников Вашингтона. Ли продолжал настаивать на том, чтобы не трогать противника: построим им золотой мост, лишь бы скорее убрались. Большинство других соглашались с ним — вероятно, из уважения к его профессиональному мнению. Энтони Уэйн и Натаниэль Грин, молодые и горячие, настаивали на атакующих действиях, но не считали нужным доводить дело до генерального сражения. Штойбен дал, пожалуй, самый мудрый совет: нанести удар по Клинтону, когда он будет находиться в движении и ему будет трудно сосредоточить силы для отражения атаки. Лафайет присоединился к мнению Штойбена, считая, что движущийся британский обоз особенно уязвим для нападения[749]. Если бы Клинтон присутствовал на совете офицеров Вашингтона, он бы признал, что его растянувшийся на мили обоз открыт для нападения. Отряды Максвелла и Дикинсона пока еще не нападали на его фургоны, но они затруднили их продвижение, разрушая мосты и гати через болота. Клинтон знал об этих трудных участках пути, и вскоре ему сообщили о выступлении Вашингтона из Вэлли-Фордж. Больше всего его беспокоила та опасность, с которой он мог столкнуться в Нью-Брансуике, где он планировал переправиться через реку Раритан и где в случае нападения американцев он бы оказался в невыгодном положении. Он опасался, что на Раритане его будут подстерегать объединенные силы Гейтса, — который, как он думал, идет из Нью-Йорка, — и Вашингтона. Такая перспектива не устраивала Клинтона, и, чтобы избежать опасной переправы через Раритан, он решил свернуть у Аллентауна на северо-восток и направиться через Монмут-Корт-Хаус и Мидлтаун к Санди-Хук. Туда вела всего одна дорога, тогда как на предыдущем участке пути, между Глостером и Аллентауном, в его распоряжении были параллельные дороги, позволявшие ему вести большую часть пехоты между силами Вашингтона и обозом и тем самым обеспечивать обозу прикрытие. Теперь ему пришлось объединить свои силы в одну колонну — впереди около 4000 солдат под командованием Книпхаузена, за ними длинная вереница фургонов, и в хвосте сливки армии — 6000 гренадеров и легких пехотинцев. Около трети солдат, замыкающих колонну, Клинтон передал в подчинение Корнуоллису в качестве арьергарда[750]. Англичане двинулись в путь утром 25 июня и достигли Монмут-Корт-Хауса, расположенного в 19 милях от Аллентауна, вечером следующего дня. Этот переход под палящим солнцем истощил их силы. Солдаты тащили на себе тюки весом по меньшей мере в 60 фунтов — немалый груз, особенно если учесть, что они шли по песчаным дорогам в суконных мундирах и имели при себе громоздкие ружья. Гессенские наемники, чья одежда была еще теплее, чем у англичан, страдали больше других, и несколько из них скончалось по дороге от солнечного удара. Приняв во внимание усталость своих солдат и жару, Клинтон был вынужден сделать однодневный привал[751]. Вашингтон двинул свои войска в тот же день, что и Клинтон, — 25 июня. Он оставил повозки и палатки в Хоупвелле и прибыл в Кингстон — небольшой поселок, расположенный в трех с половиной милях к северу от Принстона и в 25 милях от Монмут-Корт-Хауса. В тот же день он отправил Энтони Уэйна с тысячей солдат из Нью-Гэмпшира — бригадой Пура — на соединение с войсками, следовавшими по пятам за Клинтоном. Штаб этих передовых частей в тот момент располагался в Инглиштауне, примерно в пяти милях к западу от вражеского лагеря в Монмуте, но небольшой американский авангард был рассредоточен, и его подразделения действовали несогласованно. Для исправления ситуации Вашингтон поспешил в том же направлении и, выступив вечером 25 июня, миновал Кран-берри и сделал привал в пяти милях от Инглиштауна утром следующего дня. 27 июня у американцев, как и у Клинтона, был день отдыха. В то время как солдаты ели, снимали с себя сапоги и ложились спать, Вашингтон проводил военный совет. Среди военачальников, присутствовавших в штабе Вашингтона, был Чарльз Ли, которого двумя днями ранее убедили взять на себя командование передовыми силами. Никогда еще Ли не казался своим сослуживцам таким странным и эксцентричным, как в те июньские дни. В апреле Вашингтон договорился с Хау об обмене, чтобы вызволить Ли из английского плена, и в мае Ли вернулся в американскую армию в Вэлли-Фордж, где ему была оказана восторженная встреча. Высказывалось предположение, что, находясь в плену, Ли предал своих американских товарищей, предложив англичанам план действий, нацеленный на победу английской стороны. Со времени своего возвращения в лагерь Ли фактически бездействовал, и когда у него спрашивали совета, неизменно формулировал его в таких словах, которые почти не оставляли сомнений, что он не верит в способность американской армии противостоять англичанам. Когда 25 июня Вашингтон обратился к нему с просьбой принять на себя командование авангардом, который следовал буквально по пятам за Клинтоном, он поначалу отказался, предложив как наиболее подходящего кандидата на этот пост Лафайета. Почти сразу после того, как Лафайет возглавил авангард, ныне включавший почти половину армии, Ли передумал и вызвался взять командование в свои руки. Вашингтон согласился, и Лафайет великодушно уступил. Александр Гамильтон, с презрением наблюдавший за всей этой игрой, назвал поведение Ли «детским». Было ли его суждение справедливым или нет, резкие протесты Ли против нанесения удара по армии Клинтона в принципе должны были бы послужить достаточным основанием, чтобы отказать ему в занятии столь ответственного поста[752]. Тем не менее Вашингтон доверил ему командование, и 27 июня отдал приказ атаковать англичан с тыла, как только те придут в движение. Точная формулировка приказа неизвестна, но какими бы словами не воспользовался Вашингтон, его намерение видеть войска в деле не вызывает никаких сомнений. То, что он оставил за Ли право не вступать в сражение, если оно будет связано со слишком большим риском, не затемняет этого намерения. Однако Вашингтон не дал подробных инструкций, равно как и не произвел рекогносцировку. Также и Ли по прибытии в передовые части не составил никакого плана и не дал своим подчиненным никаких инструкций, помимо общего указания действовать согласно обстоятельствам[753]. В пять часов утра 28 июня Клинтон отдал приказ Книпхаузену начать движение по дороге в Мидлтаун, расположенный примерно в десяти милях на северо-восток. Дикинсон, чьи ополченцы находились в непосредственной близи от английских головных частей, немедленно сообщил об этом Ли и Вашингтону. Подразделения Ли начали покидать окрестности Инглиштауна и двигаться по дороге в Монмут-Корт-Хаус, и примерно часом позже вслед за обозом двинулся арьергард Клинтона. Последними снялись с места части Корнуоллиса, замыкавшие колонну, и, едва выйдя на дорогу, они попали в поле зрения кавалерии Ли. Бой начался не сразу, так как каждой стороне потребовалось время, чтобы уяснить себе точное расположение противника и подтянуть силы[754]. Состоявшееся сражение носило своеобразный характер, что отчасти объясняется особенностями местности, которую англичане успели изучить лишь в общих чертах, а американцы не знали вовсе. Большая часть территории представляла собой песчаную равнину, поросшую соснами и пересеченную многочисленными ручьями, протекающими в болотистых низинах. Три больших оврага — Западный, Средний и Восточный — тянулись параллельно друг другу к северу от Монмут-Корт-Хауса. Расстояние между Западным и Средним оврагами составляло около мили, и оба пересекали дорогу. Через Западный овраг был перекинут мост, по дну Среднего была проложена гать. Восточный овраг, находившийся на расстоянии чуть больше мили от Среднего, также пролегал поперек дороги[755]. Основное сражение развернулось вблизи этого последнего оврага, ровно милей к северу от здания суда. Подробности завязки боя неизвестны, но около полудня почти 5000 американцев, выстроившихся наспех, вступили в схватку с 2000 британцев, в основном пехотинцев, под командованием Корнуоллиса[756]. До этого места отчеты о сражении носят всего лишь неопределенный характер, после него они становятся запутанными и запутывающими. С обеих сторон заработала артиллерия, и американские полки, по-видимому, сменили свои позиции по приказу своих командиров и Ли. Каковы были намерения Ли, было известно только ему одному, но факт состоит в том, что он отвел часть своих сил назад. Этот маневр поставил под угрозу подразделения Максвелла, полковника Чарльза Скотта и Уэйна на левом фланге. Уход войск с правого фланга оставил их незащищенными, и им тоже пришлось отступать. В считанные минуты их примеру последовали все остальные американские силы. Некоторые полки, по-видимому, сохранили свой порядок и отступали упорядоченным строем. Другие перемешались между собой, создавая впечатление (в значительной мере соответствовавшее истине), что отступление превратилось в беспорядочное бегство.
Почти все американские военачальники — Уэйн, Скотт, Максвелл — спустя несколько дней доложили, что они не получали от Ли никаких приказов. Он не говорил ни им, ни кому-либо еще, что именно следует делать. Столь же предосудительной в их глазах была его неспособность (или нежелание) указать линию или позицию, с которой можно было бы атаковать неприятеля. Его обвинители были несправедливы к нему: Ли скрывал свою цель не намеренно — он сам не знал ее. Как только началось отступление, он послал Дюпортая, французского инженера, разведать один из холмов в тылу, где, как он надеялся, можно было создать линию обороны. Дюпортай осмотрел холм — он возвышался прямо над Средним оврагом — и объявил его подходящим. Когда Ли со своими мокрыми от пота солдатами прибыл к этому холму, то пришел к выводу, что это место никуда не годится. Неподалеку возвышалось еще несколько холмов, где, как подозревал Ли, могли находиться англичане. Энтони Уэйн с большей частью авангарда отступал в полном замешательстве. Уэйн не получал приказа ни атаковать, ни отступать. Но он и Скотт отвели свои силы, так как после многократных обращений к Ли с просьбой прислать им подкрепления для удара по противнику они внезапно обнаружили, что американский правый фланг, располагавшийся к югу и востоку от поселка, исчез, словно его и не было. Как Уэйн, так и Скотт считали, что американский авангард имеет численное превосходство над противостоящими ему англичанами — и они хотели атаковать. Скотт, стоявший в километре от здания суда по другую сторону Восточного оврага, после исчезновения правого фланга убедился в своей полной незащищенности. Английская кавалерия, похоже, не заметила, насколько уязвим был Скотт, так как большая часть его солдат укрывалась в лесу. Тем не менее полки Скотта едва не попали в окружение. Поскольку до начала отступления Ли не отдавал почти никаких приказов и не составил никакого плана, его намерения остаются неизвестными. После сражения, представ перед трибуналом за отказ атаковать врага и отступление, он оправдывал свои действия стремлением отсечь английский арьергард от основных сил путем атаки с флангов и тыла[757]. Согласно Ли, отступление началось лишь после ухода сил Скотта, приведшего к тому, что американский левый фланг фактически повис в воздухе, в то время как на правом фланге англичане пошли в развернутое наступление, грозившее его флангу окружением. Примерно в этот момент он получил «некоторые сведения» о том, что главные силы Клинтона движутся в его направлении по Мидлтаун-роуд. Когда он оказался открыт для удара слева, единственный выход для него состоял в том, чтобы отвести свои силы, и этот маневр был проведен «слаженно и четко». Почти никто, кроме Ли, не заметил в отступлении его солдат ни слаженности, ни четкости. Равно как ни один из полковых или бригадных командиров не считал, что его отступление было необходимым. Не было никакого крупного сражения; они вступали в небольшие небезуспешные стычки; потери были незначительными, причем часть солдат умерла от жары, в первой половине дня достигавшей 38 °C. Спрашивается: кто виноват, что они превратились в беспорядочно отступающую массу? Вашингтон тоже пришел в смущение, когда встретил отступавших солдат Ли рядом с Западным оврагом. Он и его адъютанты тщетно пытались добиться объяснения от офицеров, которых они встречали по пути, и вскоре столкнулись с самим Ли. Последовавшая беседа была короткой: Вашингтон гневно потребовал объяснить ему суть происходящего, и Ли, начав с восклицаний «Сэр! Сэр!», разразился серией жалоб на ошибочные разведданные, неподчинение приказам и тому подобное и под конец напомнил, как он сомневался, нужно ли атаковать Клинтона[758]. Этот содержательный разговор мог бы продолжаться и дольше, если бы не появился всадник с известием о приближении англичан, которых осталось ждать от силы пятнадцать минут. Тогда Вашингтон сделал то, что ему всегда хорошо удавалось, — восстановил порядок в окружавшем его хаосе. С помощью других офицеров он выстроил солдат на восточной стороне Западного оврага в линию, которая была призвана если не остановить, то замедлить врага. Уэйн оказывал активную помощь, да и Ли тоже не стоял в стороне. Но истинным вдохновителем солдат и офицеров был Вашингтон с его хладнокровием и решительностью. Создав этот рубеж обороны, он вернулся к главным силам, которые маршировали по дороге из Инглиштауна, возглавляемые Грином и Стерлингом. Эти двое быстро вникли в суть ситуации и выстроились в боевом порядке на гребне позади Западного оврага: Стерлинг слева, Грин справа[759]. Когда появились англичане, американцы были наготове. Сражение длилось несколько часов. Тактическое чутье Клинтона и Корнуоллиса на этот раз изменило им или, во всяком случае, отступило на задний план перед желанием сражаться. Их противник занимал сильную оборонительную позицию, расположившись на возвышенности, окруженной болотом, при этом американский левый фланг находился в лесу, а правый — на холме Комбс-Хилл, где были установлены полевые орудия генерала Нокса. Штурмовать такую позицию было рискованно, окружить — невозможно. И все же Клинтон предпринял попытку штурма, но не одной сокрушительной массовой атакой, а в виде разрозненных спорадических приступов с попеременным использованием пехоты и кавалерии. Он увяз в этой глубоко ошибочной тактике после того, как первые английские подразделения бросились в атаку без предварительной координации своих действий. Постепенно подтянулись главные силы англичан, и никогда еще они не сражались так яростно, как в тот день. В один из моментов сражения Корнуоллис, чьими главными боевыми качествами были упорство и находчивость, повел свою кавалерию на Грина и за считанные минуты потерял значительную часть своих людей[760]. В шесть часов вечера англичане, истощившие свои силы, отошли за Средний овраг. Вашингтон попытался организовать атаку, но его солдаты были изнурены не меньше, чем англичане. Обе стороны угомонились и расположились на ночлег. С наступлением утра Вашингтон узнал, что Клинтон оставил поле сражения и теперь находится на пути в Мидлтаун. Американцы не пытались преследовать противника, и английские войска достигли Санди-Хук 1 июля. Пять дней спустя корабли доставили английскую армию — солдат, припасы и фургоны — в Нью-Йорк[761].
V
Согласно военной традиции, генерал Клинтон похвалил своих солдат за их поведение при Монмуте, и когда спустя несколько лет он писал воспоминания, то повторил в них эти слова признательности и выразил свое удовлетворение «счастливым исходом» своего отступления из Филадельфии. Частным образом он признавался, что то качество, которое он называл «доблестью на публике, на самом деле было непозволительным неуправляемым безрассудством», подразумевая, вероятно, неупорядоченную облаву на солдат Ли и тот факт, что английские войска вступали в сражение у Западного оврага разрозненными группами. При этом Клинтон не дал сколько-нибудь внятной характеристики своего собственного поведения, хотя самодовольство сквозит в каждом слове его рассказа. И у него были причины быть довольным собой, начиная с того момента, как он стал главнокомандующим английскими войсками в Америке. За счет своего недюжинного дипломатического дара он смог сохранить свою армию как единое целое вопреки приказам отправить большую ее часть в Вест-Индию и во Флориду; он не отвернулся от лоялистов, когда те выразили свое желание покинуть Филадельфию вместе с ним; и он благополучно доставил большую часть своей армии с большим количеством продовольствия и боеприпасов в Нью-Йорк[762]. Его успеху в немалой мере способствовало везение в виде противных ветров и океанических течений, которые замедлили прибытие д’Эстена с шестнадцатью военными судами. Д’Эстен появился у берегов Виргинии через день или два после того, как армия Клинтона сошла на берег в Нью-Йорке. 11 июля он приплыл к Санди-Хук. Если бы несколькими днями ранее он настиг английские суда воткрытом море, Клинтон не смог бы охарактеризовать исход своего отступления как «счастливый»[763]. Джордж Вашингтон тоже выразил свое удовлетворение итогами сражения при Монмут-Корт-Хаусе. Его истинные чувства не лежали на поверхности, как у Клинтона, но он был явно недоволен Ли, и после того как тот написал ему два дерзких письма с требованием о созыве военного трибунала, Вашингтон решил оказать ему эту услугу. Ли обвинялся в том, что он не атаковал неприятеля, несмотря на соответствующий приказ; что он предпринял «ненужное, беспорядочное и постыдное отступление»; что он выказал неуважение к главнокомандующему. Ли был признан виновным и в августе лишен права занимать любые командные должности в течение года. Осуждение Ли огорчило всех, включая его критиков[764]. Прибытие французского флота ободрило американцев. Вашингтон всегда осознавал важность согласованных боевых действий на суше и на море. Едва ли он верил, что июльское прибытие флота д’Эстена к побережью Виргинии служит гарантией того, что англичане впредь не рискнут заплывать в американские воды, но он знал, что у него появилась сила для нанесения тяжелых ударов. Прежде всего американцы и французы занялись составлением планов, на что у каждой стороны ушло несколько недель. Как только Вашингтону стало известно местоположение французских судов, он отправил к д’Эстену своего молодого адъютанта Джона Лоренса. Шлюпка доставила Лоренса на французский флагманский корабль и начались переговоры. Д’Эстен был учтив и настроен на сотрудничество, но у него были и другие заботы. Запасы воды, привезенной из Тулона, подходили к концу, их требовалось пополнить. Кроме того, на его судах было необычайно много больных[765]. Хотя д’Эстен не был моряком, он понимал, насколько трудно ему будет мериться силами с таким опытным флотоводцем, как адмирал Ричард Хау. Но для начала надо было добраться до того. У д’Эстена было больше кораблей, чем у Хау, но флот Хау стоял в нью-йоркской гавани, защищенный от нападения отмелями, сильно затруднявшими проход. Французские линейные корабли конца XVIII века обычно имели осадку на два или три фута больше, чем английские, к тому же английские военные корабли пользовались услугами американских лоцманов. Чтобы войти в гавань, д’Эстен должен был снять со своих кораблей самые тяжелые орудия и установить их на Санди-Хук, в те времена представлявший собой остров около четырех миль длиной, откуда можно было бы держать гавань под обстрелом. Корабельные орудия, установленные на Санди-Хук, могли бы уничтожить суда Хау, занимающие линию в виду приближающегося противника. Клинтон разглядел опасность раньше, чем д’Эстен разглядел возможность, и через неделю после появления французов отрядил на остров около 1800 солдат. Д’Эстен лавировал за пределами гавани до тех пор, пока не прибыли американские лоцманы, которые поведали ему о рисках, связанных с любой попыткой пересечь отмель[766]. В конце июля, видя, что Нью-Йорк с каждым днем становится все неприступнее, Вашингтон и д’Эстен решили нанести удар по англичанам в том месте, где тех ничто не защищало — в Ньюпорте (Род-Айленд). В 1775 году Ньюпорт был городом с одиннадцатитысячным населением, но к концу первого года войны число его жителей сократилось наполовину. В нем была удобная гавань — настолько удобная, что в декабре 1776 года англичане прибрали ее к рукам. Ныне ее охраняли сэр Роберт Пигот с тремя тысячами солдат, в то время как к северу от Ньюпорта, в Провиденсе, располагался небольшой гарнизон Континентальной армии под началом генерала Джона Салливана. Отплытие д’Эстена в Ньюпорт привело Клинтона и лорда Хау в состояние полной растерянности. Хотя они пытались следить за его курсом, но не могли получить представления о его цели до конца месяца. Размышляя над этим, они гадали, где в данный момент может находиться адмирал Байрон, который, как они знали, еще весной покинул Англию с большим флотом. Они также задавались вопросом, чем кормить солдат и матросов; транспортные суда с продовольствием и другим полезным грузом запаздывали, и практически все припасы были на исходе. Еще одной проблемой был полученный Клинтоном приказ отрядить 8000 солдат в Вест-Индию и Флориду. Следовало ли ему посылать их в тот момент, когда французский флот патрулировал американские воды?[767] Д’Эстен избавил англичан от одной из тем для размышлений, войдя 30 июля в залив Наррагансетт. Четыре дня спустя, 3 августа, он высадил отряд французских солдат на Конаникет, остров к западу от Ньюпорта. В те дни, когда он отплыл из Нью-Йорка, Вашингтон начал посылать подкрепления Салливану, а сам Салливан призвал ополченцев Новой Англии. К концу первой августовской недели армия Салливана насчитывала около 10 000 человек. Большинство из них были ополченцами, однако ядром армии стали подразделения генерала Джеймса Варнума из Род-Айленда и Джона Гловера из Марблхеда (Массачусетс). Салливан, безусловно, был рад получить эти подкрепления, но вряд ли он испытал ту же радость при виде Лафайета и Грина, присланных Вашингтоном с благородной миссией оказывать ему помощь в командовании войсками[768]. Сотрудничество между Салливаном и д’Эстеном проходило не гладко. Салливан, сын ирландской прислуги, выделялся среди соратников не только прирожденной ненавистью ирландца к англичанам, но и темпераментом и несдержанным языком. Эта несдержанность становилась особенно заметной, когда он отдавал приказы д’Эстену — утонченному французскому дворянину с более высоким воинским званием, чем у Салливана. Возможно, что д’Эстен не обращал бы внимания на бестактность Салливана, если бы она не сочеталась с теми чертами характера, которые д’Эстен, по-видимому, принимал за отсутствие способностей. И опасливое чувство, которое испытывали французы при общении со своими американскими соратниками, не стало слабее после того, как они обнаружили, что их собственная карта залива Наррагансетг намного точнее, чем у Салливана[769]. Несмотря на все трения, обе стороны совместными усилиями разработали план атаки на Ньюпорт. Салливан должен был спуститься из Провиденса в Тивертон, оттуда переправиться на остров Род-Айленд и атаковать Пигота с северо-восточной стороны острова. Д’Эстен должен был одновременно нанести удар с запада. Англичане сразу разглядели угрозу, исходившую от д’Эстена, и попытались провести пять фрегатов по проходу между Конаникетом и Род-Айлендом в гавань Ньюпорта. Все пять сели на мель, и командам ничего не оставалось, как сжечь корабли. Чтобы преградить французам доступ в гавань, Пигот распорядился затопить там несколько транспортных судов. Эти затопления, похоже, только облегчили путь д’Эстену. Атака была намечена на 10 августа, однако уже утром 9-го Салливан переправил свои войска на Род-Айленд. Он узнал, что Пигот отступил к Ньюпорту, и решил не упускать возможности произвести высадку в отсутствие неприятеля. Д’Эстен расценил этот поступок как очередное доказательство непредсказуемости американцев. В тот день д’Эстена ждал еще один сюрприз: Хау, усиленный судами из долгожданного флота Байрона, прибыл к месту действия с двадцатью кораблями, на которых было почти на сто пушек больше, чем на французских кораблях. Д’Эстен мог бы продолжить участвовать в атаке. У него было 4000 солдат, которых он мог бы высадить на берег до входа Хау в залив. И на ограниченном пространстве залива англичанам было бы трудно атаковать французов. Д’Эстен, однако, оставил свои войска на борту и, воспользовавшись благоприятным ветром, направился в сторону противника. В течение следующих двух дней оба флота совершали осторожное маневрирование, причем у д’Эстена по-прежнему оставалось такое преимущество, как попутный ветер, который Хау тщетно пытался поймать. Спустя два дня разыгрался шторм, который нарушил строй обоих флотов, снес мачты с нескольких кораблей и вообще причинил больше ущерба, чем причиняют пушки в большинстве морских боев. Салливан, нимало не обескураженный неудачей д’Эстена, 14 августа предпринял атаку, но не добился успеха. Тогда он начал осаду и стал поджидать возвращения д’Эстена. В течение следующих нескольких дней французские корабли блуждали по окрестным водам, но энтузиазм д’Эстена остыл, и вдобавок он узнал, что Хау ждет свежих подкреплений. Несмотря на призывы Салливана остаться и сражаться в течение двух дней, 21 августа д’Эстен отправился в Бостон для ремонта кораблей. Осада Ньюпорта фактически закончилась. Перед Салливаном встала проблема безопасного ухода с места сражения — его ополченцы испарились, узнав об отплытии французов, и теперь уже Пигот готовился атаковать американцев. Салливан не подозревал, что Клинтон погрузил 4000 солдат регулярной армии на транспортные суда и теперь направляется в его сторону с намерением блокировать его на Род-Айленде. К счастью, неблагоприятные ветра замедляли ход войскового транспорта, и в последний день августа Салливан благополучно покинул остров. Клинтон прибыл на следующий день. События остальной части года не давали повода для радости ни одной из сторон. Адмирал Хау в конце сентября отправился обратно в Англию, оставив флот на попечение Байрона. Он был блестящим флотоводцем, последним главнокомандующим военно-морским флотом в Америке, к которому применимы эти характеристики, и последним, кто ладил с Клинтоном. В начале ноября Клинтон, наконец, отправил 5000 солдат под началом генерал-майора Джеймса Гранта на захват острова Сент-Люсия в Вест-Индии, и в декабре остров перешел в руки англичан. Примерно в то же время комиссия Карлайла, чья миссия безнадежно провалилась, покинула Нью-Йорк в самом скверном расположении духа. В ноябре Америку покинул и д’Эстен, чей дух оставался безмятежным, а миссия — всего лишь незавершенной. Он отплыл, не удосужившись сообщить Вашингтону, куда направляется.VI
Пессимистам в правительстве и в парламенте значение этих событий 1778 года казалось предельно ясным: дальнейшее наращивание сил в колониях невозможно и, стало быть, война в Америке проиграна. Правительственные силы были слишком распылены, и с этим нужно было что-то делать. Правительство не продемонстрировало выдающегося стратегического мышления, столкнувшись с восстанием в колонии. Можно ли было бы ждать от него чего-то большего, если бы война разразилась не только в Америке, но и в Европе? Одно из его ранних решений — беречь отечественный флот в преддверии французского вторжения — отчасти оправдало себя летом 1778 года. 10 июля французская эскадра под командованием адмирала Орвилье отправилась из Бреста в месячное плавание, не предполагавшее вторжение в Англию. 23 июля Орвилье обнаружил английский флот под командованием адмирала Огастеса Кеппеля в 70 милях к западу от острова Уэссан. Французы маневрировали, не приближаясь к неприятелю вплотную. Орвилье не был связан однозначным приказом атаковать и не вступал в сражение до тех пор, пока его не вынудила к этому перемена ветра, позволившая Кеппелю подойти к нему с тыла. Орвилье развернулся и два флота проплыли один мимо другого, ведя ожесточенную перестрелку. У Кеппеля с его тридцатью судами против двадцати семи судов Орвилье было огневое превосходство, и Орвилье, естественно, хотел избежать длительного столкновения, в ходе которого его корабли были бы разнесены на куски ядрами противника. Компенсируя недостаток силы хитростью, он начал стрелять по английским парусам и такелажу картечью, и эта тактика принесла свои плоды. Наброска картечи — смесь картечи с кусками железа неправильной формы — расщепляла мачты и рвала такелаж и паруса, снижая маневренность неприятеля. Но английские ядра, пробивавшие корпуса и палубы кораблей, были более эффективными, и французы понесли почти в два раза больше потерь, чем англичане. Орвилье решил, что одного дня сражения достаточно, и благоразумно отступил. Для англичан это означало, что в 1778 году вторжения через Ла-Манш не произойдет[770].18. Война на юге
I
Старая иллюзия, порожденная самообманом, этим частым спутником разочарования, вновь дала о себе знать в британской стратегии. До сражения при Лексингтоне британские министры убеждали себя, что их проблемы в Америке инспирированы кучкой заговорщиков, что большинство колонистов любят парламент и короля. Но и война не вытеснила это убеждение из умов многих людей, включая самого короля, и это, несомненно, утешало удрученных министров, которые несли свою долю ответственности за военное поражение. Оба Хау были убеждены, что их будут приветствовать толпы лоялистов, и поход на Трентон в 1776 году разуверил их лишь частично. Сэр Уильям Хау, похоже, продолжал верить в наиболее распространенную разновидность мифа о преданности американцев английской короне — что лоялисты в южных колониях более многочисленны и более искренни в своей преданности, чем их северные единомышленники. Когда в июне 1776 года сэр Генри Клинтон высадился у Чарлстона, он надеялся, что город станет центром, куда будут стекаться верноподданные жители обеих Каролин. Каролинцы, действительно, начали стекаться — но не к Клинтону, а к Чарльзу Ли, который возглавил оборону города. Хотя Клинтон был усилен прибывшей из Великобритании экспедицией под командованием адмирала Питера Паркера, ему не удалось ни взять Чарлстон, ни созвать под свои знамена лоялистов. Уильям Хау продолжал верить в то, что лоялисты в южных колониях всего лишь ждут удобного момента, чтобы выступить и подавить повстанцев. Осенью 1776 года он предложил ближайшей зимой нанести удар по повстанцам в Южной Каролине и Джорджии. Но армия Джорджа Вашингтона отвлекла его мысли от юга, и вскоре даже Хау начал сомневаться в лояльности американцев, где бы он их не встречал. Его патрон лорд Джордж Джермен, находившийся в трех тысячах миль от места событий и потому не имевший возможности разочароваться в американцах на собственном опыте, продолжал считать, что большинство жителей Америки остаются верными Короне. И когда летом 1777 года в Англию прибыли лоялисты из обеих Каролин, Джермен охотно их выслушал. Ободренный их речами, он призвал Хау идти на юг. К этому времени Хау научился не доверять изъявлениям лояльности, откуда бы они ни исходили (те, что звучали в Пенсильвании, вообще ничего не стоили), и поскольку у него не хватало войск, он отказался от организации еще одной экспедиции[771]. Джермену казалось, что он знает, как можно выиграть войну, — для этого следовало заручиться поддержкой лоялистов на Юге и, опираясь на эту поддержку, ширить ряды лоялистов в северном направлении. С того момента как пост главнокомандующего занял Клинтон, Джермен пытался убедить его предпринять новую экспедицию. Со вступлением Франции в войну у Джермена появились другие заботы, но его приказ отправить войска из Филадельфии во Флориду в марте 1778 года не свидетельствовал о том, что он отказался от мысли провести кампанию в южных колониях. В ноябре Клинтон был готов к первому рейду, и 27 числа он отправил подполковника Арчибальда Кэмпбелла с 71-м полком, двумя полками гессенских наемников, четырьмя батальонами лоялистов и несколькими пушками — в общей сложности около 3500 солдат — в Джорджию. За два дня до Рождества Кэмпбелл встал напротив острова Тайби в устье реки Саванна, в 15 милях ниже одноименного города[772]. Командующий американскими войсками в Джорджии Роберт Хау ринулся на защиту города из Санбери, расположенного в 30 милях от Саванны. Однако силы были неравны — Хау располагал всего 700 солдатами и 150 ополченцами, и вскоре он был окружен людьми Кэмпбелла, которые с помощью раба-проводника нашли уязвимое место в довольно хилой обороне противника. Сражение 29 декабря походило на многие другие в той войне: американцы дрогнули и бежали, потеряв почти 100 солдат убитыми и 453 пленными. Потери англичан составили три убитых и десять раненых. В следующем месяце Кэмпбелл при поддержке прибывшего из Флориды Прево установил полный контроль над территорией Джорджии[773]. К северу от Джорджии располагался главный предмет вожделений англичан на Юге — Чарлстон. Пока Клинтон обдумывал возможность его захвата, 1779 год почти миновал. Этот год был небогат на крупные события в Америке, как, впрочем, и в Великобритании, и все же это был знаменательный год в истории американской революции. У Клинтона росло ощущение, что его правительство махнуло на Америку рукой, и единственный выход, единственный доступный способ закончить войну виделся ему в кампании на Юге. Перерыв в военных действиях продолжительностью почти в год, задержка с наведением порядка в южных колониях сопровождались медленным нарастанием кризиса в Великобритании, укреплявшего старую иллюзию министров, будто война в Америке может быть выиграна.II
Кризис 1779 года в Великобритании, как и большинство правительственных кризисов XVIII века, имел свои истоки в политическом маневрировании. Старый вопрос о том, куда девать Нудла, очень сильно занимал самого Нудла — и Норта. Нудлов всегда было в избытке, и на этот раз главный среди них страдал не только от неудовлетворенного тщеславия, но и от ощущения, что его предали. Этим Нудлом был Александр Уэддерберн, генеральный солиситор, тот самый, что в 1774 году выступил с оскорбительной речью в адрес Бенджамина Франклина. Уэддерберн не избавился ни от одного из своих одиозных качеств, включая жажду занять высокий пост, ради утоления которой он не брезговал политическим шантажом. Теперь он заявлял, что ему была обещана должность главного судьи, пост, который уже был занят, но на который, тем не менее, он претендовал. Уэддерберна не волновало, каким образом Норт обеспечит ему этот пост, но он должен был это сделать[774]. В марте скончался Саффолк, государственный секретарь Северного департамента, и во многих сердцах зажглась надежда занять освободившуюся должность. Необходимость внесения изменений в состав правительства стала очевидной уже в тот момент, когда были получены известия о разгроме англичан при Саратоге, а после событий 1778 года — в частности, после вывода войск из Филадельфии — перспективы правительства стали и вовсе незавидными. Норт, Джермен и Сандвич в равной степени разделяли ответственность за ведение войны в Америке, и все трое подвергались жесткой критике в прессе. Когда лорд Карлайл и Уильям Иден вернулись в Великобританию и провал их миссии получил огласку, у критиков правительства появился еще один повод для злословия. Иден объединился с Уэдцерберном с целью оказания давления на Норта, которому очень быстро дали понять, что назначение Хиллсборо на освободившийся пост Саффолка не найдет понимания у публики. Пока плелись эти козни, сэр Уильям Хау потребовал парламентского расследования своих действий в Америке. Хау заявил парламенту, «что ему и его брату вменяют в вину преждевременное прекращение военной кампании в Америке», и попросил разобраться, «на ком лежит вина — на командующих флотами и армиями Его Величества или на министерствах»[775]. Затем он представил палате общин свидетелей, включая лорда Корнуоллиса и генерал-майора Чарльза Грея, которые, как он надеялся, поддержат его утверждение, что вина лежит на правительстве, а не на нем или его брате. Однако Корнуоллис, давший слово ограничиваться фактами и держать свое мнение при себе, предложил такую версию «фактов», которая рисовала Хау далеко не таким решительным и целеустремленным командующим, каким он сам себя характеризовал. Грей оправдал ожидания Хау, описав трудности, перед которыми спасовал бы любой полководец, не носящий имя Юлий Цезарь. В Америке настолько труднопроходимая местность, объяснял Грей, что там практически невозможно проводить рекогносцировку. Когда противник настроен на оборонительную войну, рекогносцировка играет существенную роль, но в стране, обороняемой самой природой и населенной откровенно недружественными людьми, проводить наступательные действия крайне сложно. Джермен показал себя человеком, лишенным всякой снисходительности. Если в показаниях Грея звучал неявный укор правительству, то Джермен не стал даже намекать на то, что для победы в войне Хау нуждался в дальнейших подкреплениях из Великобритании. Своей речью он подготовил почву для показаний генерал-майора Джеймса Робертсона, чья версия событий представляла действия Хау в таком свете, что его неудачу можно было объяснить исключительно неспособностью и нежеланием того воевать. В трактовке Робертсона американцы выглядели всецело преданными Короне (две трети из них, как он торжественно заявил, одобряли действия правительства), и Декларация независимости, вовсе не выражавшая мнение народа, исходила от «кучки умников», которые теперь сами жалели, что ее сочинили. Что касается местности, то она изобиловала продовольствием и людьми, всегда готовыми сообщить сведения об изменнических войсках под командованием Джорджа Вашингтона. Более того, эти люди были готовы сражаться за своего короля, появись у них только подходящий случай и опытные командиры, которые помогли бы им избавиться от «тирании конгресса»[776]. Эти показания, казалось, были убийственны, но братья Хау сумели достойно парировать обвинения. Расследование затянулось до конца июня, и когда оно закончилось в парламенте, то возобновилось в прессе, не принеся удовлетворения ни одной из сторон. Между тем правительство в Великобритании и генерал Клинтон в Америке договорились о нанесении удара по повстанцам в Чарлстоне. То, чего не удалось решить в парламенте, могло быть реализовано в Америке. Новым театром военных действий стали южные колонии.III
Экспедиция с трудом выбралась из нью-йоркской гавани 6 декабря 1779 года. Погрузка судов потребовала высокого мастерства от моряков, переправлявших людей и припасы на борт кораблей. В течение многих недель стояли холода, гавань была забита льдом, и сильный порывистый ветер мешал лодкам. 33-й полк под командованием Корнуоллиса попытался выйти из бухты несколькими днями ранее, но был вынужден вернуться к причалу[777]. Клинтон, который всегда был никудышным моряком и ненавидел море даже в ясную погоду, должно быть, вздохнул с облегчением, когда флот — около девяноста транспортных и четырнадцать боевых кораблей — покинул гавань при относительно хорошей погоде. В ночь с 28 на 29 декабря его чувства, какими бы они ни были, отступили на второй план перед морской болезнью, вызванной штормом, швырявшим корабли из стороны в сторону. Хотя в течение следующих четырех недель ветер то стихал, то опять усиливался и шторма вновь рассеивали флот. Иоганн Хинрикс из Егерского корпуса написал 6 января 1780 года в своем путевом дневнике: «Всегда одна и та же погода!» «Одна и та же» означало «шторм, дождь, град, снег и волны, хлещущие о стены каюты, — вот и все события сегодняшнего дня». В особо ненастную погоду корабли убирали паруса и дрейфовали всю ночь с закрепленными штурвалами и наглухо задраенными люками. Утром, как только рассеивалась мгла, каждый из кораблей обнаруживал, что он остался один или в компании с жалкой горсткой других кораблей. В течение дня корабли пытались собраться вместе, если позволяла погода. Обычно погода не благоприятствовала — мачты ломались от порывов ветра, паруса рвались в клочья, корпуса давали течь. Капитан Хинрикс наблюдал за тем, как тонул «Георг» — транспортное судно с пехотинцами на борту, которые «кидали свои вещи в лодки и сами кубарем летели вслед за ними». Гораздо хуже была участь лошадей — многие получали в трюмах травмы и были пристрелены. Припасы всех родов и видов также получали повреждения, и значительная их часть ушла на дно вместе с кораблями[778]. В конце января транспортные суда вместе с конвоем вошли в устье реки Саванна и бросили якоря у острова Тайби, где команды отремонтировали свои корабли. Они оказались намного южнее своего пункта назначения, которым изначально являлась бухта Норт-Эдисто в 30 милях от Чарлстона.
Через десять дней Клинтон объявил походную готовность, и 11 февраля войска начали высаживаться на остров Симмонс-Айленд (ныне Сибрук) в устье реки Эдисто. Это вызвало недовольство вице-адмирала Марриота Арбетнота, командующего флотом, который пришел на смену сэру Джорджу Коллиеру и был с Клинтоном в равном звании. Клинтон симпатизировал коммодору Коллиеру, и они плодотворно сотрудничали. Сработаться с Марриотом Арбетнотом было гораздо сложнее. Ему было 68 лет, и он не отличался энергией. У него был некоторый опыт, но он никогда не командовал крупным соединением и не принимал участия в масштабных военных операциях. Он был непредсказуем: порой целеустремлен, порой нерешителен, в равной степени подвержен приливам уверенности и робости, и эти приливы было невозможно предугадать, не говоря уже о том, чтобы объяснить. Его тяготила ответственность, легшая на него в связи с занятием командной должности — что неудивительно, поскольку ему не хватало стратегического чутья и искусства флотоводца. Словом, худшего соратника Клинтон не мог и вообразить[779]. Между двумя командующими возникли разногласия относительно места высадки войск, разногласия, за которыми со временем последовали другие, более серьезные. Клинтон настаивал на том, чтобы высадка была произведена в бухте Норт-Эдисто — по той простой причине, что плыть туда было на день или два меньше, чем до бухты Стоно, предложенной Арбетнотом. В последовавшем споре Клинтон воззвал к авторитету одного из шкиперов Арбетнота, капитана Элфинстоуна, который знал прибрежные воды Чарлстона лучше, чем любой другой участник экспедиции. Арбетнот уступил, хотя и с плохо скрываемой досадой. В этом споре между двумя командующими были посеяны семена будущей вражды. Высадка заняла три дня. В течение следующих десяти дней армия брела по болотам, покрывавшим острова Джонс и Джеймс. Затем Клинтон встал лагерем и, заняв плацдарм у переправы на материк, объявил о приостановке движения. На это имелись причины: нормальное функционирование армии требовало организации складов боеприпасов и продовольствия, кроме того, Клинтон нуждался в подкреплениях. Он послал за частями, базировавшимися в Джорджии, и распорядился, чтобы ему прислали войска из Нью-Йорка. Между тем сооружение складов продвигалось крайне медленно, так как квартирмейстерам не хватало лошадей, чтобы тащить тяжелые повозки по топкой земле. Ко всему прочему Клинтон должен был дождаться, пока военные корабли не доберутся до верхней гавани и не выгрузят на берег тяжелые орудия, предназначенные для осады. Шлюпки с военных кораблей Клинтон планировал использовать для перевоза солдат через реку Ашли на полуостров, где располагался Чарлстон[780]. Чарлстон, единственный крупный город в южных провинциях, насчитывал 12 000 жителей, в большинстве своем английского происхождения, но с немалой долей чернокожих рабов и французских протестантов, а также кучкой испанцев и немцев. Он располагался на полуострове, пересеченном реками Ашли на западе и Купер на востоке. Приезжие находили город живописным, и хотя летом в нем стояла жара, она была не такой сильной, как во внутренних районах провинции. Богатые рисовые плантаторы стремились иметь в городе дома, чтобы было где укрыться от зноя в самые жаркие летние месяцы. В городе было примерно восемьсот, максимум тысяча домов, расположенных вдоль широких улиц, пересекавшихся под прямым углом. Большинство строений были деревянными и имели скромные размеры — по крайней мере, по европейским стандартам. Вдоль обеих рек, однако, тянулись красивые и высокие кирпичные здания, позади многих из которых были разбиты сады[781]. После 1776 года фортификационные сооружения Чарлстона пришли в негодность. Береговые укрепления, а именно форт Моултри на острове Салливана на востоке и форт Джонсон на западе, в 1776 году преградившие путь Паркеру и Клинтону, находились в полуразрушенном состоянии. Тем не менее они были действующими, и если бы враг вознамерился проникнуть в город через внешнюю (или нижнюю) гавань, он бы встретил в них серьезную преграду. Но по-настоящему серьезная преграда имела естественное происхождение и представляла собой массивный песчаный бар. Его можно было пересечь в пяти местах, однако на всех этих участках было мелководье, препятствовавшее проходу тяжелых судов. Фрегаты и мелкие суда могли бы преодолеть бар, но лишь при условии предварительной разгрузки. Вдоль каждой из рек тянулись редуты, траншеи и мелкие укрепления. Редут на оконечности полуострова был оснащен шестнадцатью тяжелыми орудиями, каждое из укреплений вдоль реки имело от трех до девяти орудий. На момент осады в верхней гавани стояла небольшая флотилия судов под началом коммодора Уиппла, но 20 марта, когда Арбетнот преодолел песчаный бар, они были затоплены в устье реки Купер. Орудия и матросы с затопленных кораблей усилили оборону, а затопленные корабли образовали преграду при входе в реку[782]. Укрепления на севере города находились в еще худшем состоянии, чем те, что были обращены к гавани. Бенджамин Линкольн, начальник городского гарнизона, ждал вторжения с моря, а потому пренебрег завершением работ над земляными укреплениями, пересекавшими перешеек. Центр линии обороны был образован цитаделью или «горнверком» — внушительным укреплением, построенным из тапии, или таппи — материала, состоящего из раковин устриц, извести, песка и воды. Цитадель была оснащена восемнадцатью орудиями. По обе стороны от нее возвышались редуты, но они не были достроены, к тому же саперы расположили их не самым удачным образом. Один недостаток можно было бы исправить, если бы американцы использовали свое время более эффективно, — изолированность этих укреплений. Они отстояли на значительном расстоянии друг от друга, и главный редут слева не имел безопасного сообщения с другими. Ходы сообщения, вырытые между цитаделью и укреплениями справа, усиливали правую сторону линии обороны, но даже эти траншеи оставались уязвимыми с тыла, так как их защитники не удосужились соорудить тыльные траверсы. Дюпортай, французский инженер, прибывший в конце апреля, настоял на сооружении защитных насыпей, и саперам пришлось работать под огнем[783]. Жители Чарлстона не встали все как один на защиту города, равно как и жители остальной части колонии, так что каролинцы, по оценкам, составляли не более трети защитников. Когда Клинтон произвел высадку, в распоряжении Линкольна было 800 солдат Континентальной армии из Южной Каролины, 400 из Виргинии, около 380 из легиона Пулавского (названного по имени своего командира, польского дворянина Казимира Пулавского), 2000 ополченцев из обеих Каролин и некоторое количество драгун. В апреле, буквально накануне начала блокады, прибыли подкрепления — отряды Континентальной армии из Северной Каролины и Виргинии[784]. Линкольн, должно быть, благодарил небеса за эту поддержку со стороны регулярной армии. Больше ему было не за что их благодарить; он взвалил на себя задачу, которая была ему явно не по силам. Впрочем, ни один американский военачальник не смог бы успешно противостоять осаде в условиях отсутствия надежных фортификационных сооружений, нехватки войск и пассивности гражданского населения, которое хотело, чтобы его защитили, но не собиралось само рисковать жизнью. И разумеется, ни у Линкольна, ни у кого-либо из его подчиненных не было опыта обороны осажденного города. Нельзя сказать, чтобы Линкольну не хватало способностей. До революции он занимался фермерством в городе Хингем, Массачусетс, где родился в 1733 году. Подобно многим толковым людям Новой Англии, он добился почтенного положения в обществе благодаря упорному труду и честной службе на благо сограждан в качестве секретаря муниципалитета, мирового судьи и офицера ополчения в полку округа Саффолк. В последние предвоенные годы он заседал в корреспондентском комитете Хингема и в провинциальном конгрессе. С началом войны Линкольн за короткий срок дослужился от подполковника до генерал-майора ополчения, и конгресс, следуя предложению Вашингтона, в начале 1777 года зачислил его в этом же звании в Континентальную линию. Он служил там до сентября 1778 года, когда конгресс назначил его командующим южной части армии вместо Роберта Хау, и служил на совесть, хотя и не блестяще. Он хорошо зарекомендовал себя при Саратоге, где получил серьезное ранение в бедро, так что прежде чем принять командование на юге, ему пришлось пройти длительный курс лечения[785]. Линкольн не знал истинной причины того, почему враг не атакует, и, вероятно, не слишком сильно задумывался над этим, поскольку все его мысли были сосредоточены на скорейшем завершении строительства укреплений. Предполагая, что англичане намереваются войти в гавань через песчаный бар, он прежде всего занялся укреплением нижней оконечности полуострова и устьев рек. Кроме того, он укреплял внутреннюю часть полуострова — на тот случай, если бы англичане решили подступить к городу с тыла. Похоже, что Клинтон никогда не рассматривал вариант с высадкой на оконечности полуострова, предпочитая пойти в обход и нанести удар с материка. Для этого ему требовались военные корабли, и 20 марта Арбетноту удалось провести через бар полдюжины фрегатов. Этот маневр походил на игру в кошки-мышки, когда матросы королевского флота отмечали мелкие места вдоль бара бакенами, которые по мере прохождения судов через преграду уничтожались солдатами Уиппла. Пятью днями позже из Джорджии прибыл Патерсон с полуторатысячным отрядом, и в ночь на 29 марта Клинтон начал переправлять свою усиленную подкреплениями армию через реку Ашли у пристани Дрейтона, примерно в 12 милях выше Чарлстона. В этом месте ширина Ашли составляла всего 200 ярдов, и излучина чуть ниже по течению скрывала от глаз американских дозорных небольшие лодки с людьми Арбетнота на борту[786]. Американцы не воспрепятствовали высадке, и 1 апреля силы Клинтона заняли позицию в 1000 ярдов от линии обороны, тянувшейся через полуостров. Началась осада, характер которой был типичным для XVIII столетия. Английские саперы заложили «параллель» через в 800 ярдах от американских фортификаций, состоящую из окопов и редутов. Ее возведение заняло десять дней, после чего солдаты под руководством саперов начали вести сапы в направлении американских линий. Они делали это в соответствии с теорией и практикой рытья апрошей, или подступов, — тщательно распланированных рвов для постепенного приближения к укреплениям противника[787]. Таким способом захватчики могли подступить к укреплениям, не обнаруживая себя вплоть до последнего момента. Клинтон надеялся, что приступ не потребуется; он был почти уверен, что если он отсечет Чарлстон от любой помощи извне, Линкольн будет вынужден сдаться. Клинтон преследовал не только военные, но и политические цели: захватить город без разрушений и без причинения вреда его населению и таким образом завоевать расположение местных лоялистов. Разрушение города дало бы противоположный эффект, и когда во время осады капитан Элфинстоун и «все флотские» радостно предвкушали, как «город займется огнем», Клинтон заметил: «Нелепо, неразумно и негуманно сжигать город, который вы собираетесь захватить». Тем более, добавил он, что «успех штурма не гарантирован… Я полагаю, что город примет наши условия и что при его поддержке мы завоюем южные провинции и, возможно, не только их»[788]. Любая осада требует не менее серьезного отношения, чем «штурм». В данном случае она подвергала испытанию крепость духа защитников, наблюдавших за тем, как враг прокладывает себе путь в их оплот, и требовала больших усилий и находчивости от захватчиков. Местность к северу от города была по преимуществу равнинной; песчаная и болотистая почва изобиловала песчаными блохами, чьи укусы были «очень болезненными», как признался один немецкий офицер, испытавший это на себе. Ввиду отсутствия возвышенностей, которые могли бы скрывать саперов и их помощников от зорких глаз американских дозорных, большая часть земляных работ велась по ночам. Обычно в это время суток жара была не такой угнетающей, как днем, когда, по свидетельству очевидцев, она становилась «невыносимой»[789]. Местность идеально подходила для эффективного ведения артиллерийского огня — эффективного по меркам XVIII века. Первая параллель была вырыта вне пределов досягаемости большей части пушек, точность которых всегда оставляла желать лучшего. Как правило, даже тяжелые орудия были ненадежны при стрельбе на расстоянии свыше 1200 ярдов, а некоторые из них и на расстоянии, превышавшем 400 ярдов. Мортиры имели более высокую дальность стрельбы — иногда до 2 миль, но и им не хватало точности. Однако по мере приближения англичан к укреплениям росли их шансы быть сраженными не только артиллерийским огнем, но и огнем из стрелкового оружия. Приближение продолжалось в течение всего апреля. Большей частью работ руководил опытный инженер майор Монкрифф. Он начал с того, что однажды ночью дополз по-пластунски до засеки и внимательно изучил лежавшую впереди местность. Затем он организовал бригады, численность которых доходила до 500 человек, для выполнения осадных работ. В нескольких местах вдоль параллели были воздвигнуты редуты, состоявшие из массивных деревянных рам 10 футов высотой и 14 футов длиной, установленных на трех опорах. Эти рамы, или мантелеты, прибыли из Нью-Йорка. Шестнадцать пригнанных одна к другой рам образовывали «каркас» редута. К ним присыпали землю и песок так, чтобы толщина стен составляла по меньшей мере 12 ярдов. В брустверах прорубались амбразуры для пушек и гаубиц. В конце апреля, когда была возведена последняя — третья — параллель, в нескольких амбразурах уже дежурили пехотинцы с ружьями и штуцерами. Вдоль окопов за пределами редутов были расставлены мешки с песком, промежутки между которыми служили в качестве ружейных амбразур для стрельбы по амбразурам в американских редутах[790]. Возведение этих укреплений и рытье окопов потребовало бы значительных усилий даже в мирное время. Мантелеты были настолько тяжелыми, что для поднятия любого из них требовалось восемнадцать человек, и их доставка в темноте и под обстрелом до нужного места была не шуточным делом. Рытье окопов также было затрудненным. Песок был достаточно рыхлым, но сырым (порой случалось работать в воде), так что приходилось рыть дренажные канавы. Время от времени противник открывал огонь, хотя снаряды, как правило, пролетали мимо цели. Но этот недостаток точности лишь усиливал страх солдат. Никто не знал, когда начнется очередной обстрел и куда будет направлен огонь. К тому же американцы стреляли чем попало — жестянками, наполненными осколками старых снарядов, сломанными лопатами, мотыгами, топорами, утюгами, стволами пистолетов, неисправными замками и даже осколками стекла. Такие снаряды порой наносили страшные раны и увечья: в рассказах об осаде фигурируют оторванные ноги, раздробленные руки, а также люди, разнесенные взрывами на куски. Как-то ночью в мае одно-единственное цельное ядро, угодившее в группу из семи егерей, оторвало ногу одному, повредило бедро другому и, врезавшись в дерево, разлетелось на осколки, которые поранили остальных[791]. Англичане и немцы вели более упорядоченный огонь с использованием «конвенциональных» снарядов, но обороняющимся было от этого не легче. Следом за саперами продвигалась артиллерия, которая вела огонь по амбразурам цитадели и вспомогательных укреплений. Для этого увлекательного занятия королевские артиллеристы предпочитали жестяные банки по сотне пуль в каждой. Они также использовали трехфунтовые снаряды с картечью и полуфунтовые ядра, именуемые «шарами дьявола». Не пренебрегали они и такими снарядами, как тяжелые ядра и фугасные бомбы. В конце апреля, когда вторая параллель была завершена, а третья близка к завершению, каждая из сторон могла наблюдать за тем, какой урон она наносит другой стороне. Однажды снаряд угодил в американскую артиллерийскую площадку позади амбразуры: «Снаряд упал и разорвался, отбросив двух артиллеристов из амбразуры в траншею и подняв на воздух вражескую платформу»[792]. По мере ожесточения боевых действий многие солдаты обеих сторон не выдерживали и ломались. Из-за обоюдного страха ни одна из сторон не могла разобраться, какая из них одерживает верх, и перебежки в лагерь противника были обычным делом. Страхи усиливались с наступлением темноты. Это не значит, что днем стояло затишье — снаряды летели с обеих сторон, и в конце апреля, когда расстояние между противниками существенно сократилось, каждый из них держал другого под непрерывным ружейным обстрелом. Это была своего рода игра: каждая из сторон дожидалась, пока другая откроет свои амбразуры, после чего начинала палить по ним пулями и картечью, вынуждая противника снова закрыть амбразуры. По ночам было хуже, ибо с заходом солнца людьми овладевали самые дикие фантазии[793]. Для солдат Линкольна темнота означала, что вражеские саперы взялись за работу. С наступлением утра американцы проверяли, насколько продвинулся враг, и каждый раз ужасались. Остекленевшие глаза, стиснутые губы и опухшие от утомления лица выражали крайнюю степень напряжения. Страхи англичан и немцев были не менее обоснованными. Пытаясь замедлить работу саперов, американцы усилили обстрел. Когда американцы узнали от дезертира, что смена работников в окопах обычно осуществляется за час до рассвета, риск для саперов многократно возрос. В самом конце апреля, когда саперы завершили возведение третьей параллели и начали рыть ходы в направлении канала, английские и немецкие пехотинцы сильнее, чем когда-либо, убедились в шаткости своего положения. Их командующий с самого начала настаивал на том, чтобы они полагались на своиштыки. В ночное время их ружья должны были оставаться незаряженными, так как они все равно не могли видеть, куда стрелять. Для Клинтона предпочтение штыка было равнозначно дисциплине — дисциплине, гордости и моральной силе. В апреле Клинтон часто посещал траншеи — он всегда отличался личной храбростью, — и во время одного из таких посещений обнаружил «ЧУДОВИЩНУЮ ХАЛАТНОСТЬ», как выразился он в своем дневнике, относя это замечание к солдатам, не примкнувшим свои штыки[794]. Солдаты не сделали этого, вероятно, потому, что в темноте чувствовали себя увереннее, когда их ружья были заряжены. Это не удержало их от паники в ночь на 24 апреля, когда двести американцев осуществили вылазку и атаковали одну из оконечностей третьей параллели. Находившиеся там егеря отступили бегом ко второй параллели, но все же потеряли пятьдесят человек убитыми и ранеными и еще с десяток захваченными в плен. Следующей ночью огонь из стрелкового оружия и угрожающие вопли со стороны американских укреплений вновь произвели панику среди немцев и англичан, которые начали в ужасе покидать третью параллель. Люди, спасающиеся бегством, часто сбивают с толку других, и в данном случае те, кто в страхе бежал к окопам второй параллели, спровоцировали тех, кто не дрогнул и не побежал, на беспорядочную стрельбу в сторону противника. Впоследствии один офицер егерского полка записал в своем дневнике: «Им всюду мерещились мятежники. Они были уверены, что противник сделал вылазку и в течение получаса вел ружейный огонь, хотя на самом деле ни один мяиежник не перешел через ров»[795]. На фоне этой бойни происходили баталии меньшего масштаба. Одна из них нашла отражение в дневниковых записях Клинтона, где он сетовал на Корнуоллиса и Арбетнота, чье поведение находил недопустимым и временами осуждал в их присутствии. За десять дней до переправы через Ашли он узнал, что его отставка не принята. Это известие, безусловно, разочаровало его, но еще больше оно разочаровало Корнуоллиса, который рассчитывал занять место Клинтона — и поэтому никогда не поддерживал своего начальника советом. Клинтон усугубил его скверное настроение, сделав Корнуоллису выговор за то, что тот позволил одному из своих штабных заметить с «ухмылкой», что если Клинтон действительно хочет уйти в отставку, ему достаточно подать прошение еще раз. Корнуоллис начисто отрицал любые случаи насмешек над Клинтоном, между начальником и подчиненным состоялся обмен взаимными упреками, хотя, пожалуй, ни один из них не был столь серьезным, как та дневниковая запись, в которой Клинтон ставит Корнуоллису в вину «ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОСТОЙНОЕ СОЛДАТА, ИГНОРИРОВАНИЕ КОМАНДИРСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В МОЕ ОТСУТСТВИЕ»[796]. Хотя прямые последствия этого конфликта не поддаются точной оценке, одно из них было очевидным: Корнуоллис обладал изощренным тактическим мастерством, а Клинтон не доверял ему ответственных задач. К более ощутимым последствиям привела размолвка с Арбетнотом. Корни этой ссоры лежали в событиях, имевших место до начала осады. Арбетнот не был склонен к решительным действиям, и его разногласия с Клинтоном, похоже, окончательно отбили у него охоту проявлять служебное рвение. Клинтон хотел, чтобы он поднялся вверх по реке Купер и тем самым замкнул блокаду Линкольна в Чарлстоне. Арбетнот не ответил прямым отказом, но и не удосужился последовать указанию Клинтона. Он привел ряд причин — ему требовалось время на подготовку, он боялся, что брандеры легко уничтожат его корабли на ограниченном пространстве реки и т. д. — и этим только убедил Клинтона в своей некомпетентности и лживости. «Из ад[миральского] письма к Эл[финстоуну] следует, что он по-прежнему ССЫЛАЕТСЯ НА ЗАДЕРЖКИ. Ему следовало бы вспомнить все задержки, имевшие место по его вине… Я готов еще раз перечислить их здесь». И: он «ЛЖЕТ — И СОЛЖЕТ ЕЩЕ НЕ РАЗ». И примерно через две недели — 22 апреля: «Внешне мы вроде бы лучшие друзья, но я знаю, что он НАСКВОЗЬ ФАЛЬШИВ»[797]. В разгар этой ссоры силы Клинтона нанесли решительные удары и блокировали город без поддержки флота. В ночь на 14 апреля подполковник Банастр Тарлтон, командир легиона лоялистов, захватил Монкс-Корнер, стратегический пункт выше по течению Купера, связывавшего Чарлстон с северной частью провинции. А на следующей неделе Тарлтон и подполковник Джеймс Уэбстер с двумя полками овладели всеми подходами вдоль Купера в пределах шести миль от Чарлстона[798]. Отрезанный, Линкольн потерял надежду. Но граждане Чарлстона выступали категорически против капитуляции. Многие, вероятно, надеялись, что Вашингтон двинет войска на юг и спасет их. Линкольн пытался убедить их в бесполезности сопротивления и 21 апреля объявил Клинтону о своей готовности сдаться при условии, что ему и его армии будет позволено беспрепятственно покинуть город. Клинтон ответил категорическим отказом. В конце первой недели мая две армии разделяли считанные ярды. Саперы отлично справились со своей работой, проделав ходы сообщения до самых американских позиций и фактически осушив главный ров, пересекавший полуостров. Линкольн дергался и нервничал, пытаясь убедить Клинтона позволить ему сдаться с воинскими почестями и разрешить его ополченцам разойтись по домам. Клинтон не хотел ничего об этом слышать, и в ночь на 9 мая обе стороны подвергли друг друга сильнейшему обстрелу. На этот раз, ведя огонь по деревянным домам, британская артиллерия добилась полного успеха. Когда по всему городу запылали пожары, граждане Чарлстона решили, что с них довольно. Сдача состоялась 12 мая. Ополченцы были освобождены под честное слово, и всем американским офицерам было разрешено оставить при себе свои шпаги, однако когда они начали кричать: «Да здравствует конгресс!», англичане не выдержали и заставили их сдать оружие. Общее количество пленных солдат и офицеров Континентальной армии составило 2571 человек, под честное слово были отпущены 800 ополченцев. Погибших и раненых с обеих сторон было на удивление мало — 76 убитых и 180 раненых с английской стороны и 80 убитых и 138 раненых с американской стороны. Американцы понесли огромные потери в оружии и припасах: 343 артиллерийских орудия различного калибра, почти 6000 ружей, 376 бочек с порохом, свыше 30 000 патронов для стрелкового оружия плюс большие запасы рома, риса и индиго[799]. Три дня спустя чудовищный несчастный случай пополнил списки погибших и раненых. Трофейные ружья швыряли как попало в деревянный сарай, где хранился порох. Одно из ружей, по-видимому, оказалось заряженным и при падении на кучу произвело выстрел. В результате последовавшего взрыва вспыхнули шесть домов и погибли около 200 человек, среди которых были и англичане, и американцы, и немцы, как военные, так и гражданские лица. По свидетельству одного немецкого офицера, «великое множество» людей, страдая от страшных пороховых ожогов, «извивались на земле, как черви». Повсюду были разбросаны тела, некоторые настолько «изуродованные, что в них невозможно было распознать человеческие фигуры». Таким образом, долгая и тягостная осада окончилась кошмаром[800].
IV
Даже в самые тяжелые периоды осады, за исключением, пожалуй, долгих ночей страха, сохранялось некое элементарное чувство порядка. Между двумя сторонами имелась четкая граница, и солдаты могли отличить друзей от врагов. Обстрел, пусть зачастую и неэффективный, вселял страх как в военных, так и в гражданских, но люди свыклись с этим страхом, он стал неотъемлемой частью их обыденного существования, тем более что его источник был известен — враг, залегавший ниже уровня земли, как с той, так и с другой стороны. Теперь, когда Линкольн сдал город, страх распространился по обеим Каролинам, и хотя он был не таким интенсивным, как у участников осады, в нем было некое особое жуткое свойство, поскольку угроза возникала внезапно и нередко исходила от соседей и бывших друзей. Недоброе отношение со стороны местных жителей явилось для англичан полной неожиданностью. Клинтон не рассчитывал, что наведение порядка в Южной Каролине будет легким делом, но он не считал эту задачу невыполнимой, и у него был план действий. 1 июня он и Арбетнот выпустили прокламацию с обещанием полного помилования пленным и другим активным мятежникам, которые примут присягу на верность Короне. Эта прокламация вызвала недовольство среди лоялистов, которые надеялись, что мятежники будут наказаны. А тут Клинтон обещает повстанцам, присягнувшим на верность, что они будут иметь те же права, которые всегда имели под британским правлением, плюс освобождение от налогов, введенных парламентом. Многие мятежники уже согласились на освобождение под честное слово, подвигнутые к этому гарантией, что их имущество останется в их собственности, а также слухами, что конгресс собирается уступить обе Каролины и Джорджию Великобритании. Клинтон не верил честному слову своих пленных, и хотя он освободил несколько сотен, он также отправил других, открыто нелояльных, на острова у побережья и в плавучие тюрьмы в гавани. Там, в этих рассадниках заразы, в течение ближайшего года умерло восемьсот человек. Через два дня после выпуска прокламации о снисхождении Клинтон, не посоветовавшись с Арбетнотом, выпустил еще одну (Томас Джонс, историк-лоялист, впоследствии сардонически заметил, что англичане надеялись подавить восстание с помощью прокламаций), согласно которой все, кто дал честное слово, должны были быть выпущены на свободу 20 июня, но при условии, что они дадут клятву поддерживать меры англичан по наведению порядка. Те, кто отказывался от активной поддержки, рассматривались как мятежники. Прямым следствием этого требования было то, что люди, которые в ином случае, возможно, не стали бы продолжать участие в войне, вернулись к активному сопротивлению. Но Клинтону не пришлось столкнуться с этим явлением. На следующей неделе, узнав, что в его отсутствие французы могут попытаться захватить Нью-Йорк, он отправился туда с четырехтысячным войском, большей частью лошадей и фургонов и значительным количеством снаряжения. Теперь он мог с чистой совестью препоручить командование Корнуоллису, который давно стремился к независимости. Насколько тяжелую ношу взвалил Клинтон на Корнуоллиса, стало ясно очень скоро. Командование в обеих Каролинах было независимым, хотя главнокомандующим армии в Америке по-прежнему оставался Клинтон. Он наказал Корнуоллису усмирить Южную Каролину, вернуть Северную Каролину и направиться в Виргинию для проведения операций с участием контингентов из Нью-Йорка. Хотя командование Корнуоллиса было независимым, он столкнулся с большими ограничениями при его осуществлении. Прокламации, которыми обязал себя Клинтон, можно было сбросить со счетов, что и было сделано, когда наиболее опасные из мятежников были брошены в тюрьму. Но прокламации породили сопротивление, которое росло в течение всего лета, росло с каждой попыткой подавить его. По сути, все действия Корнуоллиса, направленные на уничтожение врагов короля, были тщетными. Он столкнулся в Южной и Северной Каролинах с той же проблемой, с какой Хау и Клинтон столкнулись на Севере: для восстановления лояльности американцев требовалось подавить восстание, но процесс подавления только усиливал сопротивление. Этот процесс практически сразу вышел из-под его контроля, приняв форму жестоких столкновений, происходивших в течение всего лета между лоялистами и патриотами. Одно из первых состоялось 20 июня, через десять дней после того, как Корнуоллис взвалил на себя командование. Полковник лоялистов Джон Мур, служивший под началом Корнуоллиса в верховьях реки Купер, вернулся к себе на родину в Рамсауэрс-Милл, Северная Каролина, и попытался завербовать своих соседей на службу королю. Откликнулись лишь около 1300 человек, чтобы в итоге потерпеть поражение в хаотичном сражении с равными по численности силами мятежников. Те из людей Мура, кто выжил, дезертировали, оставив его с тридцатью не успевшими убежать солдатами, которых он повел к Корнуоллису в Камден. Три недели спустя, 12 июля, повстанцы под началом капитана Джеймса Макклюра разбили отряд лоялистов, которым командовал капитан Кристиан Хак, офицер, служивший в легионе Тарлтона. Сражение состоялось на плантации Уильямсона (ныне Брэттонвилл), в пятидесяти милях к северу от Камдена в округе Катоба. А 1 августа Томас Самтер, получивший от Тарлтона прозвище Бойцовый Петух, бросил 600 солдат против намного меньших по численности сил лоялистов во главе с подполковником Джорджем Тернбуллом у Роки-Маунт. Лоялисты сумели постоять за себя. В следующем месяце лоялисты понесли тяжелые потери у Хэнгинг-Рок. Но даже когда им сопутствовал успех в бою, как, например, в ходе набеговой операции военно-морского флота под Джорджтауном, они одновременно наживали себе врагов. Под Джорджтауном, в округе Вильямсберг, американские ополченцы при появлении вражеского флота начали в массовом порядке собираться в отряды. Упомянутые схватки имели достаточно серьезные масштабы, чтобы войти в историю. Многие другие стычки, рейды и человекоубийства давно и прочно забыты. Тем не менее они играли важную роль, так как побуждали людей к действию. Рейд на лоялистов ознаменовал возвращение Томаса Самтера в действующую армию. Ранее он вышел в отставку и удалился на свою плантацию близ Стейтсборо, но в мае солдаты из легиона Тарлтона сожгли его дом. Эндрю Пикенс, руководитель партизанского движения, обладавший не менее выдающимися способностями, нарушил свое обязательство неучастия в военных действиях после того, как тори разорили его плантацию. Мы никогда не узнаем, сколько еще людей взялись за оружие по сходным причинам. Но в течение всего 1780-го и значительной части 1781-го года Южную Каролину сотрясали жестокие конфликты. Многие из них не выходили за рамки мелких рейдов, когда сосед воевал с соседом. Другие, запомнившиеся лучше, происходили с участием большого количества ополченцев с обеих сторон и часто включали в себя нападения на вражеские посты, обозы и курьеров. Такие виды военных действий, как мелкие кровавые стычки, перестрелки и поджоги, будили в людях худшие инстинкты (и лишь в единичных случаях — лучшие качества). Хуже всех были так называемые «чужаки» — перебежчики, наемники и мародеры, воевавшие со всеми без разбора и ради возможности поживиться объявлявшие себя борцами за идею. Люди такого сорта ранее уже всплывали в Нью-Йорке и Пенсильвании, где, как ныне в обеих Каролинах, они сеяли смерть и разорение в обоих враждующих станах. Заняв место Клинтона, Корнуоллис поставил себе целью навести порядок во вверенных ему беспокойных провинциях. В конце июня он установил посты в Найнти-Сикс, Камдене и Черо, а вскоре после этого отправил отряды в Роки-Маунт, Хэнгинг-Рок и Джорджтаун, где они устроились лагерем на побережье близ устья реки Пи-Ди. Довольно крупные силы были также размещены в Саванне и Огасте. В целом Корнуоллис более или менее уверенно контролировал примерно 15 000 квадратных миль. И он намеревался двинуться в Северную Каролину, как только закончится сбор урожая[801]. Пока Корнуоллис растягивал свои войска по Южной Каролине, американские регулярные части под командованием баварца Иоганна де Кальба вступили в Северную Каролину. Сын крестьянина де Кальб выглядел так, будто он всю жизнь трудился на полях, выполняя самую тяжелую работу, ибо он имел исполинское телосложение, рост под метр девяносто, был широколиц и силен, как бык — причем не только телом, но и умом. Он знал свое ремесло, поскольку участвовал в двух европейских войнах, служил под началом маршала де Сакса и был начитан в военной литературе. Кое-что он знал и об Америке; Шуазель присылал его сюда следить за ситуацией в колониях во время волнений 1776 года, он много путешествовал — и внимательно наблюдал. Он снова приехал в Америку после начала войны и хотя получил патент генерал-майора и находился в Вэлли-Фордж и при Монмуте, но никогда не командовал самостоятельно. Теперь, наконец, конгресс вверил ему командование частями Континентальной армии из Делавэра и Мэриленда и в апреле отправил на выручку защитникам Чарлстона. Но де Кальб так и не дошел до Чарлстона; в июле он дал солдатам возможность отдохнуть, встав биваком у Коксиз-Милл на берегу Дип-Ривер в Северной Каролине[802]. Там 25 июля его и нашел Горацио Гейтс, который по распоряжению конгресса принял командование над его 1400 пехотинцами. Конгресс поставил Гейтса во главе армии на юге, узнав о падении Чарлстона. Вашингтон рекомендовал на это место Натаниэля Грина, но конгресс, по-прежнему ослепленный победой при Саратоге, хотел, чтобы не кто иной, как ее герой, вернул юг американцам. С учетом его послужного списка, который в глазах конгресса был убедительнее любых рекомендаций, выбор был блестящим. Большинство людей, очарованные его простотой, испытывали к нему безотчетную симпатию. В дополнение к своей кажущейся бесхитростности, после 1777 года Гейтс был окружен аурой успеха — ведь он одержал победу над английской армией. Гордость и восторг, наполнившие сердца американцев при известии о его триумфе, ясно выразились в словечке, которое они изобрели для описания его успеха — он «отбергойнил» англичан. Солдаты, нюхавшие порох, уважают победы, но они также ждут от признанных командиров эффективного командования. Гейтс с самого начала дал повод для сомнений. На следующий день после своего прибытия он упорядочил «Великую армию» — так он именовал изможденных континенталов, устроил ей смотр и 27 июля повел ее в Камден. Отдельные голоса протеста затихли перед лицом уверений Гейтса, что всего в паре дней пути за ним следуют «ром и провизия». И все же Ото Уильямс, главный адъютант Гейтса, уговорил его пойти окольным путем на запад, а не по прямой, поскольку в последнем случае им пришлось бы идти по песчаной и болотистой местности с крайне малочисленными фермами, которые к тому же были давно разграблены ополченцами обеих сторон[803]. Седьмого августа к Гейтсу присоединилось ополчение Северной Каролины под командованием Ричарда Кэсуэлла численностью примерно в 2100 человек, а на следующей неделе подошло ополчение Виргинии под командованием Эдварда Стивенса. Ополченцы, должно быть, глядели на «Великую армию» с жалостью. Солдаты Гейтса дышали усталостью, что было неудивительно, поскольку они на протяжении многих недель жили на одних кукурузных початках, постной говядине и персиках. Стодвадцатимильный переход от Хиллсборо до Руджели-Миллз, местечка, расположенного чуть севернее Камдена, занял две недели. Они добрались до Руджели-Миллз, испытывая нехватку практически во всем — у них было всего восемнадцать пушек и лишь небольшой конный отряд, хотя обе Каролины, большей частью представляющие собой безлесную равнину, словно созданы для кавалерии. Кроме того, у Гейтса было очень мало информации о противнике — нехватка, которая в итоге стоила многих жизней[804]. Двумя днями ранее противник увеличил численность войск в Камдене. Корнуоллис, находившийся в Чарлстоне, узнал о приближении Гейтса 9 августа. На следующий день он выступил в Камден. Там он встретил Роудона, ныне усиленного четырьмя ротами легких войск из Найнти-Сикс и небольшими отрядами из Хэнгинг-Рок и Роки-Маунт. Роудон к этому моменту уже имел стычки с головными походными заставами армии Гейтса и с партизанами под началом Томаса Самтера. Гейтс, однако, не знал ни о прибытии Корнуоллиса, ни о том, что в Камдене сосредоточились неприятельские силы численностью в 2043 боеспособных солдата. В городе также находились 800 больных английских солдат, и это обстоятельство окончательно убедило Корнуоллиса, что он должен сражаться, а не отступать перед превосходящими, как он полагал, силами противника[805].
Гейтс 15 августа отдал приказ о выступлении ближайшей ночью, рассчитывая блокировать намного уступавшую ему по численности британскую армию. Отдавая свой приказ, Гейтс был уверен, что в его распоряжении находятся 7000 человек, но недоверчивый Уильямс не поленился произвести перекличку и обнаружил, что армия насчитывает всего 3052 человека. Гейтс никак такого не ожидал, и все же не стал отменять приказ, заметив только, что и трех тысяч будет достаточно. Согласно Уильямсу, оставившему подробное описание последовавшего сражения, перед выступлением в поход войска поужинали «наспех приготовленной пищей, состоявшей из непропеченного хлеба и сырого мяса с десертом из патоки, перемешанной с маисовой кашей или намазанной на оладьи». Эта пища, пишет Уильямс, «подействовала на многих как слабительное», люди всю ночь «отлучались из строя» — с тем результатом, что наутро они были более слабыми и усталыми, чем обычно. Каким бы ни было их состояние, вечером того же дня им пришлось выступить вновь. По удивительному совпадению Корнуоллис привел свою армию в движение в это же время. Около двух тридцати ночи походные заставы обеих сторон столкнулись на дороге у Сондерс-Крик, на полпути между Камденом и Руджели-Миллз. Последовало беспорядочное сражение, в результате которого в руках у каждой из сторон оказалось по горстке пленных. От одного из своих пленных Гейтс узнал, что ему предстоит иметь дело с Корнуоллисом и армией в 3000 человек. Такого Гейтс тоже никак не ожидал и, вопреки своим привычкам, обратился к своим офицерам за советом. Они, по-видимому, решили, что давать какие-либо советы уже поздно, и никто, кроме Эдварда Стивенса, не вымолвил ни слова. Стивенс высказал то, что думали все: у них нет другого выбора, кроме как сражаться[806]. При первом свете дня, обещавшего быть очень жарким, обе армии получили возможность хорошо разглядеть друг друга и ту местность, где им предстояло мериться силами. Их разделяли около 250 ярдов открытого поля, при этом американцы занимали позиции на более возвышенном месте. С обеих сторон поле было ограничено болотами, расстояние между которыми составляло около мили. За ночь Корнуоллис выстроил свои войска в длинную линию, поставив на крайнем правом фланге легкую пехоту, слева от нее 23-й полк и между ним и дорогой — 33-й полк. Вместе они составляли правое крыло, которым командовал подполковник Джеймс Уэбстер. По левую сторону дороги, начиная от края болота, выстроились так называемые «провинциалы Северной Каролины» и их земляки-ополченцы (лоялисты), а также пехота легиона и полк ирландских волонтеров, также состоявшие из лоялистов. Этим левым крылом командовал Роудон. Корнуоллис разделил 71-й полк на две части и поставил их по обе стороны дороги в качестве резерва. Кавалерия Тарлтона выстроилась в две шеренги непосредственно позади 71-го полка[807]. Все свои лоялистские силы, включая ополчение, к которому было меньше всего доверия, Корнуоллис поставил слева от своих солдат. Когда Гейтс размещал свои войска, он не знал об этом расположении неприятельских сил и по случайности поставил своих ополченцев на американском левом фланге прямо напротив английских регулярных частей. Виргинские ополченцы Стивенса заняли позицию у болота, справа от них расположились ополченцы из Северной Каролины под началом Кэсуэлла. По другую сторону дороги стояла 2-я мэрилендская бригада, а следом за ней, у края болота, разместились континенталы из Делавэра. Правое крыло возглавлял де Кальб, левое — Смоллвуд. Американская артиллерия расположилась вблизи дороги, 1-я мэрилендская бригада встала в резерве. Сражение началось с атаки виргинцев на правый фланг регулярных войск. Непосредственно перед тем как был отдан приказ об атаке, один артиллерийский офицер сообщил Ото Уильямсу, что англичане, похоже, «выставляются», то есть разворачиваются — в данном случае из колонны в линию. Уильямс совершенно справедливо рассудил, что войска, находящиеся в движении, более уязвимы для атаки, и посоветовал Гейтсу двинуть виргинцев на противника. Гейтс отдал приказ — свой первый и последний в этот день, и Стивенс отправил своих виргинцев в атаку. К этому моменту обе стороны открыли огонь, и утренняя дымка, висевшая над полем, начала сгущаться. Люди Стивенса приблизились к неприятельским рядам на расстояние ружейного выстрела, сопровождаемые призывами своего командира использовать штыки. Английская пехота действительно находилась в движении, но она не «выставлялась», а наступала на противника, «паля из ружей и крича „ура!”». Корнуоллис заметил движение на американском левом фланге — вероятно, это были первые шаги виргинцев — и, полагая, что американцы просто перестраиваются, послал Уэбстера в атаку. Началось сражение, в ходе которого каждая из сторон стремилась воспользоваться просчетами другой стороны. Часть виргинцев, по-видимому, отвечала огнем на огонь, но у большинства сдали нервы и они помчались в тыл. Ополченцы из Северной Каролины при виде бегущих виргинцев ударились в панику, побросали свои заряженные ружья и тоже побежали с поля боя. Это привело к тому, что левый фланг крыла де Кальба оказался открытым. В эти страшные минуты Ото Уильямс и стоявшая в резерве 1-я мэрилендская бригада попытались выдвинуться вперед, но их ряды были расстроены бежавшими сквозь них ополченцами. Тем временем полковник Уэбстер развернул легкую пехоту и 23-й полк влево, чтобы нанести удар по оголенному американскому флангу. Это был блестящий маневр, который, возможно, уничтожил все шансы крыла де Кальба удержать свои позиции[808]. До того как Уэбстер нанес удар, войска де Кальба не только успешно удерживали свои позиции, отбив две атаки провинциалов Роудона, но и активно контратаковали. В течение по меньшей мере тридцати минут над левым флангом Роудона и Корнуоллиса висела угроза разгрома. К этому времени ни одна из сторон не могла отчетливо разглядеть другую, так как над большей частью поля стелились клубы дыма. Возможно, именно плохая видимость помогла де Кальбу удержать своих солдат от бегства, поскольку они не видели, что их левый фланг обнажен. Лишь в тот момент, когда их начали теснить люди Уэбстера, они осознали, насколько они уязвимы. Ото Уильямс прилагал все усилия, чтобы заполнить солдатами из мэрилендской бригады брешь, оставшуюся после отступления ополченцев. Уэбстеру, однако, удалось изолировать его силы, и около полудня американский правый фланг был смят. Де Кальб, несмотря на свои раны, сражался, пока силы не изменили ему. Через три дня его не стало. Американцы покидали поле боя совсем не так, как предписывал военный устав — они бежали беспорядочной толпой, и ни один полк не сохранил свою целостность как боевая единица. Гейтс не попытался ни призвать это стадо к дисциплине, ни заново построить его, предпочтя перегнать его верхом на быстром коне. В тот вечер он добрался до Шарлотта, проделав путь в 60 миль, и 19-го числа достиг Хиллсборо, отмерив еще 120 миль. Как он позже объяснял, он отправился в Хиллсборо, чтобы обеспечить безопасность своей базы и реорганизовать армию. Большинство солдат не последовали за ним, предпочтя разойтись по домам.
19. «Война отступающих»
I
Битва при Камдене взбудоражила оба стана. Поражение подорвало патриотический настрой, но не остановило рейды и нападения из засады иррегулярных формирований. Тот факт, что Камден почти не уменьшил размах внутреннего сопротивления, явился для Корнуоллиса и его офицеров полной неожиданностью. Спустя две недели после сражения Корнуоллис пообещал Клинтону в самом скором времени двинуться в Северную Каролину. По его словам, он намеревался организовать в Хиллсборо зимний склад с запасами рома, соли, муки и мяса от местных фермеров. Однако он не собирался отправлять свои войска на север до тех пор, пока Клинтон не предпримет отвлекающий удар в Чесапике — маневр, призванный помешать врагу отправить на юг еще одну армию наподобие той, которой командовал Гейтс. Появление Гейтса застало Корнуоллиса врасплох, и в своих письмах Клинтону он неявно упрекал своего начальника в том, что не был предупрежден. У англичан была еще одна причина для тревоги, не оставлявшей их даже после победы при Камдене — лоялисты Северной Каролины не известили их о приближении Гейтса. Кроме того, сразу после Камдена они устранились от участия в военных действиях, ограничиваясь заверениями в дружбе, да и то весьма сдержанными. В любом случае, как Корнуоллис заметил Клинтону, они, похоже, были «не расположены действовать, пока не увидят нашу армию в движении»[809]. В результате Корнуоллис не стал дожидаться ни отвлекающего удара, ни активизации лоялистов, начав готовиться к походу почти сразу после того, как рассеялся дым над Камденом. В первых числах сентября он собрал все необходимые припасы, а также фургоны и лошадей для их перевозки и 8 сентября двинул свою армию через Шарлотт на Хиллсборо[810]. Две недели спустя, утром 21 сентября, полковник Уильям Дэви, командир партизан, временами действовавший совместно с Томасом Самтером, продемонстрировал Корнуоллису свежее свидетельство того, какие настроения царят среди населения Северной и Южной Каролины. Головная походная группа легиона лоялистов под началом майора Джорджа Хэнгера отдыхала в тот день на плантации Уохаба возле берега Катобы. Хэнгер напоминал своего начальника в одном отношении — он самонадеянно полагал, что один всадник легиона стоит дюжины мятежников. И подобно многим английским офицерам, принимавшим участие в настоящих, то есть европейских, войнах, он был уверен, что под его умным командованием практически любое подразделение способно одолеть американского противника. Хэнгер не подозревал, что рядом с ним расположился Дэви с 150 солдатами, зато Дэви благодаря сведениям от местных жителей знал точно, где находится Хэнгер. Дэви атаковал легион и изрядно потрепал его — по меньшей мере, пятнадцать легионеров были убиты и сорок ранены — ценой жизни всего одного партизана, который был застрелен своими по ошибке в ходе преследования отступающего легиона. Передовые части армии Корнуоллиса достигли города Шарлотт 26 сентября. Во время двухнедельного перехода многие из его людей заболели, включая Тарлтона, который даже не мог покидать фургон. Майор Джордж Хэнгер заменил его и добился почти столь же плачевных результатов, как на плантации Уохаба. На этот раз Хэнгер, не удосужившись произвести рекогносцировку Шарлотта и его окрестностей, поставил свою конницу в засаду. Лишь благодаря действиям легкой пехоты легион был избавлен от постыдной гибели под пулями сравнительно небольшого отряда партизан под началом Дэви. Весь поход выдался очень трудным, и потери от неприятельских рейдов и болезней вынудили Корнуоллиса задержаться в Шарлотте, чтобы зализать свои раны. Сидя в городе, он имел слабое представление о том, что происходит в округе, и еще худшее — о том, что происходило дальше к западу, куда был направлен Патрик Ферпосон (частью для того, чтобы отвлечь внимание противника от основной армии, но главным образом с целью усмирения пограничья). Патрик Фергюсон, шотландец, участвовавший в Семилетней войне, обладал незаурядными способностями. Он сконструировал казнозарядную винтовку, имевшую значительное превосходство над огнестрельным оружием, которым английская армия довольствовалась на протяжении ста лет. Армия, которая глубоко и, скорее всего, заслуженно уважала ружья, отнеслась к новой винтовке без энтузиазма, ввиду чего было произведено всего две сотни штук. Фергюсон любил армейскую жизнь больше, чем изобретательскую деятельность, и мечтал занять командную должность. Его служба не приносила ему быстрого продвижения, и на момент своего прибытия в Америку для участия в южной кампании он был всего лишь майором. Клинтон назначил его на должность главного инспектора лоялистского ополчения — должность, которую он исполнял с отличием, пока не навлек катастрофу на себя и на британскую армию. Отличное исполнение должности и катастрофа имели общие источники — недюжинные умственные способности, непоколебимую приверженность традициям английского офицерства и, вероятно, ощущение того, что он до сих пор не продемонстрировал в полной мере свои достоинства своему начальству. Приверженность нормам и правилам, в соответствии с которыми должен был себя вести офицер, была выказана им еще до прибытия в Америку. К примеру, во время Семилетней войны был случай, когда Фергюсон при отступлении перед вражеской атакой вернулся за оброненным пистолетом. Этот род безрассудной отваги, соединяющий пустяковое (поднятие пистолета с земли) с серьезным (подвергнуть свою жизнь опасности) в совершенстве соответствовал кодексу чести офицера и джентльмена. Своим отношением к лоялистам в Южной Каролине Фергюсон доказал, что обладает не только мужеством, но и гибкостью ума. Лоялисты, которым всегда давали понять, что они являются лишь придатком к основным силам и, более того, не заслуживают доверия, обрели в Фергюсоне заботливого командира, внимательно относившегося к их жалобам и опасениям. Благотворное влияние Фергюсона на лоялистов сказалось летом 1780 года, когда под его командованием они успешно теснили врага на территории между городом Найнти-Сикс и границей Северной Каролины. Фергюсон и его ополченцы-лоялисты побеждали не в каждой схватке, но ближе к концу лета они фактически очистили северо-запад Южной Каролины от партизан[811]. Их стычка с партизанским отрядом под командованием полковника Джозефа Макдауэлла у Кейн-Крик закончилась тем, что повстанцы были вынуждены отступить за горный хребет, где уже нашли себе прибежище, помимо прочих, Уильям Кэмпбелл, Айзек Шелби и Джон Севьер. Ни один из этих достойных людей нимало не походил на суровых жителей пограничной полосы. Это были люди из обеспеченных семей, и некоторые из них даже имели образование. Кэмпбелл, уроженец Виргинии, был женат на сестре Патрика Генри. Айзек Шелби, родившийся в Мэриленде, уже сделал себе имя в Кентукки и впоследствии стал первым губернатором этого штата. Виргинец Джон Севьер был хорошо известен в Теннесси, где впоследствии также стал первым губернатором. Джозеф Макдауэлл родился в Виргинии, но Северная Каролина стала для него вторым домом — он перебрался в нее за много лет до описываемых событий и позже представлял штат в конгрессе[812]. Эти люди ненавидели Фергюсона и не могли смириться со своим изгнанием из Южной Каролины. Они получили шанс вернуться туда благодаря ошибке Фергюсона, сделанной им в минуту легкомысленной бравады, в одну из тех минут, которыми так дорожат профессиональные офицеры, чтобы впоследствии горько о них сожалеть. 12 сентября войска Фергюсона прибыли в Гилбертон, где, прояви их командир больше терпения, они могли бы оставаться до тех пор, пока не пополнили бы свои ряды сторонниками из числа местных жителей или не получили бы подкрепления. Вместо этого Фергюсон отправил попавшего к нему в плен родственника Шелби к повстанцам с предупреждением, что «если они не прекратят сопротивление британскому оружию, он перейдет со своей армией горы, повесит их вожаков и опустошит их землю огнем и мечом». Эта угроза была воспринята как вызов и, безусловно, ускорила набор добровольцев в ряды сопротивления. Через две недели в местечке Сикамор-Шоулз на реке Ватога собрались около 800 жителей запада, которые 26 сентября выступили в сторону Гилбертона, принимая по пути вооруженных добровольцев. Фергюсон узнал об этой угрозе лишь спустя четыре дня и сразу начал отступать к Шарлотту, где в это время находился Корнуоллис. И он, безусловно, добрался бы туда, если бы его сведения о противнике были более надежными и если бы его здравый смысл возобладал над его гордостью[813]. Гордость звала в бой, здравый смысл взывал к благоразумию. 6 октября, после шестнадцатимильного перехода, начавшегося в четыре часа утра, Фергюсон повел своих людей на Кинге-Маунтин, гору в составе хребта, пересекающего границу между Южной и Северной Каролинами. Эта гора, которая в то время была покрыта высокими соснами, тянется примерно на 600 ярдов с юго-запада на северо-восток и доминирует над окружающей местностью. Здесь около трех часов пополудни воинственно настроенный Фергюсон был окружен «людьми из-за гор». Последовавшая схватка как никакое другое сражение Войны за независимость соответствовало мифу о противостоянии между тактикой Старого Света и индивидуализмом Нового Света. Лоялистское ополчение полагалось на залповый огонь и массированные штыковые атаки; американцы, перебегая от сосны к сосне, обстреливали их из длинноствольных ружей. Уильям Кэмпбелл командовал американскими «индивидуалистами», чьи исходные позиции располагались на юго-западных склонах. Его солдаты, а также солдаты Шелби на северо-западной стороне приняли на себя большую часть огня Фергюсона на начальном этапе сражения и были подверглись нескольким штыковым атакам, в ходе каждой из которых отступали, чтобы затем снова занять свои позиции на хребте. Через час с небольшим все закончилось. Фергюсон погиб, сраженный вражеской пулей, когда верхом на великолепном белом коне вел своих людей в безнадежную атаку. Все пространство горы вокруг его тела было завалено телами убитых и раненых. В следующие несколько дней число погибших пополнилось жертвами жестокости партизан. Слабым намеком на предстоящие ужасы были последние минуты на Кинге-Маунтин, когда победители с выкриками «Вот вам пощада Тарлтона!» (среди британских командиров Тарлтон слыл самым безжалостным) расстреливали и закалывали раненых и тех, кто пытался сдаться. Несколькими днями позже были повешены девять человек, включая трех офицеров лоялистского ополчения, которые, как заметил лейтенант Энтони Адлер, «умерли, как римляне». Их смерть, по крайней мере, была быстрой. Некоторые из раненых, подвергаемые жестокому обращению, голодающие и не получающие ухода, умирали в медленной агонии. Нескольким сотням удалось бежать в течение следующего месяца — еще одно свидетельство негодного руководства и слабой дисциплины в нерегулярных войсках. Партизаны, дравшиеся столь отчаянно под давлением обстоятельств, превращались в безвольных кукол, как только давление исчезало. Корнуоллис услышал о резне через несколько дней. Он не знал, что примерно в то же время в городке Найнти-Сикс над подполковником Джоном Кругером висела угроза быть раздавленным превосходящими силами осмелевших партизан. В начале октября майор Джеймс, находившийся в Черозе, писал, что его окрестности вышли из-под контроля. На побережье Фрэнсис Мэрион угрожал Джорджтауну. А лоялисты в окрестностях Шарлотта, боеспособность которых оставляла желать лучшего, сидели тихо, как мыши[814]. Корнуоллис смирился с неизбежным — с захватом вражеских магазинов в Хиллсборо придется повременить, а ему самому необходимо срочно покинуть Северную Каролину. Он начал отход 14 октября и 29 числа достиг Уинсборо, городка на полпути между Камденом и Найнти-Сикс. Переход оказался чрезвычайно тяжелым — к его концу практически все фургоны были заполнены больными, среди которых был и сам Корнуоллис. Словно для того, чтобы усилить горечь отступления, в следующем месяце в Уинсборо пришли дурные вести. Посредством нескольких рейдов по коммуникациям англичан Мэрион отрезал армию от Чарлстона, а это означало, что отныне вглубь страны не мог проникнуть ни одйн обоз. Томас Самтер также поспособствовал сгущению атмосферы неопределенности. Так, 9 ноября он разбил отряд регулярной армии численностью 200 человек под началом майора Джона Уэмисса у брода Фишдам на Брод-Ривер, а 22 ноября обратил в бегство Тарлтона в бое на плантации Блэкстока среди холмов над рекой Тайгер. Хотя Самтер был тяжело ранен, партизанская война не утихла, и солдаты Корнуоллиса продолжали беспокойно озираться по ночам[815].II
Узнав о разгроме под Камденом, конгресс пришел к заключению, что остаткам южной армии требуется новый командующий. К этому моменту конгресс отчаялся найти кого-нибудь, кто мог бы возглавить южный фронт, — возможно, его смущала неудача его прежних назначений, когда командующими поочередно были Роберт Хау, чья попытка захватить восточную Флориду весной 1778 года провалилась, Бенджамин Линкольн, сдавший англичанам Чарлстон, и, наконец, Горацио Гейтс, покинувший Камден впереди своих войск. Обескураженный тем, что случилось с его избранниками, конгресс обратился к Вашингтону, и тот назначил Натаниэля Грина, к тому времени уже третий год занимавшего должность генерал-квартирмейстера[816]. В 1780 году 38-летний Натаниэль Грин был более зрелым и рассудительным человеком, чем тот дилетант, каким он был в ноябре 1776 года, когда самонадеянно настоял на обороне форта Вашингтон на реке Гудзон. Приобретенный с тех пор опыт многому научил его — главным образом, благодаря тому, что он анализировал этот опыт, чтобы уяснить себе его смысл и извлечь из него пользу. Он извлек пользу из Трентона, Брендивайна, Джермантауна, Монмута и Ньюпорта — из всех сражений, в которых он хорошо себя проявил. В марте 1778 года, во многом против своей воли и с горестным восклицанием: «Ни один генерал-квартирмейстер не вошел в историю!», он принял назначение на эту должность. Его согласие свидетельствовало столь же ясно, как все остальное, что ему предстояло совершить в годы революции, о готовности делать то, что нужно, и о преданности славному делу[817]. Не гнушаться работой, не приносящей славы, ради славного дела — этот принцип Грин, вероятно, усвоил от Вашингтона. Вообще, он перенял у него многое, хотя и без слепого заимствования: он изучал методы и тактику своего начальника и был достаточно умен, чтобы не пытаться имитировать то, что не поддается имитации. В любом случае, в течение следующих десяти месяцев он воевал исходя из убеждения, что армия должна быть сохранена в целости, ибо армия — чего никто не осознавал лучше, чем Вашингтон — это и есть революция. Раздосадованный слабой поддержкой со стороны представителей государственной власти, которым явно не хватало понимания политического значения армии, Грин вскоре заметил одному из них, губернатору Виргинии ТомасуДжефферсону: «Армия — это единственное, на что могут положиться Штаты, если они хотят сохранить свое политическое существование»[818]. Это замечание содержалось в письме, где Грин без обиняков обрисовал те последствия, с которыми столкнулись бы южные штаты, если бы они отказались снабжать армию. Возможно, Грин обидел Джефферсона, человека чрезвычайно чувствительного, и наверняка разозлил его, когда отослал обратно в Виргинию отряд солдат, прибывший в его лагерь без обмундирования и оружия. Но, несмотря на свою прямоту, Грин обладал более острым умом, чем можно было бы судить по его прямолинейности и склонности к быстрым решениям. Интуитивно он чувствовал те трудности, с какими была сопряжена военная кампания на юге, — интуитивно, потому что не подвергал систематическому анализу проходившие там боевые действия до того, как стать командующим. И когда он определялся с тем, как вести войну, он еще не обладал достаточным количеством информации из первых рук[819]. Главным предметом внимания Грина служили тактика ведения боевых действий и организация снабжения. Как и положено любому командиру на войне, значительную часть времени и сил он тратил на обдумывание обыденных вещей — например, куда и как перебросить войска и где раздобыть оружие, провизию и боеприпасы. Но он также много размышлял и о самих солдатах — о том, из какого теста они сделаны, и, что более важно, о том, что побуждает их к борьбе. Подобно большинству старших офицеров, Грин не стеснялся произносить высокие слова о революции, веря, что его солдаты не меньше него осознают величие общего дела. Возможно даже, что он понимал настроения солдат лучше, чем Вашингтон. В начале войны Вашингтон признавался в своей обеспокоенности явным безразличием солдат к идеалам и добродетели — слабостью, которую он связывал с их низким происхождением и которой, по его мнению, объяснялись их низкие морально-боевые качества. Подобно всем военачальникам XVIII столетия, он надеялся, что надлежащая военная подготовка побудит их сражаться более охотно. Хотя Грин, в отличие от Вашингтона, родился в семье, не принадлежавшей к привилегированным слоям общества, он тоже дистанцировался от простонародья. Тем не менее он всегда стремился найти общий язык с людьми низшего общественного положения и видел одну из своих задач в том, чтобы воспитывать их. Солдата делает солдатом либо гордость, либо принцип, писал он вскоре после своего прибытия р Северную Каролину, и хорошие военачальники должны делать все, что в их силах, чтобы привить своим солдатам и то и другое. Но все подобные попытки обречены на провал, когда солдаты раздеты и голодны. Добродетель как чувство ответственности перед интересами общества чахнет, когда общество не проявляет заботы о людях, которые ему служат. Если Грин интуитивно чувствовал это, ему должно было хватить одного взгляда на нищенские условия жизни солдат в Шарлотте, чтобы понять, что они не будут испытывать чувство гордости до тех пор, пока вынуждены грабить сограждан ради собственного выживания. Что касается боя, то они поникнут при первых залпах, если не успеют дезертировать прежде. Но когда они будут сыты, одеты и хорошо организованны, их можно будет приучить сражаться с воодушевлением. В XVIII веке генералы представали перед своими солдатами собственной персоной гораздо чаще, чем в XX. Во время боя они не только строили шеренги и отдавали команды, но и показывали личный пример. Вместе с тем им часто приходилось поддерживать связь с другими офицерами в письменной форме, а это говорит о том, что бегло владеть пером в иных случаях было важнее, чем сидеть на коне. В годы революции американские генералы общались с огромным количеством гражданских чинов посредством переписки, прося о присылке рекрутов, денег и всевозможных видов припасов. Грин писал ясным и энергичным слогом, хотя порой позволял себе бестактности. Его письма в основном посвящены походам и материальному обеспечению, но даже когда он писал о сугубо технической стороне дела, то держал в уме солдат и их нужды. И эти письма, сухие и лаконичные, вызывали ощущение, что они написаны энергичным и сильным человеком. Этот человек отличался умением излагать свои мысли в афористическом ключе — и своей искренней озабоченностью такими вещами, как расположение частей на поле боя и снабжение. Такие изречения Грина, как «Деньги — это движущая сила войны», «Хорошая информация — это душа армии» и «Шпионы — это глаза армии», наглядно свидетельствуют о том, насколько большое значение он придавал человеческому фактору[820]. Автор этих крылатых фраз отправился на юг почти сразу по ознакомлении с полученным 15 октября приказом от Вашингтона. По пути из Уэст-Пойнта, где незадолго до того он принял командование войсками, Грин сделал остановку в Филадельфии. Ему были известны неформальные правила командования американской армией, и, хотя они не слишком ему нравились, у него не было другого выбора, кроме как следовать правилам игры. Эту «игру» было бы точнее назвать попрошайничеством — каждый командующий американской армией должен был изображать из себя нищего, если он хотел достигнуть цели. Грин начал с того, что обратился к конгрессу за деньгами — той «движущей силой», в которой столь сильно нуждалась его армия, — и припасами. Он заручился обещанием своего друга Генри Нокса помочь ему с артиллерийскими снарядами, но получил вежливый отказ от городских купцов, к которым он обратился за обмундированием. Покинув Филадельфию, он продолжал свои попытки, при любой возможности обращаясь как с устными, так и с письменными просьбами к представителям законодательной власти и губернаторам[821]. Грин не ждал и не получал однозначно положительных ответов. Принимая командование, он знал, что столкнется с большими трудностями, да и разве могло быть иначе, когда за какие-то четыре месяца распались две американские армии? Перспективы своей армии и карьеры Грин резюмировал одним словом — «мрачные»[822]. Реальность превзошла самые пессимистические прогнозы. Войска в Хиллсборо, куда Грин прибыл 27 ноября, испытывали острую нехватку в одежде, оружии и продовольствии. Слово «войска» подразумевает, что те бледные, как тени, существа, которым он произвел смотр, были организованы в подразделения, однако в действительности это деление было чисто формальным. На самом деле они представляли собой толпу в количестве примерно 1400 индивидов, многие из которых были одеты кое-как или ходили практически голыми, нося какую-нибудь тряпку в качестве набедренной повязки или одеяло, — ходили «в форменной одежде индейцев», как заметил Грин, — не имели обуви и почти ничего остального, что необходимо человеку для нормальной жизни. Неудивительно, что они едва держались на ногах, и если кому-либо из них порой удавалось стряхнуть с себя вялость, то лишь затем, чтобы ограбить одну из близлежащих ферм. Если солдатам было плохо, то офицерам еще хуже. После Камдена они перестали себя уважать и винили в этом Гейтса. Один из них, Уильям Смоллвуд из Мэриленда, не захотел оставаться в армии, поскольку в новой иерархии командования он стоял рангом ниже помощника Грина, генерала фон Штойбена. Смоллвуд, по-видимому, надеялся стать преемником Гейтса, и когда вместо него был назначен Грин, он отправился просить конгресс изменить дату выдачи его офицерского патента, в результате чего он автоматически занял бы более высокую позицию в списке старшинства. Грин считал затею Смоллвуда огромной глупостью, но не смог воспрепятствовать его отъезду, да, скорее всего, и не пытался это сделать. Смоллвуд принадлежал к разряду вечно недовольных, и его дальнейшее пребывание в армии только ускорило бы ее деморализацию, для которой и без того было множество причин[823]. В американский лагерь в городе Шарлотт Грин прибыл 2 декабря, где убедился, что Гейтс хорошо держит себя в руках, не держа при этом в руках почти ничего остального. Солдаты, жившие в еще худших условиях, чем можно было ожидать, приступили к сооружению хижин, и хотя эта деятельность, с одной стороны, свидетельствовала о некоторой остаточной инициативности, с другой стороны, она предвещала, что их нужде не будет конца. Грин не сказал ни слова недовольства по поводу этой работы и на следующий день принял командование. Конгресс поручил ему провести расследование действий Гейтса при Камдене, но ввиду отсутствия генералов, без которых такое разбирательство было невозможным, он с облегчением отложил эту задачу до лучших времен. Гейтс, который хотел восстановить свое доброе имя и был уверен, что любой суд реабилитирует его, вскоре после прибытия Грина покинул войска с чувством глубокой неудовлетворенности[824]. В течение следующего месяца Грин начал осознавать, какую ношу он на себя взвалил. Он не имел представления о политических играх, происходивших в Северной Каролине, но быстро понял, что перед ним типичный случай разделенного лидерства. Здесь существуют три «партии», как объяснял он одному из своих сослуживцев, и ни одна не испытывает особых симпатий к другим. Под «партиями» Грин подразумевал неформальные фракции, возглавляемые амбициозными лидерами. Один из них, полковник Мартин, стоявший во главе военного совета провинции, был уволен из армии за трусость. Двумя другими были губернатор и его главный конкурент. Хотя перспектива вести дела с Мартином и «всеми этими великими и могучими мужами» не слишком вдохновляла Грина, она в то же время и не угнетала его. Вместо того чтобы впадать в отчаяние, Грин только посмеялся, приняв решение обращаться со всеми с предельной вежливостью и придерживаться золотой середины между «надменностью и благосклонностью»[825]. Более опасным для дела революции, нежели этот раскол между фракциями, был водораздел, пролегавший между вигами и тори. Жестокость конфликта между этими двумя группами настолько поражала Грина, что, говоря о нем, он обычно употреблял эпитет «дикий». Впоследствии, когда он столкнулся с точно такими же группировками в Южной Каролине, он описывал их в идентичных выражениях. В Северной Каролине обе стороны нашли отдушину во взаимном истреблении и ограблении. К моменту прибытия Грина борьба между ними зашла настолько далеко, что, по его мнению, она фактически разрушила общественную мораль. Хотя он не уставал заявлять, что тори имеют численное превосходство над вигами в обеих Каролинах, в действительности виги обычно составляли большинство[826]. Для Грина виги были почти столь же плохи, как тори — во всяком случае, когда они были организованы в ополчение. Причиной тому был аппетит ополченцев ко всему, кроме боевых действий. «Подобно египетской саранче, [ополченцы] съели всю траву», — говорил он своему другу Джозефу Риду. Особенно его возмущало то, что конгресс оплачивал ополчение, а поскольку конгресс платил, Северная Каролина предпочитала наращивать численность ополчения, вместо того чтобы поддерживать Континентальную армию. В результате Грин, нуждавшийся в регулярной — и надежной — армии, иногда был вынужден довольствоваться ополчением и часто испытывал нехватку в свежих войсках[827]. Недовольство Грина не касалось партизанских командиров — Томаса Самтера, Фрэнсиса Мэриона, Эндрю Пикенса и Уильяма Дэвидсона, каждый из которых возглавлял нерегулярные силы, состоявшие в основном из ополченцев. Грин искренне восхищался этими людьми, хотя и осуждал грабежи, которыми, как он отмечал, занималась половина их бойцов. В отсутствие регулярной армии ополчение было его единственным ресурсом. Грин планировал использовать его для ведения «войны отступающих» (fugitive war) — термин его собственного изобретения, подразумевающий войска, которым часто приходится отступать перед силами противника[828]. Объединение этих разрозненных отрядов хотя бы в некое подобие армии потребовало от Грина всей находчивости, какой он обладал. Поставка припасов осуществлялась из Виргинии и находилась в ведении Штойбена. Эдвард Каррингтон, артиллерийский офицер, служивший в Виргинии, согласился вступить в должность заместителя генерал-квартирмейстера, а Уильям P. Дэви, опытный командир из Северной Каролины, принял назначение главным интендантом, хотя все его существо восставало против занятия этой должности. Грин играл на преданности этих людей революции, тем самым прибегая к тактике, которой он иногда — и, как правило, безуспешно — пользовался, чтобы убедить «имущих», то есть государственных чиновников, купцов и плантаторов, выделить деньги и припасы для «неимущих», то есть солдат южной армии[829]. Как любая армия, армия отступающих могла делать кое-что своими силами. Она, в частности, могла разведать, какие реки пригодны для перевозок и какие еще в большей степени пригодны в качестве барьера между отступающими и их преследователями. Грин поручил Каррингтону, Костюшко и еще нескольким командирам исследовать реки. Ему было крайне важно знать расположение бродов, так как он планировал нанести удар по неприятелю и сразу после этого отступить. Если бы он оказался столь неосторожен, что позволил бы противнику прижать себя к реке в непроходимом месте, ему пришлось бы вступить в крупное сражение, в котором он был бы неминуемо разбит. Поскольку самые глубокие участки рек располагались ниже по течению от водопадов, благоразумие требовало, чтобы он сражался выше водопадов, где бродов было достаточно много. Полностью полагаться на собранные данные было рискованно. Из-за проливных дождей броды порой становились непроходимыми. Так, в начале января 1781 года уровень воды в реке Пи-Ди после 30-часового проливного дождя поднялся на 25 футов. Когда дожди прекратились и сток замедлился, уровень воды в Пи-Ди упал столь же быстро, как и поднялся. На других реках происходило то же самое. В речных районах лодки играли не менее важную роль, чем лошади в сельской местности, однако достать их было еще труднее, чем лошадей. Грин решил построить свои собственные лодки и установить их на колеса. Лошади должны были тащить их на участках между реками. Прежде чем собрать армию в единое целое, Грин решил разделить ее. Лагерь в Шарлотте источал запах поражения и разложения, в окрестностях города было практически невозможно разжиться продовольствием. Чтобы встряхнуть своих солдат и дать им надежду, Грин решил повести большую часть своих войск в город Черо на реке Пи-Ди и отправить отряд ополченцев из Мэриленда и Виргинии под началом Даниэля Моргана, а также конницу полковника Вашингтона на западный берег реки Катоба. Там Морган мог бы совершать набеги на позиции неприятеля в приграничной полосе, и, самое главное, там, возможно, было бы легче обеспечить солдат провизией, чем на Пи-Ди, куда направлялся Грин. Все учебники по военному искусству предостерегают от разделения армии, поскольку противнику легче разгромить ее по частям. Грин не мог позволить себе такую роскошь, как следование этому правилу, — если бы он и его солдаты начали воевать по учебникам, они бы умерли с голоду. В любом случае, отделение Моргана от основных сил давало определенные военные преимущества. Расположившись вдоль Катобы, он представлял угрозу для английского гарнизона в Найнти-Сикс — и для более мелких подразделений противника. Если бы Корнуоллис решил атаковать Моргана, ему пришлось бы оставить без защиты Чарлстон, а если бы он выступил против Грина, глубокий тыл англичан стал бы более уязвимым, чем обычно. Кроме того, Моргана можно было в любой момент вернуть, с тем чтобы он нанес удар по флангам и тылу Корнуоллиса. Все эти возможности были учтены Грином, когда он принимал решение об отделении Моргана от своих сил[830]. Американцы не подозревали, что Корнуоллис собирается покинуть Уинсборо и вернуться в Северную Каролину. Он был сыт по горло Южной Каролиной с ее «вечными бунтами» и плохо подготовленными ополченцами-лоялистами. Он устал посылать конных курьеров, которые не добирались до пунктов назначения, и устал ждать продовольственных обозов, которые каждый раз попадали в засаду. Его надежда на то, что после разгрома повстанческой армии под Камденом местное население начнет оказывать ему активную поддержку, не оправдалась, и теперь он хотел одного — как можно скорее бежать подальше от этих мест. И когда он узнал, что мятежным ополченцам удалось пресечь распространение известий о победе англичан в глубинные районы, его уверенность в способности вернуть провинцию на сторону короля начала стремительно испаряться[831]. Корнуоллис, похоже, так и не понял, почему умиротворение Южной Каролины давалось ему так трудно. Одно из его объяснений отражало типичное аристократическое предубеждение: английская армия столкнулась с недоброжелательно настроенными людьми, а не просто с очередным врагом. Кроме того, друзья правительства продолжали проявлять позорную трусость даже после того, как благодаря присутствию английских регулярных войск власть оказалась в их руках. Почему они вели себя столь малодушно? Единственный ответ, который мог дать Корнуоллис, состоял в том, что они были запуганы повстанцами. А повстанцы продолжали действовать, несмотря на поражения в Чарлстоне и при Камдене, опираясь на помощь своих друзей в Северной Каролине и Виргинии. Корнуоллис не догадывался, что почва для мятежа существовала в Южной Каролине независимо от поддержки с севера. Не понимал он и того, что английская армия своим присутствием лишь провоцирует сопротивление, которое была призвана подавить. Грин не забеспокоился, когда в начале января он узнал, что Тарлтон, чей лагерь располагался в 25 милях к западу от сил Корнуоллиса в Уинсборо, повел своих солдат против Моргана. Грин добрался до своего нового лагеря в Черо на реке Пи-Ди на следующий день после Рождества. В это время Морган занимался поисками позиции, с которой он мог бы угрожать западным постам англичан. В начале нового года Тарлтон предложил Корнуоллису окружить Моргана совместными силами где-нибудь в районе Кинге-Маунтин. Корнуоллис согласился и дал Тарлтону разрешение начать охоту за Морганом, но сам не стал торопиться с выступлением, решив прежде проверить, имеют ли под собой основание слухи о присутствии французов у косы Кейп-Фир. Слухи не подтвердились, и расположение британских войск благоприятствовало новой экспедиции на север, так что Бенедикт Арнольд, в минувшем сентябре перешедший на сторону англичан, возглавил рейд в Виргинию, а генерал-майор Александр Лесли, в октябре отплывший из Нью-Йорка с 2500 солдатами, 4 января 1781 года прибыл в Камден[832]. В то время когда войска Корнуоллиса покидали окрестности Уинсборо, Тарлтон гонялся за Морганом по всей Южной Каролине. Шестнадцатого января Морган покинул Беррз-Миллз на реке Тиккети-Крик и, преодолев двенадцать миль, достиг местности, известной под названием Ханназ-Коупенс. Теперь он находился в семи милях от брода Чероки на реке Брод-Ривер. За день до того Тарлтон переправился через Паколет, воспользовавшись бродом Истервуд-Шоулз, всего в шести милях ниже по течению реки от того места, где Морган разбил свой лагерь. Тарлтон двигался налегке, Морган тянул тяжелые фургоны. Зная, что Тарлтон дышит ему в затылок, Морган решил принять бой; если бы он начал отступать, противник наверняка перехватил бы его — либо где-нибудь у бродов, либо сразу выше по течению от них, где ему было бы гораздо труднее держать оборону, чем на Ханназ-Коупенс[833]. Даниэль Морган провел большую часть ночи с 16 на 17 января со своими солдатами. Между ним и его людьми было много общего. Хотя он был старше большинства из них, он общался с ними по-свойски, в откровенной и грубоватой манере, которая всегда нравилась солдатам. Переходя от одного костра к другому, Морган, возможно, частично раскрывал солдатам свои планы и уж, во всяком случае, не скрывал от них своей уверенности в них и самом себе. Более опытный тактик, хорошо усвоивший содержащиеся в учебниках правила развертывания войск, никогда бы не выбрал Ханназ-Коупенс в качестве оборонительной позиции. С точки зрения военного искусства XVIII века эта местность не предлагала никаких преимуществ — за исключением, пожалуй, возможности для атакующего полностью окружить обороняющегося. Она представляла собой луг около 500 ярдов в длину и почти столько же в ширину. Примерно в 300 ярдах от южной окраины луга поднимался невысокий холм, в 70–80 ярдах позади него — еще один, пониже. Подлеска почти не было, зато в пределах луга тут и там виднелись отдельно стоящие сосны, дубы и карии. Эта местность была словно создана для кавалерии — а у Тарлтона было в три раза больше всадников, чем у Моргана. По словам английского генерала Чарльза Стедмана, осмотревшего луг вскоре после сражения, эта местность совершенно не подходила для целей Моргана: его фланги были открыты, он был уязвим для конницы и река Брод-Ривер за его спиной преграждала ему путь к отступлению. Позже Морган признавался, что выбрал Коупенс по той причине, что недостатки этого места не оставляли его ополченцам иного выбора, кроме как сражаться[834]. Чем бы он ни руководствовался при выборе Ханназ-Коупенс, Морган грамотно использовал эту местность. Незадолго до рассвета разведчик сообщил о приближении Тарлтона, в тот момент находившегося всего в пяти милях от расположения американцев. Тарлтон поднял свои войска в 3 часа утра и старался двигаться как можно скорее. При получении этого известия солдаты Моргана повылезали из-под одеял, позавтракали и заняли свои позиции. Главный оборонительный рубеж с солдатами регулярной армии Мэриленда и Делавэра в центре и ополченцами из Виргинии и Джорджии на флангах протянулся поперек склона более высокого из двух холмов. Общее число его защитников составляло около 450 человек. Примерно в 150 ярдах перед ними проходил еще один рубеж, длиной в 300 ярдов, занятый ополченцами из обеих Каролин численностью около 300 человек. Прямо перед ними 150 стрелков из Джорджии и Северной Каролины заняли позиции за деревьями, образовав стрелковую цепь. Морган оставил не так много людей в резерве, зато они были тщательно отобраны: восемьдесят кавалеристов под началом полковника Уильяма Вашингтона и сорок пять конных пехотинцев из Джорджии, расположившихся вне поля зрения противника позади второго холма. Силы Тарлтона включали его собственный легион, состоявший из немногим более 500 кавалеристов и пехотинцев, один батальон 7-го полка королевских фузилеров и один батальон 71-го полка шотландских горцев, а также небольшие подразделения, состоявшие из солдат и офицеров 17-го полка легких драгун, артиллеристов и ополченцев-лоялистов. Общая численность его отряда составляла около 1100 человек, так что он имел некоторое численное превосходство над Морганом. Эта армия добралась до Ханназ-Коупенс вскоре после рассвета и быстро развернулась в цепь с драгунами по обоим флангам и королевскими фузилерами, пехотинцами легиона и легкой пехотой между ними. Здесь же была установлена королевская артиллерия — две трехфунтовые пушки на высоких стойках (не на колесах), прозванные «кузнечиками». Две сотни кавалеристов и полк горцев были оставлены в резерве. Линия едва успела выстроиться, как Тарлтон скомандовал наступление. К этому моменту американские застрельщики уже сделали свое дело, сразив пятнадцать всадников, посланных Тарлтоном в атаку сразу по прибытии на Ханназ-Коупенс. Американские ополченцы второй цепи под началом Эндрю Пикенса терпеливо поджидали англичан, зная в точности, чего от них хотят их командиры. Морган не просил, чтобы они защищали свою позицию до последней капли крови — он лишь приказал им дать два полноценных залпа и сразу отступить за холм, где они могли бы построиться заново. Ополченцы действовали строго по приказу: они не открывали огонь, пока солдаты Тарлтона не приблизились к ним на расстояние прицельного огня, и лишь после этого дали первый залп. Перезарядив оружие, они дали еще один залп и начали отступать к левому флангу главной линии. Но не всем из них удалось добраться до своих целыми и невредимыми. Наступающие англичане, хотя их строй и был далек от образцового, двигались достаточно быстро, чтобы преградить путь американцам, отступавшим с крайнего правого фланга. Прежде чем все американские ополченцы успели добраться до левого фланга, английские драгуны уже были тут как тут, размахивая саблями и стреляя из пистолетов. Неизвестно, что стало бы с ополченцами, если бы Морган не отправил им на помощь всадников Вашингтона. Появление американской конницы застало драгун врасплох, и через несколько минут они отступили. Главная линия англичан продолжала наступление. Несмотря на тяжелые потери от огня ополченцев Пикенса, англичане сохранили свой строй и по-прежнему двигались вперед. Но их ждал неприятный сюрприз — цепь, образованная солдатами Континентальной армии и виргинскими ополченцами на склоне холма, не отступила. Более того, американцы вели плотный огонь, грозивший рассеять наступающий строй неприятеля. Тогда Тарлтон сделал единственное, что ему оставалось, — дал команду стоявшим в резерве шотландцам. Горцы пошли в наступление на американский правый фланг, от которого их отделяли несколько сотен метров. Генерал Джон Игер Хауард, командовавший главной линией американцев, наблюдал за их приближением с явной озабоченностью. Он заметил, что наступающая линия горцев протянулась далеко за пределы американского правого фланга и грозит охватить его. Предвидя такое обходное движение противника, Хауард приказал роте ополченцев на крайнем правом фланге повернуться кругом, а затем влево. Он, похоже, не подумал, что требует от ополченцев слишком многого, а именно осуществить маневр, трудный для выполнения даже на плацу и уж тем более под огнем. Толком не разобрав, что от нее требуется, рота повернулась кругом и начала отступать за холм. В бою нет ничего более заразительного, чем отступление в тыл (за исключением, пожалуй, панического бегства), и остальная часть линии также начала отступать. Озадаченный картиной, разворачивавшейся перед его глазами, Морган спросил у Хауарда, что за странный маневр совершает линия и не является ли этот маневр отступлением. Хауард не поленился удостовериться, что солдаты сохраняют полное самообладание и что ни о какой панике не идет и речи. Разуверенный в своих опасениях, Морган сам подался назад, чтобы найти удобную оборонительную позицию. Солдаты Тарлтона тоже увидели, что американцы оставляют свои позиции, и, будучи уверены в том, что противник вот-вот обратится в паническое бегство, нарушили свой боевой порядок — который и так уже был достаточно расстроен — и бросились на врага, положившего так много их товарищей. Этот безумный бросок, в свою очередь, ввел в заблуждение Тарлтона, который, решив воспользоваться хорошо знакомым обстоятельством — паникой американцев, — призвал свой резерв. К этому моменту большинство американцев достигли заднего склона холма, где они были скрыты от глаз противника. После чего Хауард и Морган приказали им развернуться и стрелять в англичан, появившихся беспорядочной толпой из-за гребня холма примерно в 50 ярдах от американской позиции. Встреченные неприятельским огнем, английские солдаты почти сразу поддались панике, и их ряды окончательно рассыпались. Тут им во фланг ударила конница Вашингтона, еще раз покинувшая свое укрытие за вторым холмом. Следом за всадниками Вашингтона и пехотинцами Хауарда появились ополченцы Пикенса — это был их второй выход на сцену во время сражения. Через несколько минут американцы стали победителями, хотя шотландцы, более или менее сохранявшие боевой порядок, и небольшие артиллерийские расчеты, обслуживавшие «кузнечиков», сражались с беспримерной отвагой и держались до последнего. В той войне ошибки командования часто компенсировались отвагой, однако в данном случае она не помогла. Шотландские горцы были частью перебиты, частью окружены, а артиллеристы погибли геройской смертью, пытаясь вывезти с поля боя свои орудия. Разгромленные англичане вскоре запросили пощады. Тарлтон бежал с сорока всадниками, оставив на поле боя 100 убитых, свыше 800 пленных (в том числе 229 раненых), знамя 7-го полка, двух «кузнечиков», 800 ружей и большую часть своего багажа, лошадей и боеприпасов[835]. Тарлтон так никогда и не понял, что произошло с его людьми в бою на Ханназ- Коупенс, и не признавал — по крайней мере, публично, — что допустил серьезные ошибки. Он соглашался, что огонь, открытый отступающей линией Хауарда, был «неожиданным» и произвел «смятение» в рядах его солдат. Однако он не мог дать никакого объяснения последовавшей панике. Снова и снова воспроизводя в уме подробности сражения (удовольствие, которое позволяют себе не только победители, но и побежденные, хотя в последнем случае оно весьма сомнительно), он отчасти приписывал разгром своих войск тому фактору, что его конница не сумела сосредоточиться на правом фланге и нанести там удар по противнику. Кроме того, Тарлтон отметил «чрезмерную растянутость шеренг», характерную, как он считал, для «свободной манеры выстраиваться, которой всегда грешили королевские войска в Америке»[836]. Эпитет к слову «манера» был подобран как нельзя удачно, но Тарлтон явно поскупился с его применением. Он бросился в бой, как впоследствии замечал Чарльз Стедман, с бесстрашием партизанского командира, не учитывая конкретных обстоятельств положения своего и противника. Солдаты пошли в наступление, не успев сформировать строй, в то время как его резерв, 71-й полк, еще только пытался продраться сквозь тонкий подлесок, отставая от основных сил почти на милю. Родерик Маккензи, молодой лейтенант, раненный на поле боя, расценил атаку как «преждевременную, беспорядочную и ведшуюся не по правилам». Тем не менее она могла бы принести успех, если бы в тот момент, когда правый фланг главной линии американцев начал оттягиваться назад, Тарлтон сообразил направить в его сторону свой резерв. Однако англичане, нерешительные и дезорганизованные, не воспользовались ситуацией, и войска Хауарда перестроились в боеспособную линию[837]. Возможно, Морган выбрал неподходящее место — неподходящее по тогдашним понятиям, но он использовал его исключительно эффективно. Уединенный луг не предоставлял его солдатам никакой возможности для отступления. Неизвестно, осознавал ли Морган, принимая решение сражаться, что его ополченцы могут броситься в бегство при первой опасности. Как бы то ни было, примененная им тактика в течение следующих двух месяцев служила предметом восхищения и подражания для других военачальников. Бой закончился вскоре после 10 часов утра. В полдень Морган со своими войсками и пленниками двинулся в путь. Он предполагал, что разгром Тарлтона вызовет быструю реакцию со стороны Корнуоллиса, и не хотел быть разбитым превосходящими силами противника в момент наслаждения своим триумфом. Пленные были серьезной обузой, и Морган планировал отделить их через несколько дней от своей колонны и отправить вглубь Виргинии. На следующий день отряд переправился через русловое Литл-Брод, а спустя три дня, 21 января, через реку Литл-Катоба у Рамсауэрс-Милл. Еще через два дня Морган перешел на другой берег Катобы, воспользовавшись бродом Шерилла, и разбил временный лагерь[838]. В день сражения Корнуоллис находился в населенном пункте под названием Терки-Крик, ожидая прибытия Лесли. Известие о разгроме англичан достигло его на следующий день, и 19 января он выступил в поход с твердым намерением догнать Моргана. Он двинулся в неверном направлении не по той дороге. Он знал, кого искать, но не знал, где, став жертвой очередного упущения английской разведки, типичного для той южной кампании. Благодаря этому упущению у него открылись глаза на особенно неприятный факт: он находился в краю врага, и хотя у него были деньги, чтобы купить разведывательную информацию, здесь мало кто был готов ее продать. Полагая, что Морган, скорее всего, отправился на юг, чтобы захватить Найнти-Сикс, Корнуоллис потерял день, маршируя в северо-западном направлении. Обнаружив свою ошибку, он сменил направление и двинулся к Рамсауэрс-Милл, где какими-нибудь сутками ранее, будь он лучше информирован и более расторопен, он мог бы перехватить Моргана[839]. В тот день, когда Корнуоллис достиг Рамсауэрс-Милл (25 января), известие о победе Моргана на Ханназ-Коупенс достигло Натаниэля Грина, стоявшего лагерем на берегу Пи-Ди. Грин сразу сообразил, что Корнуоллис будет преследовать Моргана, и справедливо предположил, что английская армия, оставшаяся без кавалерии и находящаяся далеко от своих складов, будет особенно уязвимой для атаки. С учетом всего этого он решил объединить свою армию с силами Моргана. Подготовка к такому походу требовала нескольких дней, а Грину не терпелось действовать. Он сдерживался два дня и за это время отдал ряд приказов, в том числе Айзеку Худжеру — выдвинуться с армией из лагеря на берегу Пи-Ди в Солсбери (Северная Каролина); интендантам в Солсбери и Хиллсборо — приготовиться к эвакуации складов и пленных в Виргинию; квартирмейстеру Каррингтону — позаботиться о лодках для переправы через реку Дан. Затем Грин в сопровождении небольшого конного отрада отправился на поиски Моргана[840]. Тем временем Корнуоллис выпускал один за другим приказы самого разного рода. Подобно большинству армий XVIII века, его войска двигались колонной, которая за счет имущества и нонком-батантов раздулась до внушительных размеров. Офицеры обычно возили с собой по нескольку комплектов обмундирования, еду, вино и различные предметы обихода, включая мебель, столовые приборы и посуду. Они также брали с собой слуг, а иногда и своих жен и детей, хотя гораздо чаще их сопровождали женщины, не являвшиеся их женами, и дети от этих женщин. Чтобы ускорить погоню за Морганом, Корнуоллис приказал своей армии «похудеть», то бишь уничтожить все имущество, включая палатки и большую часть фургонов, и жить за счет даров земли и местного населения. 27 января он распорядился выдать солдатам по дополнительной порции рома. То, что было невозможно употребить за один раз, он приказал слить на землю Каролины. На следующий день, как только колонна продолжила путь, Корнуоллис огорчил своих солдат известием, что снабжать их ромом «какое-то время будет абсолютно невозможно», и ввиду нехватки продовольствия порекомендовал им научиться «молоть маис, либо растирать его после предварительного вымачивания»[841]. Армия, сбросившая вес и оставшаяся без рома, но по-прежнему тащившая с собой своих женщин и детей, прежде всего, должна была переправиться через Катобу, после недавнего проливного дождя угрожавшую выйти из берегов. 1 февраля, после ложной переправы через брод Битти, армия в образцовом порядке перешла на другой берег Катобы через брод Коуэна. Зная о существовании четырех мест, где англичане могли бы пересечь Катобу вброд, Морган приказал ополченцам из Северной Каролины под началом генерала Уильяма Дэвидсона устроить засаду в каждом из них. Однако у Дэвидсона было всего 300 человек. Утром в день переправы он с небольшим отрядом подстерегал англичан у брода Коуэна и сложил голову при попытке остановить неприятеля. Грин, добравшийся до Моргана днем ранее, в это время стоял неподалеку, у Таррантс-Тэверн, ожидая, когда соберутся ополченцы. Напуганные явным численным превосходством англичан, многие из этих людей попросту разбежались по домам[842]. Ранее Грин отправил Моргана к броду Трейдинг на реке Ядкин, где в те дни был очень высокий уровень воды. В ночь на 2 февраля солдаты Моргана, которых буквально по пятам преследовал неприятельский отряд, переправились на другой берег в лодках, подготовленных людьми Костюшко. Неподалеку от брода передовой отряд английской кавалерии во главе с Чарльзом О’Харой настиг американский арьергард и разбил его. Но даже такая успешная операция не принесла англичанам удовлетворения, ибо, вместо того чтобы защищаться, американцы, если воспользоваться фразой каролинцев, с презрением процитированной О’Харой, «рассредоточились и рассеялись — другими словами, дали деру»[843]. На следующий день после полудня Корнуоллис прибыл в Солсбери. В семи милях от него, на противоположном берегу Ядкина, расположился бивак американцев. Уровень воды в реке поднимался, а англичане утомились и остались почти без провианта. За следующие четыре дня они отдохнули и набрались сил, насколько это было возможно под проливным дождем и по колено в грязи, и выслали несколько фуражных отрядов. Восьмого февраля Корнуоллис повел свою армию на запад, к броду под названием Мелкий — широкому участку реки, где всегда было достаточно мелко для лошадей и людей. Удаляясь от неприятеля, Корнуоллис не думал, что тем самым дарит ему возможность незаметно спуститься вниз по течению Ядкин и выйти к Дану — последней преграде на пути в безопасную Виргинию. Наоборот, он полагал, что для перехода через Дан армия Моргана, как и его собственная армия, двинется на запад. Как это уже не раз бывало, разведчики Корнуоллиса снабдили его неверной информацией, сообщив, что ниже по течению реки, где Дан был слишком глубок для перехода вброд, не было ни одной лодки. Морган как будто бы оправдал надежды Корнуоллиса, когда 4 февраля выступил в северном направлении. Но затем он внезапно развернулся на восток и, преодолев за два дня 47 миль, прибыл в Гилфорд-Корт-Хаус. Там он соединился с Худжером и основными американскими силами, которые по приказу Грина свернули в сторону от Солсбери. Вскоре к собравшимся присоединился легион Ли. Армия Грина вновь стала единым целым. Несколькими неделями ранее Грин сказал Моргану, что отступать хотя и досадно, но не позорно. С тех пор его досада приняла такие масштабы, что он поставил вопрос о приостановке отступления. Он не испытывал трепета от полководческих талантов Корнуоллиса; Корнуоллис обладал импульсивным нравом и, подобно своему подчиненному Тарлтону, был склонен к поспешным действиям. А поспешные действия могут закончиться катастрофой, полагал Грин. Военный совет в составе Ото Уильямса, Худжера и усталого и больного Моргана придерживался иного мнения, и когда Грин спросил, не считают ли они, что пришла пора прекратить отступление и начать сражаться, они все ответили «нет». Совет, безусловно, был прав, так как солдаты устали, были плохо экипированы и по численности лишь ненамного превосходили вражескую армию, которая к тому же была куда более дисциплинированной[844]. В соответствии с решением совета Грин продолжил отступление. Отступать, однако, стало намного опаснее, чем прежде, поскольку теперь между Корнуоллисом в Салеме и Грином в Гилфорд-Корт-Хаусе не было барьера в виде реки, и их разделяло всего 25 миль. В подобной ситуации введение противника в заблуждение может принести не меньшую пользу, чем быстрота, и Грин решил обманом заставить Корнуоллиса думать, что он собирается пересечь Дан в верховьях реки. Поэтому он поручил Ото Уильямсу с отрядом из отборных пехотинцев и кавалеристов численностью в 700 человек отвлечь силы Корнуоллиса от переправы Эрвинз-Ферри, где американцев уже ждали лодки, собранные из разных мест предприимчивым Каррингтоном. Уильямс, один из недооцененных офицеров американской армии, справился с заданием блестяще. Корнуоллис попался на удочку, решив, что отряд Уильямса представляет собой авангард основной армии. Преследование оказалось изнурительным; Тарлтон и О’Хара в течение четырех дней предпринимали мелкие атаки на арьергард, представленный легионом Ли. Из-за того, что дороги, которые ночью наполовину замерзали, а днем оттаивали и под обильным дождем превращались в непролазную грязь и, кроме того, были разбиты многочисленными беженцами по всей Северной Каролины, спасавшимися от англичан, обувь солдат Уильямса быстро пришла в негодность, и их босые ступни оставляли на земле кровавые следы. По таким же следам можно было проследить и маршрут Грина. 13 февраля Грин достиг Дана, где вскоре к нему присоединился Ото Уильямс. Оба благополучно переправились через поток. Армия Корнуоллиса застыла на противоположном берегу, снова глядя на реку, для переправы через которую у нее не было лодок. Почему Корнуоллис прекратил преследование? Ведь он мог бы Подняться к верховьям Дана, пусть даже это потребовало бы от него немалых усилий, и воспользоваться имевшимися там проходимыми бродами. По-видимому, он отказался от идеи возобновить погоню из-за стечения неблагоприятных обстоятельств: Камден, где он оставил на попечении Роудона припасы и солдат, находился на расстоянии двухсот миль; он не видел способа заставить Грина принять бой; его люди были усталы, разуты, нередко голодны, а местные жители не спешили одаривать их теплом своего гостеприимства. Наконец, существовала значительная вероятность того, что если бы он загнал Грина вглубь Виргинии, он бы своими руками обеспечил ему численное превосходство. Ибо в Виргинии в это время находился Штойбен, усиленно занимавшийся вербовкой в Континентальную армию. Оставаться на берегу Дана было бессмысленно, и Корнуоллис медленно повел свою армию в Хиллсборо, где 20 февраля выпустил прокламацию, призывавшую всех преданных Короне американцев взять оружие и десятидневный запас продовольствия и объединиться с его армией в великом деле восстановления конституционного порядка. Копия прокламации была без промедления переправлена на другой берег Дана. Вскоре после этого Грину доложили, что призыв Корнуоллиса упал на благодатную почву и под британские стяги стекается так много лоялистов, что за один день были сформированы семь отдельных воинских подразделений. На самом деле эффект от прокламации был ничтожным. Как отмечал Чарльз О’Хара, один из бригадных генералов Корнуоллиса, погоня за Грином принесла «некоторую известность и славу нашему оружию». Окрестные жители небольшими группами приходили «поглазеть на нас», но, «удовлетворив свое любопытство», отправлялись обратно домой. За долгие и трудные днипреследования к англичанам не присоединилось и сотни лоялистов. Грин, однако, поверил преувеличенным донесениям и, мысленно представляя себе каролинцев, возвращающихся в лоно Великобритании, счел необходимым принять меры по охлаждению их верноподданнических чувств. В итоге он направил свою армию обратно через Дан — вначале Ото Уильямса с корпусом легкой пехоты, а 23 февраля и основную армию, пополненную 600 виргинскими ополченцами[845]. Корнуоллис отреагировал четыре дня спустя, выйдя на южный берег реки Аламанс, к стыку дорог, ведущих в Хиллсборо на востоке и Гилфорд и Солсбери на западе. В течение следующих двух недель обе стороны осторожно маневрировали в окрестностях Аламанса и притоков реки Хо. Между ними произошло несколько мелких стычек, но ни одного серьезного сражения, хотя Корнуоллис отчаянно жаждал крупной битвы. Пока американская армия перемещалась с места на место, ее ряды пополнились 400 континентала-ми и 1693 ополченцами из Виргинии, мобилизованными Штойбеном всего на шесть недель. Северная Каролина прислала две бригады ополченцев общей численностью в 1060 человек. Теперь, когда его армия существенно превосходила английскую по численности, Грин почувствовал себя достаточно сильным, чтобы дать бой, и 14 марта прибыл к Гилфорд-Корт-Хаус. Он счел это место наиболее подходящим для сражения[846]. Гилфорд-Корт-Хаус, или Гилфордский суд, стоял на окраине деревушки, прилепившейся к склону холма. Ниже здания суда, обращенного фасадом на юго-запад, распростерлась долина, пересекаемая Грейт-роуд, идущей от Солсбери. В то время как само здание суда стояло на открытом месте, большая часть долины была покрыта лесом. Неприятель, двигающийся по дороге, должен был миновать дефиле между двумя невысокими холмами. Там, на входе в долину, по обе стороны дороги тянулись маисовые поля. С восточной стороны было два поля, одно из которых примыкало к дороге. Поля были разделены лесным массивом шириной 200 ярдов. На участке между дефиле и речкой Литл-Хорспен (четверть мили) долина постепенно понижалась, а затем вновь шла в гору и углублялась в лес[847]. Выбор места для сражения принадлежал Грину, тактика — Даниэлю Моргану. Следуя примеру Моргана в битве на Ханназ-Коупенс, Грин решил прибегнуть к эшелонированной обороне, состоящей из трех оборонительных линий. Передовая, которая должна была принять на себя первый удар неприятельских войск, тянулась вдоль опушки леса к северу от открытых полей. Чтобы достичь ее, англичане должны были спуститься в долину, а затем подняться по склону, находящемуся под обстрелом американцев. Ведение огня было поручено 1000 ополченцам из Северной Каролины, которых Грин расположил по обе стороны дороги. К их правому флангу Грин прицепил 200 виргинских стрелков и ПО солдат Континентальной армии из Делавэра; позади них расположилась конница полковника Уильяма Вашингтона из примерно восьмидесяти всадников. На крайнем левом фланге Грин разместил около 200 виргинских стрелков и 150 легионеров Генри Ли, примерно наполовину состоявших из кавалеристов. Единственное, что требовалось от этой линии, это дать два залпа и отступить. В центре линии, прямо на дороге, Грин приказал установить два шестифунтовых орудия с дальностью стрельбы 600–800 ярдов[848]. В 300 ярдах позади первой линии Грин сформировал вторую, состоявшую из двух бригад виргинских ополченцев численностью по 600 человек каждая под командованием генералов Эдварда Стивенса и Роберта Лоусона. Историки того сражения расходятся в вопросе об относительном расположении этих двух бригад, но, похоже, люди Стивенса стояли справа (или к западу) от дороги. Вся линия располагалась в лесу. Третья и основная линия занимала открытое возвышенное место сразу за зданием суда. Она целиком располагалась по правую сторону дороги, которая, поднимаясь на холм, делала небольшой поворот на северо-восток. Ввиду такого рельефа местности эта линия проходила под небольшим углом ко второй линии на расстоянии 500–600 ярдов позади нее. Правая часть линии состояла из почти 800 солдат Континентальной армии из Виргинии под командованием генерала Худжера, левая — из немногим более 600 континенталов из Мэриленда под командованием Ото Уильямса. Англичане выступили в 25-мильный поход к Гилфорд-Корт-Хаусу еще до рассвета. Они шли на пустой желудок, так как накануне у них кончилась мука. Корнуоллис выслал Тарлтона на несколько километров вперед, и около 10 часов утра его всадники столкнулись с конницей Ли, отправившейся навстречу неприятельской армии, чтобы дать знать Грину о ее приближении. В ходе короткой стычки было ранено по нескольку всадников с каждой из сторон, и пара легионеров Ли были захвачены Тарлтоном в плен. Однако пленные не смогли рассказать Корнуоллису ничего конкретного о расположении американцев, й когда он вступал в долину, ведущую к Гилфорд-Корт-Хаусу, он не знал, что ждет его впереди. Разумеется, ему прежде случалось бывать в этих краях, но, похоже, он почти ничего не помнил[849]. При входе в долину его войска были встречены огнем из шестифунтовых пушек первой оборонительной линии. Вскоре английская артиллерия открыла ответный огонь, и Корнуоллис выстроил свою линию. По правую руку от себя, где командовал Лесли, он поставил полк фон Бозе, 71-й полк и 1-й гвардейский батальон в качестве поддержки; по левую сторону дороги, где командовал Уэбстер, расположились 23-й и 33-й полки, поддерживаемые гренадерами и 2-м гвардейским батальоном под командованием О’Хары. Егеря и легкая гвардейская пехота остались в резерве в лесу по левую сторону дороги, а сам Тарлтон — непосредственно на дороге. В целом армия насчитывала около 1900 человек[850]. Ополченцы из Северной Каролины, стоявшие за изгородью на опушке леса, наблюдали за регулярными войсками, марширующими под стук барабанов и пронзительный свист дудок. Первым пошел в наступление британский правый фланг по команде Лесли. До этого Корнуоллис внимательно оглядел долину и решил начать бой по правую сторону дороги, где было меньше деревьев и кустов, чем слева. Командир ополченцев из Северной Каролины, стоявших напротив британского правого фланга, ждал, пока враг спустится по склону, пересечет реку и начнет подниматься на холм. Когда англичане приблизились на расстояние в 150 ярдов, он скомандовал открыть огонь. При стрельбе с такого расстояния убойная сила ружей каролинцев была достаточной, чтобы в цепи противника сразу образовались бреши. По словам очевидца, «красные мундиры снопами валились на землю». Не такое образное, зато более конкретное описание гибели солдат дал один капитан из 71-го полка — «половина горцев полегла на месте». Тот факт, что, невзирая на потери, британцы продолжили наступление, лишний раз свидетельствует об их исключительной дисциплинированности и чувстве собственного достоинства. Лесли приказал солдатам ускорить шаг, и когда они подступили к неприятелю достаточно близко, чтобы вести эффективную стрельбу, он остановил их и скомандовал прицелиться и открыть огонь. Горцы, опять по приказу, устремились на противника, держа наперевес ружья с примкнутыми штыками и громко крича. При виде столь неколебимого упорства каролинцы дрогнули. Генри Ли, стоявший со своим легионом на американском правом фланге, позже писал, что, охваченные паникой, они бросали ружья, сбрасывали с себя ранцы и даже избавлялись от сумок с провизией. Ли пытался удержать их, в том числе угрозой расстрела, но ополченцы слышали только боевые крики горцев. Они скорее предпочли бы принять смерть от Ли, чем от своего грозного врага[851]. Каролинцы по правую сторону дороги держались на своих позициях чуть дольше. Английский командир подполковник Уэбстер, стоявший против них, скомандовал атаку почти сразу после того, как аналогичную команду отдал своим солдатам Лесли. Каролинцы справа, подобно своим землякам слева, терпеливо ждали, но как только американцы слева от них открыли огонь, они тоже дали залп. Реакция Уэбстера не заставила себя ждать: он скомандовал своим людям идти в наступление, надеясь достичь неприятельской линии до того, как американцы перезарядят ружья. Сержант Роджер Лэм из полка королевских уэльских фузилеров вспоминал, что солдаты двигались «в образцовом порядке, легким бегом, с заряженным оружием в руках». Приблизившись к каролинцам на расстояние 40 ярдов, британцы увидели, что те стоят, оперши ружья на изгородь и «старательно прицеливаясь». Настала пауза, в течение которой обе стороны изучали друг друга, пока Уэбстер не появился на коне перед 23-м полком с криком «Вперед, мои бравые фузилеры!». Линия продолжила движение, обе стороны открыли огонь, и американцы в конце концов «подались». Лэм отмечает, что среди них не было ни малейшей паники[852]. Вплоть до этого момента ход сражения может быть восстановлен достаточно легко, но что касается дальнейших событий, то в описаниях очевидцев имеются разногласия относительно стойкости первой оборонительной линии американцев. В своих воспоминаниях, написанных годы спустя, Генри Ли возлагает ответственность за поражение на каролинцев — обвинение, безусловно, несправедливое, какой бы ни была правда об их уходе с поля битвы. Грин, который находился рядом со зданием суда (слишком далеко, чтобы видеть первую линию), тоже приписывает им львиную долю вины[853]. Сержант Лэм писал, что после того как британцы смели первую линию и вступили в лес, бой приобрел неровный и даже бессвязный характер. Густой подлесок часто заслонял обзор и к тому же нарушал слаженность действий. После сражения британцы жаловались, что пользоваться штыком было практически невозможно — солдаты постоянно запутывались в кустах и натыкались на деревья, что исключало сосредоточенную штыковую атаку. Неудивительно, что виргинцы, образовывавшие вторую линию, расценивали деревья и кусты совершенно иначе — как прикрытие, защищавшее от штыка и позволявшее сражать наступавших выстрелами из ружей. В лесу атака распалась на ряд мелких стычек; ни одно подразделение ни с той, ни другой стороны не имело ясного представления о том, что происходит на флангах[854]. На самых дальних краях поля боя разворачивались два отдельных ожесточенных сражения. Стрелки Ли и Кэмпбэлла на американском левом фланге не последовали примеру отступавших каролинцев. Напротив, они открыли огонь по цепи англичан, как только та приблизилась к ним. Этот анфиладный огонь мог привести к большим потерям, и Лесли приказал 1-му гвардейскому батальону, служившему ему в качестве поддержки, выбить американцев с их позиций. Гвардейцы дрались упорно, но добились лишь того, что Ли и Кэмпбэлл отступили на возвышенный участок на американском левом фланге, где сражались, практически отрезанные от остальных сил, вплоть до конца. На американском правом фланге стрелки Линча и конница Вашингтона тоже вели анфиладный огонь. Уэбстер двинул на них свою линию, послав следом за ней егерей и гвардейцев, до сих пор незадействованных, в качестве поддержки. Хотя американцы отступали медленно и неохотно, они все же отступили, и английский левый фланг стабилизировался. В результате этого перемещения двух английских флангов в направлении противника центр оказался практически открытым. Для защиты этой части поля Корнуоллис призвал гренадеров О’Хары и 2-й гвардейский батальон[855]. Виргинцы, составлявшие вторую линию обороны, вскоре подверглись атаке восстановленного английского центра. Стивенсу, одному из двух командиров виргинцев, было стыдно за поведение своих бойцов при Камдене, но теперь они бились с великим упорством. В этой лесной схватке едва не был захвачен в плен или даже убит сам Корнуоллис. Сержант Лэм, бывший всегда начеку, заметил, как тот пересел на лошадь одного из драгун — его собственная была убита, — чтобы повести своих людей в атаку. Но весь этот бой, происходивший среди кустов и ветвей, был настолько хаотичным и бестолковым, что за генералом никто не последовал. Еще пара мгновений, и Корнуоллис оказался бы в самой гуще виргинцев, если бы Лэм не схватил его лошадь за уздечку и не ускакал с ней назад в безопасное место, хотя вряд ли какой-либо участок этого леса можно было назвать безопасным[856]. Первыми, кто атаковал третью оборонительную линию американцев, были люди Уэбстера на английском левом фланге — скорее всего, солдаты 33-го полка. Вскоре к ним присоединился 2-й гвардейский батальон, а за ним и другие английские подразделения, за исключением тех, кто участвовал в отдельном сражении на крайнем левом фланге американских позиций[857]. Третья линия состояла из солдат американских регулярных войск — двух полков виргинцев на правом фланге и примыкавших к ним 1-го и 2-го мэрилендских полков. Эти подразделения стояли на открытом месте спиной к дороге Риди-Форк, между густым лесом справа и Грейт-роуд слева, где были установлены два шестифунтовых орудия. По другую сторону дороги расположилась конница Вашингтона — она пробилась туда сквозь ряды англичан с правого фланга первой линии. Впереди и ниже этих подразделений холм круто обрывался в овраг. В целом американцы занимали отличную оборонительную позицию. Сражение вдоль третьей линии также состояло из нескольких этапов с перевесом то одной, то другой стороны. Первая атака была предпринята легкой пехотой Уэбстера и 33-м полком, как только они вышли из леса. Похоже, они не понимали, что им противостоит новая линия и, охваченные азартом преследования, были уверены, что победа у них в руках. Континенталы из Мэриленда и Виргинии дали залп по неприятелю, после чего пошли в штыковую атаку и обратили англичан в беспорядочное бегство. Если бы в этот момент, как полагают Ли и позднейшие историки, Грин повел в наступление всю линию, он мог бы одержать победу. Но в этом бою, состоявшем из резких подъемов и столь же неожиданных спадов, Грин не хотел рисковать всеми силами, имевшимися в его распоряжении, и был доволен уже тем, что удержал свои позиции. Просто сохранять линию вскоре оказалось невозможным. 2-й гвардейский батальон, поддерживаемый гренадерами, пошел в атаку и выбил с позиции самое неопытное подразделение третьей линии, а именно 5-й мэрилендский полк, который бежал без боя. Американцам удалось восстановить линию благодаря действиям кавалерии Вашингтона, которая прикрыла брешь энергичной атакой. 1-й мэрилендский полк и несколько мелких отрядов виргинцев развернулись и начали теснить гвардейцев. Командовавший теми О’Хара, несмотря на ранение, построил их заново, и вскоре после этого стрелки и горцы оказались вовлечены в ожесточенную схватку — большей частью рукопашную — с американцами, которые постепенно одерживали верх. Видя, что его людям не устоять в этой беспорядочной стычке, где численный перевес пока что был на стороне противника, Корнуоллис пошел на отчаянный риск. Ранее на возвышенном участке вдоль Грейт-роуд англичане установили два трехфунтовых орудия на расстоянии от 200 до 300 ярдов от американской линии. Корнуоллис приказал стрелять из них картечью, так чтобы снаряды пролетали над головами английских солдат и падали в колышущуюся массу гвардейцев и американцев, сцепившихся в рукопашной схватке. Лежавший рядом О’Хара умолял его отменить приказ, но Корнуоллис остался непоколебим, и пушки открыли огонь, кося солдат обеих сторон. В результате обстрела стороны разделились, и это сыграло на руку англичанам. В ближнем бою они не имели себе равных во владении штыком, но лишь в тех случаях, когда сражались организованным строем. Смешавшись в одну беспорядочную толпу с противником, который к тому же имел значительное численное превосходство, они лишились своего преимущества, и в этой неравной схватке их ряды стремительно редели[858]. Расцепившись, обе стороны построились заново. Более искушенные в такого рода маневрах, англичане восстановили свой строй быстрее, чем американцы, и вскоре возобновили атаку. Тут Грин не выдержал и начал отступать, бросив на произвол судьбы свою артиллерию и раненых. Лошади, тащившие пушки, разбежались или погибли под вражескими пулями, а перемещение орудий вручную привело бы к еще большим потерям. Англичане были слишком измотаны, чтобы преследовать отступающего противника. В тот вечер оставшиеся в живых благодарили небеса, а раненые, как и в любой битве XVIII века, истекали кровью и мучительно умирали.III
Два дня спустя Корнуоллис эвакуировал с поля сражения большинство своих раненых в семнадцати фургонах, дав указание: «Каждый фургон должен увезти столько раненых, сколько он может вместить». Сам Корнуоллис вместе с основными силами снялся с места 19 марта и направился в Кросс-Крик, общину шотландских горцев, у которых он надеялся разжиться провиантом и, возможно, свежими бойцами для своего стремительно тающего войска. Шотландцы отказали в обеих просьбах, и тогда Корнуоллис двинулся в Уилмингтон. Он бы охотно остался в Кросс-Крик, чтобы дать своим солдатам отдохнуть от тягот походной жизни, но армию надо было чем-то кормить. Ввиду присутствия американских иррегулярных войск на берегах реки Кейп-Фир транспортировка припасов водным путем была невозможна, так что у него не было другого выбора, кроме как возобновить поход. К этому времени Корнуоллис всерьез опасался — или говорил, что опасается, — угодить в Южной Каролине в ловушку, и к тому же он был сыт по горло погоней за Грином. Седьмого апреля он отправился в Уилмингтон с примерно 1400 боеспособными солдатами. По дороге многие умерли, включая подполковника Уэбстера[859]. Через две недели после прибытия в Уилмингтон Чарльз О’Хара отметил: «Наша маленькая армия заметно пала духом». Безусловно, так оно и было. Многие из тех, кто сражался у Гилфорд-Корт-Хауса, придерживались мнения, что победа была «почетной» и даже «блистательной», но не имела никакой ценности ввиду огромных потерь. Корнуоллис не принижал значение своей победы, но и не упивался ею[860]. Его мысли были заняты другим — что делать дальше. Недавняя кампания освободила его от иллюзии, будто каждый второй житель Южной и Северной Каролин готов сражаться за Корону. Она также убедила его, что у него почти нет шансов разбить Грина, даже если бы ему удалось объединить свои силы с силами Роудона, который в те апрельские дни по-прежнему находился в Камдене. Он не знал, что делать дальше, и поделился своим настроением в письме к своему ближайшему другу генерал-майору Филлипсу, который в марте прибыл с несколькими подразделениями в Виргинию, чтобы принять командование вместо Арнольда: «Я устал переходить с места на место в поисках приключений». В более осторожных выражениях написано его письмо к Клинтону, в котором он обратился к своему начальнику за дальнейшими указаниями, притом что в самом письме, с его укоризненной констатацией, что он пребывает «в полном неведении относительно запланированных на лето операций», уже содержался план действий. В основе плана лежало неожиданное предложение «перенести театр военных действий в район Чесапикского залива, даже если это потребует вывода войск из Нью-Йорка». В этих словах, несомненно, подразумевалось, что Клинтон должен покинуть Нью-Йорк и привести северную армию в Виргинию. Там, как он писал Филлипсу в приступе необоснованного оптимизма, «у нашей борьбы будет конкретная цель, и одного успешного сражения может хватить, чтобы Америка стала нашей». Это наивное допущение, что географическое положение Чесапика может сыграть решающую роль и что одного-единственного сражения будет достаточно, чтобы покончить с революцией, лишний раз свидетельствует об узости стратегического мышления Корнуоллиса. Разочарованный долгой, изнурительной и затратной кампанией, он тешил себя иллюзиями и, теша себя иллюзиями, впадал из одного заблуждения в другое. Рядом не было никого, кто мог бы отговорить его, и 25 апреля он выступил в поход на Виргинию[861]. Несмотря на поражение у Гилфорд-Корт-Хауса, армия Натаниэля Грина сохранила свой боевой дух. Пожалуй, в наиболее приподнятом настроении пребывали ополченцы; сроки их службы истекали, и они толпами покидали армию, чтобы, как сардонически заметил Грин, «вернуться в объятия своих жен и любовниц». Даже они, по-видимому, разделяли мнение Грина, что «поле боя в тот день осталось за врагом, победа — за нами. Им досталась слава, нам — преимущество»[862]. Как воспользоваться этим преимуществом — этот вопрос терзал Грина на протяжении нескольких недель. В апреле он решил идти в Южную Каролину, чтобы очистить ее от врага. Корнуоллис к этому времени ушел далеко, и если бы он захотел дать противнику почувствовать свою силу, ему бы пришлось предпринять долгий и изнурительный поход. Грин считал маловероятным, что Корнуоллис последует за ним на юг, ибо, если бы он сделал это, он бы фактически сдал Северную Каролину. А Грин был уверен — ив этом он ошибался, — что Корнуоллис хочет во что бы то ни стало удержать Северную Каролину в своих руках. Если бы Корнуоллис последовал за Грином в Южную Каролину, преимущество оказалось бы на стороне американцев — армия Корнуоллиса еще не оправилась от последнего сражения, а на юге ей пришлось бы иметь дело не только с Грином, но и с силами Пикенса, Мэриона и Самтера. Единственное, что беспокоило Грина, это возможность объединения Корнуоллиса с Роудоном, который в то время находился в Камдене. В конце апреля стало ясно, что Корнуоллис не собирается сосредоточивать войска в Южной Каролине. Однако в мае, когда Грин достоверно узнал, что Корнуоллис направляется в Виргинию, он вновь забеспокоился — объединение Корнуоллиса с Филлипсом означало появление внушительной вражеской силы[863]. Еще не зная о намерении Корнуоллиса стряхнуть со своих подошв пыль Каролины, чтобы окунуть их в пыль Виргинии, 7 апреля Грин направился вниз по течению Кейп-Фир, сделав вид, что следует в Уилмингтон, а на другой день после этой уловки, призванной ввести противника в заблуждение, изменил направление и двинулся в Камден. Этот маневр был одним из нескольких, которые он предпринял в те дни, чтобы заставить англичан покинуть Южную Каролину. На западе Пикенс должен был ударить по английскому гарнизону в Найнти-Сикс, Мэрион и Ли должны были встретиться ниже Камдена, чтобы атаковать форт Уотсон на реке Санти, а Самтер должен был организовать продовольственные склады близ Камдена и присоединить своих партизан к основной армии. Ли и Мэрион справились со своей задачей блестяще — форт Уотсон пал 23 апреля. Возможно, что именно в ходе этого штурма была впервые использована «башня Махама», названная по имени своего изобретателя Эзикиела Махама. Эта высокая платформа в виде башни, возведенная близ форта, позволяла американским стрелкам вести навесной огонь по врагу, занимавшему оборону на стенах крепости. Пикенс тоже добился успеха, хотя силы его были слишком малы для эффективного штурма городских укреплений. Однако ему удалось очистить от неприятельских войск окрестности Найнти-Сикс и блокировать город. Один лишь Грин не справился со своей задачей, так и не взяв Камден, над которым, как он заметил сразу после провала своей операции, «похоже, витает какой-то злой гений; любое предприятие вблизи этого места заканчивается неудачей»[864]. Возможно, что над этим «местом» и вправду витал злой гений, но оно также имело надежные оборонительные сооружения и такого опытного военачальника, как лорд Фрэнсис Роудон, умный и честолюбивый офицер, служивший в Америке с 1775 года. Роудон мечтал сразиться с Грином не менее сильно, чем Грин — с Роудоном, и когда в окрестностях города появились американцы, его радости не было предела. Грин расположился на Хобкеркс-Хилл, поросшем соснами хребте, протянувшемся с востока на запад примерно в полутора милях к северу от Камдена. Полагая, что штурмовать Камден было бы безрассудством, он решил, что должен «выманить противника из города». Роудон не нуждался в приглашении, и рано утром 25 апреля внезапно атаковал американские пикеты к юго-востоку от основного расположения войск. На этой оконечности хребта стояли два мэрилендских полка с резервом из ополченцев Северной Каролины, справа от которых располагались два полка Континентальной армии из Виргинии. Американским левым флангом командовал Ото Уильямс, правым — Айзек Худжер. Роудон подступил к ним с юго-востока с тремя полками в авангарде и тремя в резерве. Дальний правый фланг атакующих был образован лучшим из его полков, 63-м[865]. Подразделения Грина спешно заняли свои позиции, и когда приблизились англичане, они были готовы к бою. У Роудона был настолько узкий фронт, что Грин решил охватить его с обоих флангов. Дав по Роудону залп картечью из трехфунтовых орудий, он бросил на него два центральных полка — справа виргинцы, слева мэрилендцы — прямо вниз по холму. В тот же момент полки, стоявшие по краям, ринулись вниз, чтобы атаковать фланги. На конницу Уильяма Вашингтона была возложена задача обойти англичан и ударить им в тыл. Атака американцев застала противника врасплох, но, несмотря на это, закончилась неудачей. Вашингтон добрался до английского тыла лишь после того, как исход сражения был решен. Однако решающую роль сыграла не медлительность кавалерии, а два других обстоятельства. Первым из них была реакция Роудона, когда при виде наступающих подразделений Грина он усилил свои собственные ряды резервом и этой мерой обеспечил защиту своим флангам. Второе обстоятельство было связано с 1-м мэрилендским полком, две роты которого были рассеяны неприятельским огнем. Увидев это, полковой командир полковник Джон Ганби приказал четырем остальным ротам вернуться, одновременно пытаясь привести в порядок те две, которые дрогнули. Ему удалось заново построить свой полк, но к этому времени виргинцы на левом фланге, видевшие, как его солдаты отступают, пришли в полное смятение. В бою нет ничего более трудного, чем удержать запаниковавших солдат. В данном случае эта задача стала практически невыполнимой, когда полковник Форд из 5-го мэрилендского полка рухнул наземь с пулей в груди. Пехотинцы Роудона потекли в брешь в американских линиях, словно увлекаемые туда силой тяготения, и хотя им не удалось разбить армию Грина, они вытеснили ее с поля боя. К концу сражения один только виргинский полк на правом фланге американской линии полностью сохранил порядок. Артиллерия была спасена в самый последний момент, когда противник уже готовился ее захватить. Сам Грин в течение нескольких минут служил в качестве помощника канонира, и конница Вашингтона, несмотря на свое позднее появление на сцене, провела ожесточенный арьергардный бой. Роудон гнал своего противника на протяжении трех-четырех километров, но не особо энергично, так как он знал, что преследование часто ведет к распылению сил преследователей. В этом сражении отступление Грина было достаточно хорошо организовано, чтобы у врага не возникло охоты догнать его во что бы то ни стало. Ни одна из сторон не понесла тяжелых потерь, но даже те потери, которые они понесли, были для них слишком большой роскошью. Остальная часть плана Грина по очистке внутренних областей Южной Каролины от врага осуществлялась после этих первых неудачных дней вполне успешно. Томас Самтер отклонил предложение Грина присоединить свои силы к основной армии, сделав выбор в пользу независимых операций. Зато 10 мая он порадовал Грина взятием Оринджберга — населенного пункта, расположенного у Северного брода на реке Эдисто. Это поселение с его крошечным гарнизоном служило важным связующим звеном между Чарлстоном и Камденом. На следующий день Ли и Мэрион подвергли обстрелу еще один оплот противника — форт Мотт на реке Конгари. Мотт оказал отчаянное сопротивление, и Ли с Мэрионом были вынуждены вести осаду, пока им не удалось выкурить противника из его логова. Тем временем Пикенс предпринял марш-бросок на юг в Огасту, которая продержалась до 5 июня. Еще до того, как состоялось большинство из этих штурмов, Роудон решил вывести войска из Камдена. В течение нескольких дней после битвы при Хобкеркс-Хилле он не терял надежды догнать Грина и в итоге наткнулся на него у речушки Сониз-Крик. Позицию, которую заняли американцы, было слишком сложно атаковать теми силами, что имелись в распоряжении Роудона, и спустя несколько дней он решил оставить Камден. У него создалось впечатление, что против него восстала вся провинция — так он написал Корнуоллису 24 мая, через две недели после того, как его колонна, перегруженная больными и ранеными, начала покидать Камден. К этому времени ему уже расхотелось вступать в генеральное сражение, поскольку он считал, что в случае больших потерь ему придется очистить как Чарлстон, так и внутренние области колонии. События следующих нескольких дней не заставили его изменить свое решение, и пока он медленно продвигался на юг по берегу Санти, его разочарование усиливалось. Там ему довелось столкнуться с тем же отношением со стороны населения, с каким столкнулся Корнуоллис в Северной Каролине: угрюмые местные жители старательно избегали встречи с ним и его солдатами. «Я провел в окрестностях Санти пять дней, прежде чем к нам приблизился первый житель здешних мест», — сетовал он Корнуоллису. Еды было так же мало, как и друзей, зато мятежных настроений было в избытке[866]. Роудон слишком поздно отдал приказ полковнику Джону Крюгеру вывести свой гарнизон из Найнти-Сикс — слишком поздно, потому что армия Грина окружила город раньше, чем пришло распоряжение от Роудона. 22 мая Грин при участии легиона Ли начал осаду города. Найнти-Сикс был окружен мощными фортификационными сооружениями, и его комендант Крюгер, лоялист из Нью-Йорка, знал, как извлечь из них максимум пользы. У него было около 500 человек против 1000 солдат регулярных войск Грина. Но, несмотря на численное превосходство американцев, он держался стойко и 18 июня отбил мощный штурм. Два дня спустя Грин неохотно снял осаду, узнав, что на выручку Крюгеру спешит Роудон с двухтысячным войском, включая три свежих полка из Англии. Эта сила грозила смести его армию, но заблаговременный отход Грина от города вкупе с летней жарой заставили Роудона прекратить преследование, когда он достиг реки Энори, протекавшей в 35 милях к северо-востоку от Найнти-Сикс[867]. Грин еще не знал, что он фактически выиграл войну в обеих Каролинах. В течение большей части июля и весь август он стоял лагерем среди высоких холмов над рекой Санти. Там солдаты регулярной армии отдыхали и набирались сил, в то время как ополченцы то приходили, то уходили — большей частью уходили. Грин занимался тем, что пытался пополнить свою армию, и строчил письма к конгрессу, в которых рисовал мрачную картину того, что его ждет, если он не получит подкреплений. Между тем Роудон, чье здоровье было подточено многими тяготами и хлопотами, в июле отплыл в Англию. Его преемник, подполковник Александр Стюарт, продолжал удерживать всего два крупных населенных пункта в южных колониях — Чарлстон и Саванну. В том году Грин и Стюарт померились силами в еще одном крупном сражении — бою при Юто-Спрингс, состоявшемся 8 сентября. Местность под названием Юто-Спрингс находится в 50 км к северо-западу от Чарлстона. Грин встретился там со Стюартом после осторожного маневрирования, призванного скрыть от противника его намерение сражаться. Это намерение родилось у него после того, как его армия получила подкрепления и припасы и англичане потеряли контроль над колонией. Если бы ему удалось разгромить Стюарта, осталось бы только отвоевать Чарлстон и тем самым положить конец войне на юге. ,Тот факт, что Грин сумел скрыть продвижение своей армии, насчитывавшей около 2200 человек, от Стюарта, доказывает, что к тому времени англичане потеряли всякую поддержку местного гражданского населения. Стюарт столкнулся с полным отсутствием сведений о враге, настолько полным, что атака, предпринятая Грином, едва не застигла его врасплох. Армия Грина включала в себя легион Ли, партизан Фрэнсиса Мэриона, ополченцев из обеих Каролин и солдат Континентальной армии из Делавэра, Мэриленда, Виргинии и Северной Каролины. Его также сопровождал неизменно преданный полковник Уильям Вашингтон со своей кавалерией. Силы Стюарта были примерно равны ему по количеству. Они включали в себя роты из трех полков регулярной армии, восемь рот «Ирландских буйволов», как именовался 3-й полк, и провинциальных лоялистов под командованием Джона Крюгера и Джона Коффина[868]. Рано утром 8 сентября американцы выступили в направлении лагеря Стюарта, расположенного на расстоянии 8 миль от их собственного лагеря на плантации Берделла. Около восьми утра передовой отряд континенталов из Северной Каролины под началом майора Джона Армстронга натолкнулся на небольшую партию вражеских солдат, посланных копать батат. Оставшись без хлеба, англичане начали заменять его бататом, произраставшим в близлежащих полях. Армстронг расстрелял копальщиков и небольшой прикрывающий отряд кавалеристов Коффина, но этим действием раскрыл свое присутствие. Оповещенный о приближении противника неизвестной численности, Стюарт расположил один батальон на дальнем правом фланге на берегу Санти в зарослях мэрилендского дуба — кустарника достаточно густого и жесткого, чтобы служить надежной преградой для конницы. На юге он растянул свои полки в линию, расположив большую часть лоялистов возле центра, примерно в ста ярдах к западу от лагеря.
Колонна Грина была изначально построена с таким расчетом, чтобы ее можно было легко развернуть в боевое положение. Теперь он развернул ее в две мощные линии, одна из которых состояла из ополченцев, другая, расположенная в ста ярдах позади первой, — из солдат регулярной армии. На своем правом фланге он поставил легион Ли, на левом — партизанские отряды под началом Джона Хендерсона и Уэйда Хэмптона. Две стороны вступили в ожесточенную схватку примерно через час после инцидента с копателями батата. Линии Грина к этому моменту, по-видимому, несколько расстроились, так как им пришлось прокладывать себе путь через лесные заросли и густой кустарник. Тем не менее ополченцы сражались на совесть, пока солдаты Стюарта не прорвали их центр. Фланги, однако, устояли, и Грин отправил континенталов из Северной Каролины закрыть образовавшуюся брешь. Эти солдаты восстановили американскую линию, но англичане предприняли еще одну атаку и вновь прорвали ее. Тогда Грин направил туда солдат регулярных войск из Виргинии и Мэриленда под командованием Ричарда Кэмпбелла и Ото Уильямса и с удовлетворением отметил, что они владеют штыком не менее искусно, чем европейские профессионалы. Впоследствии он не преминул воздать хвалу этим полкам в своем докладе конгрессу: «Лично я считаю, что мы обязаны своей победой главным образом свободному владению штыком, продемонстрированному виргинцами и мэрилендцами, пехотой легиона и легкой пехотой капитана Кирквуда». Действительно, стремительная атака американских регулярных сил вызвала смятение и беспорядок в рядах англичан, заставив их отступить[869]. Через несколько минут не меньший беспорядок воцарился в рядах самих американцев. Преследуя англичан, они вступили во вражеский лагерь, где тут же занялись грабежом. Первым, если не единственным, что привлекло их внимание, были богатые запасы рома. Пока большинство из них слонялось по лагерю, забыв всякую дисциплину, те немногие, кто продолжил преследование, натолкнулись на большой хорошо укрепленный кирпичный дом на северо-восточной окраине английского лагеря. Попытка взять дом штурмом закончилась неудачей и стоила жизни многим американцам. Между тем на сцене появился единственный английский батальон, сохранивший порядок. Батальоном командовал майор Джон Марджорибэнкс. Это подразделение сумело устоять перед яростными атаками кавалерии Уильяма Вашингтона и Уэйда Хэмптона. Изрядно потрепав американскую конницу, Марджорибэнкс отступил к кирпичному дому. Там он занял позицию и при поддержке заново построенных английских полков выбил мародеров из английского лагеря. Батальон из Мэриленда смягчил эту контратаку, не допустив, чтобы отступление превратилось в беспорядочное бегство. В любом случае, несмотря на серьезные потери, англичане сумели удержать свои позиции.
IV
Англичане удержали свои позиции, но потеряли обе Каролины и Джорджию. Стюарт вернулся в Чарлстон, к югу от которого, в Саванне, находился еще один небольшой английский контингент. Однако эти силы были слишком малочисленны, чтобы предпринимать какие-либо масштабные действия, так что им ничего не оставалось, как сидеть на месте и ждать окончания войны. Сельские районы находились в руках американцев. После падения Чарлстона весной 1780 года перенос военных действий на юг казался английскому военному начальству особенно многообещающим. В действительности даже после той победы они столкнулись с огромными трудностями. Ибо они ошибались в своих оценках поддержки со стороны лоялистов. Даже если у них когда-либо был шанс обеспечить себе поддержку населения, играя на его верноподданнических чувствах, они упустили его, перестав заботиться о южных колониях после поражений у моста через Мурс-Крик и под Чарлстоном в 1776 году. И вплоть до января 1779 года, когда Арчибальд Кэмпбелл захватил Саванну, они пребывали в бездействии. За те годы, что прошли, прежде чем англичане вновь обратили свои взоры на юг, патриотически настроенные ополченцы доказали, что они способны поддерживать порядок в обеих Каролинах и Джорджии. Необходимым условием для выполнения этой задачи они считали подавление лоялизма. И в целом они преуспели в пресечении или, по крайней мере, в предупреждении попыток лоялистов сплотиться в организованную силу. Они продолжали действовать в этом направлении и после возвращения английских регулярных войск. Корнуоллис признавался, что он раздосадован отсутствием поддержки со стороны лоялистов — каролинцы не спешили вступать в его армию и не выказывали никакой охоты кормить ее. Хуже того, они не снабжали ни его самого, ни его преемников информацией о передвижениях неприятеля. Вместо этого каролинцы нападали из засады на его курьеров, грабили его обозы и истребляли отряды лоялистов, которые осмеливались показаться им на глаза. Юг, подобно Новой Англии и срединным колониям, был враждебным регионом. Возможно, что при осуществлении планомерных операций южные ополченцы были не более надежны, чем большинство солдат иррегулярных войск на севере, зато они успешно сражались с лоялистским ополчением. Они охотно участвовали в этих нерегулярных военных действиях как минимум по двум причинам: они верили в правоту своего дела и имели поддержку большей части гражданского населения. Возможно, Натаниэль Грин не осознавал всего этого в те ужасные дни, что последовали за Камденом. Тем не менее он вел свою войну искусно и изобретательно — и постепенно начал понимать, что всякий раз, когда он бежал от врага, он мог рассчитывать на поддержку населения в обеих Каролинах. Поддержка не была щедрой — ресурсы сельской местности, и без того скудные, были истощены войной, — но она была достаточной, чтобы позволить ему превратить тот способ ведения войны, который он сам называл «войной отступающих», в средство достижения победы на Нижнем Юге.20. Внутри войны
I
В битве при Юто-Спрингс, последнем крупном сражении Войны за независимость до капитуляции Корнуоллиса в Йорктауне, были убиты и ранены свыше 500 американцев. Натаниэль Грин привел туда около 2200 человек; таким образом, он потерял почти четверть своей армии. В течение следующих двух лет люди будут продолжать гибнуть и страдать от ужасных ран. По данным статистики, хотя она, как известно, вещь ненадежная, Война за независимость погубила больше американцев (считая только тех, кто сражался на стороне повстанцев), чем любая другая война в нашей истории, за исключением, разумеется, Гражданской войны[870]. Что заставляло этих людей — и тех, кто выжил, и тех, кто погиб, — сражаться? Что заставляло их удерживать свои позиции, выносить напряжение боя, видя, как вокруг умирают их товарищи, и подвергая себя столь явной опасности? Несомненно, что в разных сражениях ими двигали разные мотивы, но столь же несомненно и то, что у всех этих сражений было нечто общее и что этими людьми двигали сходные мотивы, заставляя их сражаться, несмотря на то что самые глубинные инстинкты побуждали их бежать с поля боя, где им грозила опасность. Многие избавлялись от своих ружей и вещевых мешков, чтобы бежать еще быстрее. Целые подразделения американцев пасовали перед врагом как в крупных сражениях, так и в мелких — в битвах за Бруклин, в заливе Кипс-Бей, при Уайт-Плейнсе, Брендивайне, Джермантауне, Камдене и у Хобкеркс-Хилла, если назвать только самые известные примеры. И все же другие не теряли присутствия духа и не спасались бегством даже в тех случаях, когда у американской стороны не было никаких шансов на победу. Они стояли до последнего и продолжали сражаться даже при отступлении. В большинстве боев континенталы, солдаты регулярной армии, дрались отважнее, чем ополченцы. Мы должны понять, за что боролись эти люди и почему американские регулярные войска добивались больших успехов, чем ополченцы. Ответы на эти вопросы, несомненно, помогут нам лучше понять революцию, особенно если мы выясним, действительно ли эти люди сражались за свои революционные убеждения. Некоторые из возможных объяснений готовности сражаться до последней капли крови можно отбросить с ходу. Согласно одному из них, солдаты обеих сторон воевали из страха перед своими офицерами, боясь их больше, чем противника. Фридрих Великий считал этот мотив идеальным, однако он не существовал ни в идеале, ни в реальности, ни в американской, ни в британской армии. Британский солдат, как правило, в большей степени обладал «профессиональным» духом, нежели американский, что было обусловлено его уверенностью в своем мастерствеи гордостью от своей принадлежности к старому, испытанному временем институту. Британские полки носили гордые названия — Королевские уэльские фузилеры, Черная стража, Собственный королевский, — и их офицеры обычно вели себя в бою с небывалым мужеством, надеясь, что их солдаты будут следовать их примеру. Британские офицеры обращались со своими солдатами намного строже и уделяли их строевой и боевой подготовке намного больше внимания, чем американские. Но ни британские, ни американские офицеры не стремились внушать солдатам страх, который Фридрих считал столь желательным. Моральная сила, отвага, предпочтение штыка пуле — все это требовалось от профессиональных солдат, но профессионалами двигала гордость, а не страх перед офицерами. И все же без принуждения и насилия не обходилась ни та, ни другая армия. Разумеется, существовали определенные границы в их использовании и эффективности. Страх перед наказанием мог удержать солдат от дезертирства, но он не гарантировал, что они не дрогнут под огнем. С другой стороны, солдат порой останавливал страх перед насмешками со стороны своих товарищей. В XVIII веке пехота шла в бой довольно плотным строем, позволяя офицерам следить за многими солдатами одновременно. Когда боевой порядок был достаточно тесным, офицеры могли бить отстающих и даже отдавать приказ расстреливать «отлынщиков», как Вашингтон называл тех, кто пускался наутек[871]. Накануне занятия Дорчестерских высот в марте 1776 года вышел приказ, согласно которому любой американец, уклоняющийся от боя, подлежал «расстрелу на месте»[872]. Как вспоминал один военный священник, сами солдаты одобрительно восприняли эту угрозу. Вашингтон повторил ее перед состоявшейся в том же году битвой за Бруклин, но все же не стал прибегать к созданию заградительных отрядов. Даниэль Морган неоднократно призывал Натаниэля Грина ставить за спиной у ополченцев стрелков, и Грин, возможно, последовал его совету в сражении у Гилфорд-Корт-Хауса. Никто всерьез не считал, что целую армию можно удержать на месте вопреки ее воле, и практика стрельбы по солдатам, которые отступали без приказа, никогда не имела широкого распространения[873]. Гораздо более популярной была другая тактика, состоявшая в том, чтобы посылать солдат в бой пьяными. Доподлинно известно, что многие солдаты перед сражением притупляли свои чувства ромом. Накануне любого трудного маневра или операции — например, тяжелого и длительного перехода или крупной баталии — в обеих армиях практиковалась выдача дополнительной порции рома. Обычно она составляла четверть пинты, и, будучи принята в нужный момент, заглушала чувство страха и придавала храбрости. При Камдене ввиду отсутствия рома Гейтс заменил его патокой, однако, как отмечает Ото Уильямс, это не привело ни к чему хорошему. В битве у Гилфорд-Корт-Хауса англичане добились блестящих результатов, не прибегая к помощи ничего более крепкого, чем их собственные воля и нервы. В большинстве сражений солдаты опирались исключительно на свои собственные силы и поддержку товарищей[874]. Нет сомнения, что многих солдат, особенно в американской армии, поддерживала вера в Святой Дух. Письма и дневники простых солдат изобилуют упоминаниями о Всевышнем и Провидении. Часто, однако, эти выражения носят форму благодарности Богу за то, что он позволяет им выжить. Вряд ли солдаты всерьез думали, что вера делает их неуязвимыми к вражеским пулям. Многие считали дело, за которое они сражались, священным; их война, как им постоянно напоминали священники, посылавшие их убивать, была справедливой и угодной Богу[875]. Другие рассматривали войну как средство получения более сиюминутных выгод, как возможность грабить погибших солдат противника. У Монмут-Корт-Хаусе, когда Клинтон с наступлением темноты покинул поле, усеянное телами павших англичан, американские солдаты занялись грабежом домов мирных граждан, которые от страха попрятались по окрестностям. Действия солдат были столь откровенными и вызывающими, что Вашингтон распорядился обыскать их вещевые мешки. А при Юто-Спрингс американцы фактически выпустили из рук победу ради возможности поживиться добром противника в его лагере. Многие стали жертвой собственной жадности, застреленные врагом, у которого было время перегруппироваться, пока в его лагере хозяйничали мародеры. Но даже эти люди, по-видимому, боролись за что-то еще, помимо возможности присвоить чужое добро. Когда у них появлялась такая возможность, они пользовались ею, но не она влекла их на поле боя, не она заставляла их стоять насмерть[876]. Воодушевление командиров помогало солдатам справляться со страхом смерти, хотя порой они сражались храбро даже в тех случаях, когда командиры бросали их на произвол судьбы. И все же храбрость офицеров и пример тех из них, кто, пренебрегая ранами, оставался в строю, безусловно, помогали солдатам держаться. Английский генерал Чарльз Стедман упоминает в своих записках капитана Мейтленда, который, получив ранение в сражении у Гилфорд-Корт-Хауса, отстал на несколько минут от своих солдат, чтобы дать перевязать себе рану, после чего вернулся в ряды атакующих[877]. Корнуоллис вызвал восторг у сержанта Лэма, когда бросился в гущу сражения после того, как под ним убили лошадь[878]. Присутствие Вашингтона в битве под Принстоном имело большое значение, хотя то обстоятельство, что он подставлял себя под пули врага, вероятно, нервировало его солдат. Негромкую фразу, которое он твердил как заклинание, объезжая свои шеренги перед штурмом Трентона — «Солдаты, держитесь офицеров», — один солдат из Коннектикута не мог забыть вплоть до самой своей смерти пятьдесят лет спустя[879]. Но в армии был всего один Вашингтон, всего один Корнуоллис, и их влияние на солдат, из которых лишь немногие имели возможность видеть их во время боя, безусловно, было незначительным. Младшие офицеры и сержанты отвечали за обучение тактическим навыкам; они должны были демонстрировать своим солдатам, что нужно делать, и каким-то образом убеждать, задабривать или заставлять их делать это. Благодарность, с которой простые солдаты вспоминали своих сержантов и младших офицеров, свидетельствует о том, что эти командиры вносили важный вклад в готовность солдат сражаться. Но сколь бы важным ни был этот вклад, он не объясняет до конца, что заставляло людей бросаться под пули. Предлагая эти соображения по поводу роли военного начальства, я не хочу, чтобы меня поняли так, будто я согласен с презрительным мнением Толстого о полководцах — что, несмотря на все их планы и приказы, они вообще никак не влияют на исход сражений. Презрительное отношение Толстого распространяется не только на полководцев — в «Войне и мире» высмеиваются также и историки, находящие рациональный порядок в сражениях, где царил один хаос. «Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого-нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события»[880]. Все значение сражения ускользает от историков так же неизбежно, как и от его участников. И все же мы должны с чего-то начать, чтобы попытаться объяснить, почему солдаты в большинстве своем добросовестно дрались на полях революционных боев, а не бежали с них. По-видимому, поле боя — это как раз то место, с которого мы должны начать, отвергнув личный пример командиров, страх перед офицерами, религиозную веру, воздействие алкоголя и т. д. как возможные объяснения того, что заставляло людей стоять насмерть. Поле боя в XVIII веке, в сравнении с веком XX, представляло собой тесное пространство, особенно тесное в случае сражений Войны за независимость, которые были мелкими даже по тогдашним меркам. Область поражения ружья, равная 80–100 м, а также такие факторы, как предпочтение штыка пуле и низкая эффективность артиллерии, обусловливали еще большую тесноту. Противники были вынуждены подходить на близкое расстояние друг к другу, и этот факт делал сражение более «прозрачным» для его участников, хотя вряд ли ослаблял чувство страха. Зато, по крайней мере, поле боя было менее «безличным». Действительно, в отличие от боев XX века, в которых твой враг обычно остается невидимым, а место, откуда в тебя стреляют, неизвестным, в боях XVIII века врага можно было видеть, а порой даже и осязать. Лицезрение врага, вероятно, вызывало исключительную интенсивность переживаний, не типичную для современных сражений. Штыковая атака — самая желанная цель пехотной тактики, — по-видимому, вызывала своего рода эмоциональный взрыв. Прежде чем он происходил, напряженность и тревога усиливались по мере выдвижения солдат из колонны на линию атаки. Цель этого маневра ясно осознавалась как ими самими, так и противником, который, вероятно, следил за ними со смешанным чувством страха и завороженности. Когда раздавался приказ бросаться на врага, тревожное чувство атакующих сменялось яростью, даже бешенством, в то время как теми, кто оборонялся, овладевали ужас и отчаяние[881]. В этом смысле весьма показательно, что американцы обращались в бегство чаще всего в тот момент, когда видели, что противник пошел в штыковую атаку. Именно так произошло с несколькими подразделениями при Брендивайне и с ополченцами под Камденом и у Гилфорд-Корт-Хауса. Чувство одиночества и покинутости, о котором свидетельствуют современные солдаты, в такие моменты, по-видимому, отсутствовало. Все было ясно — особенно этот сверкающий ряд приближающихся стальных штыков. Была ли эта пугающая ясность страшнее, чем отсутствие видимого врага, судить сложно. Американские войска бежали при Джермантауне после того, как схватились с англичанами, а затем обнаружили, что поле битвы застлано туманом. Тот момент, когда они и их противник сражались практически вслепую, напоминал сцену современного боя. В самый критический момент враг стал незримым, и страх американцев был вызван незнанием того, что происходит — или вот-вот произойдет. Они не могли видеть врага, и самое главное, они не могли видеть друг друга. Ибо, как предполагает военный историк XX века Маршалл в своей книге «Люди под огнем», в чрезвычайных обстоятельствах сражения солдат поддерживает осознание того, что рядом с ними находятся их товарищи[882]. В тесных условиях американского поля боя бойцов поддерживало именно это знание. И не только потому, что ограниченное пространство делало сражение более «прозрачным». Гораздо важнее то, что тесное пространство позволяло солдатам оказывать друг другу моральную и психологическую поддержку. Человек видел своего врага, но он также видел и своих товарищей; и не только видел, но мог и общаться с ними. Пехотная тактика XVIII века требовала, чтобы солдаты перемещались и стреляли сомкнутым строем, который позволял им переговариваться и делиться друг с другом информацией, а также подбадривать и утешать друг друга. Если строй был сформирован надлежащим образом, пехотинцы двигались плотными шеренгами, касаясь друг друга плечами. В бою физический контакт солдата с товарищами, находящимися по бокам от него, вероятно, помогал ему справляться со своим страхом. Ведение ружейного огня из трех компактных шеренг, практиковавшееся в английской армии, также подразумевало физический контакт. Солдаты первой шеренги стреляли, присев на правое колено; каждый из солдат центральной шеренги помещал свою левую ногу под правое колено солдата, находящегося перед ним; солдаты задней шеренги поступали аналогичным образом. Эта разновидность боевого порядка именовалась «замком». Сама плотность такого строя иногда вызывала критику со стороны офицеров, которые жаловались, что она мешает прицеливанию. По их словам, передняя шеренга, сознавая близость центральной шеренги, целится слишком низко; задняя шеренга имеет обыкновение «стрелять в воздух», как называлось слишком высокое ведение огня; и лишь центральная шеренга прицеливается как следует. При всей справедливости этой критики в отношении точности прицеливания солдаты в таком плотном строю, как правило, сражались весьма эффективно. И еще следует отметить, что неточность солдат, стрелявших из задней шеренги, свидетельствовала об их беспокойстве за тех, кто находился перед ними[883]. Английские и американские солдаты, участвовавшие в той войне, любили упоминать о боевом «воодушевлении» и «достойном поведении» под огнем. Иногда эти выражения относились к отважным подвигам в условиях большой опасности, но намного чаще в них подразумевались сплоченность, взаимовыручка, восстановление строя, когда он рассыпался или приходил в беспорядок — как, например, у американцев в сражении у фермы Гринспринг, Виргиния, в начале июля 1781 года, когда Корнуоллис заманил Энтони Уэйна на другой берег реки Джеймс с отрядом, значительно уступавшим англичанам по численности. Уэйн разглядел свою ошибку и решил обернуть ее себе на пользу: вместо того чтобы спешно уходить из ловушки, он скомандовал атаку. Шансы американцев были ничтожно малы, но, как вспоминал один участник того боя, их спасло мужественное поведение пехоты; «Наши солдаты держались достойно, сражаясь с огромным воодушевлением и отвагой. Пехота то и дело рассыпалась, но каждый раз восстанавливала строй, словно по команде»[884]. Эти войска разбегались, когда англичане застигали их врасплох, но затем строились заново с быстротой молнии. Это было испытание на мужество, испытание, которое они выдерживали отчасти благодаря своему сомкнутому строю. При Камдене, где ополченцы, напротив, пали духом, как только началась битва, их страх, возможно, был обусловлен «открытым» строем. Гейтс поставил виргинцев на дальнем левом фланге, рассчитывая, что они займут большую площадь, чем это было возможно при их численности. Как бы то ни было, они пошли в бой одной шеренгой, держась друг от друга на расстоянии, по меньшей мере, полутора ярдов — расстоянии, которое способствовало чувству разобщенности среди огня и шума битвы. И это чувство усиливалось тем обстоятельством, что, вытянувшись в шеренгу на дальнем фланге, где их никто не мог поддержать, эти люди были особенно уязвимы для вражеских пуль[885]. Солдаты в плотных шеренгах сознательно подбадривали друг друга разными способами. Англичане, как правило, громко переговаривались и издавали ободрительные восклицания, независимо от того, шли они в атаку, отбивались от врага или прицеливались. Американцы, по-видимому, вели себя менее шумно, хотя имеются свидетельства, что они научились подражать противнику. Шумное ликование по завершении удачного боя было обычной практикой. Англичане ликовали при Лексингтоне и были подвергнуты интенсивным обстрелам на обратном пути из Конкорда. Американцы кричали от радости на Гарлемских высотах — реакция вполне понятная, особенно если учесть, что в течение большей части 1776 года у них не было поводов для ликования[886]. Большинство случаев трусливого поведения в бою имело место среди американских ополченцев. И все же некоторые отряды ополченцев добивались больших успехов, оставаясь неколебимы под самым интенсивным обстрелом. Отряды из Новой Англии при Банкер-Хилле держались под огнем, сильнее которого английские боевые офицеры не видывали даже в Европе. Лорд Роудон отмечал, что на его памяти не было случая, чтобы защитники не оставляли редут[887]. Новоанглийские ополченцы доказали, что такие случаи бывают. Они проявили чудеса стойкости и в битве под Принстоном. «Они быстрее всех восстанавливали свой строй» и мужественно держались под снарядами, «свистевшими на тысячу ладов над нашими головами», отмечал Чарльз Уилсон Пил, командир ополченцев из Филадельфии, которые также проявили исключительную стойкость[888]. Чем отличались эти отряды от остальных? Почему они сражались, когда другие бежали с поля боя? Ответ, вероятно, следует искать в отношениях между их бойцами. Ополченцы из Новой Англии, Филадельфии и ряда других мест, державшиеся вместе даже в самых страшных переделках, были соседями. Они знали друг друга, им было что доказать друг другу, у них была своя «честь», которую следовало защищать. Их активное участие в революции могло продолжаться недолго, но они тем или иным образом оставались вместе в течение довольно длительного времени — как правило, в течение нескольких лет. Отряды ополчения формировались в городах и деревнях, и многие ополченцы знали друг друга с младых ногтей[889]. В других случаях, особенно в малонаселенных южных колониях, отряды формировались из фермеров, их сыновей, батраков, ремесленников и новых переселенцев, которые не были знакомы друг с другом. Такие отряды состояли, если воспользоваться словечком, имевшим широкое хождение на последнем этапе войны, из «шатунов», которые не имели общих корней и почти ничего не знали о своих товарищах. Они чувствовали себя одинокими, даже когда сражались в плотной шеренге. Отсутствие личных связей и их собственная замкнутость вкупе с недостаточной подготовкой и непривычкой к дисциплине часто вели к дезорганизации под огнем[890]. Согласно общепринятой точке зрения, чем ближе находились американские ополченцы к родному дому, тем лучше они сражались, так как боролись за свою, а не за чужую землю. Однако близость к дому порой действовала расслабляюще. Ибо далеко не каждый рвался в бой, где его, возможно, поджидала смерть, когда родной дом и безопасность были буквально в двух шагах. Почти все американские офицеры старшего звена отмечали склонность ополченцев к дезертирству — а если они не дезертировали, то часто отлучались из лагеря домой, причем, как правило, самовольно. Как это ни парадоксально, но из всех американцев, участвовавших в войне, именно ополченцы своими личными качествами и поведением олицетворяли идеалы и цели революции. Они были независимыми или, по меньшей мере, пользовались личной свободой задолго до подписания Декларации независимости. Они инстинктивно чувствовали свое равенство с другими и во многих местах демонстрировали это равенство выбором своих собственных офицеров. Их чувство свободы позволяло им — и даже заставляло — наниматься лишь на короткий срок, покидать лагерь, когда им вздумается, игнорировать приказы командиров, особенно если те приказывали наступать, когда они предпочли бы бежать. Их чувство принадлежности к обществу свободных людей заставляло их противиться военной дисциплине; их идеал личной свободы возбуждал в них ненависть к армии, функционировавшей подобно машине. Они не хотели быть винтиками машины. Их лучшие качества проявились, в частности, на Ханназ-Коупенс, где они сражались отлично, худшие — при Камдене, где они отступили без боя. Там они, по выражению Грина, стали «неуправляемыми»[891]. Ополченцам прежде всего не хватало свода профессиональных стандартов, требований и правил, которые могли бы регулировать их поведение в бою. Милиции не хватало профессиональной гордости. Покидая лагерь и возвращаясь в лагерь по своему усмотрению, устраивая пальбу из ружей ради собственного удовольствия, ополченцы раздражали солдат регулярной армии, которые очень быстро убеждались в ненадежности большинства из них. Полную противоположность американским ополченцам представляли собой солдаты британской регулярной армии. Их «выдергивали» из общества, тщательно изолировали, держали в полном повиновении и основательно муштровали. Их жизненные цели и ценности были связаны с армией и только с армией. Безусловно, офицеры во многих отношениях существенно отличались от солдат. Они олицетворяли идеалы джентльмена, верой и правдой служащего своему королю и сражающегося за честь и славу. Британские офицеры, чье призвание было определено этими идеалами и этой миссией служения королю, старались держаться как можно дальше от конкретных ужасов войны. Это не значит, что они не сражались. Они искали боя и опасности, но в соответствии с условностями, определявшими их понимание сражения, старались избегать таких участков боя, где им пришлось бы убивать и где они сами могли быть убитыми. Таким образом, результатом сражения мог быть длинный перечень убитых и раненых, но результаты также бывали «почетными и славными», как высказался Чарльз Стедман по поводу сражения у Гилфорд-Корт-Хауса, либо, наоборот, знаменовали «позор британского оружия», как он охарактеризовал битву на Ханназ-Коупенс. Атаки и обстрелы в одних случаях назывались «стремительными», «ураганными» и «жаркими», в других — «утомительными». Порой они описывались в легкомысленном тоне — в частности, сражение на Гарлемских высотах с точки зрения лорда Роудона было «той дурацкой переделкой». Обращаясь к своим солдатам, английские офицеры говорили деловито и по существу. В лаконичной фразе Хау «полагайтесь на свои штыки» резюмированы чаяния настоящего профессионала[892]. Несмотря на всю дистанцию между английскими офицерами и простыми солдатами, они оказывали существенную поддержку друг другу на поле боя. Как правило, они строились в боевой порядок долго и тщательно, под барабанный бой и свист дудок. Они разговаривали, кричали и подбадривали друг друга и, идя в штыковую атаку с криками «ура» или ведя огонь по неприятелю все с тем же боевым кличем, они поддерживали в себе чувство локтя. Огонь американской артиллерии прореживал их ряды, но они продолжали наступать, ободряя друг друга возгласами «Вперед! Вперед!», как это было при Банкер-Хилле и в последующих сражениях[893]. Хотя большие потери, безусловно, действовали на них угнетающе, они почти всегда поддерживали целостность своих полков как боевых единиц, и даже если они оказывались разбитыми или почти разбитыми, как, например, у Гилфорд-Корт-Хауса, к ним быстро возвращалось их чувство собственного достоинства, и в дальнейших сражениях они дрались образцово. Так, например, при Йорктауне не было даже намека на то, что англичане готовы сдаться, хотя они несли чудовищные потери. Солдатам американской регулярной армии, или континенталам, не хватало того лоска, которым отличались англичане, но, начиная по крайней мере с Монмута, они проявляли почти столь же впечатляющую стойкость под огнем, как и их противник. И демонстрировали образцовую выносливость: потерпев поражение, они оттягивали свои ряды назад, строились заново и возвращались на поле боя, чтобы снова попытать счастья. Эти качества — терпение и выносливость — импонировали в них многим. Например, Джон Лоренс, служивший при штабе Вашингтона в 1778 году, выражал страстное желание командовать ими. В своем прошении о назначении командующим Лоренс писал: «Я буду холить и лелеять этих милых обтрепанных континенталов, чье терпение станет предметом восхищения для будущих поколений, и почту за честь проливать кровь бок о бок с ними»[894]. Это заявление было тем более неожиданным, что оно исходило от аристократа из Южной Каролины. Солдаты, которыми он восхищался, были кем угодно, только не аристократами. По мере затягивания войны их все чаще набирали из бедных и неимущих. Большинство вступали в армию либо вместо своих богатых соседей, которые платили им за это определенную сумму, либо ради премий или в обмен на посулы наделения землей. Со временем некоторые или даже многие из них проникались идеалами революции. Как отметил барон фон Штойбен, занимавшийся строевой подготовкой новобранцев, они отличались от европейских солдат в том хотя бы отношении, что хотели знать, для чего их заставляют делать те или иные вещи. В отличие от европейских солдат, слепо делавших то, что им приказывали, континенталы всегда интересовались целью своих действий[895]. Офицеры Континентальной армии имитировали манеры своих английских соперников. Они мечтали породниться со знатью и часто выдавали это стремление чрезмерной заботой о своей чести. Неудивительно, что по примеру английских офицеров они уснащали свои описания сражений словами из лексикона джентльмена. Их солдаты, не сведущие в таких изысках, говорили словами, почерпнутыми из их непосредственного боевого опыта. Описывая ужасы битвы, они не пользовались эвфемизмами. Так, рядовой Давид Хау в сентябре 1776 года в Нью-Йорке отметил в своем дневнике: «Сегодня утром Айзеку Фаулзу оторвало голову ядром». А вот как сержант Томас Маккарти описал схватку между английским фуражным отрядом и американскими пехотинцами близ Нью-Брансуика в феврале 1777 года: «Мы атаковали их отряд, и пули летали, как пчелы. Мы продержались около 15 минут, а затем отступили с потерями». После боя в ходе осмотра поля обнаружилось, что англичане добивали раненых американцев: «Тем, кто был ранен в бедро или щиколотку, они вышибали мозги выстрелами из ружей, после чего дырявили их тела штыками. Это было варварство в его крайнем проявлении». Ужас, который испытал Элайша Бостуик, солдат из Коннектикута, видя, как снаряды обезображивают и убивают его товарищей в сражении при Уайт-Плейнсе, остался с ним на всю жизнь: пушечное ядро «врезалось во взвод лейтенанта Янга, находившийся рядом с моим; сначала ядро снесло голову толстяку Смиту, и из обрубка его шеи брызнул фонтан крови, затем оно разодрало живот Тейлору и, наконец, врезалось в бедро сержанта Гаррета из нашей роты и раздробило ему тазовую кость. Смита и Тейлора оставили лежать на месте. Сержанта Гаррета вынесли с поля, но он умер в тот же день. Страшно вспомнить — о Боже, в каких-то 30 ярдах! — эта бесформенная груда из человеческих рук и ног вперемешку с вещмешками и ружьями»[896]. По своей психологии и моральным качествам континенталы занимали промежуточную позицию между ополченцами и британскими профессионалами. Начиная с 1777 года они вербовались на военную службу на три года или на всю продолжительность войны. Такой большой срок службы позволял им основательно овладеть военным ремеслом и приобрести опыт. Это не значит, что в бою они не испытывали страха. Опыт участия в боевых действиях почти никогда не оставляет человека равнодушным к опасности, если только в результате сильного утомления он не начинает считать себя уже мертвым. Просто дело в том, что опытные солдаты умели справляться со своим страхом более эффективно, чем новички, ибо они знали по опыту, что противник испытывает такой же страх, как они, и что они могут положиться на своих товарищей. Зимой 1779/80 года континенталы начали осознавать, что им не на кого надеяться, кроме как на самих себя. Их солдатские качества, вызывавшие восхищение в самых широких слоях американского общества («привычка к подчинению»[897], выносливость, способность переносить любые страдания и лишения), возможно, как раз и стали причиной той горькой покорности обстоятельствам, которую они демонстрировали в течение значительной части войны. В ту холодную и голодную зиму в Морристауне они, вероятно, чувствовали себя никому не нужными. Они знали, что в Америке имеется достаточно пищи и одежды, чтобы они могли жить в сытости и тепле, однако о снабжении армии никто по-настоящему не заботился. Их недовольство, безусловно, усилилось, когда они осознали, что их в очередной раз бросили на произвол судьбы. Недовольство со временем превратилось в комплекс мученичества. Они чувствовали себя мучениками за «славное дело» революции. Они были призваны осуществить идеалы революции и довести борьбу за независимость до конца, так как гражданское население было неспособно на такое свершение[898]. Таким образом, за четыре года активных военных действий континенталы — пусть не так четко и не так самостоятельно, как ополченцы, — более или менее осознали смысл своей борьбы. Цели революции стали в какой-то мере их собственными целями. Возможно, что именно благодаря ощущению своей изолированности и покинутости они стали в большей степени националистами, чем ополченцы, — хотя, конечно, не в большей степени американцами. Эти причины изменения настроений континенталов могут показаться странными, но именно они способствовали скорейшему усвоению этими людьми основных принципов профессиональной этики. Обособленные от ополченцев сроком своей службы, уважительным отношением к себе со стороны офицеров и своим собственным презрением к «внештатным» солдатам, континенталы постепенно развивали в себе твердость духа и чувство собственного достоинства. Их страна могла не обращать внимания на жалкие условия их жизни в лагере, на то, что они пухли с голоду, тряслись от холода и ходили в обносках, но они не могли позволить игнорировать себя в бою. И в бою они поддерживали друг в друге чувство уверенности в своих собственных моральных и профессиональных ресурсах. На первый взгляд, военные достижения ополченцев и континенталов свидетельствуют о том, что великие принципы революции не играли большой роли на поле боя. А если все же играли — особенно в случае ополченцев, с молоком матери впитавших любовь к свободе и глубокое и неизбывное недоверие к регулярным армиям, — то они скорее способствовали ослаблению воли к борьбе, а не ее укреплению. А континенталы, которых все чаще набирали из бедных и обездоленных слоев населения, явно начали сражаться лучше, когда они стали похожи на своего профессионального и аполитичного противника — британскую пехоту. Эти выводы отчасти однобоки. Едва ли можно отрицать тот парадоксальный факт, что приверженность многих американцев принципам революции делала их ненадежными на поле боя. Тем не менее именно эта приверженность приводила их туда. Джордж Вашингтон, их главнокомандующий, не уставал напоминать им, что, в отличие от наемников, они сражаются за свободу, а не за деньги. Они сражались за «блага свободы», как сказал он им в 1776 году, и если бы они не вели себя как мужчины, они получили бы рабство вместо свободы[899]. Требование вести себя по-мужски не было пустым звуком. Отвага, честь, доблесть в служении свободе — все эти понятия, вызывающие определенное чувство неловкости у интеллектуально утонченных людей XXI века — в XVIII столетии определяли мужское начало. В бою эти слова приобретали особо мощное звучание, когда они воплощались в действия мужественных людей. Вполне возможно, что для многих американцев, воспитанных в узком профессиональном духе, поле боя становилось своего рода универсальной школой, заставлявшей их задуматься о целях своего профессионального мастерства. С одной стороны, солдаты должны были понимать, что эти цели достойны того, чтобы за них сражаться и умирать. Ибо во время боя американские солдаты оказывались в ситуации, к которой они не были подготовлены своим предыдущим повседневным опытом. Они должны были убивать других людей в осознании того, что даже если они преуспеют в этом деле, они могут быть убиты сами. Как бы мы ни определяли эту ситуацию, в том числе посредством ссылок на революцию, производимую во имя жизни, свободы и счастья, она была неестественной. С другой стороны (и здесь речь пойдет о том обстоятельстве, которое, вероятно, помогало солдатам выносить напряжение боя), ситуация американских солдат, сколь бы она ни была непривычной, ни в коем случае не была для них незнакомой. Ибо ситуация боя представляла собой в концентрированном виде классический выбор, стоящий перед свободными людьми: выбор между такими соперничающими мотивациями, как ответственность перед обществом и личными желаниями, или, если воспользоваться понятиями XVIII века, выбор между добродетелью — стремлением оправдать общественное доверие — и личной свободой. В ситуации боя добродетель требовала, чтобы люди отказывались от своей свободы и, возможно, даже жизни ради блага других людей. В каждом бою им фактически приходилось выбирать между ответственностью перед обществом и тягой к свободе. Сражаться или бежать? Они знали, что выбор может означать либо жизнь, либо смерть. Для тех американских солдат, которые были слугами, подмастерьями, бедняками, завербовавшимися в армию вместо богатых людей, этот выбор, казалось бы, мог не предполагать морального решения. В конце концов, они никогда не пользовались достаточной личной свободой. Но, даже становясь частью того порождения авторитаризма, каким являлась профессиональная армия XVIII века, они не могли избежать морального решения. Когда они стояли в плотном строю, их близость к своим товарищам заставляла их помнить, что им тоже дана возможность служить добродетели. Стоя на смерть, они служили своим товарищам и чести; спасаясь бегством, они служили только самим себе. Таким образом, бой испытывал внутренние качества людей, испытывал силу их душ, как выразился Томас Пейн. Многие люди погибали в том испытании, которому бой подвергал их дух. Некоторые солдаты считали это испытание жестоким, другие — «почетным». Пожалуй, именно это различие в восприятии нагляднее всего демонстрирует, насколько трудно было в годы революции быть одновременно солдатом и американцем. Столь же трудным это остается и по сей день.II
Первый контакт новобранца с армией не вызывал в нем никаких других эмоций, кроме потребности в утешении и ободрении. Армия представала перед ним как скопище незнакомых людей, непонятных правил и новых порядков. Возьмем, к примеру, парня, работавшего батраком на ферме где-нибудь в Мэриленде и поступившего на военную службу, поддавшись уговорам офицеров, которым было необходимо выполнить план по набору рекрутов. Он записался на трехгодичную службу в обмен на вознаграждение в десять долларов и обещание ста акров земли по истечении срока его службы. Когда рекрут прибыл в лагерь под Аннаполисом, ему сообщили, что Мэрилендская линия вскоре выдвинется в Пенсильванию, где располагается главная армия, чьи офицеры пытаются разгадать намерения генерала Хау. Офицеры занимались тем, что думали о подобных вещах, у солдат имелись другие занятия. Наш рекрут занялся тем, что начал знакомиться с товарищами по службе. Многие из них, как он узнал, вступили в армию по совершенно иным причинам, нежели он сам, — и на совершенно иных условиях. Армия, по сути дела, состояла из нескольких видов организованных подразделений. Ополчение, срок службы в котором обычно составлял всего несколько месяцев, было обязано своим происхождением английской «Ассизе о вооружении». Если говорить о более непосредственных истоках ополчения, то задолго до революции каждая колония одобрила закон об обязательном прохождении военной службы, контроль за соблюдением которого был возложен на города и графства. На самом деле службу в армии проходили далеко не все мужчины, но сам принцип службы утвердился прочно и надолго. И когда в июне 1775 году по решению конгресса была создана Континентальная армия, ополчение стало ее ядром. В течение оставшегося периода войны, после того как отряды ополченцев из штатов Новой Англии были объединены под названием «континенталы», все штаты самостоятельно формировали подразделения Континентальной армии и свое собственное ополчение. Конгресс нес расходы по набору рекрутов в Континентальную армию и по ее содержанию, в то время как штаты продолжали нести расходы по содержанию местных подразделений. Такая система порождала конкуренцию за рекрутов — ценой развращения солдат и ослабления морального духа. Конкуренция фактически приобрела форму торгов. Пока конгресс и штаты пытались перещеголять друг друга в щедрости, на сцене появились охотники за премиями, охотно получавшие вознаграждения за многократные поступления на военную службу. Эта практика раздражала честных людей, которые, если их угораздило записаться в армию, когда премии были низкими, чувствовали себя обманутыми вдвойне. Когда рекрут из Мэриленда прибыл в лагерь, ветераны поинтересовались у него, какое вознаграждение он получил. Его опыт совпадал с опытом многих других, и когда размер премии вырос, он оказался в рядах недовольных. Вашингтон попытался утешить этих людей, призвав конгресс добавить сто долларов к их единовременному вознаграждению за начальный период службы. Конгресс откладывал решение этого вопроса вплоть до 1779 года, когда он наконец принял соответствующее постановление[900]. Но даже выплата повышенных премий не пополнила ряды Континентальной армии и ополчения. В начале 1776 года конгресс сформировал 27 полков Континентальной армии из ополченцев, уже состоящих на службе; в сентябре, вслед за поражением американцев на Лонг-Айленде, он распорядился создать 88 батальонов, а в декабре того же года — еще шестнадцать. Ни один из этих планов не был осуществлен полностью, и в 1779 году конгресс одобрил масштабную реорганизацию, предполагавшую создание 80 полков. В следующем году это число было снижено до 58. Рекрут почти ничего не знал об этих планах. Большинство его товарищей, как он выяснил, поступили на военную службу по призыву. Штаты назначали чиновников, ответственных за призыв, которые действовали через местные власти. Человек, призванный на военную службу, имел право отправить вместо себя в армию другое лицо, и практика найма таких заменяющих лиц получила широкое распространение. Город Эппинг, штат Нью-Гэмпшир, однажды выполнил свою квоту по призыву целиком за счет найма заменяющих лиц из близлежащих городов. Такая практика не могла не привести к тому, что число солдат на действительной военной службе росло главным образом за счет рекрутов из бедных и неимущих слоев населения. Эти люди, включая нашего рекрута из Мэриленда, по-видимому, не ждали от армии многого в смысле питания, одежды и жалованья. Много они и не получали. Конгресс намеревался обеспечить их щедрым рационом мяса, овощей и хлеба на каждый день. Это благое намерение так и оставалось всего лишь намерением в течение большей части войны, так как солдаты постоянно недоедали и нередко ходили в обносках. Кровавые дорожки, протоптанные босоногими солдатами в Вэлли-Фордж, были частым явлением на последнем этапе войны. Зима 1779/80 года в Морристауне была, пожалуй, еще более голодной, чем в Вэлли-Фордж. Кроме того, она была самой холодной за всю войну. В начале зимы подполковник Эбенезер Хантингтон посвятил страдавшим в Морристауне солдатам следующие строки: «Бедняги! Когда я гляжу на них, мое сердце обливается кровью, и я проклинаю свою страну за ее неблагодарность» — проклятие, которое, вероятно, было не раз повторено в январе, когда холод и голод стали нестерпимыми[901].III
Солдат из Мэриленда знал не больше, чем любой другой рядовой, о той организации, что несла ответственность за такое положение вещей, то есть знал очень мало. Возможно, ему было известно, что во главе официального аппарата по снабжению армии стоит конгресс. Если он не знал этого изначально, то узнал очень скоро, ибо в большинстве своих проблем армия обвиняла конгресс — и задолго до конца войны большая часть страны была вынуждена признать правоту армии. В июне 1775 года конгресс постановил образовать Континентальную армию, а вскоре после этого учредил квартирмейстерский и интендантский отделы, отвечавшие за снабжение армии. Непосредственным образцом для этих ведомств послужили аналогичные учреждения британской армии. Аналогичные, но другие, ибо парламент давно переложил все функции снабжения на казначейство, которое заключало контракты на все поставки для британской армии в Америке. Казначейство, посвящавшее большую часть своей деятельности другим вопросам, сотрудничало с государственным секретарем по делам колоний, военным министром и интендантским отделом в Америке. Эти ведомства, а впоследствии и военно-морской комитет вели дела с лондонскими купцами и их представителями, которые довольно неплохо справлялись с поставками продовольствия, одежды, топлива, медикаментов и фуража[902]. Англичанам приходилось преодолевать огромные препятствия, самым серьезным из которых, пожалуй, было расстояние. Долгий путь через Атлантику вынуждал казначейство проявлять осмотрительность. Тем не менее случались просчеты, как, например, в 1779 и 1780 годах, когда Генри Клинтону было практически нечем кормить своих людей. Бывало и так, что корабли, груженные провизией, приплывали не в те порты. После ухода англичан из Филадельфии два транспорта с продовольствием из Корка вошли в реку Делавэр, чтобы подняться по ней до столицы, не подозревая, что там их ждут голодные американцы[903]. Расстояния и коммуникации создавали много проблем, но англичане располагали большими ресурсами. Прежде всего, у них был огромный опыт содержания армий и соответствующие институты. Англичанам не нужно было создавать систему — управления и отделы, документацию, средства платежа, механизм закупок и распределения — на пустом месте и заставлять ее работать, чтобы удовлетворять потребности многих тысяч людей во всем необходимом, начиная с говядины и заканчивая пулями для ружей. Конгрессу приходилось решать все эти задачи, одновременно занимаясь множеством других вещей, в большинстве своем новых для него. Конгресс должен был создать армию и наладить ее снабжение в воюющей стране, население которой относилось к армии с недоверием и, тем не менее, желало делать прибыль на поставках для нее. Люди, занятые в системе снабжения как внутри армии, так и вне ее фактически не обладали опытом работы в этой сфере, ни вообще опытом работы с крупными учреждениями. К тому же солдаты, потребности которых они стремились удовлетворить, не испытывали особого уважения к большим организациям и сложным процедурам. Главный интендант начал свою деятельность весьма успешно. Это былДжозеф Трамбалл из Коннектикута, купец, ранее выполнявший сходную работу для армии своего штата. В течение всего времени, пока американцы осаждали Бостон, большая часть припасов поступала к ним из Коннектикута. В первый год войны в Новой Англии имелись значительные запасы продовольствия, и Трамбаллу удавалось кормить армию, стоявшую на одном месте, без особого труда. После этой первой кампании легкая жизнь кончилась, и большую часть времени солдаты страдали от недоедания, порой оказываясь на грани голодной смерти[904]. Генерал-квартирмейстер Томас Миффлин из Пенсильвании не мог похвастаться такими же первоначальными успехами, как Трамбалл, хотя вплоть до 1777 года его отдел работал вполне сносно. Миффлин, выдвиженец Джорджа Вашингтона, вступил в должность в августе 1775 года. Конгресс возложил на него оперативные обязанности и функции снабжения. В британской армии генерал-квартирмейстер обычно отвечал за перемещение войск. Конгресс решил, что в американской армии генерал-квартирмейстер должен выполнять ту же функцию, а также следить за содержанием дорог и мостов, по которым передвигалась армия, разбивать лагеря и обеспечивать войска телегами, фургонами и лодками. Вскоре после ухода англичан из Бостона Миффлин оставил пост квартирмейстера. Его преемнику Стивену Мойлану довелось прослужить всего три месяца, так как в сентябре конгресс уговорил Миффлина вернуться на должность[905]. С точки зрения конгресса как законодательного органа перебои в снабжении свидетельствовали о несовершенстве системы снабжения. Конгресс явно считал, что несовершенство коренится в простоте, — и принял меры к усложнению системы. Усложнение того или иного института всегда подразумевает увеличение количества должностей, расширение штата — и затруднение ведения дел. В течение следующих четырех лет конгресс экспериментировал с реорганизациями. В июне 1777 года он разделил должность главного интенданта на две: главного интенданта по закупкам и главного интенданта по распределению. Смысл этого нововведения состоял в том, чтобы разграничить две ответственные и несхожие функции. Конгресс рассчитывал на то, что два интенданта будут консультироваться друг с другом и реагировать на указания Вашингтона. В целом оба интенданта удовлетворяли этим ожиданиям, хотя временами они, вероятно, испытывали чувство растерянности, поскольку их общим хозяином был конгресс, который зачастую давал противоречивые распоряжения[906]. Главная проблема, однако, заключалась не в неопределенности, но в твердом и четком убеждении конгресса, что интенданты не должны извлекать выгоду из своего служебного положения. Джозеф Трамбалл вступил в должность в 1775 году, когда основная часть поставок шла из Коннектикута, и он и его помощники могли рассчитывать на 1,5 процента комиссионных от всех сумм, которые они тратили на снабжение. Такая схема естественным образом стимулировала деятельность интендантского отдела. Столь же естественным образом конгресс пришел к выводу, что интенданты обходятся ему слишком дорого, и в рамках последовавшей реорганизации интендантского отдела перевел Трамбалла и его людей на твердое жалованье. Раздосадованный Трамбалл подал в отставку спустя два месяца — половина его обязанностей была передана Чарльзу Стюарту, который стал главным интендантом по распределению, и прежние стимулы исчезли. Стюарт оставил свой пост сразу после Йорктауна; Уильям Бьюкенен, один из бывших помощников Трамбалла, вступил в должность главного интенданта по закупкам. Он продержался до марта 1778 года, и в апреле его место занял еще один помощник — Джереми Уодсворт. Он прослужил до 1 января 1780 года, когда его сменил Эфраим Блейн, занимавший эту должность вплоть до ее упразднения в конце 1781 года[907]. Все участники этой чехарды временами, должно быть, тосковали по настоящему бою с настоящими пулями; нет сомнений, что этим офицерам — по определению не самым породистым, поскольку они были штабными, а не строевыми офицерами — приходилось брать на себя огонь другого рода. После своей отставки Трамбалл отвел от них часть этого огня, указав на конгресс, инициатора реорганизации, как на главную помеху в работе интендантов. Каждый руководитель должен быть полновластным хозяином в своем ведомстве, намекал он в письме к Вашингтону. Конгресс лишил его этих полномочий: «В этой организации создано государство в государстве — если я подчинюсь решению, я вступлю в постоянный конфликт со всем отделом, и у меня начнутся сплошные неприятности: я превращусь в обвинителя, либо буду постоянно апеллировать к конгрессу и посещать его вместе со свидетелями обвинения». По мнению Трамбалла, разделение интендантского отдела на секцию закупок и секцию распределения создало неработоспособную систему — с двумя интендантами, между которыми неизбежно возникали разногласия. Он был не совсем прав и не вполне искренен в объяснении причин своей добровольной отставки. Тот факт, что конгресс запретил ему брать комиссионные, удручал его не меньше, чем урезание его полномочий[908]. В согласии со своими республиканскими убеждениями конгресс отказал интендантам в праве на комиссионные. Депутаты считали, что интенданты и их помощники получают слишком высокие жалованья; так, в 1775 году Джон Адамс назвал их «непомерными». Конгресс не только хотел сократить расходы при одновременном увеличении поставок, он также хотел улучшить контроль над поставками и за счет этого усилить армию, не истощая государственной казны. Реорганизация 1777 года включала в себя требование ведения подробной документации. Чтобы у интендантов не возникало никаких вопросов относительно того, что от них требуется, был составлен список документов, куда входили счета, счета-фактуры (в двух экземплярах), квитанции, расписки и учетные журналы. Каждый представитель по закупкам, например, должен был вести журнал, где регистрировалась каждая сделка, причем с целью поддержания единообразия учетных записей каждая страница была разделена на десять колонок, в которые вносилась полная информация о каждой сделке. Если был приобретен домашний скот, в журнале следовало указать «количество, цвет и приметы» плюс множество других сведений. Разумеется, интенданты были далеко не в восторге от этих требований, но конгресс, исполненный решимости защитить государственные интересы, имел веские причины рационализировать систему, которая предоставляла широкие возможности для коррупции[909]. Отделу генерал-квартирмейстера конгресс уделил еще больше внимания, чем интендантству. У генерал-квартирмейстера был более трудный спектр задач, поскольку ему приходилось совмещать оперативные обязанности с деятельностью по закупке и транспортировке припасов. Томас Миффлин, первый генерал-квартирмейстер, обладал незаурядными способностями, но обилие неординарных ситуаций, с которыми ему приходилось сталкиваться, снижало эффективность его работы. В течение большей части 1777 года он работал в тесном сотрудничестве с конгрессом, занимаясь реорганизацией службы и призывом новобранцев. За это время его отдел фактически развалился. При объяснении причин этого развала большую часть вины принято возлагать на конгресс, что отчасти соответствует истине. В 1777 году конгресс впервые прибегнул к мере, которая вошла в практику на всю оставшуюся часть войны, — он установил ставки оплаты за фургоны и упряжки для транспортировки припасов ниже текущих рыночных цен. Купцы и владельцы упряжек неохотно заключали сделки с квартирмейстерами, так как им было выгоднее вести дела с другими клиентами. Срыв поставок в 1777 году, как и большинства поставок в последующие годы, был обусловлен кризисом распределения[910]. Временами конгресс, несомненно, усугублял ситуацию неуклюжими методами контроля. Жалобы влекли за собой расследования, ради которых конгресс каждый раз создавал специальные комиссии, и расследования иногда влекли за собой задержку или приостановку работы. Линейные полномочия никогда не были четко разграничены, хотя окончательная ответственность, безусловно, лежала на конгрессе. На практическом уровне, однако, квартирмейстеры считали абсолютно необходимым более тесно сотрудничать с армейским командованием. Но когда речь шла о деньгах, командование было вынуждено соглашаться с решениями конгресса, что имело почти катастрофические последствия для армии. Дело в том, что конгресс не умел управлять системой снабжения. И именно это неумение, свойственное офицерам старшего звена не в меньшей степени, чем делегатам конгресса, было истинной причиной перебоев с поставками. Финансы, снабжение, управление — все это было неизведанной территорией. Чтобы справляться с многочисленными трудностями, члены конгресса и военные совершили организационную революцию, сопровождавшуюся неудачами и ошибками, неизбежными в случае преобразований такого масштаба. Еще одной проблемой, с которой столкнулся конгресс, была неустойчивость общественных финансов. Ввиду отсутствия гарантированных поступлений в бюджет конгресс был вынужден прибегать к разным способам добывания денег. Ни один из них не принес желаемого успеха. К чести конгресса следует отметить, что при всех ошибках, которые он совершал в сфере снабжения, он никогда не держал в черном теле генерал-квартирмейстера и его помощников. В течение большей части войны эти служебные лица получали комиссионные в размере 1 % от всех сумм, которые они тратили. Натаниэль Грин, сменивший Миффлина в марте 1778 года, спустя год признался, что «при таких доходах можно сколотить целое состояние». Грин, однако, больше жаждал славы, чем денег, и, назвав свой пост унизительным для его воинской гордости, грустно констатировал, что «за всю историю никто не слышал ни о каких генерал-квартирмейстерах — ни о как таковых, ни в связи с каким-либо блестящим сражением». Он был неправ в первой части своего утверждения — о квартирмейстерах не только слышали, но о них еще и ходила дурная слава. Сам Грин исполнял свою должность добросовестно, хотя в течение всего срока пребывания в ней не уставал сетовать на то, какой постыдный пост он занимает[911]. Пытаясь снять с квартирмейстерского отдела часть его нагрузки, в конце 1776 года, после отхода войск из Нью-Йорка, конгресс произвел два важных изменения. Во-первых, он назначил интенданта по кожсырью и сделал его подотчетным одному из своих комитетов — военному совету. На отдел кожсырья была возложена обязанность обеспечения армии обувью — обязанность непростая, с учетом взвинченных цен на кожу и того факта, что армия передвигалась исключительно пешим ходом[912]. Еще более важной реформой, осуществленной конгрессом, было создание отдельного управления по снабжению армии обмундированием. Управление возглавил Джеймс Миз. О его «достижениях» на этом посту можно судить по каламбуру, изобретенному солдатами для описания болезни, связанной с плохой одеждой: «мы умираем от мизори» (контаминация фамилии Mease и слова «корь» — measles), мрачно шутили они. Миз, филадельфийский купец, обратился к Вашингтону с просьбой о назначении, сопроводив ее льстивым пожеланием, чтобы Бог даровал Вашингтону будущие успехи, которые «были бы всегда равны вашим заслугам, то есть были бы столь же грандиозными, сколь грандиозны намерения вашего превосходительства». Несколько месяцев спустя Миз пытался объяснить рассерженному Вашингтону, как могло случиться, что один из его полков оказался одетым в красные мундиры. Подобная возможность выпадала Мизу крайне редко; большую часть времени ему приходилось оправдываться не за цвет мундиров, а за их отсутствие. Вашингтон понимал, что не все перебои в снабжении обмундированием являются следствием некомпетентности Миза, но он не мог игнорировать их и в августе 1778 года потребовал отставки Миза. Конгресс удовлетворил его требование лишь в июле следующего года[913]. Миз оказался легкой мишенью, хотя он цеплялся за свой пост еще долгое время после того, как терпение его начальника лопнуло. Строевые офицеры, подвергавшие Миза беспощадной критике, фактически усложняли его работу и усугубляли бедственное положение армии самовольным присвоением припасов при любой возможности. По пути в главную армию припасы становились объектом самой настоящей охоты, когда местные командиры и подразделения, отряженные для какого-либо специального задания, останавливали фургоны и брали все, в чем нуждались — или что им нравилось. Это была рационализация в чистом виде. Они защищали страну, а эти припасы были предназначены для нужд армии. Офицеры были частью армии и, следовательно, тоже испытывали нужду. То соображение, что некий центральный орган — например, штаб генерала Вашингтона — объективно оценивает общие потребности армии и устанавливает приоритеты, либо не приходило им в голову, либо игнорировалось. К чести конгресса следует отметить, что он не прекращал попыток навести порядок в дезорганизованной сфере снабжения. Ближе к концу 1779 года он решил отказаться от большей части старой практики в пользу передачи функций по снабжению армии правительствам штатов. В начале декабря 1779 года конгресс принял решение о реквизиции «определенных видов припасов» у штатов, подобно тому как он реквизировал у них денежные средства. Это решение дало примерно те же результаты, каких стремились достичь сами штаты, порой успешно, но большей частью неудачно. Новый план, введенный в действие в 1780 году, привел бы к неадекватным результатам даже в том случае, если бы штаты были в состоянии собирать припасы в необходимом количестве. Поставка говядины, муки, фуража и тому подобного в армию Вашингтона, располагавшуюся в Нью-Йорке, оказалась исключительно трудной задачей для южных штатов. Роберт Моррис, суперинтендант финансов, столкнувшийся с проблемой снабжения сразу по своем вступлении в должность в июне 1781 года, попытался исправить ситуацию, издав распоряжение, согласно которому припасы, собранные на большом расстоянии от армии, подлежали продаже, а вырученные деньги должны были идти на закупку продовольствия и одежды вблизи расположения войск. За счет этого экономилось время и сокращались расходы на транспортировку[914]. К тому моменту, когда Моррис вступил в должность суперинтенданта, в тех штатах, которые пытались удовлетворить запросы конгресса, раздражения и злобы накопилось больше, чем припасов. В этих штатах функционировали свои собственные снабженческие организации, многие из которых были наделены полномочиями реквизировать у граждан то, что те отказывались продать. Их граждане — например, жители Нью-Джерси — были искренними патриотами, однако они не хотели принимать бумажные деньги или сертификаты в обмен на свою продукцию. Принимать такие бумажки, по их мнению, было все равно, что отдавать свою собственность даром. Разумеется, они протестовали, и их правительство в конце концов пошло на уступки. В июне 1781 года власти Нью-Джерси значительно сократили полномочия суперинтенданта по закупкам и местных подрядчиков, а вскоре отказались и от практики реквизиции припасов. Во всех других местах, где была создана система закупки припасов, практика принудительного отторжения собственности у граждан была прекращена еще раньше[915]. В скором времени штаты окончательно отказались от реквизиций, чего нельзя сказать об армии. Вашингтон строго следил за тем, чтобы реквизиция применялась лишь в крайних случаях. Его раздражала прижимистость граждан, но он также хорошо осознавал вред, причиняемый реквизицией. Поэтому, хотя в июне 1781 года он охарактеризовал снабжение армии как «скудное», он продолжал по возможности избегать тех мер, которые могли бы настроить граждан против армии[916]. Доверив распоряжение общественными финансами Роберту Моррису, толковому и находчивому администратору, конгресс сделал важный шаг на пути модификации системы снабжения. Моррис был богатым филадельфийским купцом, чьи финансовые связи простирались далеко за пределы его собственного города. Поручив ему обеспечение армии всеми видами припасов, конгресс не отказался от услуг квартирмейстеров и интендантов. Он наделил Морриса значительными полномочиями по заключению контрактов и использованию ресурсов конгресса для расчетов по контрактам. Поскольку в 1781 году эти ресурсы были пополнены крупными ссудами, полученными от Франции, у Морриса было некоторое начальное преимущество. Он умело использовал свои полномочия, пусть порой и слишком широко, и в последней крупной операции той войны — окружении Корнуоллиса под Йорктауном — его вклад был налицо[917]. В конечном счете, однако, нематериальные аспекты играли не менее важную роль в поддержании армии, чем организация или система. Благодаря воле к выживанию и борьбе, сохранявшейся в солдатах, несмотря на недоедание, благодаря их готовности к страданию и жертвам недостаточное становилось достаточным и чужие промахи уже не играли существенной роли. Преодолевая худшее в себе и в других, армия становилась неодолимой.IV
До войны за независимость медицина в американских колониях финансировалась слабо, и медицинская практика не приносила ни денег, ни престижа. Недостаточное финансирование и равнодушие общества, вероятно, отбивали у конгресса желание уделять надлежащее внимание проблемам охраны здоровья солдат. Каковы бы ни были причины, конгресс медлил с созданием медицинской части в течение месяца с лишним после образования армии, вплоть до конца июля 1775 года. В данном случае, однако, невнимательное отношение конгресса не способствовало налаживанию порядка в новом учреждении. Те, кто был уполномочен конгрессом организовывать и оказывать медицинские услуги, умудрились погрязнуть в распрях без помощи извне — в ущерб уходу за больными и ранеными солдатами. Конгресс в известном смысле унаследовал своего первого генерального директора госпиталей и главного врача. Это был Бенджамин Черч, руководивший медицинским обслуживанием армии Новой Англии в Бостоне и его окрестностях еще до вмешательства конгресса. К сожалению, он также стал изменником, несколькими годами ранее начав сотрудничать за деньги с британским генералом Гейджем — вероятно, из-за своей тяги к роскошной и красивой жизни. В июле, когда Черч вступил в должность, ни один член конгресса не знал о его сношениях с противником, о них стало известно лишь в сентябре. В течение лета 1775 года конгресс мало интересовался работой медицинской части, ограничиваясь призывами к полковым врачам работать в тесном сотрудничестве со строевыми частями и главным военным госпиталем[918]. Чем конкретно должен заниматься главный госпиталь, было неясно, как неясно было и то, каким образом должны сотрудничать с ним полковые врачи. Впрочем, неясно это было только непосвященным. Как генеральный директор, так и врачи неизменно утверждали, что они прекрасно понимают, чего именно хочет от них конгресс. Однако они не могли договориться между собой относительно характера и формы своего сотрудничества. Прежде чем неопределенность вылилась в открытый конфликт, военное начальство обнаружило измену Черча и арестовало его. Это произошло в сентябре 1775 года, и в октябре решением конгресса преемником Черча был назначен Джон Морган. Морган добрался до Кембриджа только в конце ноября[919]. Вступив в должность, Морган начал практически с нуля. Нельзя сказать, что Черч не справлялся с обязанностями генерального директора, но, по правде говоря, его успехи были более чем скромными. В частности, он не решил организационные вопросы, из-за чего Морган в скором времени оказался вовлеченным в дрязги, которые отвлекали его от главного дела — заботы о здоровье солдат. Особенно много хлопот доставляли ему полковые врачи, и после его отставки в январе 1777 года с этими же проблемами столкнулся его преемник Уильям Шиппен, продержавшийся в должности до января 1781 года. Его сменил Джон Кокран, который навел некоторый порядок в медицинском обслуживании полков и прослужил до конца войны, добившись больших успехов, чем все его предшественники вместе взятые. Полковые врачи очень хорошо усвоили, как им следует держаться с персоналом и директором главного госпиталя — отчужденно, за исключением тех случаев, когда они в чем-либо нуждались. Они рассматривали главный военный госпиталь как организацию-поставщика, снабжавшую их провизией, инструментами, медикаментами и перевязочным материалом. Они были в чем-то правы — солдаты предпочитали лечиться в полковых госпиталях, а не в главном. В полковых госпиталях солдаты чувствовали себя уютнее, дышали более чистым воздухом и были ближе к товарищам. И полковой врач, которого обычно назначал полковник или законодательное собрание штата, был «своим человеком». Генеральный директор смотрел на дело иначе. Его положение было довольно неопределенным, но начиная со времен Моргана конгресс уполномочил директора и его заместителей инспектировать полковые госпитали и переводить пациентов, чье состояние требовало более профессионального ухода, в главный госпиталь. Вашингтон усилил позиции Моргана, разрешив ему проверять полковых врачей и санитаров на профессиональную пригодность посредством экзаменов. Эти проверки настолько раздражали полковых врачей, что после перебазирования армии из Бостона в Нью-Йорк Морган решил отказаться от них. Напряженность в отношениях между полковыми врачами и персоналом главного госпиталя сохранялась до тех пор, пока в должность не вступил Кокран. Конгресс уволил Моргана с его поста в начале 1777 года, его преемник Уильям Шиппен ушел в отставку в начале 1781 года. Они оба, а также Сэмюэль Стрингер из Северной армии чувствовали себя преданными конгрессом. На самом деле Шиппен в свое время бесстыдно интриговал ради получения поста Моргана, а Морган при содействии Бенджамина Раша вынудил Шиппена подать в отставку. Во время своего пребывания в должности Шиппен предстал перед военно-полевым судом, и хотя был оправдан, его репутация была серьезно подорвана. Эти местнические войны в пределах большой войны отрицательно сказывались на качестве медицинского обслуживания. Тот вред, который они нанесли охране здоровья солдат, оценить трудно, но организационная слабость сохранялась вплоть до конца войны. Даже если бы институциональный механизм был первоклассным по меркам того времени, фактическое медицинское обслуживание солдат все равно оставляло бы желать лучшего, так как Америка не изобиловала специалистами в области медицины. Согласно недавним подсчетам, к началу войны в Америке практиковало около 3500 врачей разного профиля. Эта цифра, по-видимому, охватывает как шарлатанов, так и профессиональных врачей, а также большое количество людей без специального образования, которые были готовы выполнять любую работу, включая лечение больных. Полноценное медицинское образование, вероятно, имели не более четырехсот человек. Когда речь идет о такой неоднородной группе, любые обобщения являются ненадежными, и все же мы рискнем предположить, что ни одна теория болезни или лечения не нашла широкого признания в этой группе. Входившие в нее профессиональные врачи, по-видимому, рассматривали любую болезнь как некое отклонение от нормальных состояний человеческого организма — старая идея, господствовавшая в течение всего XVIII столетия. Некоторые болезни, например оспа, сифилис и туберкулез, определялись именно как болезни, однако и в теории, и на практике врачи обычно ориентировались на состояние тела, в том числе на такие симптомы, как повышенная температура, выделения и отеки. В основе этой практики лежало предположение, что повышенная температура указывает на нерабочее состояние организма, а не на болезнь. Безусловно, многие врачи постепенно пришли к пониманию, что болезни являются объективной реальностью. В ходе лечения своих пациентов они замечали, что одно и то же лекарство эффективно в лечении одного комплекса симптомов и неэффективно в отношении другого. Из этого наблюдения они делали вывод, что имеют дело с двумя разными болезнями[920]. Они без труда согласовывали этот вывод с античной гипотезой о едином источнике всех болезней. Согласно наиболее распространенной теории, в основе всех болезней лежит ненормальное смешение жидких сред организма, или гуморов, когда один или несколько из них присутствуют в избыточном или недостаточном объеме. Лечение проводилось в соответствии с диагнозом, при этом для сокращения излишнего количества гуморов применялось кровопускание, промывание желудка и искусственное потоотделение, для увеличения объема — подходящие диеты и лекарства. Еще одной важной причиной болезней считался химический дисбаланс, или нарушенное соотношение кислотности и щелочности в жидких средах организма. В таких случаях врачи прописывали примерно такое же лечение, как при «гуморальном дисбалансе»[921]. Простой солдат, конечно, не слишком углублялся в теории, хотя он, его офицеры и полковые врачи наверняка владели общеизвестными знаниями о здоровье и медицине. Судя по приказам, спускавшимся сверху в каждый американский лагерь, в число этих знаний не входил принцип, согласно которому чистота является залогом здоровья. Находясь не у себя дома, американский солдат не обращал внимания на грязь, которая накапливалась в многолюдных лагерях, — а если и обращал, то все равно не утруждал себя соблюдением элементарных правил гигиены. В течение всей войны солдаты считали ниже своего достоинства пользоваться отхожими ямами, предпочитая опорожняться там, где их застигала нужда. Кроме того, они разбрасывали пищевые отходы, объедки и мусор по всему лагерю. Их приходилось буквально силой заставлять менять солому, служившую им в качестве постелей. И многих приходилось силой заставлять мыться. Англичане, профессионалы в такого рода вещах, как и во всем, что относилось к военной жизни, содержали свои лагеря в чистоте и, вероятно, болели меньше. В течение всей войны американскую армию преследовала дизентерия. Ее причиной была не только грязь, но и низкие санитарные стандарты при приготовлении пищи. Большую часть времени солдаты готовили для себя сами, хотя в некоторых бригадах работали пекарни. Солдатский рацион иногда состоял из одного жирного мяса и хлеба, но в целом армия больше страдала от недоедания, чем от несбалансированного питания. Добросовестные офицеры делали все от них зависящее, чтобы жизнь в лагере была здоровой. Вашингтон дал им ориентир, выпустив серию приказов, касающихся санитарии, режима питания, мытья и других забот ответственного командира, заинтересованного в том, чтобы его люди шли в бой в хорошей физической форме. Например, в Вэлли-Фордж, когда самая холодная часть зимы осталась позади, он распорядился вновь заняться поддержанием чистоты в жилищах солдат. Для очистки воздуха в бараках рекомендовалось жечь порох из патронов. В случае нехватки пороха можно было использовать деготь. Палатки каждый день снимались, и земля под ними и вокруг них подметалась. Солдат в армиях Вашингтона и Грина призывали регулярно мыться — но в меру. Погружение в воду на слишком долгое время расслабляет тело — так гласила народная мудрость, просочившаяся в приказы по полкам[922]. Добросовестные младшие офицеры и сержанты по-отечески заботились о здоровье своих подопечных. Память о сержанте из Коннектикута, собственноручно разводившем костер для своих солдат, окоченевших и голодных, сохранялась у одного из них в течение пятидесяти лет после революции. Такой вид служебного долга не был предусмотрен ни одним руководством для военных командиров и ни одним справочником по военной медицине, но он, несомненно, вносил свой вклад в здоровье солдат. Чарльз Уилсон Пил, служивший командиром роты филадельфийских ополченцев, разжился говядиной и картофелем на завтрак для своих солдат через два дня после битвы при Принстоне. Накануне его люди, настолько уставшие, что у них не было сил искать себе пищу, легли спать голодными. Пил стряхнул с себя усталость и стучался в каждую дверь Сомерсет-Корт-Хауса, пока не собрал достаточное количество провизии для своих солдат. Несколько дней спустя заболел один из людей Пила, Билл Хавер-сток. Пил прежде всего достал для него немного сахара, однако это лечение не помогло. Тогда он дал ему «блевотину доктора Крочвина» — рвотное средство, применявшееся для снятия жара. В последней дневниковой записи Пила, посвященной этому случаю, описано использование такого испытанного средства, как рвотный камень (соединение оксида сурьмы и виннокислого калия), которое он дал своему больному в двойной дозе. Известно, что Хаверсток выжил, но благодаря или вопреки такому лечению — сказать трудно[923]. Если бы Хаверстока лечил настоящий врач, результат, скорее всего, был бы не хуже. Врачи опирались на те же знания, что и профаны, хотя, возможно, они были более изощренны по части использования методов лечения. Большинство из них питали пристрастие к такому опасному методу, как кровопускание. Когда они не пускали кровь, они прибегали к очищению желудка и искусственному потоотделению, далеко не всегда приносившим успех в лечении дизентерии, малярии, брюшного тифа, пневмонии и оспы — болезней, которые чаще всего поражали американских солдат в военных лагерях. Заботу о раненых обычно брали на себя военные хирурги, если таковые имелись. Для лечения раненых также иногда использовалось кровопускание, которое не всегда приводило к летальному исходу. Доктор Джеймс Тэчер, служивший в медицинской части армии, рассказывал, как один из его старших коллег, доктор Юстис, однажды лечил «опасную рану» плеча и легких посредством кровопускания. Расширяя рану, доктор Юстис «рекомендовал неоднократное и обильное кровопускание, замечая, что для того, чтобы вылечить сквозную рану в легких, иной раз приходится выкачать из пациента всю кровь». По словам Тэчера, раненый поправился, при этом в качестве главной причины Тэчер назвал проведенное лечение[924]. Пожалуй, лучшим из существовавших в то время справочников для военных врачей было «Простое, краткое и практичное руководство по лечению ран и переломов» доктора Джона Джонса, где рекомендовались совершенно другие методы лечения[925], Джонс состоял профессором хирургии Королевского колледжа в Нью-Йорке; в 1775 году он получил медицинскую степень в Реймсском университете и вскоре после этого принял участие в войне с французами и индейцами. При ранении ружейной пулей, писал он, прежде всего следует извлечь пулю, а затем остановить кровотечение. В руководстве Джонса раны делились на категории, каждая из которых требовала своего особого лечения. Но, к какой бы категории ни относилась рана, для начала ее следовало продезинфицировать и перевязать. Джонс хорошо отдавал себе отчет в ограниченных возможностях хирургии и, в частности, призывал воздерживаться от ампутации в том случае, если раненый находится в «ослабленном состоянии». Сколь бы эффективными ни были рекомендации Джонса, лечение ран оставалось проблемой. Солдаты, выжившие после серьезных ранений, были обязаны этим своему везению и крепкому здоровью. Большинство хирургов самоотверженно боролись за жизнь своих пациентов. В Континентальной армии в условиях хронической нехватки медикаментов, перевязочного материала, сиделок и пищи эта самоотверженность зачастую оказывалась бессильной перед смертью. Страшнее всех ран и всех других болезней была оспа. В XVIII веке она вызывала всеобщий ужас. В боях люди получали ранения, после которых они иногда оставались инвалидами на всю жизнь или умирали. Сражения были страшным испытанием, однако многие солдаты Континентальной армии боялись оспы, пожалуй, даже больше, чем сражений. Рану следовало обработать и перевязать — двух мнений тут быть не могло. Когда речь шла об оспе, мнения расходились. Здесь существовал выбор между помещением человека в карантин и оспопрививанием, то есть таким лечением, которое само вызывало болезнь. Никто не знал этого лучше, чем генерал Вашингтон. Вашингтон заразился оспой в 1751 году в Барбадосе, куда он сопровождал своего брата Лоренса, который отправился на остров в надежде облегчить, если не излечить, недуг, разрушавший его легкие. Лоренс Вашингтон страдал болезнью, которую в XVIII веке называли чахоткой, а в наши дни именуют туберкулезом. Он умер в 1752 году. Джордж Вашингтон, разумеется, выздоровел[926], но у него на всю жизнь сохранился страх перед оспой, и он хорошо отдавал себе отчет в опасности этой болезни, когда в 1775 году принял командование армией под Бостоном. Оспа таилась совсем близко — в самом Бостоне и во многих окрестных поселениях. В городе находилось около 13 тысяч человек — несколько тысяч бежало оттуда в начале 1775 года, когда разразилась война, и среди тех, кто остался и оказался в осаде, быстро распространилась эпидемия. В американских колониях об оспе знали не понаслышке. Жители Новой Англии еще в начале XVIII века пытались бороться с ней с помощью нехитрой процедуры, известной как оспопрививание, или вариоляция. В 1721 году Коттон Мэзер, пользовавшийся величайшим авторитетом среди пуритан, убедил бостонского врача Забдиэля Бойл-стона сделать прививку всем, кто был готов подвергнуться операции. В городе была эпидемия, и попытка остановить ее методом, к которому ранее в Америке не прибегали, вызвала бурю недовольства, причины которого легко понять. Прививка требовала выполнения надреза на теле, обычно на верхней части руки, но иногда и на кисти, и ввода зараженной ткани, или гноя из пустулы больного человека. Через пару дней у привитого развивалась болезнь, но, как ни удивительно, она протекала в более мягкой форме, чем в случае передачи инфекции естественным путем. Возмущение, поднявшееся в связи с оспопрививанием в 1721 году, было понятным, хотя вряд ли от этого понимания было легче Коттону Мэзеру, когда в его окно влетела бомба[927]. В годы, последовавшие за первым опытом в Бостоне, практика прививок постепенно вошла в обычай. Тем не менее она часто подвергалась осуждению и запрещалась законом в больших и малых городах по всем колониям. За десятилетия, протекшие до начала Войны за независимость, американцы узнали больше как о самой болезни, так и о способах ее лечения. Чтобы не дать болезни разрастись до размеров эпидемии, колонии прибегали к карантинам, и кое-где делались попытки модифицировать форму оспопрививания. Постепенно медицинская наука пришла к выводу о необходимости специальной подготовки людей к вводу зараженной ткани; подготовка включала в себя особую диету (сомнительной ценности) и изоляцию больных людей от здоровых. К середине столетия было окончательно признано, что зараженная ткань, взятая у человека, заразившегося оспой в результате прививки, вызывает более мягкую форму болезни, чем ткань, полученная от того, кто заразился естественным путем. Тем не менее использование прививок оставалось предметом споров, даже когда они сочетались с изоляцией и карантином. Кроме того, иногда прививки приводили к печальным последствиям. Неизвестно, знал ли Вашингтон бостонскую историю с оспопрививанием, но, несомненно, до него дошли кое-какие слухи[928]. Столкнувшись с эпидемией оспы в Бостоне в 1775 году, Вашингтон оказался перед выбором: организовать кампанию по вариоляции или полностью положиться на изоляцию и карантин. Большинство солдат в армии Вашингтона никогда не болели оспой, и он опасался, что если он распорядится о прививках, его армия временно обессилеет до такой степени, что не сможет продолжать осаду. (После прививки человек иногда становился настолько слабым, что не мог участвовать в бою.) С другой стороны, при условии аккуратного и поэтапного проведения, осуществляемого втайне от противника, прививание могло бы снизить риск распространения эпидемии. Но в этом случае всегда оставалась опасность, что один привитый, слишком рано выпущенный из карантина, может заразить остальных солдат, расположившихся скученным лагерем вокруг города. В конце концов Вашингтон отказался от мысли о прививках. Солдаты, заразившиеся естественным путем, и уже инфицированные жители Бостона, вырвавшиеся из города и вступившие в его армию, подлежали карантину. Осторожность Вашингтона окупилась — большая часть его солдат избежала заражения[929]. В январе 1777 года, когда он находился со своей армией в Морристауне, Нью-Джерси, у него появилась причина изменить свое решение. Оспа нанесла сильный урон его армии, равно как и другим американским войскам, и он опасался, что она может сделать его армию недееспособной. Он знал, что прививки неизбежно вызовут противодействие в той или иной форме. Один из примеров такого противодействия относился к августу 1776 года, когда ему сообщили, что губернатор Коннектикута Джонатан Трамбалл назвал прививки «вредной» мерой и предсказал, что «если их вовремя не пресечь, они, я уверен, окажутся гибельными для всех наших операций и, возможно, погубят страну»[930]. Вашингтон предвидел бедствие иного рода: поражение армии смертельной болезнью. Исходя из этого он издал приказ немедленно приступить к прививанию солдат, которые еще не болели оспой. Он не стал рубить с плеча, но, напротив, тщательно организовал процесс, следя за тем, чтобы больных изолировали, а привитых переводили в карантин. Поскольку рекруты для его армии обычно проходили через Филадельфию (один из очагов оспы), существовала опасность, что они занесут в Морристаун инфекцию. Поэтому Вашингтон выпустил вторую серию приказов, предписывавших Уильяму Шиппену, генеральному директору и главному врачу армии, в то время находившемуся в Филадельфии, организовать прививание всех рекрутов перед их отправкой в Морристаун. Солдат с подозрением на инфекцию впускали в город только после того, как они получали сменную одежду — «по возможности» новую, а если таковой не хватало, то старую одежду следовало «хорошо простирать, проветрить и окурить дымом»[931]. Начатая в 1777 году кампания по прививанию солдат продолжалась в первые месяцы следующего года, когда армия стояла лагерем в Вэлли-Фордж. Медицинский комитет Континентального конгресса одобрил эту меру — знаменательное событие, поскольку во главе комитета стоял Бенджамин Раш, получивший медицинское образование в Великобритании. Вскоре прививание начали проводить во всех местах, где находилось сколько-нибудь значительное скопление войск. Во многих случаях солдат направляли на прививку в главный лагерь. В 1777 году тысячи солдат получили прививки в как минимум трех лагерях в Виргинии, одном в Мэриленде, двух в Нью-Йорке и одном в Коннектикуте[932]. Несмотря на то что политика Вашингтона принесла успех и почти все из привитых выжили, аналогичную кампанию пришлось повторить, когда армия расположилась в Вэлли-Фордж. По подсчетам Вашингтона, в прививке от оспы нуждались от трех до четырех тысяч человек. Речь шла не о старослужащих, которые были давно привиты, а о новобранцах — факт, в котором не было ничего удивительного, поскольку текучесть состава в армии была чрезвычайно высокой. Жизнь в Вэлли-Фордж была трудной даже без прививок, но с угрозой оспы нельзя было не считаться. К тому времени армейское руководство окончательно убедилось в эффективности прививок, и медицинская часть взялась за дело без промедления. Солдаты перенесли прививки так же стойко, как все остальные испытания, обрушившиеся на них в Вэлли-Фордж, и весной, когда был отдан приказ о выступлении против британских сил, которые в те дни снимались с места и выдвигались в направлении Нью-Йорка, они были в хорошей физической форме. Глядя на события ретроспективно, трудно не прийти к выводу, что борьба с оспой посредством прививок спасла армию от развала. Процедура сегодня кажется грубой, каковой она, собственно, и была, но до ее введения оспа уносила слишком много жизней. Благодаря прививкам армия сохранила сравнительно хорошую физическую форму и боевую мощь, что было бы немыслимо без медицинской политики генерала Вашингтона.V
Американский военно-морской флот не участвовал в кампаниях. Война породила военно-морской флот, но она не смогла сделать из него значимую боевую силу. Для создания сильного флота просто не существовало финансовых ресурсов, равно как не существовало прочного убеждения, что Америке требуется боевой флот, равный по мощи британскому. Война на море началась еще до появления американского военноморского флота. Первые морские бои состоялись через несколько недель после сражений при Лексингтоне и Конкорде. Пожалуй, самый ранний из них — в июне — произошел с участием жителей Макиаса — небольшого портового города в штате Мэн примерно в 300 милях к северо-востоку от Бостона. Эти мэнские патриоты захватили британскую шхуну «Маргарита» под командованием молодого мичмана, который пригрозил открыть огонь по городу, если его жители не срубят свое дерево свободы. Мичман почти сразу взял свою угрозу назад, но граждан Макиаса было уже невозможно удержать от ответных действий. Группа вооруженных патриотов захватила «Маргариту» и два сопровождавших ее шлюпа. Мичман погиб в бою[933]. Большинство морских операций, проводившихся патриотами в первый год войны, не были направлены против судов Королевского военно-морского флота. Почти все британские корабли были настолько хорошо вооружены и управлялись настолько опытными моряками, что атаковать их американцам было не по силам. Каперы из небольших массачусетских портов предпочитали нападать на транспортные и торговые суда, груженные припасами для британской армии в Бостоне. Их усилия не пропадали даром — в первый же год войны их добычей стали 55 британских кораблей. Многие из этих каперов действовали по указанию Джорджа Вашингтона. Важность морских путей для сухопутных кампаний вАмерике Вашингтон осознавал, пожалуй, лучше, чем любой британский военачальник, противостоявший ему в той войне. Но на протяжении значительной части войны его стратегические идеи, касающиеся использования моря, не оказывали реального влияния на операции, так как у него не было флота. А возможность применять флот появилась у него лишь после того, как в войну вступила Франция. Тем не менее он мог использовать то, что у него имелось. Американское побережье изобиловало бухтами и портами с огромным количеством малых судов, таких как бриги, шлюпы и шхуны, и большим предложением судовых плотников и матросов. В канун революции американские верфи строили по меньшей мере треть торговых судов, плававших под британским флагом. Американские леса поставляли дуб для корпусов и палуб и сосны для мачт. Паруса и канаты также производились в Америке. Самым естественным способом использования моря был захват британских торговых судов — не только с целью прерывания снабжения армии, осажденной в Бостоне, но и ради пополнения скудных запасов оружия и боеприпасов, имевшихся в распоряжении американцев. Первый корабль, снаряженный Вашингтоном для военных целей, шхуна «Ханна» водоизмещением 78 тонн, не справился ни с той, ни с другой задачей. Командиром «Ханны», отправившейся в свою первую экспедицию в августе 1775 года, был Николсон Бротон из Марблхеда. Бротон вскоре пристрастился к захвату судов, принадлежавших американцам, и объявлению их вражескими. Эта неразборчивость подтолкнула его к набегу на Новую Шотландию в компании с капитаном Джоном Селманом, человеком схожих устремлений. Эти два морских волка разграбили городок Шарлоттаун и насильно увезли с собой нескольких почтенных горожан, которых с гордостью доставили в штаб-квартиру Вашингтона в Кембридже. Вашингтон, сконфуженный этим поступком, освободил пленников и в конце декабря, не поднимая шума, лишил обоих капитанов их патентов[934]. Бротон и Селман были не единственными, кто преследовал корыстные цели. Многие американские шкиперы использовали любой предлог для захвата судов мирных купцов. Они также нападали на британские суда, снаряженные частными лицами и не занимавшиеся снабжением армии в Бостоне. Большинство капитанов защищало интересы американцев. Один из них, Джон Мэнли из Ли, в конце ноября добыл приз, изрядно порадовавший Вашингтона и американские войска, осаждавшие Бостон. Мэнли захватил «Нэнси», бриг водоизмещением 250 тонн, везший в Бостон 2000 ружей со штыками, ножнами, шомполами и 31 тонной ружейной дроби, а также мешки с кремнями, ящики с патронами, артиллерийские боеприпасы, одну тринадцатидюймовую бронзовую мортиру и 300 снарядов. Вскоре после этого случая Вашингтон назначил Мэнли коммодором и возложил на него командование шхунами, патрулировавшими массачусетские воды. Использование захваченных кораблей и грузов до провозглашения независимости поставило Вашингтона и каперов перед деликатной проблемой. Поскольку в течение всего 1775 года и в начале 1776 года еще имелся шанс уладить спор с Великобританией без провозглашения независимости, неизбежно встал вопрос о том, как продавать трофеи. Их нельзя было продавать через адмиралтейские суды. Но могли ли американцы продавать свои трофеи без прохождения формальных адмиралтейских процедур? Разумеется, они не рассчитывали на понимание и благожелательное отношение англичан в обмен на соблюдение прежних правил. Они намеревались присваивать британскую собственность и держать у себя пленных в течение какого-то времени независимо от того, состоялось бы рано или поздно примирение между сторонами или нет. Но кто обладал юрисдикцией над захваченной собственностью? В конце концов на помощь пришел провинциальный конгресс Массачусетса, который учредил адмиралтейские суды, разработавшие формальные процедуры использования захваченных кораблей и грузов. Массачусетцы взялись за дело отчасти потому, что Континентальный конгресс, двигавшийся в направлении морской стратегии столь же робко и неуверенно, как он двигался к независимости, не смог оперативно среагировать. В первый год после начала войны конгресс, судя по всему, первым предложил, чтобы войной на море занимались штаты. И несколько штатов утвердили планы снаряжения военных кораблей для нападения на британские транспортные суда. К осени 1775 года в нескольких штатах существовала программа строительства кораблей, и у Вашингтона было шесть вооруженных судов, несших охрану в прибрежных водах Бостона. Сам конгресс в ноябре распорядился, чтобы в его распоряжение были предоставлены четыре корабля, и приступил к разработке стратегии использования захваченных судов. В конце года он приказал построить тринадцать фрегатов для американского военноморского флота. По мнению конгресса, как его собственные корабли, так и корабли штатов могли нападать только на те британские суда, которые атаковали американских купцов или снабжали британскую армию. Конгресс не был расположен принимать собственный запретительный акт, пока не получил известие о принятии такого акта британским парламентом. Когда в 1776 году конгресс начал готовиться к провозглашению независимости, он тем самым сделал шаг в направлении полномасштабной войны на море. Конгресс, похоже, всегда считал, что самым действенным инструментом для ведения войны являются комитеты. Поэтому в ноябре 1775 года, когда он впервые распорядился о переоборудовании торговых судов в боевые крейсеры, он поручил эту задачу военноморскому комитету. По мере роста аппетитов конгресса и расширения его программы строительства кораблей росло и число его административных комитетов. Когда в начале следующего года военно-морской комитет погряз в административной рутине, ему на смену тут же пришел морской комитет. Большая часть фактической работы по созданию флота была проделана в период между 1777 и 1781 годами военно-морским советом Восточного департамента. Этот совет трех штатов — Массачусетса, Коннектикута и Род-Айленда — занимался подготовкой судов и наймом экипажей. Совет, располагавшийся в Бостоне, пытался иметь как можно меньше дел с конгрессом и в то же время выполнять его распоряжения. По большей части ему удавалось и то и другое. Но конгресс не был удовлетворен ни местными достижениями, ни местным управлением и в конце 1779 года создал Совет адмиралтейства, уполномочив его распоряжаться военно-морским флотом. Созданное по образцу британского Комитета адмиралтейства, детище американцев состояло как из тех, кто не имел отношения к конгрессу, так и из представителей конгресса. На протяжении короткой жизни совета почти вся его работа держалась на двух людях — Фрэнсисе Льюисе, купце и бывшем делегате конгресса от Нью-Йорка, и Уильяме Эллери, делегате от Род-Айленда. Эти двое пытались убедить конгресс построить дополнительные фрегаты и оказать материальную поддержку военно-морскому флоту. Конгресс, однако, потерял интерес к флоту и нашел общественным деньгам другие применения. Военно-морской флот неуклонно уменьшался в размерах. Летом 1780 года конгресс передал то, что осталось — горстку фрегатов, генералу Вашингтону с условием, чтобы фактическое командование ими было возложено на адмирала Тернея — французского офицера, который несколькими месяцами ранее доставил генерала Рошамбо С его армией через Атлантику в Ньюпорт. В следующем году право распоряжения этими американскими судами было полностью отобрано у адмиралтейства и передано суперинтенданту финансов Роберту Моррису. Эта мера фактически лишила американцев шансов иметь мощный военно-морской флот. Перед Моррисом стояли более важные задачи, и он, как и многие другие, в 1781 году не видел особой необходимости в военно-морском флоте. Эта история раннего этапа организации флота объясняет отсутствие заметных достижений у американских военно-морских сил в годы революции. Не считая успехов «крейсерской войны» (термин, введенный капитаном Альфредом Тэйером Мэхэном для обозначения действий каперов), достижения американцев на море были ничтожны. Каперство же действительно играло важную роль, существенно осложняя англичанам задачу снабжения своей армии и обеспечивая армию Вашингтона оружием и боеприпасами. Часть Континентального — регулярного — флота также занималась морским рейдерством, и один командир сделал больше остальных — заставил жителей Британских островов бояться, что их прибрежные города могут быть разрушены. Этим командиром был шотландец Джон Пол Джонс, человек необычайной отваги и дерзости[935]. Джон Пол родился в 1747 году в Арбигленде близ Киркбина, графство Галлоуэй; он добавил к своему имени «Джонс» уже по прибытии в Америку. В тринадцатилетнем возрасте Джон Пол покинул родные места и в 1761 году поступил в услужение к одному судовладельцу в Уайтхейвене, английском портовом городе на противоположном берегу залива Солуэй. Там он начал свою выдающуюся карьеру на море — в качестве юнги на корабле «Дружба», который в течение следующих трех лет курсировал между Англией и Виргинией, обычно делая остановку в Вест-Индии, чтобы загрузиться ромом и сигарами на пути в Виргинию, и табаком, строевым лесом и чугуном на обратном пути в Уайтхейвен. Хозяин корабля, на котором плавал Джон Пол, в 1764 году разорился и уволил своего юнгу. В течение следующих трех лет Пол ходил на невольничьих судах. Работорговля была жестоким занятием, и Пол, похоже, вздохнул с облегчением, уволившись со службы в Кингстоне на Ямайке и отплыв в 1768 году на родину на шотландском корабле. Во время этого рейса капитан и его помощник умерли. Ни один человек на борту, за исключением Джона Пола, не умел управлять судном. Он взял на себя эту задачу и благополучно привел корабль на родину. Впечатленный этой демонстрацией искусства судовождения и умения командовать людьми, владелец назначил Пола капитаном на другой корабль. Ему был всего 21 год, но в нем не было ни капли добросердечия, свойственного юности. В 1769 году, когда корабль готовился к выходу в море, он приказал высечь плетью судового плотника по имени Манго Максуэлл. Последний сошел с корабля по прибытии на остров Тобаго и подал на Пола в суд. Получив отказ в возбуждении дела, разочарованный Максуэлл, пребывавший, судя по всему, в добром здравии, отправился на родину, однако по пути заболел и умер. Когда Пол вернулся домой, его арестовали на основании жалобы, поданной отцом Максуэлла. Пол был полностью оправдан лишь после того, как вернулся на Тобаго и получил свидетельство от судьи, что наказание плетью не могло послужить причиной смерти Манго Максуэлла. В 1773 году произошел более серьезный инцидент. Матросы корабля, приведенного Полом на Тобаго, взбунтовались. Он пронзил зачинщика мятежа шпагой, после чего бежал с корабля и острова и направился на североамериканский материк. Летом 1775 года он прибыл в Филадельфию, которая была охвачена восстанием, но, тем не менее, встретила его гораздо более гостеприимно, чем Тобаго. Джозеф Хыоиз, депутат Континентального конгресса от Северной Каролины, помог Джону Полу Джонсу с устройством в Филадельфии. Джонс — эту фамилию он добавил в целях конспирации — познакомился с Хьюизом во время бегства с Тобаго. Моряк, ищущий места, желательно в качестве командира судна Континентального флота, не мог мечтать о лучшем друге, чем Джозеф Хьюиз, председатель морского комитета, подбиравший офицеров для военноморского флота. Джонс хотел командовать. Он хотел сражаться за дело объединенных колоний. В эти месяцы он начал исповедовать принципы свободы — и впоследствии никогда не отступал от них. В начале декабря 1775 года он был зачислен на корабль Континентального флота «Альфред» в качестве первого помощника командира. В течение следующих нескольких месяцев «Альфред» принимал активное участие в боевых действиях, и Джонс отлично зарекомендовал себя. В мае 1776 года на него было возложено командование шлюпом «Провидение» во временном звании капитана. Он управлял кораблем твердой рукой, захватил много трофеев, при любой возможности вступал в бой и постепенно убедил конгресс в своих незаурядных способностях. Конгресс продемонстрировал свое расположение к Джонсу в июне 1777 года, назначив его командиром корвета «Скиталец» (Ranger) и отправив его к берегам Франции, где к нему должен был присоединиться еще один корабль для нападения на вражеские торговые суда вокруг Британских островов. Джонс отплыл ближе к концу лета и бросил якорь в Пенбефе, глубоководном порту близ Нанта. Вскоре стало ясно, что Джон Пол Джонс не намерен быть всего лишь одним из каперов, грабящих британские торговые суда. Он жаждал более крупных дел. Он хотел совершать набеговые операции на британские порты и выводить из строя корабли Королевского флота. В апреле следующего Года, когда заново оснащенный «Скиталец» стоял в Бресте, Джонс был готов действовать, направившись в Ирландское море, он решил атаковать Уайтхейвен, прибрежные воды которого были ему хорошо знакомы. Рано утром 23 апреля он вошел в гавань, заполненную судами, и высадил небольшой десант, который поджег грузовое судно с углем. Большого пожара не получилось, но и того, что возник, хватило, чтобы разбудить и поднять город на ноги. У Джонса было мало шансов справиться со сбежавшимися толпами горожан и причинить более крупный материальный урон противнику, даже несмотря на отсутствие вооруженного сопротивления. Тогда Джонс направил «Скиталец» через залив Солуэй-Ферт к острову Сент-Мэрис с намерением похитить графа Селкирка. Последнего не оказалось дома, и десанту удалось разжиться только фамильным серебром. Но на следующий день «Скиталец» все же захватил кое-что существенное, а именно военный шлюп «Дрейк» — хорошо вооруженное судно, на которое он натолкнулся в Белфастском заливе. «Дрейк» героически сражался в течение двух часов, его капитан был убит пулей в голову, а старший помощник капитана получил серьезное ранение, но «Скиталец» оказался более эффективным. Восьмого мая Джонс благополучно привел «Скиталец» обратно в Брест. Хотя его набеговая операция и не нанесла существенного ущерба британским портам и торговле, она имела сенсационный успех. Психологический урон — удар, нанесенный «Скитальцем» по чувству гордости и боевому духу англичан, — был огромным, хотя нет свидетельств, что его рейд повлек за собой перемены в дислокации военных кораблей Королевского флота. Английские газеты отозвались на эти события криками возмущения в адрес Пола Джонса и презрительным ворчанием в адрес своего военно-морского флота, который не смог дать отпор зарвавшемуся каперу. Крики, раздавшиеся вскоре после этого в Париже, выражали бурный восторг. Набег «Скитальца» сделал Джонса знаменитостью французского света, восхищавшей французское правительство, и героем французских дам. Джонсу было передано командование над более крупным кораблем, «Дюрасом», который он переименовал в «Простака Ричарда» (в честь Бенджамина Франклина, автора знаменитого «Альманаха простака Ричарда»). Джон Пол Джонс умел быть терпеливым, умел быть хитрым, но он предпочитал демонстрировать другие качества. Он всегда был тщеславным человеком. По мнению Джона Адамса, которому довелось лично познакомиться с ним, это был «самый амбициозный и расчетливый офицер в американском флоте. Джонс хитер, скрытен и метит очень высоко». Адамс ждал от него неожиданного. «От него можно ожидать всего самого сумасбродного и необычного — эти качества заложены в его характере, они видны в его глазах. Его голос мягок, тих и вкрадчив, его взгляд пронзителен, порой безумен, порой кроток». Адамс видел и слышал Джонса только в изысканном обществе, он никогда не видел его сражающимся на борту корабля, чем объясняется создавшееся у него впечатление, будто Джонс говорил «мягким, тихим и вкрадчивым» голосом. Но он был прав насчет взгляда, который был пронзительным и порой горел безумным блеском, о чем свидетельствуют бюст резца Гудона и портрет кисти Чарльза Уилсона Пила. Глаза глядели зорко и цепко с сурового лица с хрящеватым выдающимся носом и правильно очерченным подбородком. Глаза и взгляд имели большое значение для человека, командовавшего грубыми и порой непокорными людьми, тем более что Джонс был невысокого (не выше 165 см) роста, худощав и жилист. Его взгляд, которому он умел придавать свирепость, вселял робость и страх в более слабых людей[936]. Этот жесткий и предприимчивый командир 14 августа 1779 года отплыл во главе эскадры из семи судов с рейда острова Груа, намереваясь произвести как можно больше опустошений в прибрежных водах Британских островов. «Простак Ричард» был самым большим — водоизмещением порядка 900 тонн — судном из тех, которыми ему доводилось командовать. Корабль был далеко не новым и не мог развивать высокую скорость даже при полных парусах, зато мог вести очень плотный огонь в бою, будучи вооружен шестью 18-фунтовыми, двадцатью восемью 12-фунтовыми и шестью 9-фунтовыми орудиями. Остальная часть эскадры состояла из двух фрегатов, одного корвета, одного катера и двух каперов. Эти два последних отделились от эскадры, как только она вышла в открытое море. Джонса это не удивило; он еще раньше подозревал, что они воспротивятся его приказам, предпочтя действовать на свой страх и риск. От других кораблей тоже не следовало ждать немедленного и безоговорочного повиновения — их капитаны были французами и, возможно, немного завидовали своему американскому командиру. Один из них, Пьер Ланде, капитан фрегата «Альянс», так просто ненавидел Джонса. Источники описывают Ланде как человека, балансировавшего на грани безумия; в ходе этой экспедиции он повел себя как законченный сумасшедший или как изменник. Эскадра медленным ходом добралась до юго-западной оконечности ирландского побережья и повернула на север. 24 августа Ланде поднялся на борт «Ричарда» и заявил Джонсу, что намерен действовать по своему усмотрению. Через несколько дней исчез катер «Олень». До этого Джонс послал его на поиски нескольких лодок, отряженных им для рекогносцировки побережья. «Олень» сбился с курса и в конце концов вернулся во Францию. Но не все обстояло плохо: двигаясь вдоль побережья, эскадра захватывала трофеи и 3 сентября, миновав Оркнейские острова, повернула на юг. Достигнув залива Ферт-оф-Форт на восточном побережье Шотландии, Джонс решил послать десантную партию в Лит, портовый город близ Эдинбурга. Он намеревался пригрозить Литу обстрелом и забрать большой выкуп. Члены муниципалитета были напуганы видом его флота, но шторм, заставивший суда Джонса выйти из залива, спас их от необходимости уплаты дани. Если бы на этом все кончилось, рейд можно было бы считать успешным. Операция принесла богатые трофеи, вселила страх в жителей островов и вынудила адмиралтейство отрядить корабли Королевского флота в безрезультатную погоню за Джоном Полом Джонсом. То, что произошло после, заставило все остальное казаться пустяками: 23 сентября у мыса Фламборо-Хед на побережье Йоркшира «Простак Ричард» провел одно из крупнейших морских сражений в истории американского флота. В тот день американская эскадра заметила крупный конвой под охраной фрегата «Серапис» (рассчитанного нести 44 орудия, но оснащенного 50-ю) и военного шлюпа «Графиня Скарборо» (20 орудий). «Сераписом», новым фрегатом с медной обшивкой днища, командовал капитан Ричард Пирсон, отважный и опытный офицер. Джонс понимал, конечно, что, прежде чем атаковать торговые суда, ему следует разбить эскорт. Поскольку ветер был слабым, Джонс приблизился к конвою на расстояние пушечного выстрела только на закате дня. «Альянс» оставил без внимания сигнал Джонса «встать в линию для атаки»; так же поступил и корвет «Возмездие», небольшое, легко вооруженное судно. Фрегат «Паллада» последовал было их примеру, направившись в сторону от противника, но затем лег на другой галс и атаковал «Графиню Скарборо». Единственным противником «Простака Ричарда» остался «Серапис», имевший более мощное вооружение. Непосредственно перед началом боя «Серапис» и «Ричард» шли одним курсом, первый против правой скулы второго. В первые минуты боя два старых 18-фунтовых орудия «Ричарда» разорвались, произведя вокруг себя страшные разрушения и погубив нескольких канониров. Этот инцидент убедил Джонса, что если он хочет выиграть сражение, то должен пойти на абордаж. «Простак Ричард» был вооружен слабее, чем «Серапис», еще до выхода из строя двух 18-фунтовых орудий, и поскольку использовать оставшиеся четыре было небезопасно, у него не было шансов победить, ограничиваясь обменом залпами с противником. Если бы его судно было более проворным, Джонс, находчивый моряк, мог бы пользоваться его быстроходностью, чтобы ускользать от вражеского огня, одновременно превращая «Серапис» в решето залпами из своих 12-фунтовых пушек. Но «Ричард» мог похвастаться чем угодно, кроме быстроходности, и его соперник без труда потопил бы его плотным огнем. Капитан Пирсон, в свою очередь, пытался маневрировать таким образом, чтобы, используя свою превосходящую огневую мощь, держать «Ричарда» на расстоянии. Сразу после разрыва двух своих пушек Джонс попытался встать бортом против правой раковины «Сераписа». Путем искусного маневрирования он подвел «Ричарда» почти вплотную к противнику, но его люди, кинувшиеся на абордаж, были отброшены английскими матросами. Затем Пирсон попытался поставить «Серапис» поперек носа «Ричарда», но этот маневр привел лишь к тому, что Джонс уткнулся бушпритом в корму «Сераписа». Видимо, именно в тот момент Пирсон крикнул Джонсу, не желает ли тот сдаться, на что получил знаменитый ответ: «А я еще и не начинал сражаться!» Вслед за этим оба судна, с поднятыми и наполненными топселями, начали совершать более изощренные маневры. В критический момент «Сепарис» воткнулся бушпритом в такелаж «Ричарда», и рог его правого станового якоря зацепился за правую раковину «Ричарда». Оба судна оказались сцеплены бортами, при этом их орудия вовсю продолжали палить. Ниже палуб преимущество принадлежало «Серапису» — его артиллерия наносила «Ричарду» страшные повреждения. Но на верхней открытой палубе и в топселях «Ричард» обладал явным превосходством. Французы и американцы Джонса успешно разили врага из ружей и осыпали гранатами. Вскоре на верхней палубе «Сераписа» остались одни трупы, а канониры внизу прятались от пуль и гранат, в то время как американцы перебирались на английские топселя. Несколько раз на обоих кораблях вспыхивал пожар, и пока команды пытались тушить огонь, орудия молчали. «Серапис» серьезно пострадал, когда Уильям Гамильтон, один из самых отважных матросов «Ричарда», бросил в один из его люков гранату, которая упала в кучу патронов, начиненных порохом. В результате взрыва погибли по меньшей мере двадцать человек и многие получили ранения. Возможно, этот случай поколебал решимость капитана Пирсона, а если нет, то перспектива лишиться своей грот-мачты ужаснула его настолько, что он едва не сдался. Джонс направил огонь своих девятифунтовых орудий на его грот-мачту — и собственноручно помогал обслуживать одну из пушек. Было уже 10:30 вечера. «Ричард» постепенно заполнялся водой, его команда понесла огромные потери, но капитан не собирался спускать флаг, хотя некоторые из его людей умоляли его сдаться. Команда «Сераписа» пострадала не меньше, но самому кораблю не угрожало погружение на дно. Однако мужество Пирсона улетучилось прежде, чем свернулась кровь его погибших матросов, и он собственными руками сорвал свой флаг. Джон Пол Джонс перенес сражение на «территорию» противника и победил благодаря храбрости, воодушевлению и везению. Вступление в бой с «Сераписом», в сущности, произошло случайно, хотя, конечно, он страстно желал померяться силами с ним. С другой стороны, удача чуть было не улыбнулась и «Серапису», ибо капитан «Альянса» Пьер Ланде ближе к вечеру решил вступить в бой — против своего собственного командира. Результатом стали три бортовых залпа по «Простаку Ричарду» с близкого расстояния. Джонс каким-то образом выдержал эти удары, равно как и все залпы «Сераписа». Потери были ужасными с обеих сторон: 150 убитых и раненых из 322 членов команды «Ричарда» и около 100 убитых и 68 раненых из 325 членов команды «Сераписа». Через два дня после боя Джонс был вынужден покинуть «Ричарда». Это было красивое и надежное судно, но его не удалось спасти. Джонс переместил его флаг на «Серапис» и вместе с «Палладой», захватившей «Графиню Скарборо», отплыл в воды дружественной страны. Ни один из эпизодов в карьере Джонса не мог сравниться с его блестящей победой 23 сентября. Он покинул Европу в декабре следующего года, оставив за спиной восхищенную Францию и вернувшись к соотечественникам, которые восторженно приветствовали его. Они нуждались в великих героях и нашли такого героя в лице Джона Пола Джонса.21. Вне войны
I
События на море влияли на события на суше, при этом и те, и другие влияли на жизнь гражданских лиц, а также на жизнь солдат и матросов. Другими словами, жизнь «внутри войны» имела последствия для жизни «вне войны», для гражданского общества, которое обеспечивало ведение войны. Это различие между «внутри» и «вне» в некоторой степени, конечно, было иллюзорным и даже ложным. Гражданские лица, к примеру, принимали непосредственное участие в кампаниях, занимаясь снабжением армии или транспортировкой ее имущества. Они также служили в качестве проводников и разведчиков; чернокожие рабы и вольные белые граждане рыли траншеи; гражданские лица, следовавшие вместе с армией, стирали белье и ухаживали за больными и ранеными. Подобных примеров участия гражданских лиц можно привести немало. Поскольку война велась на территории Америки, американцы столкнулись с физическими разрушениями, которыми сопровождается любая война. В первом сражении той войны, состоявшемся в апреле 1775 года, сгорела часть Конкорда. Два месяца спустя, в ходе сражения при Банкер-Хилле, почти весь Чарлстаун, штат Массачусетс, был разрушен в результате артиллерийского обстрела со стороны англичан. В последующие семь лет большие и малые города и селения по всей Америке несли потери в виде разрушенных зданий всех видов и родов. На последнем этапе войны подверглись разграблению Южная Каролина и Джорджия; там, как и везде, добычей мародеров с обеих сторон, становились урожай и скот, но также и заборы, которые солдаты пускали на дрова, и сельскохозяйственные постройки — особенно на западе. На востоке Чарлстон выдержал разрушительный обстрел, прежде чем сдаться Клинтону в мае 1780 года[937]. Ближе к окончанию войны, когда Вашингтон и Рошамбо загнали Корнуоллиса в Йорктаун, Клинтон отправил Арнольда на побережье Коннектикута, предположительно для того, чтобы отвлечь американские войска от их операций в Виргинии. Жители тамошних городов, видимо, знали, что их ждет, так как генерал Уильям Трайон уже наносил удары по побережью в 1777 и 1779 годах. Во время первого из этих рейдов пострадали не только прибрежные города, но и расположенный в глубине страны Данбери, где зажигательные снаряды Трайона уничтожили девятнадцать домов и двадцать лавок. Два года спустя были сожжены более двухсот зданий в Фэрфилде, половина из них жилые дома. Через три дня после Фэрфилда Трайон пытался сжечь Норвок, и хотя он встретил вооруженное сопротивление, ему удалось предать огню значительную часть города. В сентябре 1781 года, когда на смену Трайону пришел Бенедикт Арнольд, наибольший урон понесли города Нью-Лондон и Гротон в устье реки Темс. У форта Грисуолд под Гротоном ополчение Коннектикута сдалось лишь после того, как уничтожило почти две сотни пехотинцев Арнольда; в отместку англичане убили большую часть солдат гарнизона, когда те уже сложили оружие. За этой резней — иначе не скажешь — последовали издевательства над ранеными. Сам Гротон заплатил за сопротивление потерей многих зданий, но он легко отделался в сравнении с Нью-Лондоном, где большинство строений: дома, лавки, склады, амбары, церковь, здание суда, а также пристани вместе с кораблями, которые не успели сняться с якоря, превратились в тлеющие развалины[938]. Разрушения были не единственной из бед. Не столь заметной, но оттого не менее мучительной бедой было одиночество, угнетавшее тех, кто остался дома. Тяжелее всего было женщинам: помимо того, что они терзались неведением о судьбе своих любимых, им приходилось в одиночку справляться со всеми заботами о доме и семье. Их жизнь проходила в тревоге и беспросветной тоске. Этими чувствами проникнуты письма Сары Ходжкине, писавшей своему мужу Джозефу в действующую армию[939]. Ходжкинсы жили в Ипсуиче, Массачусетс. В 1775 году ему было 32 года, ей — 25 лет. Когда началась война, у них было двое детей (у него также было пять детей от первого брака) — девочка 1773 года рождения и мальчик, родившийся в марте 1775 года. Отряд ополченцев, в котором служил Джозеф Ходжкине, присоединился к войскам, осаждавшим Бостон после сражения при Лексингтоне. Так для него и Сары начался период тяжелых испытаний, длившийся вплоть до его увольнения из армии в июне 1779 года. Сара Ходжкине не скрывала от мужа своего чувства заброшенности и своей тревоги. В 1775 году в День благодарения она призналась ему, что этот день кажется ей «тоскливым и скучным», а через несколько недель ее чувство жалости к себе достигло небывалой силы: «Я жду твоего возвращения почти каждый день, но я не тешу себя пустыми надеждами, потому что они не приносят ничего, кроме тревоги и разочарования». «Хочу увидеть тебя» — за последующие три года она повторяла эти слова великое множество раз, не менее часто повторяя, что боится за жизнь своего мужа[940]. Эти признания не оказывали на Джозефа Ходжкинса деморализующего действия; напротив, причиняя ему боль, они приносили ему и утешение, ибо свидетельствовали о том, что Сара любит его. Иногда Сара признавалась в своей любви открытым текстом, хотя большинство ее писем выдержано в будничном тоне. Буднично и в то же время трогательно звучит следующий постскриптум: «Передай от меня привет кап. Уэйду [командир отряда Ходжкинса] и скажи ему, как сильно мне не хватает рядом с собой его товарища по оружию в эти холодные ночи…» Джозеф Ходжкине ответил: «Я передал от тебя привет кап. Уэйду, но он сказал, что не хочет уступать тебе своего товарища по оружию, хотя я желаю этого всем сердцем»[941]. Любому солдату приятно получать весточки из дома. Письма Сары Ходжкине изобиловали умильными подробностями о детях, родственниках и Ипсуиче. Когда ей было особенно одиноко, она не стеснялась напомнить Джозефу, как ей трудно одной с детьми: «У меня есть сынуля, которому скоро исполнится шесть месяцев, но у меня нет отца для него». Не скрыла она и свое недовольство решением Джозефа остаться на сверхсрочную службу в 1776 году. Несмотря на ее протесты, он прослужил еще три года[942]. Любовь Сары Ходжкине к своему мужу помогла ей пережить эти годы. Благодаря любви она верила, что Провидение поможет им обрести счастье — если не на этом свете, то на том. Ее сердце, как писала она Джозефу, «обливается кровью» при мысли о тех трудностях и тяготах, которые ему приходилось преодолевать. Ее вера в Бога и Божий замысел помогала ей держать себя в руках: «Все, что я могу сделать для тебя, — писала она, — это вверить тебя Господу… ибо только Господу по силам сохранить нас, и он сделает это, если мы полностью доверимся ему»[943]. Сара Ходжкине стойко перенесла разлуку с мужем, и в июне 1779 года он вернулся домой. В годы разлуки он испытывал те же чувства, что и она. Но, как он сказал ей, он сражался за великую цель — цель, которая становилась тем драгоценнее, чем сильнее были страдания, переносимые ради ее достижения. Саре Ходжкине не довелось видеть у своего порога солдат вражеской армии. Ее домашний скот и урожай не стали добычей мародеров; солдаты не поджигали ее дом, не срубали фруктовые деревья во дворе и не пускали заборы и сараи на дрова. Конечно, она жила в страхе за жизнь Джозефа, но, по крайней мере, ей не привелось беспокоиться за свою собственную жизнь. У многих других женщин не было такой уверенности. Например, Мэри Фиш Силлиман из Фэрфилда, Коннектикут, все время боялась, что ее мужа, Голда Селлека Силлимана, насильно уведут из дома, и это действительно произошло одной ночью в мае 1779 года[944]. Супруги уже легли спать, когда в их дом ворвалась группа лоялистов, которые схватили Силлимана, служившего в ополчении Коннектикута в звании бригадного генерала. Англичане держали его под арестом в Нью-Йорке до весны 1780 года, когда он был обменян на лоялиста Томаса Джонса, председателя Высшего суда. К началу кризиса в отношениях между колониями и Великобританией Мэри Фиш Силлиман не была страстной патриоткой. Рожденная в 1736 году в Стонингтоне, Коннектикут, в семье священника-конгрегационалиста Джозефа Фиша и его жены Ребекки, к моменту созыва первого Континентального конгресса она была зрелой женщиной с четырьмя детьми. Кто-то дал ей копию резолюций, принятых конгрессом, и, читая их, она постепенно прониклась интересом к конфликту между Великобританией и Америкой. Ее отец, консерватор по своим богословским и политическим убеждениям, сыграл важную роль в ее осознании сути происходящего. Преподобный мистер Фиш не одобрял Великого религиозного возрождения, охватившего Новую Англию тридцатью годами ранее, и всегда гордился положением колоний в составе Британской империи. Видимо, он не слишком делился своими мыслями с домашними в годы политического кризиса 1760-х годов. «Невыносимые законы», однако, возмутили даже такого лояльного человека, как он, и весной 1774 года он написал Мэри о своем опасении, что Великобритания и король Георг III вознамерились поработить колонии. Годы кризиса, приведшего к принятию «Невыносимых законов» и созыву первого Континентального конгресса, Мэри (в замужестве Мэри Фиш Нойес) провела в борьбе с житейскими трудностями, включавшими падучую болезнь мужа, заботы о детях и — с 1767 года — вдовство. По характеру она была спокойной, рассудительной женщиной, не склонной к гневу или бурным эмоциям, которым она не дала воли даже после того, как прочла призыв конгресса к бойкоту британских товаров. Она отказалась от чая, но, согласно ее биографам, этим и ограничилась, хотя, если рассудить, ей больше и не от чего было отказываться. Мэри Фиш вышла замуж за Голда Селлека Силлимана в 1775 году, примерно через месяц после сражения при Лексингтоне, ознаменовавшего начало войны. Силлиман, до войны имевший адвокатскую практику и переживший смерть первой жены, служил в ополчении Коннектикута, поначалу в звании полковника, затем — бригадного генерала. В ранний период кризиса он проникся идеями сопротивления британскому диктату и с тех пор не скрывал своей неприязни к «этим господам в красных мундирах». Мэри Силлиман, похоже, никогда не разделяла его негодования, но после сражения при Уайт-Плейнсе, в котором участвовал ее муж, она нашла в кармане мундира Силлимана ружейную пулю, застрявшую в ткани. Этого простого события — неожиданного открытия, что ее муж мог быть убит или ранен, — было достаточно, чтобы настроить ее против Великобритании. Так Мэри Силлиман незаметно для самой себя стала патриоткой. Насильственный увод Силлимана из дома в 1779 году бандой мародеров, сочувствовавших англичанам, укрепил ее патриотический настрой. К моменту освобождения генерала Силлимана из плена она пришла к выводу, что пути назад нет. Она была уроженкой Новой Англии и свободной американкой. На долю Лоис Крэри Питерс, жены капитана Натана Питерса, служившего в ополчении Массачусетса и позднее в Континентальной армии, выпали еще более суровые испытания, чем в случае Мэри Фиш Силлиман. Ее муж ушел на войну, как только пришли известия о сражениях при Лексингтоне и Конкорде. Ей было 25 лет, она вышла замуж пятью годами ранее, ее единственному ребенку Уильяму было чуть меньше года. Семья Питерсов жила в Престоне, Коннектикут, где Натан зарабатывал на жизнь изготовлением и продажей седел. Оставшись без мужниной поддержки, Лоис Питерс пыталась продолжать семейное «дело», как она называла торговлю седлами, но столкнулась с большими трудностями. Кожи катастрофически не хватало, и в течение нескольких месяцев после начала войны она в основном занималась тем, что пыталась собрать деньги с должников своего мужа. Изменчивые обстоятельства войны давали многим жителям колоний возможность уклоняться от уплаты своих долгов. Реакция Лоис Питерс на такое поведение была простой и прямой. «Я считаю, — писала она мужу, — что таких людей следует принуждать к выплате всех долгов, а затем вешать»[945]. Нужда в деньгах преследовала большинство семей, чьи мужья и отцы ушли на войну. Лоис Питерс испытывала эту нужду, но она находила способы справляться с ней — продолжая семейное дело, мастеря одежду для себя и своего сына, держа корову и делая сыр. Она даже умудрялась посылать Натану рубашки и чулки, которые шила своими руками, иногда сыр и один (по меньшей мере) раз — бочонок сидра. Он, в свою очередь, посылал ей деньги. Но главным предметом беспокойства Лоис Питерс был не хлеб насущный, а ее муж Натан, ее малолетний сын Уильям и ее дочь Салли, появившаяся на свет в те дни, когда новоанглийское ополчение, где служил Натан, осаждало Бостон. Ее основные усилия были направлены на борьбу с одиночеством и смутными опасениями, которые иногда посещали ее. Она писала Натану, что ее знакомые сомнительной репутации и не очень большого ума не раз говорили ей, что «после того, как ты ушел в свою армию, тебе не стало дела до твоей жены и детей, но я надеюсь, что это не так». Некий Саффорд, почтовый курьер, который иногда доставлял ее письма Натану в Нью-Йорк, рассказал ей «ужасные вещи про солдат в [Нью-]Йорке, что якобы почти все они пользуются услугами женщин легкого поведения и что почти вся наша армия получает ртуть» (то есть лечится от венерической болезни). В своем ответе на письмо жены, где были эти строки, Натан Питерс категорически отверг содержавшееся в них косвенное обвинение в супружеской измене. Лоис, в свою очередь, уверила Натана, что «подобная мысль даже не приходила ей в голову» и что «рассказ мистера Саффорда об армии ничуть не встревожил ее»[946]. Мы вправе усомниться, что Лоис Питерс не беспокоило поведение ее мужа. Но совершенно очевидно, что, несмотря на приступы отчаянного одиночества, она разделяла преданность своего мужа делу революции. Известия с полей сражений приходили с опозданием и часто оставляли ее в неведении относительно того, жив он или нет. Осенью 1776 года, когда армия Вашингтона отступала через Нью-Джерси, она описала свои тревоги в следующих строках:Единственное, что служит мне утешением, это маленькие драгоценные залоги нашей любви. Когда я вижу их, я вижу моего любимого. Должна ли я отказывать себе в счастье быть рядом с ним? Я хотела бы сказать «нет», но я должна отказаться от этого счастья, когда столь великая цель увлекает его из моих объятий. Моя страна, о, моя страна! Прости, моя любовь, тоску души, которая неустанно думает о тебе[947].На поверхностный взгляд может показаться, что Сара Ходжкине, Мэри Фиш Силлиман, Лоис Питерс и иже с ними были пассивными объектами воздействия революции, а не ее участниками. Революция потребовала от них жертв и принесла им личную независимость; они не творили ее. В этом суждении есть доля правды, но оно не учитывает того факта, что эти женщины, наряду со многими другими, готовили почву для революции. Они проявляли личную инициативу задолго до провозглашения независимости. В годы перед войной бойкоты английских товаров, таких как чай, вовлекали женщин в сопротивление. Запрет на ввоз английских товаров открыл перед женщинами еще одну возможность для проявления инициативы, так как женщины не только были потребителями, но и зачастую определяли структуру потребления в своих семьях. Популярный лозунг сопротивления в связи с законами Тауншенда «Берегите свои деньги, и вы сохраните свою страну» был обращен к женщинам в той же мере, что и к мужчинам, и в некоторых городах как женщины, так и мужчины подписывали договоры с обещанием не потреблять запрещенные товары. В 1767 и 1768, а также в 1773 и 1774 годах все упоминания о чае неизменно сопровождались эпитетами «вредный» и «ядовитый»[948]. С началом войны энергия женщин стала еще более востребованной американским сопротивлением[949]. Отечественная мануфактура стала национальной идеей фикс, особенно производство пряжи и изготовление шерстяной одежды. Большинство районов страны не испытывали недостатка в шерсти, и ношение одежды домашнего прядения стало одним из символов великой цели, ибо такая одежда ассоциировалась с простотой и добродетелью, к которым призывал первый Континентальный конгресс. Женщины в городах объединялись в прядильные общества и рекламировали себя в газетах. Временами они делали больше — так, в Филадельфии они шили рубашки для армии Вашингтона. В ряде городов женщины давали почувствовать свою силу, принимая активное участие в охране порядка, в частности наказывая спекулянтов и нарушителей договоров о бойкоте. Абигель Адамс рассказывает об одном таком случае, имевшем место в 1777 году, когда женщины Бостона приняли меры по упорядочению распределения сахара и кофе, которые в годы войны стали дефицитными продуктами. В ее рассказе описывается, как женщины разбирались с торговцами, «укрывавшими большие запасы» этих продуктов:. На улицах много дней стоял шум и гаалт. Несколько человек открыли склады с сахаром и кофе и отпускали их фунтами. Прошел слух, что некий богатый и жадный купец (между прочим, холостяк) держит у себя на складе большой запас кофе, который он отказывается продавать комитету дешевле 6 шиллингов за фунт. Толпа женщин, одни говорят, сотня, другие — что больше, собрались с тележками и тачками, проследовали к складу и потребовали ключи, которые он отказался отдать, после чего одна из них схватила его за шиворот и швырнула в тачку. Видя, что ему не будет пощады, он отдал ключи, и его вывалили из тачки. Затем они открыли склад, сами взяли кофе, погрузили его на тележки и двинулись обратно[950]. Большинство женщин не считали необходимым действовать столь радикальным образом, но их слова порой обладали не меньшей силой. Госпожа баронесса Ридезель, супруга гессенского генерала, надолго запомнила слова одной американской девочки-подростка, воскликнувшей: «О, окажись здесь король Англии, с каким бы удовольствием я разрезала его тело на куски, вырвала его сердце, рассекла его на части, поджарила на этих углях и съела!»[951] Баронесса стала свидетельницей этого выплеска эмоций, находясь в американском плену, куда она попала незадолго перед тем вместе со своим мужем и армией генерала Бергойна. Согласно условиям капитуляции, армия была препровождена из Нью-Йорка в Виргинию. Беря с собой в поход трех маленьких дочерей, баронесса не подозревала, что всех их ждут позор и унижение. По пути в Виргинию пленники подвергались словесным оскорблениям и почти не получали пищи, а в Бостоне женщины плевали в ее сторону, когда она проходила мимо. Но, пожалуй, с наиболее неприязненным отношением она столкнулась к югу от Бостона, где ей в нескольких случаях наотрез отказались продать еду для ее дочерей. Госпожа Ридезель формально имела статус гражданского лица, следующего вместе с армией. В XVIII веке большинство армий сопровождалось в походе множеством женщин, включая жен солдат и офицеров, любовниц и проституток. Все эти женщины оказывали те или иные услуги: стирали и чинили одежду, иногда закупали и готовили пищу, ухаживали за больными и ранеными и оказывали другую посильную помощь. Американцы часто отговаривали женщин от попыток сопровождать армию — Вашингтону не нравилась эта практика, и он опасался того ущерба, который могли нанести боевому духу солдат женщины с их вечными ссорами и склоками. Но женщины настаивали на своем, и большинство солдат, несомненно, были благодарны им за это. Описывать пережитое женщинами в годы Американской революции — неблагодарная задача. Вышеприведенные примеры дают лишь поверхностное представление о пережитом ими опыте, и его значение для жизни женщин не всегда очевидно. Поколение, прошедшее через революцию, включая как патриотов, так и лоялистов, стало другим — хотя бы за счет того, что оно увидело, какой может быть жизнь женщины, когда мужчина на время перестает быть всевластным. В отсутствие мужей и отцов, служивших в армии или каком-либо государственном органе, женщины из средних и высших слоев общества пользовались свободой, какой не знали до войны. Но даже когда мужчины были рядом, сама атмосфера в обществе в период кризиса и войны была совершенно другой. На первом плане была политика, и призывы к свободе и независимости неизбежно приводили к мысли, что не только мужчины, но и женщины Америки должны пользоваться благами, вытекающими из свободы и независимости. Но лишь малое число женщин настаивало на воплощении этой идеи в жизнь. Наказ «помните о дамах», который Абигель Адамс дала своему мужу, участвовавшему в работе конгресса, был пропущен мимо ушей, равно как и другие, более скромные наказы.
II
Гражданское население — как мужчины, так и женщины — часто продолжало жить так, словно никакой войны не было. После ухода войск Хау из Бостона в 1776 году враг находился достаточно далеко, чтобы большая часть гражданского населения Массачусетса могла вести спокойную и тихую жизнь. В тех местах, через которые проходили или где останавливались армии, ни о какой тишине не могло быть и речи. На протяжении всей войны ходили слухи об особой жестокости гессенцев, как в то время называли всех немецких солдат без разбора. Погоня Хау за Вашингтоном через всю территорию Нью-Джерси в конце 1776 года породила глубокую ненависть гражданского населения к немецким наемникам. Эти солдаты, скорее всего, вели себя не хуже своих союзников-англичан, но поскольку они были «инородцами» и говорили на чужом языке, то вызывали глубокую неприязнь. Армии XVIII века обычно не церемонились с гражданским населением, и английские и немецкие солдаты под началом Хау вели себя в этом смысле не лучше других. Они врывались в частные дома и брали все, что хотели — пищу, одежду и многое остальное, что попадалось им под руку. В зимнее время остро стояла проблема с обогревом, поэтому неудивительно, что солдаты сносили заборы и деревянные постройки, чтобы использовать их в качестве дров. Подобные действия совершались в течение всей войны, причем не только вражескими солдатами. В 1778 году в Вэлли-Фордж солдаты Вашингтона испытывали чудовищный голод и холод; зимой 1779/80 года, расположившись вокруг Морристауна, Нью-Джерси, они страдали еще больше. В этих и во многих других ситуациях некоторые из них не могли устоять перед соблазном поживиться за счет гражданского населения. Было много случаев, когда солдаты не нуждались ни в каких предлогах, например у Монмут-Корт-Хауса в конце июня 1778 года. Непосредственно после сражения американские солдаты обшарили дома, чьи хозяева сбежали, когда две армии сошлись в бою. Американцы забрали все, что смогли унести, однако не успели воспользоваться награбленным, так как разгневанный Вашингтон приказал подвергнуть их обыску. Вашингтону приходилось отдавать такие приказы во время войны неоднократно. Его противники — Хау, Клинтон и их штабы — принимали аналогичные меры. Обе армии сурово наказывали мародеров — как военных, так и гражданских. Джеймс Тэчер, офицер медицинской части, сообщает в своем дневнике о повешении солдат, грабивших и убивавших мирных жителей Олбани в 1778 году. Тэчер называет этих горе-вояк «подонками», и его ненависть к ним, похоже, разделялась большинством лиц в обеих армиях[952]. Тем не менее солдаты продолжали грабить и убивать гражданских лиц в течение всей войны. Гражданское население привыкло бояться не только армий обеих сторон, но и тех, кто следовал вместе с ними или находился под их защитой. Гражданские лица, сопровождавшие армии (в большинстве своем зрелые женщины — жены и не только жены), совершали различные преступления против гражданского населения. Основную часть времени эти женщины оказывали всевозможные услуги офицерам и солдатам. Они стирали, готовили пищу, ухаживали за больными и ранеными и делали много других полезных дел. Однако сфера их внимания не ограничивалась военными и их потребностями. Когда им предоставлялась возможность украсть, многие из них охотно пользовались ею. Некоторые из женщин, сопровождавших армию Натаниэля Грина, в апреле 1781 года участвовали вместе с солдатами в разграблении и поджоге домов близ лагеря Гам-Суомп в Южной Каролине. Грин пригрозил предать казни всех, кто будет пойман. В июле 1778 года женщины, «принадлежавшие» армии Вашингтона, стоявшей под Ньюарком в Нью-Джерси, унесли из домов мирных жителей два плаща, носовые платки, рубашки, наволочки и одну большую «узорчатую попону». Пострадавшие пожаловались офицерам, и те подвергли женщин обыску. Гражданское население боялось еще одной группы лиц — вооруженных грабителей, орудовавших на периферии армий. Их банды шастали в окрестностях Нью-Йорка в течение большей части войны, в окрестностях Филадельфии с сентября 1777 года по июль 1778 года и по обеим Каролинам и Джорджии — с 1780 года. Нередко выдавая себя за партизан, воюющих на стороне одной из армий, они занимались грабежом и разбоем. На самом деле они были обычными преступниками, не имевшими ни совести, ни чести и думавшими только о собственной выгоде. Настоящие партизаны относились к ним с презрением. Фрэнсис Мэрион из Южной Каролины, по прозвищу Болотный Лис, узнав, что следом за его отрядом идут бандиты, выдающие себя за его солдат и грабящие злополучных каролинцев, разрешил своим людям казнить этих мнимых партизан без суда и следствия. На долю американцев, живших в оккупированных городах или в их окрестностях, выпали самые тяжелые испытания, какие только может принести война. Первым захваченным городом был Бостон, но ему пришлось страдать недолго. Хотя горожане так и не свыклись с постоянным присутствием солдат на своих улицах, они, по крайней мере, оставались в городе вплоть до сражения при Лексингтоне. В пределах месяца после этого первого крупного сражения около половины обывателей покинули Бостон. В опустевшем городе, осажденном неприятельскими войсками, воцарилась гнетущая атмосфера. И в июне, когда английская армия понесла крупные потери при Банкер-Хилле, почти все, должно быть, испытывали чувство подавленности и тревоги. Разумеется, нормальной жизнью не жил практически никто, ни военные, ни гражданские, пока в марте 1776 года англичане не покинули город на военных кораблях. Все это время город испытывал недостаток в продуктах питания. Фрукты, овощи и свежее мясо исчезли сразу после того, как осадившие город американцы отрезали доступ к фермам и складам внутренних областей страны. Из Великобритании продолжали поступать соленое мясо, сушеные фасоль и горох и некоторые другие продукты. Но поставки из метрополии были нерегулярными и не отличались разнообразием. Как рассказывает купец Джон Эндрюс, оставшийся в городе, чтобы охранять свое имущество, гражданское население было вынуждено довольствоваться «свининой и фасолью сегодня, фасолью и свининой завтра и рыбой, когда ее удавалось наловить». Эндрюс не голодал, но он постоянно боялся, что, несмотря на свою строгую экономию, он не сможет защитить то, что имеет. Солдаты, говорил он, «убеждены, что имеют право грабить дома и склады всех, кто покидает город, и они уже доказали это убеждение на деле»[953]. Английские солдаты, судя по всему, разделяли пессимизм Эндрюса, хотя и по другим причинам. У них за плечами было два кровавых сражения, которые, насколько они могли судить, не принесли им никакой пользы. А теперь еще они оказались блокированы в практически безлюдном городе войсками повстанцев. Зима ухудшила положение как солдат, так и гражданского населения. Когда река и залив начали замерзать, угроза штурма возросла. Но и холод сам по себе был достаточно большим злом. Неудивительно, что зимой 1775/76 годов британская армия не демонстрировала особого уважения к правам и имуществу гражданского населения. Офицеры вселились в частные дома — генерал Генри Клинтон жил в особняке Джона Хэнкока, Бергойн — в особняке Джеймса Боудена. Офицеры более низкого звания расположились в более скромных домах. Их солдаты, по-видимому, тоже жили в домах[954]. Общественные здания также использовались для целей армии. В здании Старого Южного молитвенного дома драгуны устроили школу верховой езды, для чего им пришлось выломать все скамьи. Западная церковь и церковь на Холлиз-стрит были превращены в казармы; молитвенный дом на Федерал-стрит был приспособлен под сарай для хранения сена, а Старый Северный молитвенный дом разобран на дрова. По меньшей мере сто частных домов разделили участь Старого Северного — послужили топливом для костров, возле которых грелись замерзшие солдаты. Ущерб не ограничился поврежденными и снесенными домами и церквями: бостонцы, вернувшиеся в город после ухода англичан в марте 1776 года, сразу обратили внимание на отсутствие надворных построек, заборов и значительной части деревьев, а также вытоптанные сады и повсеместную грязь. На следующий год после ухода из Бостона англичане захватили Филадельфию, которую они удерживали почти девять месяцев. Во многих отношениях оккупация Филадельфии напоминала оккупацию Бостона. Гражданские лица, оставшиеся в городе после его падения, были вынуждены терпеть присутствие солдат, которые иногда грабили, унижали и даже убивали их. Они также были вынуждены селить у себя офицеров и солдат, которые не спрашивали у них, хотят они того или нет. В целом, однако, жизнь гражданского населения была намного лучше, чем в оккупированном Бостоне. Филадельфия не была окружена никакими войсками, и свободное передвижение между городом и окрестными фермами и деревнями — а также Нью-Йорком — продолжалось. Правда, рекой Делавэр нельзя было пользоваться вплоть до конца ноября 1777 года, когда Хау, наконец, удалось захватить американские форты, контролировавшие реку. Зато армия Вашингтона, влачившая жалкое существование в Вэлли-Фордж, не представляла никакой угрозы по крайней мере до весны 1778 года. Более серьезную проблему представляли партизанские шайки, пытавшиеся помешать фермерам возить в город продукты, а также разбойники с большой дороги, грабившие всех, кто не мог дать им достойный отпор. Впрочем, и партизаны, и редкие разведывательные отряды из Вэлли-Фордж, и даже вооруженные грабители были для британской армии не более чем мелкой неприятностью. Здесь ей жилось намного лучше, чем в осажденном Бостоне. Гражданское население, однако, никогда не было свободно от притеснений со стороны военных. Даже в лучшие времена солдатская жизнь редко была благоустроенной, и солдаты, жившие бок о бок с гражданскими лицами, часто брали или пытались брать то, что граждане предпочли бы оставить себе. В первые дни оккупации, пока офицеры еще не обуздали солдатскую вольницу, солдаты совершали кражи из домов, сносили заборы для своих костров и забирали сено, овощи и многое другое, что им требовалось, без расписок. Хотя подобные действия так и не удалось полностью пресечь за девять последующих месяцев, самовольные захваты имущества постепенно сходили на нет. Ближе к зиме солдаты начали подчиняться приказам офицеров и прислушиваться к протестам гражданского населения[955]. Самые большие страдания во время оккупации выпали на долю бедноты. Возможно, их грабили не так часто, как тех, у кого действительно было чем поживиться, зато на них крайне болезненно сказывался рост цен. В Филадельфии почти никогда не наблюдалось недостатка в продуктах питания и топливе, но цены на эти товары в период английской оккупации стремительно росли[956]. Все горожане, независимо от своего социального статуса, в течение всего периода оккупации испытывали тревогу и страх. Основания для страха были даже у тех, кто хранил преданность Короне, так как солдатам, ищущим легкой поживы, было все равно, кого грабить. Молодой лоялист Роберт Мортон поначалу приветствовал появление англичан и острил по поводу той поспешности, с какой в сентябре конгресс бежал из города. Однако уже через пару дней после начала оккупации он начал отмечать ее «ужасные последствия» — разграбление домов, реквизицию сена у своей матери без денежного возмещения и даже без расписки и «разор и бессмысленные разрушения, производимые солдатами»[957]. Молодой Мортон приветствовал оккупацию, поскольку он хорошо относился к англичанам. Элизабет Дринкер, вдова купца-квакера, похоже, не испытывала особых симпатий ни к той, ни к другой стороне. И подобно большинству квакеров, она осуждала жестокости войны. За несколько недель до захвата Филадельфии Генри Дринкера, мужа Элизабет, арестовали по подозрению в нелояльности делу революции, после чего он и другие квакеры, попавшие под подозрение, были высланы в отдаленные города. Элизабет испытывала естественную тревогу за своего мужа. Оккупация усугубила ее напряженное состояние. У Дринкеров были деньги, они не голодали и не мерзли. Им не пришлось отдать свой дом, хотя после длительных переговоров они были вынуждены взять на постой английского офицера, некоего майора Краммонда, который прибыл с тремя слугами (один из них остался у Дринкеров), тремя лошадьми, тремя коровами, двумя овцами да еще индейками и курами. Все это хозяйство, безусловно, было обузой для Элизабет Дринкер, равно как и пребывание майора в ее доме. В то же время его присутствие, возможно, было для нее благом, в чем она не вполне отдавала себе отчет. До вселения майора Краммонда члены семьи боялись, что к ним в дом могут ворваться солдаты. Подобный случай уже имел место в конце ноября, когда один подвыпивший кавалерист попытался завести шашни с их юной служанкой Энн. Элизабет Дринкер была страшно напугана этим происшествием, и ее страх был усилен рассказами о солдатах, грабивших филадельфийские дома. Одним декабрьским вечером, заметив неподалеку от своего дома группу подозрительных людей, она призналась в своем дневнике, что с некоторых пор боится отходить ко сну. Майор Краммонд временами мог быть обременительным — он засиживался допоздна и принимал своих друзей в гостиной Дринкеров, — но его присутствие сдерживало солдат, которые в ином случае могли бы вломиться в дом[958]. Элизабет Дринкер время от времени обращалась за помощью к Джозефу Галлоуэю — лоялисту, некогда входившему в политическую элиту Пенсильвании и очень одаренному человеку. С 4 декабря 1777 года вплоть до ухода армии из города он занимал должность «главного суперинтенданта полиции в городе и его окрестностях и суперинтенданта импорта и экспорта товаров в Филадельфию и из Филадельфии». Сей громкий титул означал всего лишь то, что Галлоуэй отвечал за регулирование торговой деятельности Филадельфии. Его властные полномочия целиком и полностью зависели от воли армейского начальства[959]. Регулировать торговую деятельность в период оккупации было нелегко. В течение этих девяти месяцев в городе кипела деловая жизнь. Армия строго контролировала прибытие и отправку грузов, и те товары, которые могли стать объектом контрабандных поставок повстанцам за пределы города — ром, спирт, патока и соль, — надежно складировались и продавались лишь с разрешения властей. Купцы-лоялисты в эти месяцы стремительно богатели, в чем им, по-видимому, не уступали английские должностные лица и таможенные чиновники, участвовавшие в контрабанде. Галлоуэй делал все от него зависящее, чтобы не допускать нарушений закона, и однажды дошел до того, что устроил обыск на складе купца-лоялиста Тенча Кокса в поисках контрабандного оружия. Кокс вернулся в Филадельфию вместе с английской армией в сентябре 1777 года. Его глазам предстали почти безлюдные улицы, но спустя короткое время такие же, как он, бежавший годом ранее, изгнанники вернулись в город. После капитуляции американских фортов на реке Делавэр, состоявшейся в конце ноября, возобновилась торговля с Нью-Йорком и Вест-Индией. Еще до открытия судоходства Кокс дал в местной газете объявление о продаже хлопчатобумажных изделий, атласных тканей, шелковых подвязок, жемчужных ожерелий и кайзеровых пилюлей. Эти пилюли пользовались большим спросом, поскольку считалось, что они излечивают венерические болезни, ревматизм, астму, водянку и апоплексию[960]. Для зажиточных людей — купцов вроде Кокса, королевских чиновников и некоторых армейских офицеров — наступил светский сезон с еженедельными балами и периодическими спектаклями, концертами и зваными вечерами. Кульминация этих мероприятий пришлась на 18 мая 1778 года, когда офицеры генерала Хау по инициативе капитана Джона Андре устроили в честь своего командующего, которого вскоре должен был сменить Генри Клинтон, большой праздничный вечер с инсценированным турниром с участием рыцарей ордена Пестрой Розы и ордена Пламенеющей Горы, балом, банкетом и плаванием по реке на украшенных гирляндами баржах, приветствовавших Хау орудийными салютами. Андре пригласил местную аристократию и, разумеется, не обошел вниманием самых красивых девушек из семей лоялистов. В целом это было памятное событие для генерала, хотя оно пришлось по вкусу далеко не всем. Элизабет Дринкер ворчала, что этот день будут долго помнить за «сцены глупости и тщеславия»[961]. В оккупированном Нью-Йорке в течение всей войны происходили аналогичные «сцены», хотя ни одна из них не могла сравниться с филадельфийской по пышности и экстравагантности. Нью-Йорк был взят англичанами в сентябре 1776 года и оставался в их руках до конца ноября 1783 года, когда миновало уже почти три месяца после подписания мирных договоров 3 сентября 1783 года/В городе располагался штаб главнокомандующего британскими войсками в Америке, должность которого поочередно занимали Уильям Хау, Генри Клинтон и сэр Ги Карлтон, сменивший Клинтона в мае 1783 года, когда война почти закончилась. Как штаб армии и крупный морской порт, Нью-Йорк, естественно, пользовался повышенным вниманием со стороны правительства в Великобритании и вооруженных сил в Америке. Солдаты и припасы прибывали и — реже — покидали его в течение всей войны. В Нью-Йорке планировались операции, в его доках оснащались и ремонтировались военные корабли, и лоялисты из северных штатов стекались в него в поисках защиты. Почти до самого конца войны армия не собиралась сдавать Нью-Йорк. Но, несмотря на то что город был центром многих видов деятельности англичан, в годы войны он был далек от процветания. Разумеется, торговля возобновилась почти сразу после оккупации. По одной из оценок, в октябре 1776 года в гавани находилось не менее пяти сотен судов. Примерно в это же время начали выходить несколько газет, чьи колонки пестрели объявлениями о продаже различных товаров. Когда возродилась деловая активность и британская армия окончательно обосновалась в городе, число его жителей стремительно выросло за счет вернувшихся беженцев, а также лоялистов, искавших убежища от преследований со стороны патриотов. В 1781 году гражданское население Нью-Йорка насчитывало 25 тысяч человек. Количество британских солдат, после начала оккупации составлявшее около 31 тысячи человек, к началу 1777 года, когда Хау еще преследовал Вашингтона, сократилось до 3300. В течение большей части войны в городе располагалось не менее 10 тысяч солдат, большинство из них на Статен-Айленде и в северном Манхэттене[962]. Как и в Филадельфии, многие армейские офицеры и богатые лоялисты вели активную светскую жизнь. Игрались спектакли, давались концерты, возобновилась привычная рутина балов и званых вечеров. Пытаясь разнообразить свой досуг, армейские и флотские офицеры выступали в качестве актеров в театральных постановках. Джон Андре, ныне майор гвардии и адъютант Клинтона, исполнял главные роли. В 1783 году, за несколько месяцев до официального окончания войны, в город прибыла профессиональная труппа, которая начала давать представления. Вся эта бурная театральная жизнь затихла в конце года вслед за окончанием войны и отплытием армии и нескольких тысяч лоялистов из города. Развлечения военных и лоялистов имели привкус тихого отчаяния. Возможно, Нью-Йорк не всегда испытывал такие ограничения, как оккупированный Бостон, но его жители знали, что враг находится где-то рядом. За годы своего командования Клинтон, у которого, конечно, были основания для тревоги, несколько раз опасался штурма. И когда корабли с продовольствием не прибывали вовремя, у него появлялась причина бояться, что в городе может начаться голод. Жизнь многих горожан была тяжелой и безотрадной. Материальные условия ухудшились сразу после начала оккупации в сентябре 1776 года. В ночь на 20 сентября вспыхнул пожар, уничтоживший 500 домов, около четверти всех жилых построек в городе. Жертвой огня также стали церковь Троицы, лютеранская церковь, склады и магазины. Эти потери не вызвали немедленной нехватки жилья только потому, что большая часть горожан покинула Нью-Йорк. В городе осталось не более пяти тысяч жителей. Но в следующие несколько месяцев в связи с возвращением массы беженцев и притоком лоялистов из среднеатлантических штатов возник острый дефицит жилья. Присутствие английских солдат усугубляло жилищный кризис, который достиг своего апогея в августе 1778 года, когда еще один большой пожар уничтожил 64 дома. В период оккупации не предпринималось никаких серьезных попыток заново отстроиться. Бедняки и сезонные работники, следовавшие вместе с армией, заняли большую часть выгоревшей территории — она тянулась по обе стороны Бродвея — и воздвигли на ней времянки. Многие из этих строений представляли собой тенты из парусины, натянутые поверх и вокруг остатков стен и дымовых труб, сохранившихся после пожара. Местные жители прозвали это поселение «палаточным городом». Суровые зимы, особенно зима 1779/80 года, были настоящим бедствием. До войны большая часть продовольствия и топлива поставлялась в город из долины Гудзона и близлежащего Нью-Джерси. Еще ближе находились фермы Верхнего Манхэттена, снабжавшие горожан овощами и мясом; с Лонг-Айленда везли сено, зерно, мясо и дрова. Эти близлежащие районы оставались постоянными поставщиками на протяжении всей войны, но они не могли удовлетворять потребности города, чье население постоянно росло. Зимой 1779/80 года из-за сильных снегопадов транспортировка продуктов и дров порой останавливалась на недели. В начале зимы на реке образовались ледяные заторы, на время отрезавшие Лонг-Айленд от других частей Ньр-Йорка. В середине января замерз пролив Лонг-Айленд, благодаря чему появилась возможность доставлять провизию в город на санях. Но хотя лед в одном отношении помог снабжению, в другом он помешал ему, так как сковал суда. В управлении городом армия полагалась на свои собственные силы. Вскоре после захвата города Хау вновь утвердил Трайона на посту губернатора, однако фактическое руководство осуществлял Джеймс Робертсон, в сентябре назначенный комендантом Нью-Йорка. Большую часть работы, связанной с управлением оккупированным городом, Робертсон поручал строевым офицерам, но он также отобрал группу гражданских лиц, так называемый совет прихожан, для оказания помощи городской бедноте. Подобный орган существовал до войны и занимался сбором налогов в пользу бедных и раздачей пособий. Группа, образованная Робертсоном, не собирала налогов, но она получала ренту с лоялистов, арендовавших дома, брошенные повстанцами, и брала штрафы с нарушителей различных предписаний, введенных комендантом. За период оккупации совет распределил между неимущими около 45 тысяч фунтов стерлингов. Но ни совету прихожан, ни какому-либо другому органу власти не было по силам помочь всем нуждающимся. Ни один житель Америки не избежал тех или иных невзгод в связи с войной, даже те, кто жил в районах, где не велись боевые действия. Разумеется, многое продолжало идти своим чередом — весной фермеры делали посадки, осенью собирали урожай. Ремесленники производили, а лавочники продавали изделия. В церквях собирались прихожане, дети ходили в школы. Вся эта деятельность подчинялась ритму привычного существования. И все же о войне нельзя было забывать. Десять лет смуты и брожения, предшествовавшие ее началу, убедили большинство американцев, что только война способна решить их проблемы. Имеется множество свидетельств того, что, где бы они ни находились, они внимательно следили за ходом борьбы. Большинству, вероятно, казалось, что все перевернулось с ног на голову. Спустя месяцы после ухода английских войск из Филадельфии Элизабет Дринкер столкнулась с примером преступного игнорирования социальной иерархии. Новая горничная, нанятая в конце 1778 года, как-то раз провела целый день в общении с приятельницей в доме Дринкеров, после чего предложила ей остаться на ночь — «не спросив разрешения». Миссис Дринкер увидела в этом поведении дурной знак. «Времена сильно изменились, — заявила она, — и горничные стали вести себя, как хозяйки»[963]. Солдаты и их семьи, эти «Ходжкинсы революции», испытывали страдания, которых не знала Элизабет Дринкер. Их чувство тревоги было гораздо более гнетущим. Да и тревога была иного рода. Вопрос «уцелеет ли Джозеф?» терзал Сару Ходжкине до тех пор, пока ее муж наконец не был демобилизован. Ничто в обычной повседневной жизни не могло вытеснить тревогу Сары Ходжкине и таких, как она.III
Ввиду большой продолжительности войны и тех испытаний, которым она подвергала людей, опыт Ходжкинсов разделило большинство американцев. За восемь лет, протекших между Лексингтоном и заключением мира, службу в Континентальной армии и ополчениях штатов прошли около 200 тысяч человек. И хотя некоторые районы страны избежали разрушений, неизбежно сопряженных с боевыми действиями, никто не остался в стороне от войны, поскольку англичане направляли свои войска и свои усилия во все концы нового государства. Люди из всех уголков Америки погибали в борьбе с угнетателями. Если жизни большинства американцев оказалась в той или иной степени затронута войной, то социальная структура осталась примерно такой же, какой она была до революции. Социальные классы не претерпели существенных изменений, хотя верхний слой общества в городах лишился значительной части купцов, которые как лоялисты были вынуждены покинуть страну. Большинство купцов, безусловно, поддерживали сопротивление и оказывали материальную помощь повстанцам. Основные социальные институты также сохранились. Война разлучила семьи, разрушила школы и церкви и нанесла ущерб общинам, но способность всех этих институтов к самоорганизации осталась нетронутой. Нельзя сказать, что не произошло никаких изменений — англиканская церковь, например, перестала получать поддержку в виде налогов. Ее отделение от государства оказалось непростой задачей, особенно в Виргинии, где Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон с трудом убедили законодательный орган сделать соответствующие шаги. Но порядок богослужения не подвергся радикальным изменениям[964]. Тем не менее, хотя социальная структура осталась примерно такой же, какой была всегда, опыт революции и войны оказал глубокое влияние на общество. Восьмилетняя борьба за отделение от Великобритании не могла не изменить характер американского народа, хотя он и продолжал цепляться за многое из своего прошлого. С одной стороны, существенно изменились средства, которыми он регулировал свою жизнь, — государственные институты. Безусловно, правление по-прежнему оставалось представительным, но по своей структуре и реализации своих полномочий правительство отошло от практики колониального периода. Губернатор, в прошлом представитель королевской власти или владельца колонии, теперь выступал в качестве представителя легислатуры, которой принадлежала реальная власть. В самой легислатуре преобладающее влияние имела нижняя палата. Большинство избирателей в нижнюю палату составляли белые мужчины с реальной собственностью, как это было и раньше. Пенсильвания и Джорджия смягчили критерии, введя нечто близкое к избирательному праву для взрослых мужчин; в Массачусетсе конституция 1780 года повысила размер собственности, дающий право голоса, до 60 фунтов стерлингов. Но независимо от того, оставались ли требования к избирателям прежними или ужесточались, власть приблизилась к обществу. Конституции штатов не устанавливали «демократию», тем не менее, у «народа» стало больше власти, чем когда-либо прежде[965]. Изменение характера или качества общества отражало сдвиг во власти и, возможно, способствовало его осуществлению. Даже если общество не было вполне «демократическим» или вполне «американским», оно было более уравнительным, чем прежде, и осознавало себя обществом новой нации. Революция, в конце концов, была сделана ради американского народа. Декларация о независимости провозгласила его отделение от других народов. Его представители создали конгресс, отстаивавший интересы всего континента, и конгресс основал Континентальную армию. Великие события, давшие американцам основания называть свое дело «славным», также побудили их любить свою страну и ее независимость. Тысячи мужчин и женщин, разделявшие это чувство, но никогда прежде не интересовавшиеся политикой, жили ею на протяжении двадцати лет после 1763 года. Тысячи тех, кто никогда не воевал, теперь воевали, тысячи других работали на армию и платили налоги на ведение войны. Чтобы продемонстрировать изменения, произведенные этими годами борьбы и потерь, принято указывать на проявления американского национализма. Так называемая элитарная или высокая культура — прежде всего литература и живопись — свидетельствует о том, что в годы революции возник американский национализм; об этом же свидетельствуют знаменитые законодательные акты и, самое главное, дела американцев[966]. Но именно тот опыт, который породил национальное чувство, сделал революционное поколение отличным от всех предшествовавших — и последующих — поколений. Те, кто отстаивал права американцев до 1775 года, те, кто возглавлял революцию и Войну за независимость, те, кто сражался, те, кто оказывал материальную помощь и услуги, и те, кто просто агитировал других, — все они утверждали свою идентичность своими действиями. Они были частью великого дела — дела, которое с 1776 года приняло форму эксперимента в области республиканской формы правления. Точный характер этого эксперимента прояснился не сразу, хотя пять лет, последовавшие за мирными договорами 1783 года, дали богатый материал для истолкования его значения. За это время американцы, участвовавшие в борьбе, осознали, что их главным отличием от других проявляются в их деяниях. Самое сильное выражение это осознание, безусловно, находило на поле боя, где чувство идентичности и приверженность добродетели заявляли о себе с наибольшей силой. То, что армия временами терпела неудачу в служении делу, не означало, что опыт революционного поколения был ложным. Ни одно общество не держится в точности того курса, который оно себе наметило; никакой благой и возвышенный опыт не бывает полностью свободным от зла и низости. Несовершенство Континентальной армии отражало несовершенство общества. Американская армия и американское общество находились в тесном переплетении, не имевшем прецедента в XVIII веке до Великой французской революции. Попытки общества и армии решать общие проблемы приводили к путанице — путанице, обусловленной их незрелым, не вполне сформировавшимся характером. Управление поставками, защита собственности, деление на своих (сторонников независимости) и чужих (лоялистов) и особенно вербовка солдат — все это требовало как от военных, так и от гражданских неимоверных усилий, о которых не ведают устоявшиеся нации с четко определенными институциональными целями и отлаженными процедурами. В XVIII веке не было другого столь яркого примера, когда бы армия являлась непосредственным продолжением общества. В бою солдаты преодолевали такие трудности, с которыми не могла сравниться ни одна проблема в гражданской жизни. И, тем не менее, как мы видели, солдаты выдерживали испытание боем — отчасти благодаря тому, что Континентальная армия была плоть от плоти народа, который поддерживал ее. В ходе длительной борьбы «слава» их дела определялась не только великими принципами, составлявшими его суть, но и тем фактом, что в него верило огромное количество людей. Завладев воображением американцев, славное дело стало воистину «общим делом».IV
Дело было общим не для всех жителей Америки. Около 500 тысяч американцев в период между 1775 и 1783 годами оставались лояльными Великобритании, и примерно 80 тысяч из них бросили свои дома и бежали в Англию, Канаду, Новую Шотландию и Вест-Индию. В целом «лоялисты», как они называли себя (революционеры предпочитали именовать их «тори»), составляли порядка 16 процентов всего населения, или немногим более 19 процентов всех белых американцев[967]. Преданность Короне была нормальным состоянием жителей американских колоний до 1775 года, так что, пожалуй, не стоит удивляться, что почти пятая часть белых колонистов предпочла не отказываться — или не смогла отказаться — от традиционной верности Англии. Они оставались глухи к призывам к участию в революции, к отстаиванию своих прав. И это при том, что на протяжении десяти лет до начала войны многие отдавали себе отчет в существовании угрозы этим правам. Многие разделяли растущее неприятие деспотичных мер, вводившихся британским правительством в 1760-е и начале 1770-х годов. Но их лояльность перевешивала недовольство и удерживала их от участия в политической борьбе. Те, кто открыто выражал свою позицию, часто подвергались жестокому обращению; и среди тех, кто боялся за свою жизнь или кто не мог спокойно смотреть на то, как рвутся старые скрепы, находились люди, открыто демонстрировавшие свое неприятие революции — в большинстве случаев такие люди выезжали из страны, либо вступали в войска, служившие в составе британской армии. Ни в одной колонии лоялисты не превосходили по численности революционеров. Больше всего лоялистов было в срединных колониях: британскую корону, в частности, поддерживали многие фермеры-арендаторы в колонии Нью-Йорк, а также большое количество голландцев в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Немцы в Пенсильвании пытались оставаться в стороне от революции, и так же поступали многие квакеры, которые в разгар революционной борьбы старались держаться друг друга и не вступать в контакты с повстанцами. Шотландские горцы в обеих Каролинах, значительная часть англиканского духовенства и их прихожан в Коннектикуте и Нью-Йорке, многие пресвитериане в южных колониях и большое количество индейцев-ирокезов сохраняли преданность королю[968]. Этот приблизительный список содержит в себе объяснение слабости и, соответственно, неуспеха лоялистов. Они представляли собой разрозненные группы, разделенные в самих себе и не связанные с источниками власти. Так, лояльные королю англиканцы Новой Англии были со всех сторон окружены конгрегационалистами. Немцам и голландцам в срединных колониях, которые не всегда жили в согласии между собой, противостояли более сплоченные англичане и шотландо-ирландцы. Шотландцы ни в одной из колоний не были особо многочисленны, и даже арендаторы в долине реки Гудзон являлись меньшинством. Все эти группы были меньшинствами — «сознательными меньшинствами», как их называет историк Уильям Нельсон, — и были неспособны к борьбе в силу тех особенностей, которые разделяли их. Их слабость делала их зависимыми от британского правительства, которое исходя из своих собственных соображений никогда не использовало их достаточно эффективно. Слабость и уязвимость этих меньшинств, несомненно, способствовали их предрасположенности к лояльности. Они понимали, насколько сильно они отличаются от большинства жителей Америки, и искали поддержки за океаном. Среди голландцев в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые не усвоили английские язык и культуру, было больше лоялистов, чем среди тех, для кого чужая языковая и культурная среда стала своей. В долине реки Хакенсак отличия между двумя категориями голландцев были особенно заметны. Одна группа оставалась верной своему родному языку, традициям и религии; другая учила английский язык и в разгар Великого пробуждения подхватила идеи религиозного возрождения. Англоязычные голландцы, проникнутые евангельскими ценностями, поддержали революцию. Консервативные голландцы остались в стороне, предпочитая хранить преданность английскому королю, избегать неизвестного и оставаться в узких пределах привычного и, как им казалось, безопасного мира[969]. Безопасность предполагала молчание и бездействие. Лоялисты, выдававшие свои симпатии неосторожными речами либо отстаивавшие свои принципы на деле, подвергали свою жизнь опасности — власти повсеместно пытались пресекать любые протесты. Британская армия, безусловно, предлагала защиту, но она имела обыкновение передвигаться с места на место. Когда она уходила — например, из Бостона в 1776 году, из Филадельфии в 1778 году и с большей части территории обеих Каролин в 1781 году, — лоялисты, оказывавшие ей явную поддержку, старались уйти вместе с ней, ибо в противном случае им угрожали репрессии. Комитеты безопасности и наблюдения, образованные в связи с «Ассоциацией» 1774 года, занимались поиском внутренних врагов: охотились за теми, кто вел подрывные речи, выискивали неплательщиков налогов и брали на заметку тех, кто уклонялся от службы в ополчении. Когда постоянные правительства штатов вновь овладели ситуацией в 1775 и 1776 годах, местные суды и в некоторых случаях специальные органы, созданные легислатурой, взяли на себя задачу подавления недовольных. Провинциальный конгресс Нью-Йорка, заменивший королевскую легислатуру, образовал «Комитет и комиссию по разоблачению заговоров». Провинция Нью-Джерси также прибегла к созданию чрезвычайных органов. Пенсильвания удовлетворилась использованием обычных судов, но она вооружила их, как поступило и большинство штатов, законом о государственной измене. Закон, принятый в Пенсильвании, содержал перечень преступлений, трактовавшихся как государственная измена, если они совершались резидентами Америки и были направлены против штата или Соединенных Штатов. Эти преступления, к которым относилось принятие вознаграждения от врага, вооруженное восстание, вступление или агитация за вступление в армию врага, снабжение врага оружием или припасами, ведение изменнической переписки с врагом, участие в заговоре и снабжение врага разведывательными данными, могли наказываться смертной казнью с конфискацией имущества[970]. Менее серьезные преступления, в частности недонесение об измене, влекли за собой в Пенсильвании менее суровые наказания — тюремное заключение вместо казни плюс конфискация половины имущества. Статья о недонесении об измене вносила неопределенность в борьбу с оппозицией, которая была на руку тем, кто обладал острым патриотическим чутьем и страстью к преследованию непатриотичных граждан. Закон Пенсильвании приравнивал устные или письменные антигосударственные высказывания к недонесению о преступлении. Попытка передачи разведывательных данных врагу, попытка подстрекательства к сопротивлению правительству или к возвращению под британское правление, агитация против поступления на военную Службу, разжигание беспорядков или настраивание населения в пользу врага, а также противодействие революционным действиям или мерам — все это трактовалось как недонесение о преступлении[971]. Спустя год после принятия этого закона легислатура Пенсильвании наделила себя правом издания официальных объявлений о лишении гражданских и имущественных прав, и в течение войны она вынесла почти 500 таких приговоров. Она также одобрила использование других видов уголовного преследования за подрывные действия, не являющиеся государственнойизменой или недонесением о преступлении. Отныне можно было прибегать к обвинениям в пиратстве, краже со взломом, разбое, мелких преступлениях, фальшивомонетничестве и воровстве. Время от времени в газетах и, вероятно, гораздо чаще в частных беседах раздавались призывы к истреблению лоялистов. Однако подобные действия, как правило, не обходились без потерь среди патриотов — большинство убийств случилось в кровавых стычках, происходивших в окрестностях Нью-Йорка в течение всей войны, а также под Филадельфией осенью и зимой 1777/78 года и в обеих Каролинах в 1780–1781 годах. Казни производились нечасто, и случаи казней без суда и следствия были единичными. Лишать лоялистов их имущества было менее опасно, но порой почти столь же трудно, как лишать их жизни, ведь было необходимо соблюдать закон. Кроме того, у лоялистов имелись друзья и семьи — а иногда и кредиторы, — которые были заинтересованы в справедливом распоряжении имуществом. Сам закон признавал различия между лоялистами. Например, это могли быть те, кто явно состоял в заговоре с британскими агентами, или королевские чиновники, которые спаслись бегством, когда началась борьба, подобно губернатору Хатчинсону. Законодательное собрание Массачусетса медлило до апреля 1779 года, когда наконец приняло закон, разрешивший конфискацию имущества Хатчинсона и ему подобных — «ряда отъявленных заговорщиков», говоря словами закона. Другой закон касался менее «отъявленных» из сбежавших лоялистов — «отсутствующих», согласно формулировке в документе, где они также именуются «беженцами», «открытыми и общепризнанными врагами» и «лицами, скрывающимися от правосудия». Данный закон требовал соблюдения надлежащей правовой процедуры при конфискациях. Позже, весной 1779 года, законодательное собрание приняло резолюцию, разрешавшую продажу конфискованного имущества. Вдовы и жены, оставленные своими скрывающимися от правосудия мужьями, получили право на треть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами. В документе было уделено особое внимание правам кредиторов[972]. Многие лоялисты Массачусетса, чье имущество было конфисковано и продано, жили в округе Саффолк, куда входил Бостон. Анализ этих продаж не свидетельствует, что они привели к каким-либо изменениям в социальной структуре округа. В то же время он показывает, что люди, не имевшие земельной собственности в Саффолке, теперь приобрели ее[973]. В Нью-Йорке произошли более серьезные изменения, хотя там, как и везде, социальная структура осталась той же, какой она была до революции. Тем не менее произошло уравнивание, само упоминание которого приводило землевладельцев в бешенство. До войны арендаторы восставали в округе Датчесс и других местах. Причины восстаний — арендная плата и сборы, взимаемые землевладельцами, — не имели прямой связи с причинами отделения Америки от Великобритании, но крупные волнения, вызванные принятием в 1765 году Акта о гербовом сборе, похоже, послужили вдохновляющим примером для арендаторов. В следующем году произошли массовые беспорядки в долине реки Гудзон, и прежде чем они были подавлены, пролилось много крови. В 1775 году, после начала войны, арендаторы обычно вставали на сторону, противоположную той, которую занимали землевладельцы. Например, когда стало известно, что Фредерик Филипс, владелец поместья Филипсберг в Уэстчестере, является лоялистом, его арендаторы с радостью примкнули к революционерам. Филипсу принадлежало около 50 тысяч акров, которые были конфискованы после его отъезда из страны. Закон гарантировал преимущественные права арендаторам земли лоялистов, осужденных или лишенных имущественных и гражданских прав за измену, то есть закон предоставлял арендаторам первоочередное право на покупку по справедливой рыночной цене. Штат продал поместье Филипсберг в рамках закона о конфискации 1784 года посредством серии сделок, в результате которых появилось 287 новых собственников вместо одного прежнего собственника — Фредерика Филипса. На долю каждого нового собственника в среднем пришлось 174 акра[974]. Арендаторам-патриотам также достались владения лендлордов-лоялистов в округе Датчесс, где в 1779 году были конфискованы имения Роджера Морриса и Беверли Робинсона. На последовавших торгах 455 участков земли были проданы по меньшей мере 401 арендатору. Сохранить приобретенные владения было уже другой проблемой, и после войны для многих из этих арендаторов-покупателей внесение платежей оказалось трудной или даже неисполнимой задачей. Многие прекратили попытки выкупить землю и продолжали пользоваться ею как арендаторы[975]. У Ливингстонов, живших в округе Олбани, дела обстояли значительно лучше, чем у многих из их соседей. Ливингстоны уважали американскую независимость, но не уважали личную свободу своих арендаторов. Неудивительно, что их арендаторы были на стороне Великобритании, особенно в 1777 году, когда узнали, что Бергойн движется на юг из Канады. Прежде чем они успели вооружиться, ополченцы из соседнего округа Датчесс и из Новой Англии нанесли им сокрушительный удар. Между ополченцами и арендаторами произошло столкновение, в ходе которого шестеро арендаторов были убиты, еще несколько сотен были арестованы. Институт аренды выдержал эти удары как в поместье Ливингстона в провинции Нью-Йорк, так и в большинстве других местах, где он процветал, и сохранялся вплоть до середины XIX века[976]. В отличие от большинства других лоялистов, арендаторы в Нью-Йорке не столько «сохранили» преданность Короне, сколько «выбрали» ее. Их решение вытекало из неприятия преобладающей патриотической идеологии. В то же время у них была своя собственная идеология, основанная на ощущении, что их лендлорды бессовестно наживаются на них. Таким образом, подобно патриотам по всей Америке, они действовали во имя индивидуальной свободы. Эта позиция не отличала их от большинства лоялистов. Ибо лоялисты разделяли веру революционеров в права личности, хотя и расходились с революционерами в трактовке этих прав. В 1760-е годы, когда начались волнения в связи с мерами британского правительства, это различие не было ощутимым, и многие, впоследствии ставшие лоялистами, осуждали действия парламента, отрицая, в частности, за ним право облагать колонии налогами. Некоторые, в том числе Томас Хатчинсон, даже соглашались, что взимание налогов с американцев является противозаконным, поскольку они не представлены в парламенте. Но в конечном итоге лоялисты вроде Хатчинсона оказались неспособны сделать из собственных рассуждений логический вывод, который для большинства революционеров был само собой разумеющимся, что парламент стал врагом свободы личности. Они не смогли принять ту идею, что главным источником свободы и порядка является согласие индивидуума, что правительство, заботящееся о сохранении свободы, рождается из народного соглашения. Лоялисты подчеркивали важность традиции и укоренившихся институтов, таких как парламент, для утверждения и защиты свободы. Как следствие, для большинства лоялистов кризис в Америке достиг апогея в тот момент, когда была выдвинута идея независимости. Лоялисты не могли принять эту идею, так как не были готовы отказаться от убеждений, впитанных ими с молоком матери. Они не верили, что в Америке сформировалась новая основа политической власти. Им хватало старого, они цеплялись за старое — ив результате пострадали. Страдания лоялистов, естественно, не волновали революционеров. Между тем эти страдания были весьма ощутимыми: потеря собственности, смерть друзей и родных были источниками тяжелых переживаний. Тех, кто покинул Америку, ждали страдания иного рода — одиночество изгнания в чужих землях и во многих случаях запоздалое осознание того, что они скорее американцы, нежели британцы. Дневники и письма, свидетельствующие об этом осознании, трогают до слез. «Я искренне желаю провести остаток своих дней в Америке, — писал сэр Уильям Пепперелл, уроженец Массачусетса, в 1778 году. — Я люблю эту страну, я люблю этот народ». Чувство тоски и печали, пронизывающее эти строки, владело многими изгнанными лоялистами в годы войны — ив последующие годы[977].V
В отличие от лоялистов, чернокожие рабы восприняли на ура принципы революции, хотя большинству из них было отказано в участии в вооруженной борьбе патриотов. Еще в начале 1766 года рабы, вдохновленные примером волнений в связи с Актом о гербовом сборе, прошли по улицам Чарлстона, выкликивая слово «свобода». Горожане немедленно взялись за оружие, в то время как власти прочесали сельскую местность в поисках признаков мятежа. Свобода оставалась привилегией белого человека[978]. За последующие десять лет рабы и их хозяева, несомненно, узнали много нового о свободе. Рабы, похоже, всегда были готовы к борьбе за свободу, при условии, что у них был хоть какой-то шанс добиться ее. Начавшаяся в 1775 году война предоставила им такой шанс. В ноябре 1775 года на обещание лорда Данмора освободить рабов в обмен на их поддержку в Виргинии за неделю откликнулось несколько сотен невольников. Тем, кто решил примкнуть к Данмору, пришлось добираться до побережья и искать там лодки, так как Данмор находился на борту английского военного корабля в Чесапикском заливе. Сразу после выхода прокламации рабовладельцы ужесточили надзор за своими рабами. Тем не менее за одну неделю к Данмору присоединились 300 рабов[979]. В декабре войска Данмора потерпели поражение в битве при Грейт-Бридж, селении на берегу реки Элизабет в десяти милях ниже Норфолка. С этого момента рабам становилось все труднее присоединиться к нему. В целом это удалось примерно восьмистам человек. Данмор сформировал из них полк, но он не участвовал в сражениях. Тем не менее многие из них умерли на службе у короля, став жертвами оспы, завезенной командами английских кораблей. В августе следующего года, когда Данмор отплыл в Англию, его сопровождали не более трех сотен чернокожих солдат. Намного больше рабов служило в американской армии. Практически каждый полк Континентальной армии имел в своем составе чернокожих. Они зачислялись своими хозяевами или поступали добровольно по обычным соображениям — в расчете на вознаграждение, землю и возможность получить свободу. Некоторые были освобождены еще до вступления в армию, но больше было тех, кому пообещали свободу в обмен на военную службу. Большая часть черных служила в одних подразделениях с белыми, хотя рядовой состав одного небольшого полка из Рой-Айленда полностью состоял из чернокожих[980]. Военная служба могла бы помочь огромному количеству рабов обрести свободу. Но не прошло и года после начала войны, как белые почти повсеместно начали выступать против вербовки чернокожих. Выплата компенсаций их владельцам означала расходы, которых не могли, да и не хотели себе позволить ни вечно стесненный в средствах конгресс, ни легислатуры штатов. Перспектива появления огромного количества вооруженных чернокожих также никого не радовала. Институт рабства держался на страхе и принуждении, и рабовладельцы никогда не могли полностью избавиться от опасения, что те, кого они удерживали у себя против их воли, могли обернуть оружие против них. Почему, провозгласив, что все люди созданы равными, и восстав во имя свободы, американцы не освободили своих рабов? Ответ на этот вопрос следует искать в истории расовых взглядов и американских представлений об экономической необходимости в XVIII веке. Белые американцы были проникнуты предубеждениями против африканцев еще до окончательного формирования института рабства в XVII веке. Страх перед животным началом в черных, отвращение к их внешнему облику, домыслы об их сексуальных наклонностях глубоко внедрились в сознание белых людей. Эти установки помогают объяснить, почему черных обращали в рабов[981]. Распространению рабства способствовало не только предубеждение. Черные в Америке были сравнительно малочисленны, и это обстоятельство, вероятно, рождало предрасположенность к их эксплуатации. И само рабовладение как источник рабочей силы постепенно начало играть огромную роль в экономике, особенно в плантаторских колониях. Задолго до революции рабство стало институтом, который казался не только оправданным, поскольку белые воспринимали черных как существ низшего порядка, но и неизбежным, поскольку они не могли представить себе экономику, основанную исключительно на свободном труде. Ирония ситуации (белые американцы пели свободе гимны, продолжая владеть рабами) не ускользнула от революционного поколения. Слишком много людей по обеим сторонам Атлантики обращали на нее внимание. Самыми яростными критиками выступали американские квакеры, но и многие другие жители колоний, ставших штатами, призывали к освобождению рабов во имя естественных прав и христианских принципов. Неудивительно, что политическое руководство в северных штатах с большим пониманием реагировало на подобные призывы. Все северные штаты предпринимали те или иные меры по постепенному освобождению рабов. Большинство из них издало законы, в соответствии с которыми дети рабов подлежали освобождению через определенное число лет после рождения. Легислатура Пенсильвании приняла такой закон еще во время войны, Род-Айленд и Коннектикут — спустя год после ее окончания. В Массачусетсе суды отменяли рабство, не дожидаясь принятия соответствующих законов. В других северных штатах процесс длился дольше, но к началу нового столетия он был практически завершен[982]. Южные штаты не последовали этому примеру. Там рабство имело слишком глубокие корни. Тем не менее эти штаты, как и их северные соседи, отменили работорговлю. Конгресс в 1780-е годы и Филадельфийский конвент 1787 года пошли еще дальше: конгресс запретил рабовладение на Старом Северо-Западе, а конвент подготовил проект конституции, где была предусмотрена возможность запрета на ввоз рабов после 1807 года[983]. Даже взятые в своей совокупности, эти меры против рабства, вероятно, не выглядят впечатляюще. Они не уничтожили рабство, которое процветало вплоть до Гражданской войны. Делая эти шаги, американцы по-прежнему не дотягивали до своих собственных великих идеалов, в особенности до постулата Джефферсона, гласящего, что все люди созданы равными. Но они сделали большое дело. Они превратили рабство из традиционного института в нетрадиционный — нетрадиционный в силу того, что теперь он был ограничен южными штатами. Если бы Север попытался силой заставить Юг следовать своему примеру, молодая республика бы развалилась. Северяне были не лучше южан, и вряд ли стоит приписывать им особое благоразумие или дальновидность. Они не смогли противодействовать сохранению рабства на Юге как вследствие осознания своей собственной слабости, так и из благоразумия. Каковы бы ни были причины, белые люди на Севере и на Юге решили, что по крайней мере на тот момент союз, обеспечивавший безопасность республиканского правительства, был важнее повсеместного торжества идеи равенства[984].VI
Американские индейцы, заселявшие территории вдоль атлантического побережья, в массе своей избежали попыток белых обратить их в рабство или сопротивлялись таковым. Тем не менее их жизнь к моменту революционного кризиса 1760-х годов приобрела характер, значительно отличавшийся от того, какой она носила в XVI веке, когда началось европейское вторжение. Самое непосредственное и глубокое влияние европейского присутствия проявилось в болезнях. Индейцы не имели иммунитета к недугам, завезенным европейскими переселенцами и позже африканскими рабами. Они погибали даже от обычных респираторных инфекций. Самыми губительными из всех оказались оспа и корь. Демографы приводят различные оценки размеров индейских популяций на момент появления первых чужаков. Ни одна из этих оценок не может быть признана вполне достоверной, поскольку все они основаны на ограниченных данных и сделаны с использованием различных статистических методов. Но, несмотря на отсутствие определенности, совершенно очевидно, что за три столетия после появления европейцев численность индейцев сократилась катастрофически. Некоторые племена почти исчезли, и все племена атлантического побережья понесли огромные потери, иногда достигавшие 90 процентов от их общей численности[985]. Когда начался революционный кризис, большинство этих индейцев жили к западу от европейских поселений семью сообществами, разбросанными по территории от верхней Новой Англии на севере до Флориды на юге. Эти группы жили отдельно одна от другой, каждая со своими собственными правителями, которые почти во всех случаях поддерживали тесные связи с поселениями белых людей на востоке. Сто или около того лет европейского присутствия до революции нанесли сокрушительный удар по прежнему, доколумбовому единству традиционных индейских союзов. Болезни, войны, неумолимое наступление белых людей на их земли разъединили племена и родственные группы. Их группы, представлявшие собой разрозненные скопления селений, формировались, распадались и заново формировались, пытаясь приспособиться к постоянно меняющимся условиям и сохранить хоть какой-то контроль над своей жизнью. Ввиду сокращения своей численности индейцы были вынуждены принимать в свою среду пленников, захваченных в войнах с другими племенами, — тактика, которая вносила в их традиционные культуры чужеродные элементы, одновременно усиливая их военную и политическую мощь. Языковые группы разветвлялись по мере объединения разных народов в новые общины, которые часто кочевали, но почти всегда жили маленькими деревнями. Названия племен стали значить меньше, чем когда-либо прежде; традиционные племена претерпели столь радикальные изменения, что, по мнению одного современного историка, наименования индейских общин следует рассматривать скорее как «адреса», нежели как «названия племен»[986]. В зависимости от близости поселений индейцев к поселениям европейцев и от влияния белых торговцев почти каждый аспект «племенной» жизни индейцев претерпел изменения. Они признали практичность европейских орудий труда, одежды и оружия и стремились прибрести их. Они также оказались сильно подвержены воздействию рома и других спиртных напитков, предлагавшихся белыми торговцами. Лишь очень немногие индейцы стали ревностными христианами, но христианские миссионеры, особенно члены Общества распространения Евангелия, добились определенных успехов в деле обращения индейцев в свою веру. Большинство общин на территории между верхней Новой Англией и верхней Флоридой оставались безразличны к богу белых людей, хотя в заселенных районах имелись крошечные общины верующих индейцев, например так называемые «молящиеся индейцы» в Стокбридже, штат Массачусетс[987]. Некоторое представление о значении революции для жизни американских индейцев можно получить из единственного упоминания о них в Декларации независимости, где они названы беспощадными дикарями. Этот термин отражает один из стандартов отношения к индейцам в XVIII веке. Еще один подобный стандарт содержится в Версальском мирном договоре 1783 года, согласно которому в качестве одного из условий заключения мира Великобритания уступила все земли к востоку от реки Миссури новообразованным Соединенным Штатам, не спросив мнения индейцев. Большинство индейцев не хотели принимать никакого участия в революции и в войне между Великобританией и ее колониями. Племена имели долгий опыт взаимоотношений как с колониями, так и с Великобританией и Францией. Они знали, что для сохранения хотя бы частичной автономии они должны как-то договариваться с этими европейскими державами и их колониями. Чтобы защитить себя от политического доминирования Британии и Франции, индейцам следовало проводить хитрую политику, состоящую частично в маневрировании, частично в применении силы и направленную на установление с одним из этих государств таких отношений, которые бы обеспечивали политическую защиту от другого. Самыми опасными врагами индейцев были малоземельные поселенцы в британских колониях. Непосредственно перед началом революционного кризиса Великобритания вроде бы играла роль покровителя, особенно наглядно проявившуюся в выпуске прокламации 1763 года, которая запрещала колонизацию земель к западу от Аппалачей. Великобритания ставила себе целью установление стабильности в этом регионе и, самое главное, защиту своей торговли мехами с индейцами. Колонисты, заинтересованные в земледелии, а не в пушном промысле, в силу своей численности и своего обыкновения «втыкать» фермы куда попало были злейшими врагами бобров. Им было мало пользы от индейцев, которых они считали дикарями и помехой на пути прогресса[988]. С учетом этих обстоятельств неудивительно, что, хотя индейцы не хотели встревать в войну между Великобританией и ее колониями, большинство из них сочувствовали англичанам. Правда, сочувствие совсем не обязательно означало борьбу на стороне английских друзей. Индейцы понимали, что самой безопасной позицией для них является выжидание, так как к началу войны у их союзника было слишком мало войск вдоль западной границы. На севере и северо-западе у англичан были форты Ниагара, Детройт и Мичили-маккинак. В регионе, известном как Иллинойсская земля, им принадлежал форт Каскаския. Далее к югу имелись английские гарнизоны в Мобиле и Пенсаколе. Самые надежные оплоты англичан находились в Канаде, которую они незадолго до того отвоевали у Франции. Но ни в одном месте по периметру поселений тринадцати колоний у англичан не было достаточно войск, чтобы собраться и самым вежливым образом заставить индейские племена служить Великобритании. Война, которая шла на Западе, не оказала решающего влияния на исход революционной борьбы. Но она была кровавой и стоила большого количества жертв как белым, так и индейцам. На юге индейцы племени чероки, в начале столетия насчитывавшего около 22 тысяч человек (к началу войны в 1775 году эта цифра сократилась примерно вдвое), вскоре понесли дополнительные потери. Чувствуя усиление экспансии белых и склоненные к войне делегацией воинов из северных племен, в том числе делаваров и могавков, в 1776 году они совершили ряд нападений на поселения белых. Их набеги вызвали ответную реакцию ополченцев из Каролины, Виргинии и Джорджии. Военное противостояние между чероки и белыми продолжалось еще долгие годы после мирного договора 1783 года и сопровождалось не только кровопролитием, но и утратой индейцами своих исконных земель[989]. Опыт чероки разделили и другие племена — по крайней мере, в отношении людских потерь, разорения деревень и утраты территорий, на которых они жили испокон веку. Разумеется, индейцы не сдавались без сопротивления, и за отнятые у них деревни, земельные и охотничьи угодья и жизни белым американцам приходилось платить собственными жизнями. Войну с индейцами большей частью вели ополчения штатов и организации поселенцев. В ходе борьбы на западе индейцы часто первыми начинали военные действия, устраивая рейды против поселенцев, которые обычно оказывались беззащитными. За рейдами следовало возмездие — иногда в виде неоправданно жестоких карательных действий против первой попавшейся цели. Резня в Гнаденхютгене, штат Пенсильвания, жертвами которой стали почти сто делаваров, принадлежит к числу наиболее жестоких из таких карательных операций. Эти делавары были крещеными и никогда не нападали на своих белых соседей. Большинство убитых составили женщины и дети; индейцев загнали в два барака и оскальпировали. Вскоре после этого случая делавары учинили аналогичную расправу над белыми под поселением Сандаски, явно в отместку за убийство своих родичей[990]. В более широких масштабах война велась на Северо-Западной территории и в северной части штата Нью-Йорк. Джордж Роджерс Кларк, герой войны и устной традиции западной Виргинии, Кентукки и Северо-Запада, летом 1778 года возглавил вооруженную борьбу в Иллинойсской земле. Примерно с двумя сотнями колонистов из Кентукки и Теннесси Кларк временно изгнал англичан и их индейских союзников из Винсенса. Однако индейцы, особенно шауни, не сложили оружие. Бои за долину реки Огайо прекратились лишь после официального окончания Войны за независимость[991]. На западе штата Нью-Йорк и вдоль границы Пенсильвании американцам изрядно портили кровь ирокезы. В течение какого-то времени Джозеф Брант, прославленный вождь могавков, совершал набеги на поселения и очень скоро добился полного контроля над территорией. Брант, человек незаурядных способностей, родился около 1742 года на территории Огайо, где местные белые миссионеры научили его писать на его родном языке. Он также освоил английский язык в миссионерской школе, располагавшейся где-то в долине реки Мохок. Систематическое образование Брант завершил в школе для индейцев Элиейзера Уилока в Лебаноне (Коннектикут). В годы, непосредственно предшествовавшие революции, он начал служить переводчиком при миссионерах, а также при сэре Уильяме Джонсоне, первом суперинтенданте по делам индейцев, который посредством искусной дипломатии регулировал отношения между англичанами и ирокезами. Сэр Уильям жил с сестрой Бранта Мэри и принимал живое участие в судьбе ее брата, но скончался незадолго до революции. Его племянник, «унаследовавший» пост суперинтенданта, оценил выдающиеся качества Бранта. В 1775 году он даже взял Бранта с собой в Англию, и этот опыт, безусловно, расширил знания Бранта о мире, и в частности о психологии англичан, с которыми ему предстояло иметь дело. Его решение сражаться на стороне Великобритании и привлечь к борьбе многих других ирокезов, похоже, было предопределено. Он проявил себя искусным командиром, плодотворно сотрудничавшим с британской армией и ирокезами, не относящимися к племени могавков. До конца лета 1779 года ирокезы во главе с Брантом и их английские союзники терроризировали северную часть штата Нью-Йорк и Пенсильванию. Однако в августе генерал Джон Салливан, имевший значительно превосходящие силы, разгромил их под Ньютауном. Впрочем, победители не добились полного контроля над территорией, и борьба за эту часть Запада продолжалась еще долгое время после окончания войны[992]. Одно племя — народ катоба, заселявший область Пидмонт в Южной Каролине, — принимало активное участие в революции и пережило этот опыт на удивление благополучно. Их опыт отличался своеобразием. Перед началом революции численность катоба составляла всего несколько тысяч, большая часть которых жили в деревнях, окруженных поселениями белых людей. Соседство с колонистами, несомненно, повлияло на решение катоба поддержать революционеров. На протяжении многих лет до начала войны отношения индейцев катоба с белыми были довольно мирными[993]. Когда началась война, они втянулись в орбиту революционной борьбы, привлеченные обещанием комитета безопасности Чарлстона платить индейцам за служение американскому делу. Комитет также посвятил катоба в причины сопротивления колонии Южная Каролина британским мерам и напомнил им историю дружественных отношений между индейцами и белыми. И с целью предупреждения неверного понимания своих намерений комитет добавил: «Если вам нет дела до того, что мы говорим, вы очень скоро пожалеете об этом». Катоба без долгих размышлений заявили о своей лояльности американцам[994]. Среди катоба было всего несколько сотен воинов, и эти люди не выиграли своими силами ни одного крупного сражения. Но они участвовали в ряде серьезных стычек в глубине колонии, включая бои при Наййти-Сикс и Стоно. Они также поставляли припасы партизанским силам под началом Томаса Самтера. После падения Чарлстона в мае 1780 года англичане жестоко отомстили индейцам за их помощь американцам. Лорд Роудон, английский командующий, сжег их деревни дотла, уничтожив дома и урожай, в то время как сами индейцы бежали в Северную Каролину и Виргинию. После ухода англичан легислатура Южной Каролины неожиданно оказала помощь индейцам. В начале 1782 года она отправила им зерно и выплатила 299 фунтов стерлингов за их помощь в войне. Заслуга индейцев, заключавшаяся в поставках скота Самтеру в тяжелые дни недалекого прошлого, также не осталась без вознаграждения — его размер составил 125 фунтов стерлингов. Подобная щедрость не была проявлена ни одной другой американской колонией. Из всего пережитого индейцами за годы войны на первом месте стояли потери. Многие индейцы погибли в сражениях вдоль западного периметра, и, пожалуй, еще больше было тех, кто лишился жизни в результате отсутствия пищи и жилья. Разумеется, индейцы продолжали нести потери в течение долгого времени после окончания войны и подписания Версальского договора, когда белые возобновили свое наступление на их земли. Часть индейцев предпочла бегство: Джозеф Брант и сотни других ирокезов обрели новую родину в Канаде. Большинству индейцев было некуда бежать, и в новой республике их, похоже, ждала незавидная участь.22. Йорктаун и Париж
I
Пятнадцатого мая 1781 года, за пять дней до того, как Корнуоллис и его армия достигли Питерсберга в Виргинии, генерал-майор Уильям Филлипс, командующий вооруженными силами в Чесапикском заливе, умер от тифа. Корнуоллис с нетерпением ждал встречи со старым товарищем, который приобрел первый боевой опыт с ним и Клинтоном в Германии во время Семилетней войны. Британские офицеры, воевавшие в Германии, чувствовали свое превосходство над теми, кто там не был; в сущности, они ощущали себя элитой армии. Когда Филлипс, Клинтон и Корнуоллис были значительно моложе, они мечтали о совместном командовании — «Мы будем согласны во всем, мы будем вместе сражаться и вместе побеждать, мы будем любить друг друга». Клинтон и Корнуоллис с тех пор давно рассорились, а Филлипс и Клинтон отдалились друг от друга. Но Корнуоллис по-прежнему питал чувство привязанности к Филлипсу, чья смерть заглушила радость, которую он испытывал, вступая в Виргинию[995]. Толстый и добродушный Филлипс подействовал бы на Корнуоллиса успокаивающе. Ибо в тот момент Корнуоллис нуждался в душевном равновесии. Он устал от длительной и тяжелой кампании и искал оправдания своему уходу из обеих Каролин. Кроме того, он нуждался в указаниях. Он прибыл в Виргинию с тысячью солдат, уставших от войны, и теперь не знал, что делать дальше. Бенедикт Арнольд встретил его с распростертыми объятиями, но это не доставляло Корнуоллису особого удовольствия. Пять тысяч боеспособных солдат, вверенных его командованию, радовали больше. Через неделю прибыли подкрепления, которые он распределил между своими собственными войсками и гарнизоном в Портсмуте. Он также обдумал приказы, в соответствии с которыми действовал Филипс, обязанность выполнять которые отныне лежала на Корнуоллисе; прежде всего он должен был устроить военно-морскую базу на берегу Чесапикского залива. Клинтон также предписал Филлипсу сотрудничать с Корнуоллисом, но не проводить никаких крупных кампаний собственными силами[996]. Сам Клинтон продолжал демонстрировать свою всегдашнюю суетливость и нерасположенность к действиям. Известие о том, что Корнуоллис движется на север, дошло до него только в конце мая. Большую часть зимы он провел в выяснении отношений с Арбетнотом и планировании ударов по французам в Ньюпорте или возможного рейда на Филадельфию с целью отвлечения сил противника от Филлипса в Чесапикском заливе. Его размышления ни к чему не привели, да и не могли привести, пока военно-морским флотом командовал Арбетнот. Оба командующих давно прошли ту стадию, когда они могли планировать и даже проводить совместные операции. В марте Арбетнот упорно преследовал шевалье Детуша, сменившего Тернея на посту командующего французским флотом в Ньюпорте. Детуш привел в Чесапикский залив французскую эскадру с намерением атаковать Арнольда. Арбетнот встретил его у входа в залив 16 марта, и хотя тактику англичан в последовавшем сражении вряд ли можно было бы назвать безупречной, они вынудили французов отступить. Арнольд был спасен, и заслуга в этом принадлежала Арбетноту[997]. Ближе к концу мая Клинтон узнал, что Корнуоллис движется в Виргинию. Эта новость не обрадовала его, но и не побудила к решительным действиям. Он просто не знал, что ему следует предпринять. Вашингтон, похоже, не представлял непосредственной угрозы для Нью-Йорка и, по-видимому, не имел возможности усилить свою армию. Американские государственные финансы и, как предполагал Клинтон, американский боевой дух практически истощились. Французы под Ньюпортом представляли более серьезную угрозу, так как у них были и суда, и войска. Пока они, впрочем, были наглухо блокированы британским флотом, которому вскоре предстояло помериться силами с адмиралом Франсуа Жозефом Полем де Грассом, отплывшим 22 марта из Бреста с двадцатью линейными кораблями. Клинтон был предупрежден о его приближении британским правительством, и единственное, что он смог предпринять в данной ситуации, это передать полученное известие Джорджу Родни, командующему военно-морскими силами в Вест-Индии. Прибытие флота под командованием Грасса должно было обеспечить французам превосходство в водах Северной Америки — обстоятельство громадного значения, на которое британское правительство обратило внимание слишком поздно. Оно не предприняло никаких попыток задержать Грасса в европейских водах и не посылало в Америку дополнительных военных кораблей вплоть до июня, но и это подкрепление едва ли заслуживало своего названия, так как состояло всего из трех линейных кораблей. Что касается Корнуоллиса, то в июне Клинтон отправил ему письменный приказ создать в Чесапикском заливе базу для безопасной стоянки военных кораблей. Клинтон также предупредил его, что в скором времени вышлет ему приказ об переброске значительной части войск из армии Корнуоллиса для участия в операциях в долине реки Делавэр. Письма с распоряжениями Клинтона были отосланы из Нью-Йорка И и 15 июня и достигли Корнуоллиса 26 числа. Еще до их получения Корнуоллис взорвал спокойное течение жизни Виргинии, сперва выбив Лафайета из Ричмонда, а затем отправив подполковника Джона Симко (Симкоу) с отрядом королевских рейнджеров нанести удар по барону фон Штойбену в местечке Пойнт-оф-Форк, находящемся у слияния рек Риванна и Флуванна. Штойбену пришлось бежать до начала рейда — его люди отказались сражаться, и Симко захватил оружие и боеприпасы. После этого Корнуоллис отправил Тарлтона на захват генеральной ассамблеи Виргинии в Шарлоттсвилле, куда тот добрался 4 июня. В ходе этого стремительного рейда Тарлтон едва не взял в плен губернатора Томаса Джефферсона, в тот момент находившегося в Монтичелло. Джефферсон скрылся всего за десять минут до появления людей Тарлтона[998]. На другой день после своего прибытия в Вильямсберг Корнуоллис прочел письма Клинтона, написанные двумя неделями ранее. В них Клинтон приказывал ему воздержаться от проведения крупной кампании, ограничиваясь нанесением мелких ударов по противнику, и создать военно-морскую базу. В этот период Клинтон взвешивал несколько вариантов дальнейших действий, включая штурм Нью-Йорка объединенными силами французов и американцев и вторжение в Пенсильванию с целью нанесения сокрушительного удара по врагу. Поэтому он обратился к Корнуоллису с настоятельной просьбой отправить в Нью-Йорк шесть полков пехоты, а также кавалерию и артиллерию[999]. Эти распоряжения возмутили Корнуоллиса, а может быть, смутили его. Так или иначе он тут же приступил к поискам места для устройства базы, прежде всего обратив свой взгляд на Йорктаун. Решив, что это место ему не подходит, он двинулся в Портсмут, чтобы отправить оттуда войска в Нью-Йорк. Прежде чем покинуть Вильямсберг, он послал Клинтону письмо, в котором объявил о своем нежелании оставаться в Виргинии на условиях, выдвинутых его начальником, и попросил разрешения на возвращение в Чарлстон. До получения ответа от Клинтона он, впрочем, обещал оставаться в Виргинии и подыскивать место для военно-морской базы[1000]. Армия начала неспешно покидать Вильямсберг 4 июля. За ней по пятам следовал Лафайет, который 6 июля послал Энтони Уэйна с заданием атаковать арьергард британской армии близ Джеймстауна. Корнуоллис с крупными силами устроил засаду под Гринспрингом. Уэйн двинул своих людей вперед, и англичане захлопнули ловушку. Лафайет помог Уэйну выбраться из западни, но, когда все закончилось, на поле боя осталось 145 убитых американцев. После этого Корнуоллис переправил свою армию через реку Джемс[1001]. До того как Корнуоллис прибыл в Портсмут, его догнали свежие депеши от Клинтона (и продолжали догонять в дальнейшем) с приказом не отправлять войска в Нью-Йорк, но вместо этого подготовить их к экспедиции в Пенсильванию. Когда он уже загружал войска на корабли для отправки в Филадельфию, пришел приказ закрепиться на Вильямсбергском перешейке и задержать отправку войск. Затем ему, видимо, было приказано возвести укрепления в районе Олд-Пойнт-Комфорт или в Йорктауне, но при этом все же отправить в Нью-Йорк столько солдат, сколько ему было не жаль[1002]. В конце июля Корнуоллис решил покинуть Портсмут, оставить при себе всю армию и создать укрепленную базу в Йорктауне, где его войска и начали высаживаться 2 августа. Клинтон не стал возражать против этого плана. Пока Клинтон и Корнуоллис метались в растерянности и нерешительности, Вашингтон пытался решить свои проблемы и оценить свои возможности. Его армия по-прежнему была одета в лохмотья и страдала от нехватки самых необходимых вещей. Темп дезертирства, возможно, замедлился, но по-прежнему оставался высоким. Его французские союзники ждали подкреплений в Ньюпорте, где их надежно блокировал британский флот. Командующий французским флотом граф де Баррас, прибывший в Америку в мае, был «темной лошадкой», зато генерал-лейтенант Рошамбо, командующий французскими сухопутными силами, со времени своего прибытия в июле 1780 года снискал всеобщие симпатии[1003]. Рошамбо был на семь лет старше Вашингтона. Он участвовал в европейских войнах Франции и имел отличный послужной список, но он не знал Америку и не говорил по-английски. Однако у него были хорошие военные способности, и его личные качества, честность и деликатность делали его идеально подходящим для командной должности, а согласие подчиняться Вашингтону увеличивало его достоинства. В мае 1781 года Рошамбо и Вашингтон решили предпринять военные действия в окрестностях Нью-Йорка, по возможности такими силами, чтобы вынудить Клинтона отозвать войска из Виргинии. Рошамбо должен был привести французский флот в Бостон, где его было бы легче защищать. В июне, узнав об отплытии адмирала Грасса из Бреста в Вест-Индию и о его предполагаемом прибытии к берегам американского континента в течение лета, Вашингтон не отказался от своих планов атаковать Нью-Йорк. Он не имел представления ни о численности кораблей Грасса, ни о том, где Грасс намеревается их использовать[1004]. В первых числах июля начались франко-американские операции под Нью-Йорком, однако они не принесли больших успехов. В те дни в окрестностях города почти не велось боевых действий, главным образом ввиду того, что союзные войска не могли занять удобные позиции для атаки. Пока продолжалось маневрирование, командующие гадали о намерениях Грасса. Куда он прибудет — в Нью-Йорк или Виргинию, и будет ли у него военно-морское превосходство? 14 августа Вашингтон получил письмо от Барраса с ответами на оба вопроса: Грасс отплыл из Вест-Индии и держит курс на Чесапик с 29 судами и более чем тремя тысячами солдат. Хотя численность военно-морских сил Грасса была внушительной, она не гарантировала французам превосходство в американских водах. Но она могла обеспечить Грассу полный контроль над побережьем, и Вашингтон почти сразу решил принять предупредительные меры. Он сообщил Рошамбо, что две армии должны как можно скорее двинуться к Чесапикскому заливу. Пять дней спустя, 19 августа, континенталы выступили в поход, и вскоре их примеру последовали французы. Скрыть эти перемещения от Клинтона было невозможно, но Вашингтон придумал, как сбить его с толку: сделал вид, что готовится к походу на Нью-Йорк из Нью-Джерси. Он отремонтировал дороги и мосты в Нью-Джерси, ведущие в Нью-Йорк, и построил огромную печь для выпечки хлеба. Ближе к концу августа он направил к Нью-Йорку три колонны, чтобы создать у противника впечатление, будто они собираются занять позиции для штурма. Клинтон наблюдал за происходящим с опаской и не догадывался о намерениях союзных сил вплоть до 2 сентября, когда американская армия прошла через Филадельфию. Французы, следуя маршруту, рекомендованному Вашингтоном, прошли через город в течение следующих двух дней[1005]. К середине сентября две армии с обозами преодолели путь длиной примерно в 450 миль. В этом походе в полной мере проявились блестящие организаторские способности Вашингтона. Он и небольшая группа офицеров тщательно разработали поход, подобрав наиболее подходящие маршруты и собрав лошадей и повозки, необходимые для транспортировки имущества и припасов. Вашингтон продумал поход не только в общих чертах, но и в мелочах. В стратегических точках армию должны ждать лошади и волы, а также магазины с мукой, говядиной и ромом. Повозки для палаток должны везти только палатки; если офицеры по своему обыкновению начнут складывать на них свой багаж, его следует сбрасывать. Следует заблаговременно отремонтировать дороги и мосты и собрать в одном месте лодки и небольшие суда для транспортировки солдат по Чесапикскому заливк. Умение вникать в детали, стользнакомое всем, кто близко знал Вашингтона, проявлялось во всех этих заботах — ив приказах, сыпавшихся из-под его пера. После шестнадцати параграфов подробных инструкций Бенджамину Линкольну, отвечавшему за продвижение кораблей по заливу, Вашингтон сделал следующую приписку: «Буксирные тросы и фалини должны быть прочными и иметь достаточную длину, иначе мы намучаемся с ними в заливе и с большой долей вероятности потеряем многие из лодок»[1006]. Параллельно заботам о материальном обеспечении Вашингтон обдумывал стратегию и неназойливо призывал Грасса действовать как можно энергичнее. Корабли Грасса достигли входа в Чесапикский залив 26 августа и 31 августа встали на якорь в заливе. Примерно в это же время Томас Грейвз, пришедший на смену Арбетноту, отплыл из Нью-Йорка с девятнадцатью линейными кораблями. Он направился к Чесапикскому заливу, где надеялся встретить французский флот. Он обнаружил его 5 сентября и вступил в бой, который закончился вничью. Пока два флота маневрировали в открытом море, Баррас, неделей ранее отплывший из Ньюпорта, проскользнул мимо них в залив. В результате противостояния двух флотов за Корнуоллисом захлопнулась ловушка — факт, который Грейвз фактически признал своим возвращением в Нью-Йорк 13 сентября[1007]. В течение большей части следующего месяца Грасс сильно нервничал. Вашингтон всячески расписывал ему открывшиеся перед ними возможности, но Грасс боялся оказаться блокированным в заливе. Вашингтон убеждал его продлить свое пребывание до конца октября и объяснял, что если он займет позицию в открытом море, он оставит франко-американскую армию без прикрытия. Грасс уступил в обоих пунктах, но наотрез отказался отправлять корабли вверх по реке Йорк, чтобы отрезать Корнуоллису путь к отступлению после того, как объединенная армия двинется против него[1008]. Это движение началось 28 сентября в 4 часа утра, когда французские и американские войска выступили из Вильямсберга. Общая численность двух армий составляла около 16 000 человек, включая 3000 виргинских ополченцев. Войска продвигались одной длинной колонной, большей частью пешей, поскольку лошадей не хватало и они в основном использовались для транспортировки тяжелых орудий и боеприпасов. На случай возможного сопротивления со стороны англичан легкая артиллерия была распределена по всей длине колонны, а не плелась в хвосте, как это обычно делалось. Взошедшее солнце оказалось более опасным врагом, чем собственно враг, сидевший в своих укреплениях в Йорктауне. Светило палило нещадно, и многие солдаты получили солнечный удар. К концу дня большая часть союзной армии встала лагерем на расстоянии 2,5–3 миль от неприятельских позиций. Город раскинулся на низком плато над рекой Йорк. Местность была изрезана оврагами, спускавшимися к реке. С северо-западной, южной и юго-западной сторон город был окружен болотами. К юго-востоку от города протекал ручей Уормли и располагался пруд. Еще один ручей пересекал западное болото и впадал в Йорк. Дальше к югу и западу от города лежал Пидженс-Хилл (или Пиджен-Куотер) — низкий холм, поросший высокими соснами. Дорога из Вильямсберга входила в город с северо-западной стороны, с южной стороны из него выходила дорога на Хэмптон[1009]. Корнуоллис создал две линии обороны. Наружная состояла из трех редутов на Пиджен-Куотер, самый дальний из которых находился на расстоянии примерно одного 1200 ярдов от Йорктауна, и редута «Звезда», или «редута фузилеров», находившегося примерно на том же расстоянии к северо-западу от города на берегу реки. Возведение внутренней линии, протянувшейся на расстоянии трехсот, максимум четырехсот ярдов от Йорктауна, было начато, но ее окопы, редуты и батареи еще не были полностью готовы[1010].
Проснувшись утром 30 сентября, союзники обнаружили, что Корнуоллис покинул редуты на Пиджен-Куотер. Англичане продолжали удерживать редут «Звезда», но теперь их основные укрепления располагались на внутренней линии обороны. В течение следующих нескольких дней они затопили несколько судов неподалеку от берега, приняв эту меру с целью предотвращения возможной атаки с воды на свои тылы. Они также постепенно забивали своих лошадей, так как тех было нечем кормить. Если не считать этих мероприятий, а также ограниченного патрулирования и доработки окопов и редутов, в течение следующих двух недель англичане практически бездействовали. Уже 12 октября Вашингтон назвал поведение Корнуоллиса «пассивным сверх всякой меры». Пассивность Корнуоллиса в первые две недели осады можно было объяснить его уверенностью, что Клинтон придет ему на подмогу; в последнюю неделю, когда эта надежда рухнула, пассивность перешла в стадию бессильного отчаяния[1011]. Настроение другой стороны граничило с восторгом. Французы, разумеется, предвкушали сведение счетов со своим заклятым врагом — удовольствие, которого они не дождались в ходе недавней войны. Но больше всего пользы от осады надеялись получить американцы. За минувшие шесть лет они перенесли много страданий и потерпели много поражений, и теперь у них появилась возможность нанесением одного-единственного поражения противнику закончить войну и обеспечить себе независимость. Осознание этого возможности доводило людей до умопомешательства. Так, некий ополченец стоял на бруствере одного из первых укреплений, возведенных американцами, «и разрази меня гром, если он прятался от этих недоносков», как писал капитан Джеймс Дункан, подразумевая под «недоносками» англичан, ведших огонь из пушки в сторону ополченца. Капитан, наблюдавший за этим безрассудством, но не пытавшийся остановить его, впоследствии рассказывал, что «этому парню везло дольше, чем можно было ожидать, и, потеряв всякий страх, он замахивался лопатой на каждое ядро, выпущенное из пушки, до тех пор пока очередное ядро, к несчастью, не положило конец его кривляньям». Спустя несколько дней капитан Дункан с отрядом легкой кавалерии едва сам не стал мишенью. Их отправили в окопы на смену другому подразделению. В лучших традициях военных людей, которые, как известно, презирают опасность, смена сопровождалась барабанным боем и размахиванием знаменами. Если бы враг расслышал эти барабаны или, что более вероятно, увидел знамена и, справедливо рассудив, что под ними должен кто-то находиться, открыл огонь, американцы отнеслись бы к этому философски. Джентльмен XVIII века должен был при любых обстоятельствах ставить честь выше жизни[1012]. Во всяком случае, так диктовал обычай. Французы не были склонны к подобной помпезности, но и они производили смену солдат и саперов под барабанный бой — во всяком случае, до тех пор пока Рошамбо не отменил эту практику, назвав ее «пустой бравадой». Волевой и психически устойчивый командир, Рошамбо обратил внимание, что звук барабана действует на английскую артиллерию, как красная тряпка на быка. Честь вполне могла обойтись и без шума, к тому же в ней больше нуждались живые, чем мертвые[1013]. Даже если самоуверенность союзников порой была чрезмерной, она порождала небывалое рвение к работе. И в первые дни октября солдатам пришлось поработать на совесть. Необходимо было подтянуть и установить артиллерию, не забывая при этом давить на англичан. Перемещение артиллерии с берега реки Джемс, куда она была выгружена, к Йорктауну потребовало времени и труда большого количества лошадей и людей. Пока люди и животные трудились не жалея сил, другие начали окапываться, достраивать редуты, захваченные на Пиджен-Куотер, и возводить укрепления на обоих концах города. Как только были готовы первые укрепления, саперы начали рыть зигзагообразные траншеи в сторону неприятеля. Спустя несколько суток, поздно вечером 6 октября, была открыта первая параллель — окоп, прорытый на расстоянии 600 ярдов от позиций англичан параллельно их укреплениям. Этот окоп тянулся от реки на юго-восточной окраине города до большого оврага. Днем позже он был практически готов. За следующие два дня французы и американцы укрепили его редутами, вырыли ходы сообщения и склады для припасов и установили батареи чуть впереди параллели[1014]. Противник не оставил эту угрозу без внимания. В течение следующих нескольких дней он вел артиллерийский обстрел, который временами настолько впечатлял Сент-Джорджа Такера, что этот проницательный американский наблюдатель охарактеризовал его как «мощный». Даже если так, он все равно не был достаточно сильным, чтобы помешать солдатам союзных войск установить свою собственную артиллерию. К середине дня 9 октября на их огневых позициях имелось достаточное количество пушек и мортир, чтобы достойно отвечать противнику. С этого момента они не давали спокойной жизни ни одному человеку в Йорктауне — ни английским и немецким солдатам, ни немногочисленным горожанам, не успевшим бежать, ни черным рабам, которые по собственной воле или по принуждению остались в городе. За несколько дней артиллерия союзников убедительно продемонстрировала свое превосходство. Вскоре ее стало больше, и она стреляла поразительно метко. Этот огонь сегодня назвали бы стрельбой прямой наводкой: канониры видели свои мишени как на ладони и не нуждались в указаниях передовых артиллерийских наблюдателей. На другой день после того, как союзники начали обстрел, все амбразуры англичан, за исключением двух, закрылись. Часть из них, возможно, была выведена из строя, но большинство были просто закрыты на дневное время с целью защиты от вражеских снарядов. Ночью они открылись, чтобы подвергнуть американские позиции ответному обстрелу. От артиллерии союзников страдали не только английские укрепления. Начиная с 9 октября люди, находившиеся в городе, почти не спали. Мирные граждане укрылись в «наспех сооруженных убежищах» вдоль берега реки, солдаты зарылись в землю, расположившись в окопах и редутах; сам Корнуоллис жил в подобии бункера, представлявшего собой неблагоустроенную подземную пещеру. Тем не менее число убитых и раненых постоянно росло, и, как вспоминал один немецкий солдат, на улицах можно было увидеть тела «с оторванными головами, руками и ногами». Съестные припасы еще не иссякли, но армия, чей рацион с начала сентября состоял из одного «гнилого мяса и червивого печенья», питалась из рук вон плохо. Болезни, вызванные плохой пищей и грязной водой, косили солдат сотнями[1015]. Через два дня после начала артобстрела, 11 октября, союзники начали рыть вторую параллель, проходившую на расстоянии примерно 300 ярдов от главной полосы обороны противника. Использовалась та же схема, что и при сооружении предыдущей параллели: саперы рыли землю под бдительной опекой пехоты. Через день окоп был почти готов. На этот раз англичане взыскали с пехоты, посланной союзниками на передовую, кровавую мзду. Их легкая артиллерия эффективно разила врага с расстояния 200–300 ярдов. Корнуоллис, приберегший на крайний случай достаточное количество пороха и снарядов, разрешил орудийной прислуге не жалеть ни того ни другого. Однако в течение следующей недели союзная артиллерия взяла ситуацию под контроль, развернув еще несколько передовых батарей и подвергнув английские укрепления еще более интенсивному обстрелу. В ночь на 14 октября союзники достроили вторую параллель, предприняв одновременные атаки на два английских редута, девятый и десятый. Обе атаки были столь же яростными, сколь и романтичными. Предпринятые в темноте и с незаряженными ружьями, они удались исключительно благодаря внезапности — и храбрости. Французы, взявшие девятый редут, более крупный из двух, понесли больше потерь, чем американцы. Возможных причин было две: либо засеки, через которые им пришлось продираться, были более мощными, чем те, что преграждали путь американцам, либо они были не так хорошо подготовлены к преодолению этих препятствий. Засеки действительно задержали их и сделали удобными мишенями для английских стрелков. Наконец инженеры расчистили путь, и французские пехотинцы устремились в окоп и на бруствер. Как только они оказались внутри редута, дело пошло легче, так как часть англичан к этому времени отступила. Справа от них американцы под командованием Александра Гамильтона с ходу прорвались через засеку и бросились на защитников редута, прежде чем те смогли организовать оборону. К утру редуты были соединены со второй линией окопов, и союзники получили позицию, идеально подходящую для последнего штурма[1016]. В последнем отчаянном штурме не возникло необходимости. У англичан осталось не слишком много сил для борьбы, и те, что сохранились, были исчерпаны ими в течение следующих трех дней. 15 октября около полуночи небольшой диверсионный отряд англичан ворвался во вторую параллель и вывел из строя шесть орудий в двух батареях, одной французской и одной американской. Этот рейд был предпринят скорее из бравады, и, столкнувшись с сопротивлением, его участники отступили к своим главным оборонительным рубежам. Следующей ночью в отчаянной попытке спасти свои войска Корнуоллис начал переправлять их через реку в Глостер. Он планировал сосредоточить там достаточно сил, чтобы прорваться сквозь ряды неприятеля и затем повести армию на Нью-Йорк. Он переправил около тысячи человек, когда поднялся шквалистый ветер, сделав дальнейшую переправу войск невозможной. К тому времени, когда ветер и ливень утихли, дальнейшие усилия были бесполезны. Войска были переброшены обратно в Йорктаун, и Корнуоллис начал готовиться к капитуляции. В тот день его позиции были подвергнуты интенсивной бомбардировке[1017]. Семнадцатого октября Корнуоллис отправил к Вашингтону одного из своих офицеров с предложением о капитуляции. В этот и следующий день обсуждались условия. 19 октября, незадолго до полудня, Вашингтон поставил свою подпись под актом о капитуляции, и в два часа дня британская армия сложила оружие[1018].
II
Капитуляция в Йорктауне не положила конец войне. У англичан еще оставались войска в Нью-Йорке, Чарлстоне (Южная Каролина), отдельных районах Джорджии, Галифаксе (Канада) и Вест-Индии. Однако с началом нового года стремление к миру казалось почти неодолимым. Норт пребывал в самом скверном расположении духа, а правительство утратило последние остатки оптимизма. Король не хотел даже слышать о мире без капитуляции американцев, но парламент полностью разуверился в благоприятном исходе войны[1019]. Во второй половине марта 1782 года Норт потерял всякую надежду и 20-го числа ушел в отставку, которая была ускорена обращением палаты общин, объявлявшим всех, кто будет продолжать наступательные военные действия с целью принуждения колоний к повиновению, врагами своего отечества. Неделей позже лорд Рокингам вновь стал премьер-министром, возглавив правительство, которое король едва терпел. Не любил он и Рокингема, причем настолько сильно, что ему было неприятно находиться в одном помещении с ним, и когда требовалось посоветоваться с премьером, он делал это через Шелберна. Таков был жребий Рокингема — вызывать к себе неприязнь монарха, спасая его от катастрофы. Шелберн стал государственным секретарем Южного департамента, занимавшегося делами колоний, в то время как Чарльз Джеймс Фокс, его недруг, возглавил Северный департамент, отвечавший за европейские дела. Эти назначения породили неудобные проблемы, так как отныне в сфере дипломатии работали два врага. Они не любили друг друга и расходились в политических взглядах. Тем не менее им приходилось решать тесно связанные между собой вопросы. Каковы бы ни были отношения внутри нового кабинета, выбор был небогат. Следовало заключать мир. В Америке уже существовала комиссия по мирным переговорам; конгресс образовал ее годом ранее, 15 июня, в надежде на посредничество Австрии и России. В состав комиссии вошли Франклин, Джон Адамс, Генри Лоуренс, Томас Джефферсон и Джон Джей. Лоуренс, который в 1780 году был захвачен британским военным кораблем и заключен в Тауэр, в 1782 году был выпущен, однако он почти не принимал участия в переговорах. Джефферсон, у которого в то время было много своих проблем, уведомил конгресс о своем отказе работать в комиссии. Задача заключения мира для Соединенных Штатов легла на Франклина, Адамса и Джея[1020]. Американские представители приступили к выполнению этой задачи со связанными руками. Конгресс дал им наказ проконсультироваться с французами и последовать их совету. Инструкции конгресса для членов комиссии были разработаны в тот период, когда исход войны оставался еще далеко не решенным; Ла Люзерну, французскому посланнику в Соединенных Штатах, тогда удалось подкупить генерала Джона Салливана, в то время делегата от Нью-Гэмпшира. Французам пришлось купить члена конгресса, потому что они не смогли подобрать ключи к Джону Адамсу, который в 1779 году был назначен одним из членов американской комиссии по мирным переговорам. Верженн опасался прямоты Адамса и его преданности национальным интересам Соединенных Штатов. В июне 1781 года конгресс назначил в комиссию ряд других членов, урезав тем самым полномочия Адамса, и в довершение всего обязал их следовать рекомендациям французов. Лишь самые наивные члены конгресса, голосуя за эти инструкции, могли всерьез полагать, что они служат интересам их страны. Прозорливые мужи, включая членов комиссии, прекрасно понимали, что цели французов и американцев, будучи сходными в общих чертах, в ряде важных деталей значительно отличаются друг от друга. Право на рыболовство в районе Ньюфаундлендских банок и право сушить улов на берегу представляли жизненно важный интерес для американцев, особенно для жителей Новой Англии. Их также беспокоил вопрос о границах: они не хотели, чтобы канадцы продвигались на юг в Огайо, и настаивали на том, чтобы их западной границей стала река Миссисипи. В то же время Испания заявляла свои права на значительную часть территории к востоку от этой реки. Ни одна из этих проблем, похоже, не представляла для французов настолько сильного интереса, чтобы заставить их изменить свои планы либо в пользу мира, либо в пользу войны. Верженн еще в начале 1781 года был готов согласиться на мир, который бы гарантировал Великобритании и Америке те территории, которыми каждая из них владела в Америке. Великобритания, разумеется, должна была сохранить за собой город Нью-Йорк и значительную часть обеих Каролин и Джорджии. Испанские интересы также сильно отличались от американских. Хотя в 1779 году Испания вступила в войну с Великобританией, в 1782 году она еще не признавала Соединенные Штаты. Предметом неизменного интереса Испании был Гибралтар. В 1780 году испанские дипломаты провели секретные переговоры со своими британскими коллегами по вопросу войны и не удосужились уведомить своих французских союзников об этом факте. Сами англичане, несмотря на свое стремление к урегулированию отношений с Америкой и прекращению войны со своими врагами на континенте, хотели сохранить за собой свои старые колониальные владения. Шелберн, к которому перешла обязанность курирования переговоров, когда в июле после смерти Рокингема он возглавил правительство, пытался разрушить союз между Францией и Соединенными Штатами. Если бы ему удалось настроить их друг против друга, Великобритания могла бы участвовать в европейском урегулировании на выгодных для себя условиях. В качестве представителя Великобритании на неофициальных переговорах, начавшихся в апреле, Шелберн отправил в Париж Ричарда Освальда. Шотландский купец Освальд был намного более дальновидным человеком, чем о нем думали его политические хозяева в правительстве. В далекой молодости он некоторое время жил в Виргинии и по-прежнему владел землей в Америке. У него были деньги — заработанные на Семилетней войне и торговле рабами — и отсутствовали политические амбиции. У тех, кто встречался с ним впервые, складывалось впечатление, что он слишком стар и слишком мудр для политики. Его хорошо знал Лоуренс, его бывший чарлстонский посредник в торговле рабами. Как бы то ни было, Освальд более или менее ладил с Франклином; оба были уравновешенными людьми, не тешившими себя напрасными иллюзиями и умевшими скрывать свои чувства[1021]. Они познакомились в апреле, и вскоре после этого Франклин представил Освальда Верженну. До начала лета они не добились никаких ощутимых результатов. У Освальда в первое время не было официальных полномочий, а у Франклина не было коллег — Джей обретался в Мадриде в ожидании какого-нибудь знака признания от Испании, а Адамс упражнял свои дипломатические способности в Гааге, пытаясь добиться займа для своей страны. Лоуренс, которого Освальд вызволил из Тауэра и привез на континент, погрузился в апатию, вызванную, по всей видимости, болезнью и скорбью по сыну, полковнику Джону Лоуренсу, убитому в бою в августе 1782 года[1022]. Был момент, когда переговоры забуксовали: инструкции Освальда не включали в себя признание независимости Соединенных Штатов как предварительное условие для переговоров; американцы настаивали на том, чтобы Великобритания признала независимость, прежде чем будет согласован текст мирного договора. Франклин также настаивал на вступлении Канады в состав Соединенных Штатов. В конце лета все стороны начали постепенно приходить к согласию. Сражение у островов Всех Святых, состоявшееся в апреле, несколько отрезвило французов; их командующий в Вест-Индии Грасс был захвачен в плен, его флот разбит, хотя и не уничтожен, адмиралом Родни. После состоявшейся в Англии секретной встречи с Рейневалем, секретарем Верженна, англичане поняли, что французы не слишком заинтересованы в отстаивании американских притязаний на право рыбной ловли и Канаду. Но англичане боялись возможного исхода гибралтарской экспедиции Испании. Американцы, особенно Франклин и Джей, прибывшие 23 июня в Париж, были крайне встревожены тайными сношениями между своим союзником — Францией — и своим врагом — Великобританией. В сентябре Джей и Франклин согласились продолжить переговоры при условии, что полномочия Освальда будут изменены таким образом, чтобы позволить ему договариваться с ними как представителями Соединенных Штатов. Принятая формулировка была двусмысленной — конгресс рассматривал ее как признание американской независимости; правительство Шелберна так не считало, и если бы переговоры на этом остановились, оно, несомненно, стало бы отрицать, что Великобритания признала Соединенные Штаты. В течение следующих трех месяцев переговоры велись на весьма ненадежной почве, но результаты были достаточно весомыми, и 30 ноября между американскими и английскими партнерами было подписано предварительное соглашение. За несколько часов до подписания Франклин сообщил Верженну, что согласие достигнуто. Разумеется, он не признался, что в ходе переговоров американская делегация пренебрегла инструкциями конгресса, предписывавшими консультации с французами и следование их совету. Американцы, однако, не нарушили договорные обязательства перед Францией, ибо соглашение с Великобританией не могло вступить в силу до заключения мира между Францией и Великобританией. Первая статья договора гласила, что «Его Британское Величество признает указанные Соединенные Штаты… свободными, суверенными и независимыми штатами…». За этой важнейшей статьей следовал пункт о границах, согласно которому на севере граница была проведена примерно по той линии, где она проходит сегодня; на юге — по тридцать первой параллели; на западе — по реке Миссисипи. Гарантировались старые американские права на рыболовство у побережья Ньюфаундленда и в заливе Святого Лаврентия, а также «свобода» сушить и коптить рыбу в незаселенных заливах, гаванях и заводях Новой Шотландии, островов Мадлен и Лабрадора. Кредиторы «с обеих сторон» не должны были встречать «правовых преград» для сбора долгов, «обусловленных ранее заключенными контрактами», «в полновесных фунтах стерлингов»; и конгресс должен был настоятельно рекомендовать легислатурам штатов обеспечить возврат всей собственности, конфискованной у британских подданных. Эта статья, всю важность которой можно оценить лишь при ее прочтении в полном объеме, касалась такой щекотливой темы, как собственность лоялистов. Статья не содержала ответа на вопрос, последуют ли штаты рекомендации конгресса. Если лоялисты всерьез полагали, что конгресс может заставить штаты принимать решения в их пользу, то вскоре им пришлось расстаться со своей иллюзией[1023]. Договор также предусматривал, что в будущем не должно быть никаких конфискаций имущества и никаких преследований лиц за их участие в войне; что Великобритания должна отозвать свои войска «со всей возможной быстротой»; что навигация по реке Миссисипи должна быть открытой для граждан Великобритании и Соединенных Штатов; и что все территории, захваченные до подписания мирного договора в Америке, подлежат возврату. Соглашение между американцами и британцами подстегнуло французов, которые мечтали положить конец истощению своей казны, вызванному войной, и 20 января 1783 года они подписали предварительное мирное соглашение со своим заклятым врагом. Испания и Великобритания заключили мир примерно в то же время, отдав приказы о прекращении всех военных действий. Путь к достижению согласия был облегчен текущими событиями — в сентябре провалилось наступление Испании на Гибралтар, но Великобритания была вынуждена отдать ей Менорку, а также Восточную и Западную Флориду. Все стороны подписали текст окончательного договора о мире 3 сентября 1783 года. В Америке генерал Карлтон, сменивший Генри Клинтона, осуществлял печальную миссию, состоявшую в сборах армии в дорогу и ее вывозе из Америки. В конце 1783 года Соединенные Штаты были свободны от британских войск, за исключением нескольких гарнизонов на северо-западе.III
Торжества в Америке по случаю известий о мире часто сопровождались длинными сериями тостов. Американцы поднимали свои бокалы за «Соединенные Штаты», «конгресс», «американскую армию», «генерала Вашингтона», «память героев, павших в войне», «членов комиссии по переговорам о мире», «Людовика XVI», «Рошамбо» и других по списку, настолько длинному, что его, должно быть, хватало, чтобы осушить реки вина. Тосты выражали радость и отчасти показывали, чем американцы объясняли свою победу. Понятно, что никто не пил за короля Георга III, лорда Джорджа Джермена, Генри Клинтона, графа Корнуоллиса, Уильяма Хау или британскую армию и военноморской флот. Если бы американцы были объективнее, они бы наверняка упоминали и британцев. Ибо война была не только выиграна американцами, но и проиграна британцами. Последние столкнулись на войне с проблемами, о которых прежде не подозревали, и сколь бы богатым ни было их прошлое, оно давало лишь ограниченные подсказки. Эта война не была очередным кровавым противостоянием на девственных просторах Нового Света. Солдаты и военные моряки знали Америку; они сражались там раньше и сражались хорошо. Эта война была, по сути, гражданской войной против народа тринадцати колоний, который, сражаясь и жертвуя собой, лишь укреплялся в своей решимости. Проблемы, возникавшие в связи с ведением военных действий против этого народа, порой казались непреодолимыми; американцы не только занимали огромную территорию от Мэна до Флориды, но и были непредсказуемы. Мало кто в Великобритании мог вообразить, что американцы способны сплотиться и создать центральное правительство и армию — и затем отчаянно сражаться год за годом. Еще меньше было тех, кто отдавал себе отчет в «политическом энтузиазме» американцев, как Берк, который так охарактеризовал их граничащее с фанатизмом стремление к самоуправлению. Британцы были уверены, что их ждет традиционная война, одна из тех, что были хорошо знакомы XVIII веку. Выдающийся историк Пирс Маккизи писал, что американская война подпадала именно под эту категорию, уточняя, что она была «последней большой войной Старого порядка». Такого рода война сводилась к ограниченным мерам, в ней следовало избегать операций, которые могли бы привести к тяжелым потерям, таким как при Банкер-Хилле, воздерживаться от операций, которые могли бы вызвать сопротивление гражданского населения, не применять никаких военных концепций, способствующих расширению конфликта. Ограничения, правила, отделение войны от гражданской жизни — все это фигурировало в британской концепции войны в Америке. Конечно, иногда британцы нарушали свой собственные принципы, но в целом они оставались верны этим старым стандартам[1024]. Американцы, с другой стороны, вели войну иного рода. Они, как и европейцы, знать не знали такого понятия, как неограниченная война, но они понимали, что вступили в конфликт нового типа. Это война не была войной Старого порядка. Хотя многие американцы мечтали иметь профессиональную армию, их война не могла быть отдана на откуп профессионалам. Этого нельзя было делать по той причине, что их война слишком глубоко «въелась» в их общество, и к тому же среди них практически не было профессиональных военных. Единственное, чем они располагали, было народное ополчение — гражданские лица с оружием в руках. Эти люди, включая солдат Континентальной (или «регулярной») армии, сражались не за деньги и не потому, что война была для них привычным делом, их профессиональной деятельностью; они сражались за великую цель, и ими руководили офицеры, которые верили в эту цель. Даже Вашингтон, который страстно желал иметь профессиональную армию и презирал ополчение, сражался за идеалы и призывал свою армию к борьбе во имя свободы и любви к отчизне. В начале войны, в июле 1775 года, он столкнулся с угрозой отставки со стороны бригадного генерала Джона Томаса, толкового массачусетского офицера, который, обиженный тем, что его не повысили в звании, как нескольких других бригадных генералов, объявил о своем намерении покинуть армию. Вашингтон уговаривал его остаться, подчеркивая, что эта война отличается от других и что она намного важнее чьих бы то ни было неудовлетворенных амбиций. «В обычных войнах, ведомых жаждой власти и честолюбием, — писал он, — сознательность солдата принимает столь малое участие, что он может справедливо настаивать на своих притязаниях на звание и простирать свои притязания даже на мелочи; но в такой борьбе, как эта, коей предмет составляет не слава и не размеры территории, но защита всего, что дорого и ценно в жизни, почетным должен считаться каждый пост, на котором человек может служить своей стране». То ли убежденный, то ли пристыженный аргументацией Вашингтона, генерал Томас остался в армии, и Вашингтон, несмотря на огорчения, которые ему порой доставляло ополчение, продолжал использовать такие войска и продолжал напоминать американцам, что война, которую они ведут, это их война, а не дело некой обособленной и замкнутой военной касты[1025]. Получается, что британцы вели одну войну — войну старого типа, а американцы — другую, предвосхищавшую войны следующего столетия с их огромными армиями, созданными на основе всеобщей воинской повинности. Американская концепция войны отличалась от британской, подобно тому как их политика с акцентом на правах и свободе отличалась от политики Старого порядка. Все эти отличия входили в число причин американской победы. Успешное ведение войны требовало формулировки целей войны. Поскольку британцы не вполне понимали суть той борьбы, в которую они были вовлечены, они не могли как следует продумать свои цели — прежде всего, политические. Намеревались ли они подавить свои колонии военной силой путем разрушения институтов, созданных американцами для ведения военных действий? Или же они ставили себе целью добиться примирения, сочетая жесткость с умиротворением, ограничивая эффективность американской армии и тем самым давая возможность лоялистам утверждать свою политическую власть? При отсутствии четко сформулированной цели стратегия и военные операции носили беспорядочный характер еще до того, как в войну вступила Франция. Воинственный настрой французов несколько видоизменил трудности, с которыми столкнулась Великобритании, но не привел к большей ясности. Изъяны политического осмысления происходящего отчасти послужили причинами изъянов командования, стратегии и операций. Командование оставалось большой проблемой для кабинета в течение всей войны. Великобритания отправляла в Америку далеко не самых выдающихся военачальников; как тактик, особенно в условиях боя, лучшим их них, пожалуй, был Корнуоллис. Главнокомандующим Уильяму Хау и Генри Клинтону не хватало стратегического мышления и дерзости. Их правительство, разумеется, было не в силах наделить их этими качествами, но оно, по крайней мере, могло бы давать им более конкретные указания и, будь оно само более энергичным, вселять в них целеустремленность и рвение. Правительство в Великобритании, однако, оказалось неспособным направлять и вдохновлять своих генералов. Равно как и эффективно использовать свой военно-морской флот. До 1778 года море принадлежало Великобритании. Решение Франции вступить в войну изменило эту ситуацию, но британское правительство не сделало ни одной серьезной попытки установить свое господство на море. Вместо этого по настоянию Сандвича оно держало большую часть своих военно-морских сил дома, в то время как французы, которые сами не проявляли особой дальновидности, хозяйничали в Вест-Индии, пока Родни в 1782 году не нанес поражение Грассу. Но к тому времени уже было невозможно воспрепятствовать отделению колоний. Британское командование в Америке страдало от изъянов другого рода. Каждый главнокомандующий знал, насколько трудно получить подкрепления, — знание, которое усиливало осторожность военачальников, уже убедившихся в том, что к боевым действиям следует прибегать лишь в самых крайних случаях. Адмиралы были настроены более решительно. Но Кеппель проявил явное нежелание блокировать французов на их европейских базах, в то время как Арбетнот в Америке вообще отличался нерасторопностью. Существовала еще одна проблема: недостаточное количество, возраст и изношенность многих британских кораблей. К самим воинским и флотским командирам можно были бы применить те же характеристики. Генерал Томас Гейдж был неплохим командующим, но его заменили в самом начале войны, так как он напугал министров своими предсказаниями того, что ждет британскую власть в Америке, если не будут немедленно приняты решительные меры по подавлению восстания. Уильям Хау был во многих отношениях надежным офицером, храбрым в бою и любимым большинством своих подчиненных. Но Хау, похоже, так никогда и не понял характер тех задач, с которыми он столкнулся, и даже если понял, то, по-видимому, был обезоружен своей симпатией к Америке. Ему недоставало целеустремленности, и он был не очень силен в планировании. Ему следовало бы нанести удар по деморализованной армии Вашингтона сразу после битвы за Бруклин, но вместо этого он предпочел постепенное приближение к противнику. Вашингтон воспользовался представившейся ему возможностью и, быстро оправившись от поражения, переправил свои войска через реку на Манхэттен. То, что Хау не сумел предвосхитить дерзкую атаку Вашингтона через Делавэр в сочельник 1776 года, можно объяснить его самоуспокоенностью. Эта самоуспокоенность была губительной, ибо она передалась его подчиненным в Нью-Джерси. Атака Вашингтона застала их неподготовленными. Поход Хау на Филадельфию морским путем в июле 1777 года, возможно, был его самым грубым просчетом. Более сообразительный командир попытался бы подняться вверх по Гудзону, чтобы соединиться с Бергойном, который сам в это время завяз в плохо спланированной операции. Нет сомнения, что инструкции, полученные Хау от Джермена, предоставляли ему большую свободу выбора при планировании операций. Каковы бы ни были его резоны и его инструкции, его план на 1777 год ограничивался самыми узкими стратегическими целями. Генри Клинтон, возможно, был талантливее Хау, но в силу своего боязливого и подозрительного характера он обычно не был расположен к решительным действиям. Осторожность Клинтона также играла роль сдерживающего фактора. Он не только переоценивал свои трудности, но и не делал серьезных попыток преодолеть их. Он допустил, чтобы его единственная крупная победа — захват Чарлстона в 1780 году — по сути, пропала даром. Безусловно, в этой неудаче была и доля вины Корнуоллиса, но ведь Клинтон сам передал Корнуоллису командование войсками и вернулся в Нью-Йорк. Его отъезд завершил его последний приступ активности в той войне и развязал Корнуоллису руки для проведения своей собственной кампании. Оба глядели друг на друга косо с того момента, когда Клинтон был назначен главнокомандующим британскими войсками в Америке. До мая 1780 года Корнуоллис был готов преданно служить своему начальнику — готовность, в которую Клинтон никогда не мог заставить себя поверить. Со временем он стал видеть в Корнуоллисе своего соперника — естественный выбор Джермена и правительства в качестве его замены. По мере того как росли подозрения Клинтона, росли и амбиции Корнуоллиса. Во время осады Чарлстона оба находили способы избегать друг друга, и впоследствии, когда Клинтон находился в Нью-Йорке, ни один не мог объяснить другому смысл своих действий. Еще сложнее складывались отношения Клинтона с адмиралом Арбетнотом. Клинтон презирал Арбетнота, а Арбетнот не питал особых симпатий к Клинтону. Оба имели свои слабости; к несчастью для британского оружия в Америке, слабость в одном питала слабость в другом. Теплые отношения между британскими военачальниками не выиграли бы за них войну, но помогли бы этим офицерам более эффективно справляться с проблемами, которые казались неразрешимыми без сотрудничества двух видов вооруженных сил. Возможность координации усилий могла бы также способствовать высвобождению энергии и даже стимулировать творческое мышление. Как оказалось, британцы вели свою войну по отжившим стереотипам и в атмосфере, отравленной завистью и взаимной нетерпимостью. Уже с самого начала войны моральное состояние военачальников оставляло желать лучшего. Большинству не нравилось, что им предстояло делать — подавлять вооруженные сила народа, к которому они чувствовали привязанность. Это не значит, что они одобряли восстание — во многих оно вызывало ужас и гнев. Но ничего нельзя было изменить — они должны были убивать американцев, которые хотя и не были вполне англичанами, но не были и типичными врагами. Для офицеров, испытывавших подобные чувства, в том числе, вероятно, для обоих Хау, все происходившее с 1775 года было крайне неприятным делом. В отличие от британцев, американцы воевали за конкретную цель — обретение независимости — и строили свои действия соответствующим образом. В то время как неуверенность британцев отрицательно сказывалась на их планировании и проведении операций, уверенность американцев помогала им и в том, и в другом. После сражения при Лексингтоне американцы еще долго не могли определиться со своей стратегией, зато они ясно представляли себе свою задачу. Она состояла в том, чтобы содержать армию и искать поддержку и признание у иностранных держав в надежде на то, что вооруженное сопротивление, которое не дало себя сломить, рано или поздно заставит британское правительство уступить. Эта стратегия не могла бы продержаться долго, если бы более важная цель революции не была уже сформулирована и не нашла широкого признания у американцев. Ибо эта цель постоянно вступала в противоречие с их местническим патриотизмом, их провинциальной подозрительностью и их неискоренимым индивидуализмом. И все же поражения, понесенные армией, и годы самопожертвования не могли не сказаться на боевом духе американцев. Гражданское население демонстрировало свою усталость по-разному: спекуляцией, отказом подчиняться реквизициям провизии и денег и уклонением от военной и государственной службы. Армия уже несколько раз оказывалась на грани развала. Но почти постоянные дезертирства и мятежи нескольких полков в 1780 и 1781 годах имели своей причиной не политическое отчуждение и не различия в понимании цели борьбы. Скорее развал дисциплины происходил из-за конкретных неблагополучий, таких как невыплата жалованья, голод, плохая одежда и неопределенная продолжительность срока службы[1026]. Тип войны, которую вели американцы (войны, преследующей политическую цель и использующей оборонительную стратегию), требовал особого типа командующего. Для ведения оборонительной войны требовалось терпение, а также умеренность в использовании армии. Но одних умеренности и терпения было недостаточно. Как гражданские лица, так и военные нуждались в активных действиях, которые бы поддерживали надежду — надежду на то, что война принесет свободу американцам. Дальновидный и осмотрительный военачальник должен был понимать, что порой необходимо и дерзать. Джордж Вашингтон был именно таким военачальником. В ходе войны он доказал, что умеет дерзать. Усваивая опыт войны, Вашингтон с каждым годом становился все более осмотрительным. Одновременно росла его уверенность в своих силах. Когда началась война, он боялся, что не справится, ибо его способности были далеко не выдающимися. Это опасение оставалось у него, даже несмотря на то, что он чувствовал себя призванным Провидением возглавлять американскую армию в борьбе за независимость. К концу 1776 года, имея за плечами полтора года войны и победы при Трентоне и Принстоне, он был намного более уверенным командиром. Он не стал заносчивым и перед принятием важных решений по-прежнему советовался со своими генералами, но он больше не следовал советам, которые были ему не по душе, как он сделал это, например, осенью 1776 года на Гудзоне. Вашингтон уделял большое внимание технической стороне своих обязанностей. Видимо, он неплохо разбирался в вопросах материально-технического обеспечения, и он почти сразу осознал сложность такойзадачи, как передислокация армии с места на место. Вообще, какое бы впечатление не оставляли его деловые бумаги, его навыки решения подобных задач, похоже, постоянно совершенствовались, равно как и соответствующие навыки его офицеров. Он отлично справился с эвакуацией армии из Бруклина в 1776 году; поход на Трентон в очередной раз продемонстрировал его полководческий талант и отвагу. А марш на Йорктаун, сопровождавшийся отвлекающим маневром на первом этапе и перемещением большого количества людей, артиллерии и припасов, можно без преувеличения назвать выдающимся маневром. Вашингтон проявлял мудрость также и в подборе своих помощников. К несчастью, их назначением не всегда занимался лично он. Старших офицеров назначал конгресс, чей выбор нередко оставлял желать лучшего. Вашингтон, однако, имел возможность высказывать свои пожелания, особенно по истечении одного-двух лет войны. Натаниэль Грин, например, сменил Гейтса на юге по настоянию Вашингтона. «Семья» Вашингтона, как в XVIII веке называли штаб армии, включала в себя несколько блестящих молодых офицеров, и практически все члены этой группы обладали незаурядными способностями. Удачливые командиры обычно знают толк в стратегии. Вашингтон понимал, насколько трудно сражаться с мощным противником, имея слабую и плохо обученную армию. Ему не нравилось, что он вынужден вести оборонительную войну, но он вел ее с большим искусством. Его тактические умения, особенно те, что требовались при планировании сражений, были менее убедительными. Наиболее типичной ошибкой было составление планов, превосходивших возможности его армии. Эта тенденция дорого обошлась ему при Джерман-тауне. В заливе Кипс-Бей и при Брендивайне противник превзошел его в маневрировании. Тактическими успехами Вашингтон был обязан своей способности сохранять ясность мысли под огнем. Он не терял присутствия духа, когда его армии грозил разгром, как, например, у Монмут-Корт-Хауса. И он никогда не упускал шанса воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, что подтверждается все тем же сражением при Трентоне и (в несколько ином смысле — ввиду более крупных масштабов) состоявшимся позднее сражением при Йорктауне. Не менее важную роль, чем эти таланты, играл темперамент Вашингтона, и еще более важную роль — его характер. Его преданность революции впечатляла всех, кто знал его лично, и каким-то образом передавалась американскому народу. Вашингтон не искал популярности и не стал популярным в обычном смысле. Но он вдохновлял других людей, и, пожалуй, не столько своими действиями, какими бы эффектными и блистательными они порой ни были, но своей целеустремленностью, стойкостью и преданностью делу республиканской свободы. Это дело вдохновляло американцев на сопротивление. В годы революции в воздухе Америки витал немой вопрос: «Что скрепляет нас как народ?» До 1760 года существовало некоторое чувство общности с Великобританией, обусловленное прежде всего языком, происхождением, родственными связями, торговлей, традициями свободы и конституционализмом. В годы перед революцией американская жизненная практика ослабляла эти связи. Поскольку многие действия Великобритании свидетельствовали о том, что интересы не являются взаимными, что ценности не разделяются, что общность подорвана или не существовала вовсе, сопротивление ее законам, посягающим на свободу, было неизбежным. Английские правительство и парламент спровоцировали конфликт. В последовавшей войне американцы осознали скреплявшие их связи. На первом месте для них стояло то, что они называли славным делом, — защита республиканской свободы. Это дело и то, что понималось оно как судьбоносная борьба добра со злом, выражало ценности американской культуры и поднимало американцев на войну. Язык этой культуры, пронизанный традиционными религиозными смыслами, делал конфликт намного более простым и намного более понятным для американцев, нежели он был на самом деле. Но, возможно, простота и понятность были только преимуществом для народа, вынужденного преодолевать огромные трудности в конфликте, имевшем мало прецедентов в истории. Не следует идеализировать этих людей. Они часто пасовали перед трудностями и порой не проявляли той решительности, которой ждал от них Вашингтон, но они так или иначе поддерживали его, когда он вел их к цели. Возможно, они бы сломались, если бы их армия капитулировала, но они не могли быть поставлены на колени традиционной армией XVIII века. Дело было не только в том, что их было слишком много и что они занимали огромную территорию. В ходе кризиса, начавшегося в 1764 году, они узнали самих себя. И война дала им понять, что их можно победить, но нельзя покорить.23. Движение за конституцию
I
Девятнадцатого декабря 1783 года в Аннаполис въехал Цезарь. По крайней мере, многие надеялись — и многие другие боялись, — что этот человек окажется Цезарем. Он оказался Джорджем Вашингтоном, который при всем своем восхищении Цезарем еще больше восхищался республикой. Он прибыл в Аннаполис, тогдашнее местопребывание конгресса, чтобы сдать полномочия, которыми он был наделен восемью годами ранее. Вашингтон мог просто подать прошение об отставке и вложить в него свой патент. Однако случай был слишком судьбоносным и символическим, чтобы ограничиться столь прозаическим действием, а Вашингтон осознавал судьбоносное и символическое значение своей отставки с поста главнокомандующего. Ведь республика делала только первые шаги, ее организм еще не окреп, к тому же она росла в атмосфере, обремененной монархическими и милитаристскими ценностями. Поэтому он решил воспользоваться возможностью и подтвердить уникальность нации, для которой конгресс — представительный орган — имел больший вес, нежели армия. Ранее в марте того же года небольшой круг офицеров в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, подстрекаемый горсткой представителей в конгрессе, едва не совершил государственный переворот. Эти офицеры, подобно большей части армии, были возмущены многомесячной задержкой жалованья и тем, что конгресс не назначает им пенсии. Определенные силы в конгрессе и вне его решили дать выход этому недовольству, чтобы добиться расширения полномочий конгресса. Насколько далеко была готова зайти каждая из групп, остается неясным, и вероятно, в то время было неясно им самим. Офицеры, похоже, не понимали, что их используют, а группировка в Филадельфии, где в то время собирался конгресс, возможно, не знала, насколько опасна игра, в которую она ввязалась. Среди членов группировки в Филадельфии были Роберт Моррис и Александр Гамильтон; группировка в Ньюбурге пользовалась если не поддержкой, то сочувствием Горацио Гейтса[1027]. Армейских офицеров больше интересовали деньги, нежели власть. Вашингтон хорошо знал их нужды и давно убеждал конгресс оказать им помощь. Он не подозревал о том, что в Филадельфии готовится заговор, участники которого намереваются использовать армию, чтобы пригрозить штатам военными действиями, если те не уступят конгрессу право собирать налоги. Узнав о готовящемся заговоре, он стал дожидаться подходящего момента, чтобы лично встретиться с офицерами и заставить их осознать чудовищность того, что они намереваются совершить. Такой момент наступил на собрании в Ньюбурге, где Вашингтон предстал перед офицерами и дал им понять, что не одобряет любые военные действия против гражданских властей. Вашингтон осознавал, что сама революция находится под угрозой, и в своей речи призвал офицеров «положиться на верность своей страны и полностью довериться чистоте намерений конгресса»: «Заклинаю вас во имя нашей общей родины, если вы цените свою честь, если вы уважаете права человечества и заботитесь о военном и национальном престиже Америки, выразите свое величайшее негодование, презрение к человеку, желающему под благовидными предлогами уничтожить свободу нашей страны и пытающемуся ловкими маневрами открыть источники гражданских разногласий, чтобы утопить в крови нашу возрастающую мощь»[1028]. Этот призыв и пример бескорыстия, поданный офицерам их командующим, охладили горячие головы в Ньюбурге. В скором времени прибыли известия о мире. С окончанием войны угроза гражданскому правительству значительно ослабла, однако Вашингтон и другие деятели, особенно члены конгресса, продолжали испытывать тревогу. Эта тревога, безусловно, внесла свою лепту в ту сцену, что разыгралась в Аннаполисе в декабре 1783 года[1029]. Эта сцена была более чем красноречива. Во вторник 23 декабря, после тщательной подготовки всех участников к тем ролям, которые они должны были сыграть, генерал Вашингтон предстал перед членами конгресса и жителями Аннаполиса. Секретарь объявил о его приходе и дал ему место напротив президента конгресса. Когда публика утихла, президент Миффлин обратился к Вашингтону со словами. «Сэр, конгресс готов выслушать ваше сообщение». Вашингтон поднялся и поклонился делегатам конгресса, но те не поклонились в ответ, а лишь приподняли шляпы. Затем он зачитал свое обращение, и зачитал с таким чувством, что, по свидетельству очевидцев, у многих на глаза навернулись слезы. Сам Вашингтон сильно волновался: его рука, в которой он держал текст речи, дрожала, и когда он заговорил о своих помощниках, об этих незаменимых членах своей военной «семьи», он стиснул бумагу обеими руками. Свои самые глубокие эмоции он, однако, приберег для более трогательного момента: когда, сказав, что вверяет «интересы нашей дорогой страны покровительству Всевышнего, и всех, кто заботится о них, его святому попечению», он запнулся и едва мог продолжать. Последняя фраза, потребовавшая от него величайших усилий, прозвучала так: «Завершив предназначенный мне труд, я ныне удаляюсь с театра великих действий и с любовью прощаюсь с высоким собранием, согласно приказам которого я действовал до сих пор. Я возвращаю свой патент и удаляюсь от публичной жизни»[1030]. Ответ Миффлина от имени конгресса был сочинен делегатом, искусно владевшим пером и полностью осознававшим символическое значение происходящего. Этот делегат, Томас Джефферсон, доверил Миффлину зачитать следующую фразу, подчеркивавшую значимость всего, что происходило между генералом и конгрессом на протяжении предшествовавших восьми лет. «Вы, — обратился Миффлин к Вашингтону, — вели боевые действия с мудростью и прямотой, неизменно уважая права гражданских властей, несмотря на все невзгоды и перемены»[1031].II
Тот факт, что гражданская власть сравнительно благополучно пережила революцию, отчасти является заслугой Вашингтона. Но и у конгресса были свои заслуги. Этот орган выражал настроения большинства американцев, относившихся к армии с настороженностью. Эти настроения, по-видимому, обусловили позицию конгресса в вопросе демобилизации армии — позицию, которая, по мнению ветеранов войны, была продиктована элементарной скупостью. Проблема, стоявшая перед армией и конгрессом, была далеко не новой. Армия не получила денег за свои труды, и многие военные вступили в гражданскую жизнь без средств к существованию. Особенно ущемленными чувствовали себя офицеры. Тремя годами ранее конгресс пообещал офицерам, служившим в течение всей войны, пожизненную пенсию в размере половины их жалованья. С тех пор конгресс постепенно отказался от этого намерения, которое многими рассматривалось как глупая расточительность и слепое заимствование европейского опыта, непригодного для республики. Вскоре после Ньюбургского заговора конгресс, по-прежнему пребывавший в страхе, утвердил вместо пожизненной пенсии в размере половины жалованья выплату полного жалованья за пять лет. И в течение следующих трех месяцев большинство военных, так и не получивших денег, были либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо уволены со службы. Опасный момент в жизни молодой республики миновал[1032]. В ближайшем будущем предстояли не менее опасные моменты. Высокий национальный долг и низкие доходы обещали тяжелые времена. Размер долга оставался тайной. Один тип публичных обязательств можно было рассчитать достаточно точно, хотя во время войны он образовывался в разных валютах, практически все из которых обесценились. Этот долг, именуемый «оцененным», состоял из зарплаты армии и из основных сумм отечественных и иностранных займов и процентов по этим займам. Размер долга второго типа, или «неоцененного» долга, подлежавшего выплате за денежные средства, припасы и услуги, предоставленные гражданами или штатами, не поддавался точному определению. Доказательства этого долга не всегда были явными; в качестве оснований для взыскания долга фигурировали утерянные или уничтоженные расписки и еще более ненадежные свидетельства[1033]. Сумма, требовавшаяся национальному правительству для покрытия своих ежегодных расходов, также не была известна. В начале 1783 года наиболее точные оценки показали, что для выплаты солдатского жалованья, погашения процентов по займам и на повседневные текущие расходы требуется около трех миллионов долларов. После получения известий о заключении мира собрать такую сумму путем реквизиций стало невозможно. Националисты, в том числе Роберт Моррис, Александр Гамильтон и Джеймс Мэдисон, считали, что стоит предпринять еще одну попытку ввода пятипроцентной пошлины на импортные товары. (Первая попытка была сделана в 1781 году — и провалилась.) Но с наступлением мира в отношении центральной власти вновь возникли подозрения, и в апреле конгресс принял закон, существенно ограничивавший использование доходов от сбора пошлин — разумеется, при условии одобрения этого закона штатами. Пошлина, введенная в 1783 году, должна была оставаться в силе в течение 25 лет, доходы могли использоваться только для погашения долгов, и сборщики должны были назначаться штатами. Следующие два года конгресс жил в надежде на то, что штаты одобрят введение пошлины. Девять штатов одобрили эту меру вскоре после принятия закона, и к 1786 году их примеру не последовали лишь Нью-Йорк и Пенсильвания. В 1786 году Нью-Йорк наконец одобрил пошлину, но на таких сковывающих условиях, что конгресс был вынужден отклонить их. Пенсильвания также выдвинула жесткие условия, но с учетом позиции Нью-Йорка это уже не имело значения. В 1787 году не оставалось никакой надежды, что пошлина будет одобрена всеми штатами[1034]. Неудача с вводом пошлины разочаровала националистов в конгрессе. Неспособность конгресса добиться американского суверенитета на западе разочаровала почти всех его членов — и большинство американцев. Подавляющая часть этой территории, перешедшая к Соединенным Штатам в соответствии с мирным договором, более или менее контролировалась американцами. Британская армия, однако, продолжала удерживать стратегические пункты на берегах Великих озер, служившие для контроля над торговлей пушниной. Не делая никаких официальных заявлений, Великобритания явно претендовала на эти земли и право торговли на них. Южнее реки Огайо под угрозой выхода из-под американского контроля оказалась территория к востоку от реки Миссисипи. Угроза исходила от Испании, не признавшей передачу этой земли Соединенным Штатам согласно мирному договору. На следующий год после заключения мира испанцы закрыли Нижнюю Миссисипи для американских судов. Испанцы были уверены или, по крайней мере, надеялись, что жители районов, впоследствии ставших штатами Кентукки и Теннесси, откажутся от своего американского гражданства в пользу присоединения к Испании, которое позволит им вести торговлю через Новый Орлеан. Угроза отделения от Соединенных Штатов была вполне реальной, так как у этих жителей сложилось впечатление, что конгресс и восточные штаты забыли об их существовании[1035]. Узнав о недовольстве на юго-западе, конгресс поручил Джону Джею, сменившему Роберта Ливингстона на посту министра иностранных дел, провести переговоры с испанским посланником доном Диего де Гардоки, прибывшим в Америку, чтобы убедить конгресс ратифицировать закрытие Миссисипи для судоходства. Инструкции для Джея были составлены комитетом под председательством Джеймса Монро из Виргинии. Монро не одобрял позицию Испании и ставил себе целью успокоить жителей юго-запада страны. Инструкции, которые он и его комитет вручили Джею, предполагали, что в мирном договоре с Великобританией справедливо учтены американские интересы. Поэтому Джей был уполномочен «выдвинуть в качестве условия право Соединенных Штатов на их территориальные границы и свободное судоходство по Миссисипи от истока до океана, как определено в их договоре с Великобританией». Гардоки прибыл с жесткими указаниями оговорить право Испании на территорию к востоку от реки Миссисипи и исключительное право судоходства по реке. Обсуждение двумя дипломатами этих конфликтующих притязаний продолжалось недолго, так как Джей быстро понял, что у него почти нет шансов заставить испанцев изменить свою позицию. Гардоки настаивал, чтобы Соединенные Штаты признали обоснованность испанских притязаний; в обмен Испания была готова заключить торговый договор. Хотя договор, предложенный испанцами, сулил американцам очень мало выгод, Джей согласился обсудить его, прежде чем перейти к подробностям судоходства по Миссисипи. И уже на раннем этапе переговоров он фактически согласился заключить торговый договор с Испанией на условиях, выдвинутых Гардоки. Джей, подобно многим жителям американского востока, боялся прироста западных территорий. Объясняя свою позицию конгрессу, он также утверждал, что в случае военного конфликта с Испанией Франция, скорее всего, выступит против Соединенных Штатов. Следя за действиями Джея, Монро вскоре заподозрил, что тот не следует инструкциям. Джей подтвердил эти подозрения, когда затребовал новых полномочий, которые позволили бы ему согласиться на договор, лишающий американцев права судоходства по Миссисипи как минимум на 25 лет. Монро добился отклонения этого требования в конгрессе, чем настроил против себя своих коллег из Новой Англии и Нью-Йорка, отстаивавших интересы востока. Руфус Кинг, делегат от Массачусетса, вероятно, чувствовал себя особенно задетым противодействием Монро, ибо последний обвинил его в том, что он поддерживает договор (и, соответственно, отказ жителям запада в использовании Миссисипи) ввиду своей предстоящей женитьбы на «одной состоятельной женщине из Нью-Йорка, поскольку если ему удастся обеспечить рынок сбыта для рыбы и направить торговлю западных территорий вниз по этим рекам [Мохоку и Гудзону], он получит предмет своего вожделения». Каковы бы ни были истоки убеждений Кинга, он действительно хотел поддержать рыболовный промысел, ибо, как он писал Элбриджу Джерри в августе 1786 года, «наша рыба и все остальное, что мы продаем в Испании, продается там на основе режима наибольшего благоприятствования — это одолжение, а не право. Если мы будем пособничать попыткам неразумных людей водить суда по Миссисипи ниже северной границы Флориды, нам не стоит ждать одолжений от испанского правительства. Англия является нашим соперником по части рыболовства, Франция не желает нам процветания в этой отрасли торговли. Если мы рассоримся с Испанией, на что нам останется уповать?» [1036] Как Кинг, так и Монро представляли групповые интересы и олицетворяли те разногласия, что сохранялись в конгрессе в отношении инструкций Джея. У пяти южных штатов, несмотря на то что им противостояли семь северных штатов (Делавэр на тот момент не имел своих представителей в конгрессе), было одно важное преимущество: согласно «Статьям конфедерации», любой договор подлежал одобрению девятью штатами. Таким образом, хотя северные штаты могли проголосовать за объявление первоначальных инструкций Джея недействительными (и они сделали это, тем самым позволив ему согласиться на закрытие Миссисипи для судоходства), у них не было возможности добиться ратификации договора с Испанией. Прежде чем Кинг и иже с ним осознали, что южные штаты блокируют подписание договора, приносящего Запад в жертву коммерческим интересам Востока, они возбудили к себе глубокие подозрения у Монро и других представителей южных штатов. Монро, который повсюду видел заговоры, вскоре убедил себя в существовании заговора, направленного на образование северными штатами отдельной конфедерации[1037]. Взаимная подозрительность двух групп сохранялась еще долгое время после того, как Джей прервал переговоры с Гардоки. Джей не устоял перед напором делегатов от южных штатов. Когда в конгрессе был поднят вопрос о голосовании и утверждении договоров, он понял, что игра проиграна. Договор, одобряющий меры Испании по закрытию Миссисипи для американского судоходства, не будет утвержден. И злоба и подозрительность противоборствующих сторон будет делать их дальнейшую совместную работу в конгрессе все более трудной. После заключения мира конгресс добился одного крупного успеха. Он принял меры к заселению западных территорий и управлению ими. Эти меры привели к примирению ряда несхожих — и конкурирующих — интересов. Удовлетворение этих интересов стало возможным во многом благодаря искусству, проявленному конгрессом в манипулировании тем, что было общим для всех них — мощным приобретательским инстинктом, а также тому факту, что конгресс начал свою работу над западным вопросом еще в то время, когда атмосфера не была отравлена переговорами Джея и Гардоки. «Национальный домен» начал превращаться в реальность 1 марта 1784 года, когда Виргиния уступила Соединенным Штатам территорию к северо-западу от реки Огайо, которую она считала своей собственностью в соответствии с хартиями XVII века. Виргиния впервые отказалась от своего притязания на Северо-Западную территорию в 1781 году, однако эта уступка не вызвала единодушной благодарности со стороны Соединенных Штатов, так как она ставила условием, чтобы все купчие на землю, заключенные с индейцами, и все королевские пожалования земли в пределах данной территории были «объявлены абсолютно недействительными и не имеющими силы». По меньшей мере три земельных компании, расположенные в других штатах, уже внесли свои претензии на такие земли, и Виргиния не хотела, чтобы их непомерные аппетиты были удовлетворены. Эти компании — Иллинойс-Уобаш, Вандалийская и Индианская — в ответ призвали конгресс отвергнуть уступку Виргинии[1038]. Были и другие, кто хотел отхватить себе кусок Северо-Западной территории. Военные — впоследствии ветераны — настаивали на том, чтобы им были отведены земли в качестве вознаграждения за службу. Группа военных из других штатов призывала к созданию колонии, где они могли бы поселиться как колонисты. Джордж Вашингтон, искренне желавший, чтобы его солдаты получили компенсацию за свои жертвы, в течение какого-то времени поддерживал это предложение. Сразу после принятия уступки Виргинии конгресс занялся введением управления территорией. Реализация планов конгресса сопровождалась запутанной историей, главным действующим лицом которой был Томас Джефферсон. Все началось с того, что Джефферсон предложил ордонанс, предусматривавший создание на западе новых штатов со старой республиканской формой правления. По истечении периода управления в качестве территорий они могли вступать в Союз и получать статус штатов. Джефферсон назвал условия ордонанса «фундаментальными правилами отношений между тринадцатью исходными штатами и теми, которые только что были описаны» — слова, включенные в законодательный акт, который в конце концов был утвержден конгрессом[1039]. Джефферсон также участвовал в работе комитета, уполномоченного конгрессом продумать способы использования новых земель. Он надеялся, что западные территории будут переданы — именно переданы, а не проданы — поселенцам, которые пополнят собой ряды крепких свободных землевладельцев, вызывавших у него глубокое уважение. Джефферсон уехал в Европу с дипломатической миссией до того, как комитет закончил свою работу, но даже если бы он остался, ему вряд ли бы удалось убедить конгресс осуществить свою благородную надежду. Крупный национальный долг не позволял отдавать какую бы то ни было недвижимость в безвозмездное пользование. В одном из своих ранних отчетов комитет заявил, что выручка от продажи земли «будет использоваться для погашения такой части основной суммы национального долга, какую будет время от времени определять конгресс, и ни для каких-либо иных целей»[1040]. В мае 1785 года конгресс утвердил ордонанс, который, как он надеялся, должен был упорядочить продажу земель на западе. Согласно ордонансу 1785 года, земли делились на наделы, или тауншипы, площадью по 23 000 акров. Каждый тауншип, в свою очередь, состоял из тридцати шести участков площадью по 640 акров. После проведения межевания земля могла продаваться отдельными участками на публичных торгах по цене не ниже одного доллара за акр с уплатой наличными или различными сертификатами, выпущенными Соединенными Штатами. Ордонанс зарезервировал часть земель в качестве премий, обещанных солдатам во время войны, и выделил секцию 16 в каждом тауншипе под строительство государственных школ. Государство Соединенные Штаты получало по четыре участка в каждом тауншипе и треть всех найденных залежей золота, серебра и меди[1041]. Хотя землемерные работы начались почти сразу, ордонанс не работал, как было задумано. Он почти немедленно натолкнулся на сопротивление земельных спекулянтов, призывавших к приостановке его действия. За спекулянтами стояла новая компания Огайо, основанная в Бостоне, а движущей силой компании был преподобный Манассия Катлер, бывший армейский священник. Катлер предусмотрительно порекомендовал президента конгресса Артура Сент-Клера на должность главы компании. Этот ловкий ход плюс искусное лоббирование убедили конгресс разрешить компании Огайо купить большой участок еще не обмеренной земли. Условия покупки были исключительно выгодными для компании и включали использование сертификатов Соединенных Штатов, учитываемых по их номинальной стоимости — сертификатов, которые можно было купить на рынке из расчета десять центов за доллар[1042]. Компания Огайо орудовала на широкую ногу. Скваттеры вели себя более скромно, но в своей совокупности они оказывали не менее разрушительное действие на планы по упорядоченному заселению. Эти мужчины и женщины принесли с собой жажду обладания землей и ненависть к индейцам, которым она принадлежала. Между ними регулярно вспыхивали военные конфликты, к которым порой присоединялись солдаты. Таким грубым способом начиналось заселение Старого Северо-Запада. Ордонанс 1784 года, предусматривавший самоуправление на территориальном этапе, был одной из жертв. Потрясенный кровавыми событиями на западе и убежденный спекулянтами, что непрерывные беспорядки угрожают правам собственности на землю, конгресс отменил старый ордонанс, заменив его в 1787 году новым, так называемым Северо-Западным ордонансом. Этот закон отнял право управления у поселенцев и передал его конгрессу. Чиновники, ранее избиравшиеся на местном уровне, отныне должны были назначаться сверху. Полное самоуправление вводилось лишь после того, как территории получала статус штата[1043].III
Заслуга конгресса в формулировании земельной политики в то время не получила признания. В 1786 году конгрессом и большей частью нации владело ощущение кризиса. В основе этого ощущения лежало разочарование в системе государственных финансов и торговой политике, которое, в свою очередь, порождало сомнения в пригодности республиканских институтов правления. Большая часть сомнений, безусловно, относилась к самому конгрессу, хотя убежденные националисты также сомневались в адекватности местных институтов, в частности законодательных органов штатов и проводимой ими политики. При таких настроениях многие американцы начали опасаться, что Американская революция и ее родное дитя, республика, вскоре потерпят крах. Озабоченность, касающаяся общественных финансов, распространялась на экономику, и в течение большей части времени до 1789 года в газетах, конгрессе и частных беседах звучали жалобы на спад в торговле. Как это часто бывает, общественное восприятие не распознавало реалий. А каковы были экономические реалии? Их невозможно очертить точно — ввиду скудности количественных данных, но они показывают, что, несмотря на ущерб от войны и закрытие доступа американским судам в Британскую Вест-Индию, экономика восстанавливалась стремительно, хотя и неравномерно. Пожалуй, быстрее всего торговля возрождалась в среднеатлантических штатах. Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк издавна производили сельскохозяйственную продукцию на продажу, особенно в Вест-Индию. Теперь они начали превращать свои продукты в товары для местных рынков — например, делать из злаков пиво, портер и виски с целью утоления республиканской жажды. Они также начали производить промышленные товары для себя и для юга[1044]. На севере, в Новой Англии, процесс восстановления шел медленнее. Торговля треской, китовым жиром и кораблями, которые янки поставляли на английские рынки, особенно в Вест-Индию, также пострадала от войны. И разумеется, американцам было отказано в доступе в порты Британской Вест-Индии. В 1786 году ловцы трески довели объем своих продаж до примерно 80 процентов от довоенного уровня. Они добились этого, отправляя свои суда во Французскую Вест-Индию и в порты Испании й Португалии[1045]. В южных штатах восстановление проходило с большими трудностями. Рисовый пояс лишился традиционных британских субсидий в тот момент, когда Америка провозгласила независимость. После войны упало производство индиго, и большинство каролинских плантаторов едва сводили концы с концами. Табак, произрастающий на территориях вокруг Чесапикского залива, теперь мог поставляться — и поставлялся — прямо на европейский континент. В 1780-е годы в Европу поставлялось меньше виргинского табака, чем в годы непосредственно перед войной, но полное восстановление было не за горами. И усилия по культивации пшеницы, кукурузы и льна, начатые за тридцать или более лет до революции, продолжались[1046]. В целом оживление внешней торговли происходило с поразительной легкостью. Безусловно, запрет на вход кораблей в Британскую Вест-Индию тормозил торговлю, зато во всех других местах американские суда встречали радушный прием. Хотя британцы закрыли для американцев Вест-Индию, они вели с ними дела в портах приписки на тех же условиях, на каких они торговали с судами из колоний. Американские поставщики, в частности, уплачивали те же пошлины и получали те же возвратные пошлины, что и жители колоний. В такой обстановке цены на американские товары в 1780-х годах оставались высокими, при этом особенно выгодной была торговля табаком и пшеницей. Американские штаты, экспортировавшие эти продукты, безусловно, имели хорошие прибыли, но Новой Англии и Южной Каролине, которые были вынуждены импортировать зерно, было трудно платить за него по мировым ценам. В большей части страны цены падали, реагируя на неблагоприятный торговый баланс и на европейские уровни цен. Государственный долг оставался высоким, несмотря на все усилия конгресса и штатов погасить его. Этот долг и вывоз металлических денег за пределы страны с целью покрытия дефицита торгового баланса способствовали спаду в торговле и замедлению восстановления[1047]. Стороннему наблюдателю экономическое восстановление в 1780-е годы могло показаться многообещающим и даже впечатляющим. Однако экономическое положение страны в то время выглядело неутешительным, если принять во внимание заниженные цены, высокие государственные и частные задолженности и хаос в области регулирования торговой деятельности. Американцы, естественно, судили о своих перспективах по текущим условиям, по обстоятельствам, которые были налицо в текущий момент. Сравнения в долгосрочной перспективе были для них недоступны; и даже если бы они были доступны, они вряд ли бы устранили беспокойство американцев. У всех ли американцев экономическая ситуация 1780-х годов вызывала тревогу, неизвестно. И нет никакого способа определить, насколько широко было распространено ощущение, что с революцией что-то пошло не так. Тот факт, что государственная политика вызывала недоверие, не подлежит сомнению, и это настроение владело не только конгрессом или законодательными органами штатов. Газеты по всей территории Соединенных Штатов практически еженедельно публиковали письма и очерки о тяжелых условиях и об угрозах, которые эти условия несут нравственности и республиканизму. Священники затрагивали эти темы в своих субботних проповедях, а патриотически настроенные писатели выпускали памфлеты и стихотворения, посвященные американским проблемам. И частная корреспонденция того периода свидетельствует о том, что состояние республики беспокоило многих людей, не прибегавших к печатным изданиям для выражения своих взглядов на проблему[1048]. Главным предметом озабоченности, которую, по-видимому, разделяли самые широкие слои населения, был конгресс. Именно неудовлетворенность конгрессом и его деятельностью — или бездеятельностью — породила движение за конституционную реформу, сформировавшееся в 1780-е годы. Деградация конгресса, в ходе которой он постепенно терял авторитет и доверие общества, началась задолго до окончания войны. Как только разразилась война, конгресс приступил к поискам способов создания и содержания армии. В течение одного года проблема приобрела форму вопроса, знакомого практически всем правительствам, вовлеченным в войну: где взять деньги. Разумеется, конгресс прибегнул к увеличению денежной массы — методу, широко практиковавшемуся и в прежние времена. До войны правительства колоний печатали деньги по мере необходимости и использовали их для покрытия своих расходов. Они, однако, не действовали без плана и без оглядки на очевидные последствия неограниченной эмиссии денег. Чтобы сохранить поддержку народа, они назначали налоги с целью изъятия денег из обращения параллельно их выпуску. Это соотношение бумажных денег и налогов, предназначенных для их изъятия из обращения, давало людям уверенность в деньгах, которые служили законным платежным средством не только для уплаты налогов, но и для выплаты частных долгов. Если жители какой-либо колонии теряли уверенность, что их правительство собирает или способно собирать налоги, деньги обесценивались[1049]. Народ Америки потерял уверенность в способности конгресса собирать налоги еще на раннем этапе революции. В 1775 году конгресс выпустил шесть миллионов долларов бумажными деньгами, и к концу следующего года эта сумма выросла до 25 миллионов. За весь период революции конгресс выпустил около 200 миллионов долларов. Поскольку у него не было полномочий собирать налоги, он был вынужден довольствоваться тем, что изъятием денег из обращения занимаются штаты. Штаты собирали деньги в форме налогов, но они не выводили их из оборота. Они не делали этого, поскольку сами испытывали крайнюю нужду в деньгах, и, как следствие, они тратили их с той же скоростью, с какой собирали. Хуже того, они выпускали свою собственную валюту[1050]. Неудивительно, что уже в 1776 году началось обесценивание — отчасти потому, что было выпущено слишком много денег. Нематериальные активы, важнейшим из которых была вера народа в возможность выиграть войну, также влияли на стоимость денег. В ноябре, когда Хау, казалось, вот-вот выбьет Вашингтона из Пенсильвании и Нью-Джерси, людям с трудом верилось в то, что американское правительство окажется способным погасить долг. Да и конгресс не укрепил веру в себя, когда в 1778 году объявил, что около 41 миллиона выпущенных им долларов являются поддельными, и предложил всем, у кого есть банкноты этого выпуска, обменять их на долговые расписки. Фактически это был обман, предпринятый с целью вынудить людей ссудить деньги своему правительству. Владельцы «поддельных» банкнот, однако, уклонились от этого предложения и в результате не потеряли ничего, кроме уважения к конгрессу[1051]. Самый ощутимый удар по себе самому конгресс нанес осенью 1779 года, когда он попытался действовать ответственно. В сентябре того года он решил, что, когда денежная масса в обращении достигнет 200 миллионов долларов, он прекратит все дальнейшие эмиссии. На момент принятия этого решения было выпущено около 160 миллионов долларов; поскольку нужда в деньгах была отчаянной, эмиссия была остановлена через несколько недель[1052]. Финансовое истощение вынудило конгресс обратиться за помощью к штатам. В конце 1779 года он затребовал у них поставки конкретных товаров, в начале следующего года — увеличения масштабов реквизиций продуктов сельского хозяйства. Вскоре после этого конгресс взвалил на штаты дополнительную ношу — выплату жалованья солдатам Континентальной армии, возложив на каждый штат обязанность платить своим солдатам, состоящим на регулярной службе. Проблема денежной массы сохранялась, и конгресс прибегнул к радикальному способу ее решения. В марте 1780 года он фактически открестился от всех своих денег, находившихся в обращении, путем их обесценивания до одной сороковой от их номинальной стоимости. Он привязал эту меру к эмиссии новых денег и возложил на штаты задачу по сбору старых и выпуску новых денег. Общественные финансы — и значительные полномочия — были, таким образом, переданы штатам[1053]. Сколь бы жесткими ни казались некоторые из этих мер, имелись шансы на то, что они сработают и что, возможно, благодаря им будут предотвращены значительная часть будущей инфляции и упадок общественной морали. Однако они действовали не так, как было задумано. Не все эти меры были совместимы друг с другом, и тот способ, каким конгресс и штаты получали припасы для армии, поставил крест на плане по изъятию из обращения 200 миллионов долларов в старых деньгах. Начиная с 1779 года как чиновники штатов, так и интенданты Континентальной армии практиковали реквизицию продовольствия и одежды для армии. В обмен на припасы они давали расписки с обещанием платежа. Поскольку на суммы, указанные в этих расписках, не набегали проценты, их держатели пытались избавиться от них в тех штатах, где их принимали в счет уплаты налогов. Между тем старые деньги оставались в обращении и изымались из него лишь постепенно. К июню 1781 года штатам удалось собрать немногим более 30 миллионов долларов[1054]. Конгресс уступил свои полномочия штатам еще в одной сфере — в сфере обслуживания своих долгов. В 1781 году, когда отказ Род-Айленда от взимания таможенных пошлин похоронил надежду на возможность покрытия государственных обязательств за счет единой импортной пошлины, конгресс решил сделать еще одну попытку. Он предпринял ее двумя годами позже, выступив с более сложным предложением: он сам будет взимать таможенные пошлины, а также ряд других налогов. Несколько штатов сразу одобрили это предложение, но необходимое единогласие вновь осталось недостигнутым. Пока конгресс ждал, он призвал штаты к взносам в государственную казну. Несколько штатов откликнулось, но ни один не прислал такого количества металлических денег, на которое самонадеянно рассчитывал конгресс. Словом, затея с реквизициями не удалась, и с октября 1782 года по сентябрь 1785 года конгресс не обращался с новыми просьбами, но ждал — как правило, тщетно — пока штаты удовлетворят просьбы старые. После 1785 года он перестал выплачивать проценты по своему долгу Франции и в 1787 году оказался неспособным произвести все выплаты в погашение основной суммы. Не мог конгресс рассчитаться и со своими американскими кредиторами, но он не мог и так просто отделаться от них. Они требовали выплаты процентов и иногда даже настаивали на выплате основной суммы. Не удовлетворяясь призывами к конгрессу, они обращались в законодательные органы штатов. Еще в 1782 году штаты начали реагировать на такие обращения выплатой процентов и основной суммы. В том году пример подала Пенсильвания, выпустив процентные сертификаты, которые принимались в уплату налогов. Ее примеру последовали другие штаты. И все приняли меры к сокращению своих собственных задолженностей. Виргиния, например, для частичного погашения своей задолженности использовала более трех миллионов долларов, собранных с 1782 по 1785 год[1055]. Если у конгресса была хоть какая-то возможность вернуть себе контроль над общественными финансами, эта возможность заключалась в таможенных пошлинах. К 1786 году они были одобрены девятью штатами, часть из которых поставили жесткие условия. Не желая сидеть сложа руки, пока штаты мудрят с пошлинами и приобретают реальную власть в Америке, конгресс попытался прибегнуть к еще не испробованному средству. В 1784 году он узаконил выпуск «требований», как тогда именовались процентные сертификаты, которые штаты могли использовать для уплаты реквизиций. Он разослал по штатам кредитных представителей с инструкциями обеспечить местных чиновников сертификатами. Эти чиновники должны были использовать сертификаты для выплаты процентов по долгам, строго соблюдая график выплат. В первую очередь подлежали выплате проценты за 1782 год. В рамках этого плана конгресс уполномочил штаты принимать «требования» в счет налогов и возвращать их в определенном проценте в звонкой монете в качестве реквизиций[1056]. Эта тщательно продуманная схема почти сразу развалилась. Кредитные представители просто игнорировали свои инструкции и выпускали требования не в соответствии с графиком, утвержденным конгрессом, а по своему усмотрению. Штаты проявляли такую же самодеятельность, что и федеральные чиновники, иследовали своей собственной политике выплат. Они не обращали внимания на график выплат — ведь назойливые кредиторы, в конце концов, были их гражданами — и, как правило, использовали требования для выплаты процентов авансом за следующий год. Они отказывали в приеме требований или в оплате требований всем, кроме своих собственных граждан, и не соглашались возвращать в качестве реквизиций звонкую монету. Этот отказ было легко понять и оправдать — металлические деньги были в дефиците, и штаты не хотели отдавать те, что у них имелись, не будучи уверены в том, что конгресс вернет эти деньги их гражданам[1057]. В 1787 году конгресс признался в своей неспособности управлять государственными финансами, отказавшись от всех требований к штатам и разрешив им платить по долгам любым способом, какой они предпочтут. Теперь, обладая неограниченными полномочиями, штаты все чаще предпочитали прибегать к старой колониальной практике печатного станка. И к началу нового года по меньшей мере семь штатов выпустили бумажные деньги. Определенный круг людей с беспокойством наблюдал за постепенным переходом власти от конгресса к штатам. Это были «националисты» — термин, используемый историками для обозначения политиков, которые не только были преданы идее сильной центральной власти, но и фактически являлись отдельной партией. Эта партия, согласно ряду историков, выступала за замену «Статей конфедерации» конституцией, которая бы обеспечила переход власти от тринадцати штатов к национальному правительству. Вдохновителем этой группы, начавшей принимать очертания в 1780 году, был, как считается, Роберт Моррис, торговый магнат из Филадельфии, за два года до того покинувший конгресс, где он плодотворно служил в течение трех лет. Моррис и небольшое число его друзей и деловых партнеров ратовали за сильное национальное правительство, но сами они никогда не представляли собой нечто большее, нежели слабо оформленную фракцию. То, что руководителем группы стал именно Моррис, было вполне естественно, так как он обладал крупным состоянием и деловыми и административными навыками. К этим неформальным достоинствам добавилось одно формальное, когда в 1781 году он добился своего назначения суперинтендантом финансов[1058]. Эта должность давала своему обладателю все полномочия, которыми мог наделить ее конгресс. В области управления общественными финансами суперинтендант мог делать практически все, что делал сам конгресс, включая увольнение любого должностного лица, распоряжавшегося общественными деньгами. Моррис настоял на том, чтобы его наделили этим видом полномочий; он не был скромным человеком, и его притязания на власть заставили ряд членов конгресса помедлить, прежде чем они проголосовали за его назначение. За период своего пребывания в конгрессе Моррис доказал, что, помимо жажды власти, он обладает незаурядными способностями. Возглавляя секретный комитет торговли, он выказал весьма впечатляющие управленческие таланты. Он также показал, подобно практически всем другим купцам, состоявшим на государственной службе, что не брезгует использованием своего поста в корыстных целях. Купцы понимали разницу между частными и государственными интересами не хуже других людей и знали, что существующие нормы поведения не допускают использования служебного положения для получения личной выгоды. И все же они обычно смешивали государственные дела с личными, и Моррис без зазрения совести пользовался государственными деньгами, когда ему не хватало собственных. Он не был вором и не был нечестным человеком и, тем не менее, порой злоупотреблял своей должностью в конгрессе. Возможно, он находил себе оправдание в том факте, что следует общепринятой практике, поскольку, в сущности, все обладатели государственных должностей убеждены, что их должности в некотором роде являются их личной собственностью. Во многих случаях нормы поведения были не слишком строгими. Моррис не пытался поднять их планку, но и не ограничивал свою деятельность заботой о своих собственных интересах, ибо искренне хотел служить своей стране. Вероятно, он даже не понимал, что его собственное поведение способствует деморализации общества, которое со все большим подозрением относилось к лицам, заведовавшим государственными финансами[1059]. Именно в государственных финансах Моррис видел главное средство для проведения конституционной реформы. «Статьи конфедерации» отрицали за конгрессом право собирать налоги. Штаты понимали, что это право подразумевает независимость, и они хотели, чтобы оно оставалось за ними. Но в 1780 году, когда финансы конгресса лежали в руинах, многие люди, включая большинство делегатов конгресса, соглашались с доводом, что конгрессу требуются полномочия по обложению налогами для обеспечения постоянного дохода. Без такого дохода различные виды документов, содержащих обязательства конгресса перед его кредиторами, будут продолжать обесцениваться. И проблема снабжения армии и продолжения войны до тех пор, пока Великобритания не признает независимость Америки, будет только усугубляться. Таким образом, с точки зрения Морриса и его товарищей, управление государственными финансами должно было включать в себя то, что они считали важнейшими целями революции — защиту собственности и сохранение политического порядка, зависевшего от таких людей, как они. Война научил их многому, научила тому, что независимость, поделенная на тринадцать частей, ведет к беспорядку и ослабляет нацию. Несоответствие между усилиями армии и мелочными склоками штатов, заботящихся исключительно о своих собственных интересах, угнетало Морриса. Склонность штатов прибегать к старым методам распоряжения финансами пугала его. Старые методы плохо сочетались с новыми, а новые: крупномасштабная торговля, международная финансовая система, банковское дело и спекуляция — могли приносить успех лишь при сильной центральной власти. С 1781 года и почти вплоть до своей отставки в 1784 году Моррис упорно и порой безжалостно действовал в направлении расширения полномочий конгресса. Центральное место в его стараниях занимали таможенные пошлины. Чтобы добиться их утверждения всеми штатами, как того требовали «Статьи конфедерации», он, Гамильтон и другие попытались организовать из армейских офицеров в Ньюбурге группу, способную оказать давление на конгресс и власти штатов. Это предприятие провалилось, но оно убедило конгресс принять на себя часть долга, остальную часть которого можно было бы распределить между штатами. Цель конгресса состояла в том, чтобы по крайней мере часть военных долгов осталась государственным обязательством, которое могло бы послужить основанием для наделения конгресса налоговыми полномочиями. Многое из того, что сделал Моррис, было удачно как финансовая политика, но потерпело крах как политическая технология. Он ввел систему торгов и контрактов для снабжения армии, усовершенствовал федеральную финансовую систему и основал корпус чиновников, ответственных перед конгрессом — и перед ним самим. Завершение войны лишило большую часть этой системы ее политического значения. Поражение при Йорктауне послужило бы целям Морриса намного лучше, чем победа[1060]. С наступлением мира последовали новые разочарования: штаты отказали ему в звонкой монете; они развратили его чиновников; и они взяли на себя обслуживание долгов. Хуже всего, что, хотя время от времени казалось, что таможенная пошлина вот-вот будет одобрена, этого, в конце концов, так и не случилось. К концу 1783 года Моррис разыграл свои лучшие карты, и хотя он продержался в должности суперинтенданта до 1 ноября 1784 года, его игра была закончена. И его методы создания предпосылок для появления сильного национального правительства оказались непродуктивными[1061]. Движение за пересмотр «Статей конфедерации» не угасло с отставкой Морриса. У конгресса в течение двух лет сохранялась надежда, что таможенные пошлины получат одобрение всех штатов. В любом случае, имелись и другие способы усиления центрального правительства. В эти годы распространились толки о возможности созыва конвента с участием представителей штатов, который мог бы добавить полномочий конгрессу. Пожалуй, наиболее предпочтительной мерой было наделение конгресса правом регулировать торговую деятельность и прежде всего торговлю между штатами. Не все делегаты одобряли эту меру, и, разумеется, не все поддерживали идею наделить конгресс правом регулирования торговли. Как Джефферсон, так и Мэдисон считали, что конгресс может законно претендовать на право регулирования торговли с иностранными государствами в рамках своих полномочий на заключение договоров. Им так и не удалось склонить конгресс к такой интерпретации, а если бы удалось, то между штатами продолжилась бы борьба, по сути, равносильная войне санкций[1062]. С точки зрения конгресса перспективы республики, вероятно, выглядели более мрачными, чем они были на самом деле. Разочарование и бессилие часто порождают уныние, а конгресс в 1785 году был почти бессилен и испытывал разочарование. Энергичность и жизнестойкость американцев проявлялись на местном уровне, в штатах, как это происходило почти всегда на протяжении предыдущих двадцати лет. В марте 1785 года представители Мэриленда и Виргинии встретились в Маунт-Верноне и уладили давнишние разногласия по поводу судоходства по реке Потомак. Соглашение, достигнутое на этой встрече, являло собой образец просвещенного своекорыстия, выработавшего серию компромиссов. В данном случае Виргиния уступила Мэриленду определенные права в Чесапикском заливе в обмен на другие права на реке Потомак[1063]. Успех этой встречи убедил Джеймса Мэдисона, что более крупное собрание штатов в форме конвента может проникнуться духом сотрудничества, — когда взаимные интересы станут очевидны, — и возложить функции регулирования торговой деятельности на конгресс. Мэдисон, по-видимому, также считал, что настал подходящий момент объединить это предложение с предложением наделить конгресс полномочиями по обложению налогами. В любом случае, в ноябре он смело выступил в палате горожан, нижней палате законодательной ассамблеи Виргинии, с предложением поручить представителям Виргинии в конгрессе «порекомендовать штатам, входящим в Союз, наделить конгресс полномочиями регулировать их торговлю и собирать налоги с нее…». Возможно, Мэдисон переоценил тягу своих коллег к переменам. Возможно также и то, что, внося свое предложение, он понимал, что его будут убеждать согласиться на меньшее — скажем, на право регулировать торговлю, но не собирать налоги с нее, — и потому решил, что будет тактически разумно просить большего. По сути, он добился очень малого, хотя в январе 1786 года палата горожан одобрила предложение созвать конференцию штатов «для рассмотрения вопроса, в какой степени единая система регулирования их торговой деятельности может быть необходимой для их общих интересов и их долговременного согласия…»[1064]. Вскоре после этого штаты получили приглашение на конференцию, и 11 сентября 1786 года делегаты от пяти штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэра и Виргинии — встретились в Аннаполисе (Мэриленд). Легислатура Мэриленда, теоретически являвшаяся принимающей стороной, отказалась назначить своих делегатов — видимо, из опасения, что конференция окончательно подорвет и без того уже слабую власть конгресса. Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Новая Каролина отправили своих делегатов, но те не смогли прибыть вовремя. Несколько штатов избрали делегатами весьма влиятельных людей: Александр Гамильтон представлял Нью-Йорк, Джон Дикинсон — Делавэр, а из Виргинии прибыли Джеймс Мэдисон и Эдмунд Рэндольф. Полномочия рассматривать, помимо регулирования торговли «другие важные вопросы» имелись только у делегации Нью-Джерси. Штат Нью-Джерси стремился к масштабному пересмотру «Статей конфедерации», и в этом с ним были солидарны Мэдисон и Гамильтон. Но все понимали, что собрание с участием представителей всего лишь пяти штатов может сделать очень мало. И этим «малым» результатом работы конференции стал призыв ко всем штатам назначить своих представителей для участия в конференции, которую было решено провести в мае 1787 года и в рамках которой делегаты должны были «обсудить ситуацию Соединенных Штатов и разработать такие дополнительные статьи, какие они сочтут необходимыми для приведения конституции федерального правительства в соответствие с потребностями Союза…»[1065]. Это послание добралось до штатов почти одновременно с известием совершенно другого рода: в центральном и западном Массачусетсе началось вооруженное восстание. Это восстание, названное по имени Даниэля Шейса, одного из его руководителей, было организовано фермерами, в большинстве своем солидными, уважаемыми людьми, многие из которых были ветеранами войны, доведенными до отчаяния жесткой финансовой политикой штата. С начала 1780 годов легислатура, находившаяся под полным контролем купцов из восточных округов и их приспешников, сопротивлялась попыткам реформирования либо кредитной системы, либо структуры налогообложения. В довершение всего в начале 1786 года легислатура повысила ставки процентов, начисляемых по долгам (держателями долговых обязательств в основном были жители восточного Массачусетса), и, кроме того, решила удовлетворить требование конгресса об уплате реквизиции. Атмосфера в западной части штата накалялась в течение шести лет, и последняя мера привела к восстанию обремененных долгами фермеров, которые прибегли к насилию, чтобы помешать конфискации своего имущества в счет долгов и налогов, которые они не могли оплатить[1066]. Массачусетс подавил восстание за несколько месяцев, но оно изменило настроение людей. Нельзя сказать, чтобы это настроение было слишком мрачным, но оно располагало людей в пользу пересмотра существующих «Статей конфедерации». Насколько масштабного и какого рода пересмотра, оставалось еще неясным, когда 21 февраля 1787 года конгресс внес свой неуверенный голос в призывы к переменам, одобрив предложение о созыве конвента. Конвент должен был открыться в Филадельфии в мае 1787 года.24. Революционное поколение в 1780-е годы
I
В 1760-е годы элита начала борьбу против Великобритании, и ее примеру последовал народ. Теперь элита начала движение за конституционную реформу. Могла ли она надеяться, что народ последует за ней и на этот раз? Отличались ли люди 1780-х годов от людей довоенного и военного времени? Мэдисон, Вашингтон и Гамильтон, а также многие другие, кто выступал за пересмотр «Статей конфедерации», не знали ответа на эти вопросы. Ответа на них не знал никто. Одной из аномалий в годы между заключением мира и созывом Конституционного конвента была неуверенность революционных вождей в американском народе. В период между 1765 и 1787 годами многое изменилось. Хотя в 1765 году американцы не были единым народом, они знали, что между ними есть много общего. К 1787 году они осознали, кем они являются. Они были народом, который ценил свободу и представительное правление. И они образовали между собой союз задолго до 1787 года. Конечно, центральному органу этого союза не хватало сил, но, по крайней мере, сам союз выжил. К тому же у этого народа была история — короткая, но славная история борьбы и победы в войне. Эта история сделала людей 1780-х годов отличными от тех, какими они были двадцатью годами ранее. В некотором смысле именно она и сделала их народом. Американцы в 1780-е годы по-прежнему считали себя призванными Провидением творить великие дела. Они были избраны, и их победа в войне и достижение независимости доказали, что они достойны своего призвания. Безусловно, некоторые были убеждены в этом сильнее, чем другие. Это убеждение, по-видимому, всегда существовало в Новой Англии, особенно среди конгрегационалистов. Оно давало себя знать и в Виргинии, даже среди плантаторов, воспитанных на пресных проповедях англиканских священников. Во всех других местах его разделяли евангелисты и религиозные энтузиасты, например многие пресвитерианцы и баптисты. Но, несомненно, были и те, кто не верил в руку Провидения. Тем не менее в 1780-е годы даже многие безразличные люди в той или иной степени испытывали чувство национальной гордости. Национализм, однако, воплощал далеко не все старые ценности американцев. Собственно говоря, тяга американцев к свободе существовала независимо от их осознания себя единым народом. Эта тяга имела гораздо более долгую историю и связывалась с местными институтами — со штатами не в меньшей степени, чем с союзом. В 1760-е и 1770-е годы американцам было гораздо проще договориться об общих принципах, нежели о том, как организовать сопротивление и войну[1067]. Но в 1774 году они создали конгресс и отправили делегатов как на первый, так и на второй Континентальный конгрессы. Этот орган был центром, позволявшим управлять военными действиями, хотя его полномочия оставались неопределенными до тех пор, пока в мае 1781 года штаты не ратифицировали «Статьи конфедерации». Хотя конгресс был создан штатами, он также создавал себя и сам, осуществляя функцию руководства штатами. Он образовал армию; он отправил за границу послов и вступил в союз с Францией; он выпускал валюту и занимал деньги; он реквизировал деньги у штатов. Он делал все это и многое другое, не имея сколько-нибудь четко очерченных полномочий, делал в силу необходимости и с молчаливого согласия штатов. Было, однако, и много такого, чего конгресс делать не мог, включая сбор налогов и регулирование торговой деятельности. Кроме того, он не мог напрямую воздействовать на отдельных лиц и учреждения в пределах штатов. В конгрессе были делегаты, выступавшие за то, чтобы он был наделен правом принуждения, правом, которое, как они считали, могло использоваться в отношении граждан любого штата. Сам конгресс делал пробные попытки продемонстрировать штатам свою силу. Например, в 1776 году он порекомендовал им попытаться привлечь в армию мужчин обещанием вознаграждения в виде земельных наделов. Мэриленд отказался, и тогда конгресс заявил, что ни один штат не вправе уклоняться от распоряжений конгресса путем простого отказа подчиняться им. Это заявление вызвало еще один протест со стороны Мэриленда, и конгресс отступил. Примерно в то же время конгресс вознамерился заняться подавлением лоялистов в Делавэре, хотя сам штат не просил его об этом. В первые два года войны конгресс делал и другие предложения, направленные на расширение его полномочий, но ни одно из них не привело к такой концентрации власти, которая позволила бы конгрессу доминировать над штатами. Таким образом, отношения конгресса со штатами на первом этапе войны оставались весьма неопределенными[1068]. Некоторая определенность появилась в тот момент, когда штаты начали принимать свои собственные конституции. Большинство этих конституций утверждали структуру правительства и определяли его полномочия. Они также устанавливали границы прав и свобод граждан. Подобные действия штатов значительно ослабляли и сужали полномочия конгресса. Он был вынужден вести войну и объединять усилия всей страны, не имея власти, без которой не может функционировать ни одно правительство. Его полномочия, которые никогда не были достаточно четкими, грозили стать еще более расплывчатыми. Еще до того как штаты сделали эти шаги, конгресс пришел к выводу о необходимости уточнить и тем самым усилить свои полномочия. В 1775 году двое из его членов, Бенджамин Франклин и Сайлас Дин, каждый по своей инициативе, составили проект конституции. В следующем году, когда в конгрессе велись дебаты о независимости, специальный комитет, созданный для разработки плана конфедерации, подготовил проект, впоследствии легший в основу «Статей конфедерации». Конгресс не утверждал результат работы комитета вплоть до ноября 1777 года. И тот документ, который в конце концов был утвержден, отличался в ряде важных пунктов от исходного документа 1776 года. Комитет, в свою очередь, внес уточнения в этот исходный проект, подготовленный Джоном Дикинсоном. Чтобы решить проблемы конфедерации, Дикинсон порекомендовал наделить конгресс основными полномочиями — и урезать полномочия штатов. Согласно этому плану, конгресс мог вмешиваться в жизнь штатов разными способами, включая регулирование права штатов на принуждение. Штаты, со своей стороны, не имели права препятствовать действиям конгресса. Дикинсону, по-видимому, удалось убедить членов комитета, поскольку они предложили дать бóльшую власть конгрессу. В период между 12 июля 1776 года, когда комитет представил результаты своей работы, и 17 ноября 1777 года, когда конгресс утвердил «Статьи конфедерации», делегаты фактически отвергли проект комитета, внеся в него принципиальные изменения, которые связали руки конгрессу — и развязали руки штатам. Не все изменения касались отношений между штатами и конгрессом. Важнейшее из тех, что касались, а именно решение не давать конгрессу контроля над западными землями, задержало ратификацию «Статей» до марта 1781 года. Мэриленд хотел, чтобы конгресс управлял этими землями, и отказался ратифицировать «Статьи». Непреклонность Мэриленда проистекала не из желания усилить конгресс, но из намерения ослабить те штаты, которые претендовали на внутренние районы Соединенных Штатов. Когда в 1781 году Виргиния отказалась от части своих западных притязаний, Мэриленд ратифицировал «Статьи», и они вступили в силу. Статья II новой конституции пресекала посягательства конгресса на верховную власть, постулируя, что «каждый штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и независимость, равно как всю власть, всю юрисдикцию и все права, которые не делегированы этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на конгресс». В соответствии со «Статьями», конгресс продолжал контролировать международные отношения, и только он мог объявлять войну. Но штаты как конституирующая власть Союза имели явное превосходство.II
В 1783 году гражданское чувство и структура правительства Союза фактически предписывали американцам ориентироваться на штаты — не на конгресс. Действительно, к этому времени штаты, вдохновляемые великими целями революции, уже сделали очень много. Ни один из них не внес большего вклада в революцию, чем Виргиния. Своими выдающимися достижениями этот штат, безусловно, был обязан своей элите, джентри, особому классу, который привел Виргинию в революцию и продолжал вести ее за собой и в дальнейшем. Еще в начале века джентри получило поддержку мелких виргинских плантаторов и сохраняло ее благодаря своим достоинствам, а не путем принуждения. В XVIII веке джентри никогда не составляло более пяти процентов белого населения Виргинии, и ядро этого сословия, согласно историку Джеку Грину, состояло примерно из сорока видных семей, из которых вышли самые известные общественные деятели Виргинии. Хотя джентри и его ведущие представители были малочисленны, они не были некой замкнутой кастой. Разумеется, джентри принимало в свои ряды далеко не каждого — необходимыми предпосылками для вступления были богатство и талант, однако в XVIII веке оно оставалось сравнительно открытым сословием. Джентри в Англии и ряде колоний, особенно в Нью-Йорке, в сравнении с виргинским было куда более закрытым[1069]. Избранные люди Виргинии вели далеко не праздный образ жизни. Они упорно трудились, выращивая табак, а также, в соответствии с велениями века, пшеницу и другие зерновые культуры. Этот тяжелый труд не требовал участия их рук. Посевом, выращиванием и сбором урожая, а также его доставкой на корабли для транспортировки на европейские рынки занималось огромное количество рабов. Обязанностью джентри был не ручной труд, но организация и управление трудом других людей. Кроме того, джентри осуществляло властные функции. Его представители преобладали в органах управления всех уровней, от окружных судов до палаты горожан и совета. Им не приходилось навязывать себя низшим сословиям. Круг избирателей оставался довольно широким на протяжении всего столетия, и электорат выбирал способных людей. Плантаторы средней руки уважали богатство и способности и, видимо, соглашались с тем, что управлять должны люди, обладающие этими достоинствами. Джентри, разумеется, не имело ничего против, но оно не злоупотребляло уважением, с которым к нему относились низшие сословия. Из этих джентльменов получалось необыкновенно ответственное правительство — не столько благодаря их аристократизму, сколько благодаря пониманию того, что их интересы в основном совпадают с интересами тех, кем они управляют. В этом они, вероятно, в значительной степени были правы. Все выращивали табак для продажи и все сталкивались с одними и теми же проблемами. Наличие большого количества чернокожих рабов, похоже, побуждало людей, наделенных властью, с особым рвением отстаивать права белой бедноты. Как пишет историк Эдмунд С. Морган, между рабством и свободой в Виргинии существовала тесная связь. Ужасы рабства делали свободных людей особенно восприимчивыми к благам свободы. Эти ужасы, однако, не приводили их к мысли освободить рабов. Невольники были слишком ценны в качестве рабочей силы. К тому же они становились «злобными, ленивыми и распутными», когда были предоставлены самим себе, в точности как английские бедняки. Поэтому их следовало держать в рабстве, чтобы иметь рабочую силу и не давать им совершать бесчинства по отношению к белым и самим себе. Задолго до революции виргинцы начали проводить расистскую политику, которая стремилась увековечить рабство. Хотя эта политика и не поощряла принудительные меры против рабов, она, во всяком случае, не запрещала и даже узаконивала такие меры[1070]. Таким образом, рабство побуждало белых людей думать о своих правах. Оно учило их, что собственность является высшей ценностью, ибо собственность как распоряжение самим собой, землей и другими людьми делает человека свободным. К тому же рабство устанавливало между белыми людьми всех сословий определенного рода равенство — равенство свободных людей, во многом живущих за счет труда рабов. В кризисное десятилетие до провозглашения независимости виргинские плантаторы доказали другим гражданам, насколько они ценят свои свободы. В течение первого года независимости они составили конституцию своего штата. Являясь первой конституцией, составленной в новых штатах, она оказала большое влияние на остальные штаты Америки. Конституция 1776 года была разработана на пятой сессии конвента Виргинии. Конвент фактически являлся бывшей палатой горожан под новым названием, ибо он был избран свободными землевладельцами, фригольдерами, из старых избирательных округов. Конвент выполнял функции правительства Виргинии. Его первая сессия состоялась в августе 1774 года, после того как в мае губернатор Данмор распустил палату. Губернатор, человек с жестким характером и нюхом на мятежи, принял эту меру в ответ на принятие палатой резолюции, призывавшей всех виргинцев выразить свой протест в связи с Бостонским портовым актом путем однодневного поста и молитвы. Спустя два года принимать резолюции с призывом к молитве, конечно, уже казалось недостаточным. 12 июня 1776 года делегаты приняли Декларацию прав, а 29 июня одобрили новую конституцию штата. Основным автором обоих документов был Джордж Мейсон. Ему, по-видимому, не было нужды блистать ораторским искусством, поскольку за него это прекрасно делал его старый друг и сосед Джордж Вашингтон. Зато он блестяще владел пером, в чем Вашингтон никогда не мог с ним сравниться. На заседаниях конвента Мейсон говорил мало, зато он дал услышать свой голос в Декларации прав. Первая статья Декларации задавала тон всему документу: «Все люди по природе являются в равной степени свободными и независимыми и обладают определенными прирожденными правами, коих они — при вступлении в общественное состояние — не могут лишить себя и своих потомков каким-либо соглашением, а именно: правом на жизнь и свободу со средствами приобретения и владения собственностью, правом на стремление к счастью и безопасности и их приобретение». В пятнадцати последующих статьях конвент постановлял, что вся власть принадлежит народу, что правительство является слугой народа и что, когда оно оказывается несоответствующим, общественное большинство имеет право «на реформирование, замену или свержение такого правительства». Конвент также декларировал периодическую смену должностных лиц, регулярные выборы и надлежащую правовую процедуру при уголовных преследованиях и запрещал чрезмерно большие залоги, общие ордера и содержание армии в мирное время. Декларация констатировала приверженность Виргинии институту суда присяжных, свободе печати и «свободному исповеданию религии»[1071]. Принятием Декларации прав конвент продемонстрировал верность Виргинии принципам, которые, как он надеялся, будут определять деятельность свободного правительства. Правительство, утвержденное конституцией, которая была принята двумя с небольшим неделями позже, не вполне соответствовало этим принципам. Декларация предоставляла власть народу, однако народу не была дана возможность ни ратифицировать, ни отвергнуть конституцию 1776 года. Конечно, вероятность того, что народ отвергнет конституцию, была ничтожно малой, ибо, если не считать предложенной ею структуры правительства, она не была «радикальным» документом. К тому же форма правительства, которую она предусматривала, была объяснимой. Та форма, какую конвент придал новому правительству, отразила его разочарование в исполнительной власти. Предложенная структура правительства, на первый взгляд, отвечала надеждам американцев иметь сбалансированное правительство, ибо конституция провозглашала, что «законодательная, исполнительная И судебная власти будут отделены друг от друга, так чтобы ни одна из них не осуществляла полномочия, по существу принадлежащие другой». Но фактически конституция распределила полномочия таким образом, который обеспечивал верховенство законодательной власти, то есть генеральной ассамблеи Виргинии. Ассамблея, состоявшая из палаты горожан и сената, ежегодно выбирала губернатора путем голосования обеих палат. Почти все меры губернатора требовали согласования с советом штата, состоявшим из восьми человек, также выбиравшихся ассамблеей. Даже когда он действовал совместно с советом, его полномочия были ограничены: он не мог ни накладывать вето на законопроекты, ни назначать судей и других важных правительственных служащих. Конституция также отрицала за ним право роспуска ассамблеи, а также отсрочки ее заседаний или назначения перерыва в ее работе[1072]. В ассамблее главенство принадлежало палате горожан, преемнице палаты горожан. Каждый округ делегировал двух членов, в то время как сенат состоял из 24 человек, выбираемых один раз в четыре года от избирательных округов. Только делегаты имели право законодательной инициативы; сенат мог предлагать поправки в законопроекты, за исключением финансовых законопроектов, которые он мог либо одобрить, либо отвергнуть, когда палата выносила их на обсуждение. Старое колониальное избирательное право осталось неприкосновенным. Правительство Виргинии должны были выбирать те, кто владел землей. И, как указывал Томас Джефферсон, большинство делегатов и сенаторов выбирались в прибрежных районах. Западная часть штата, которая всегда была недостаточно представленной, должна была такой и остаться.III
Многие испытывали озабоченность в связи с условиями жизни людей. Томас Джефферсон был не из их числа, однако в 1776 году у него возникли опасения, что Виргиния упустит возможности, предложенные революцией. Он вернулся в Филадельфию в качестве делегата конгресса в мае 1776 года, когда конвент Виргинии как раз приступал к работе над конституцией. Вскоре ему предстояло написать Декларацию независимости, и он отдавал себе отчет в важности этой работы, однако его мысли оставались прикованными к Виргинии. Он страстно желал принять участие в составлении конституции для Виргинии. Создание правительства, сказал он в те дни, «есть главный предмет нынешних дебатов»[1073]. Джефферсон, разумеется, остался в Филадельфии, чтобы составить Декларацию. Но он переписывался с членами виргинского конвента и подготовил несколько вариантов конституции Виргинии. Из его писем и черновых набросков можно узнать много о его идеях и о конституционной мысли в штате Виргиния. Конституции, предложенные Джефферсоном, во многом напоминали ту, что и была принята в Виргинии. Общая структура правительства была сходной, но более сбалансированной. Сенат, исполнительные власти и суды имели больше полномочий. Так, в его двух первых проектах конституции предусматривалось, что сенаторы должны избираться палатой горожан и служить пожизненно. Джефферсон разработал такую схему в стремлении добиться равновесия ветвей властей. Как он объяснял своему другу Эдмунду Пендлтону, он хотел «заполучить мудрейших из числа избранных и сделать их совершенно независимыми после избрания». Джефферсон вкладывал в понятие «народ» более широкий смысл, чем большинство его современников, — он хотел распространить право голоса «на всех, кто имеет твердое намерение проживать в стране», но он не считал, что предоставление этим людям права выбирать обе палаты ассамблеи приведет к созданию хорошего правительства. Одну палату следовало оставить для мудрейших. Но как распознать их?[1074] Идея поручить выбор сенаторов нижней палате импонировала ему, потому что, как он выразился, «выбор, сделанный самим народом, как правило, не отличается мудростью. Его первое выделение обыкновенно грубо и разнородно. Но придайте избранным таким образом возможность второго выбора — и они выберут достойных»[1075]. Пендлтон не соглашался, предпочитая вместо этого оставить верхнюю палату для людей «большого достатка», которые будут служить пожизненно. Предоставление права выбора таких людей нижней палате имело тот недостаток, что оно создавало зависимость. Выбранные таким образом, они были бы «всего лишь ставленниками этого собрания и, конечно, совершенно непригодны для исправления его ошибок или улаживания разногласий, которые время от времени возникают во всех крупных собраниях». Джефферсон не возражал Против всего этого, но и не разделял доверия Пендлтона к богатым людям. «Я не замечал, — говорил он, — чтобы честность людей возрастала с их богатством». Гораздо хуже, по его мнению, было то, что конституция Виргинии сосредоточила все властные полномочия в руках легислатуры. Через пять лет после провозглашения независимости он писал, что сосредоточивание этих полномочий «в руках одного ведомства составляет определение деспотического правительства в точном смысле этого слова». И неважно, что власть будет осуществляться не одним, а многими лицами, ибо «173 деспота, несомненно, будут угнетать так же, как один»[1076]. Тот факт, что конституция не включала положение о ее ратификации народом, являлся в глазах Джефферсона еще одним доказательством ее несовершенства. Сам конвент был обычным законодательным органом, едва ли правомочным для разработки основного закона. Тем не менее, когда он закончил свою работу, эта работа была признана конституцией. Джефферсон считал необходимым не просто реорганизовать правительство, но и изменить поддерживающее его общество. Поэтому в своих вариантах конституции он рекомендовал наделить всех неимущих лиц мужского пола участками земли в пятьдесят акров, запретить торговлю рабами, отменить смертную казнь за все преступления, кроме убийства, и гарантировать, что «все лица будут иметь полную и неограниченную свободу религиозных убеждений и что никто не будет принуждаться посещать или содержать какую-либо религиозную организацию». Ни одно из этих предложений не вошло в конституцию Виргинии. Раздосадованный осторожностью конвента, Джефферсон решил сам участвовать в работе нового правительства. Хотя конвент надеялся, что он останется в конгрессе, в сентябре 1776 года он ушел в отставку и в следующем месяце был избран фригольдерами округа Албермарл в палату горожан. В октябре 1776 года Джефферсон вынес на рассмотрение ассамблеи два важных законопроекта: один, утвержденный без проволочек, отменял майорат. Правило майората закрепляло право наследования собственности за одной конкретной линией, и для передачи этого права другим наследникам собственник должен был получить специальное разрешение законодательного органа. Близкая к майорату практика, а именно право первородства, требовала передачи имущества собственника, умершего без завещания, его старшему сыну. Джефферсон считал оба этих института феодальными пережитками, которым не было места в республиканском обществе. Каждый из них служил основой для аристократических привилегий и угрожал свободе[1077]. Хотя в октябре Джефферсон не предпринял попытки избавить Виргинию от права первородства, второй законопроект, который он предложил, подготовил почву для отмены этого права — и практически всех остальных пережитков феодального и монархического прошлого, еще тяготевших над Виргинией. Этот законопроект, который был утвержден так же быстро, как и предложение отменить майорат, вынудил палату горожан создать комитет по пересмотру и новой кодификации законов Виргинии. Считала ли палата этот пересмотр некой «революционной» мерой, то есть попыткой радикального изменения законодательства Виргинии, неизвестно. Члены комитета, учрежденного палатой, придерживались разных мнений, но они преодолели свои разногласия и приступили к работе. Комитет из пяти толковых людей в скором времени сжался до трех. Остались Эдмунд Пендлтон, спикер палаты и видный юрист; Джордж Уит, не столь известный, но замечательный ученый и юрист; и Томас Джефферсон, как раз вступавший в пору расцвета своих сил. В течение своей многолетней дружбы Пендлтон и Джефферсон во многом соглашались и во многом расходились. Поначалу они расходились во мнениях относительно задачи комитета. «Консервативный» Пендлтон, который, как заметил Джефферсон, всегда склонялся в пользу старых установлений, на сей раз предлагал отказаться от существующей системы законов и разработать абсолютно новую. Джефферсон всего лишь хотел привести законы Виргинии в соответствие с потребностями текущего момента и, по-видимому, без особого труда убедил комитет в своей правоте. То, что предлагал Пендлтон, казалось почти невозможным с учетом тех трудозатрат на исследования, разработку и убеждения делегатов, что требовались для принятия хотя бы одного закона[1078]. В июне 1779 года комитет закончил свою работу, представив на рассмотрение ассамблеи 126 законопроектов, охватывающих множество разнообразных вопросов — от институтов, необходимых для ведения войны, до таких предметов, как образование, преступления и наказания, церковь и многое другое. Некоторые прошли почти сразу — например, Билль об учреждении военного совета, но большинство из тех, которые в конце концов прошли, были приняты уже после войны, когда Джеймс Мэдисон протолкнул их через ассамблею, пока Джефферсон находился во Франции. Ассамблея никогда не голосовала по новому своду законов в целом, но рассматривала его по частям: 35 законов были приняты на сессии в октябре 1785 года и еще 23 — на осенней сессии 1786 года[1079]. Принятый закон о рабовладении был не тем, который Джефферсон надеялся провести через ассамблею и который предусматривал постепенное освобождение рабов. По мнению комитета, перспективы такого закона были настолько безнадежными, что выносить его на обсуждение не имело смысла. Но они подготовили поправку, согласно которой рабы, родившиеся после принятия закона, получали свободу по достижении совершеннолетия. После их обучения за государственный счет согласно их наклонностям рабы высылались за пределы штата и поселялись в местах, расположенных в удалении от поселений белых людей. Джефферсон выступал за колонизацию, так как считал, что черные и белые не могут уживаться. Запутанная и страшная история их взаимоотношений исключала расовую гармонию: «Глубоко укоренившиеся среди белых предрассудки, десятки тысяч воспоминаний о несправедливостях и обидах, перенесенных черными, новые обиды, реальные различия, созданные самой природой, и многие другие обстоятельства будут разделять нас на два лагеря и вызывать потрясения, которые, возможно, кончатся только истреблением одной или другой расы»[1080]. Эта поправка так и не была внесена. Ни Джефферсон, ни Мэдисон, ни другие, кто разделял их убеждение, что с рабством тем или иным образом должно быть покончено, не считали атмосферу в Виргинии благоприятной для ее принятия. В результате было одобрено возобновление старого закона против работорговли, принятого в 1778 году и предусматривавшего различные ограничения прав рабов. Они, в частности, не могли покидать плантации своих хозяев без разрешения и не могли давать показания по судебным делам, касающимся белых. Их собрания и публичные выступления также строго регламентировались[1081]. Члены комитета предложили более радикальные изменения в Билле о соотношении преступлений и наказаний. Этот законопроект, составленный Джефферсоном, являлся в равной степени научным трудом и юридическим документом. Билль сокращал количество преступлений, подлежащих смертной казни, до двух — убийства и государственной измены, а также существенно ограничивал количество преступлений, предусматривающих калечащие наказания. Но в нем был сохранен принцип талиона, или возмездия, для определенных преступлений: «Любой, кто намеренно и из злого умысла изувечит другого или обезобразит другого путем отрезания илиповреждения языка, рассечения или отрезания носа, губ или ушей, клеймения или иным образом, будет изувечен или обезображен подобным образом». Для мужчин, признанных виновными в изнасиловании, полигамии или содомии, Джефферсон предлагал кастрацию; для женщин — «прокалывание в перегородке носа отверстия диаметром не менее половины дюйма»[1082]. После отклонения билля в 1785 году Мэдисон убрал из него пункт о возмездии за нанесение увечья и в 1786 году вновь вынес его на рассмотрение, хотя оппозиция, скорее всего, не стала бы возражать против этого наказания. Зато оппозиция возразила против сокращения списка преступлений, подлежащих смертной казни, до убийства и государственной измены. Билль недобрал одного голоса. Мэдисон сообщил о его провале Джефферсону с горьким комментарием: «Ненависть к конокрадам решила судьбу билля. Наш прежний жестокий свод законов полностью восстановлен…»[1083] Не менее дорог был Джефферсону и Билль о всеобщем распространении знаний. В нем он предлагал установить несколько ступеней школьного образования за государственный счет, чтобы все дети обоих полов получали по меньшей мере трехлетнее образование. В течение этих первых трех лет в «сотне» школ должны были преподаваться чтение, письмо и счет, а также история Древней Греции, Древнего Рима, Англии и Америки. Штат также должен был основать классические школы, общим числом двадцать, где дети изучали бы латинский, греческий, английский языки, географию «и более высокий уровень численной науки». Большинство учащихся этих школ должны были получать образование за счет своих родителей, но небольшое количество способных детей из бедных семей должно было иметь возможность учиться за государственный счет. И наиболее перспективные среди бедных детей после окончания школы могли продолжать учебу в течение трех лет, опять же за государственный счет, в колледже Вильгельма и Марии[1084]. Хотя «все, как один», по выражению Мэдисона, признавали необходимость законодательного закрепления той или иной формы государственного образования, в 1786 году билль не был утвержден. Возражения, высказанные делегатами, сводились к расходам на финансирование и сомнениям в возможности эффективного управления этой иерархией школ. Несколько делегатов сослались на низкую плотность населения в ряде частей штата, а представители западных районов выразили свое недовольство в связи с неравномерным разделением на округа. Мэдисон отклонил этот последний аргумент как надуманный и, похоже, не воспринял всерьез и другие возражения[1085]. Билль провалился, возможно, еще по одной причине. Делегатам могло показаться, что он предусматривает больше социального равенства, чем того хотелось бы большинству виргинских плантаторов. Билль не предлагал сгладить социальные различия; содержавшееся в нем предложение, что править должны лучшие, имело элитистский подтекст, как подчеркивает Джулиан Бойд, редактор архивов Джефферсона. Но, предлагая, чтобы «одаренные и добродетельные» люди получали такое образование, которое позволяло бы им «блюсти священный залог прав и свобод своих граждан», билль делал оговорку, что они должны «призываться к такому служению безотносительно к богатству, происхождению или иным случайным условиям или обстоятельствам». Джефферсон полагал, что способных людей можно найти в любом социальном слое. Для того чтобы они могли исполнить свое предназначение, им следует давать образование — при необходимости за государственный счет. Если этого не делать, правительство будет состоять из недостойных — «слабых или нечестивых»[1086]. Убеждение, что лишь талантливые должны иметь власть, являлось элитистским; убеждение, что талантливых людей можно найти в любом социальном слое, таковым не являлось. Эти убеждения Джефферсона показывают, что он верил в совместимость элитизма и эгалитаризма, и средством для их совмещения служило, по его мнению, образование, финансируемое как из государственных, так и из частных источников. Большая часть джентри, видимо, не считала такое совмещение желательным. Джентри испокон веку стремилось пополнять правительство выходцами из своей среды. Все, что требовалось от кандидатов, это знатное происхождение и талант. Теперь же Джефферсон предлагал джентри довольствоваться одним талантом, допуская, что он встречается не только у богатых, но и у бедных людей. Это допущение с трудом находило одобрение у тех, кто привык считать, что это качество присуще только людям их круга. Тем не менее именно представители этого круга обеспечили Джефферсону его крупнейшую победу в Виргинии, утвердив билль об установлении религиозной свободы. Их согласие не было ни легким, ни быстрым. После провозглашения независимости все граждане Виргинии, независимо от своего вероисповедания, продолжали платить подати в пользу государственной церкви, а именно епископальной церкви, как вскоре стала называться в Америке англиканская церковь. Диссентеры, или нонконформисты, особенно пресвитериане и баптисты, теперь начали требовать, чтобы их, по крайней мере, освободили от этих податей. Легислатура скрепя сердце дала им такое освобождение на один год и возобновляла действие этой меры ежегодно вплоть до 1779 года, когда она утвердила ее в качестве постоянно действующего закона. Одновременно легислатура приостановила требование выплаты приходских податей членами государственной церкви, но не отменила их. Церковь, таким образом, осталась государственной, и общее право, разрешавшее штату наказывать людей за еретические убеждения, продолжало действовать[1087]. Война, разумеется, вызвала необходимость в поддержании добрых отношений с диссентерами, поэтому поборники официальной церкви сдерживали свои страсти вплоть до заключения мира. Патрику Генри, одному из таких поборников, эта сдержанность давалась нелегко, и в 1784 году он возобновил борьбу за церковь со вздохом облегчения. Он увидел свой шанс в законе 1776 года, где был поставлен вопрос, «должен ли закон утвердить общую подать с каждого в пользу священника, выбранного им самим, или же должно ограничиться добровольными пожертвованиями». Генри вновь поднял этот вопрос, выдвинув аргумент, что неминуемым следствием отделения церкви от государства станет моральное разложение общества. В течение какого-то времени нонконформистское духовенство находило его позицию и перспективу иметь полные сокровищницы неотразимыми. Такие видные виргинцы, как Эдмунд Пендлтон и Ричард Генри Ли, также поддерживали Генри[1088]. Миряне внутри и вне официальной церкви не разделяли пыла своих клерикальных вождей. Прихожане епископальной церкви понимали, что общая подать может лишь усилить духовенство, из которого еще не выветрился душок лоялизма. Миряне-баптисты и пресвитериане были уверены в своих собственных священниках, но с подозрением относились ко всему, что могло привести к восстановлению прежних порядков. И эти диссентеры, похоже, руководствовались тем аргументом, согласно которому религиозная свобода предполагает отказ государства от какого-либо участия в религиозной жизни. «Материалы и возражение против религиозных податей» Мэдисона содержали петицию, получившую значительную поддержку — всего было собрано 1552 подписи. В этой работе Мэдисон цитировал статью из Декларации прав, гласившую, помимо прочего, что религия может определяться «только разумом и убеждением, а не силой и насилием», и отрицавшую за легислатурой юрисдикцию в вопросах религии и убеждений. Что касается правителей, которые вмешиваются в дела церкви и религиозные убеждения, то они являются «тиранами», а люди, которые подчиняются им, соответственно являются «рабами». Вскоре стало ясно, что Виргиния не подчинится общей подати в пользу церквей, и в 1785 году закон тихо скончался, даже не удостоившись голосования[1089]. В январе следующего года ассамблея утвердила составленный Джефферсоном Билль об установлении религиозной свободы. Этот закон фактически отделял церковь от государства и ясно выражал намерение легислатуры раз и навсегда отказаться от государственной церкви. Права, отстаиваемые ассамблей, говорилось в законе, «принадлежат к естественным правам человека», и любой «акт, отменяющий настоящий или ограничивающий права, подтвержденные настоящим актом как естественные права человека, и тем самым ограничивающий действие настоящего акта, будет нарушением естественного права». Прежде чем утвердить билль Джефферсона, ассамблея убрала из него несколько самых ярких фраз, в которых автор провозглашал свою убежденность в том, что религия должна быть основана на разуме и свободном действии ума. Но она включила его утверждение, «что все люди должны быть свободны в исповедании и отстаивании в дискуссии своих религиозных взглядов и что это ни в малейшей мере не должно ограничивать, расширять или еще каким-либо образом сказываться на их гражданских правах»[1090]. Принятие конституции в 1776 году и реформаторские усилия Джефферсона позволяют сделать кое-какие выводы о характере революции в Виргинии. Деятельности Джефферсона предшествовало десятилетие протеста против посягательств британского парламента на права колоний. Практически все эти права были так или иначе связаны с властью, особенно право индивидуума давать свое согласие через своих представителей на принятие мер, влияющих на его жизнь, и право традиционных институтов на самоуправление. В течение десяти лет до 1776 года американцы демонстрировали свою преданность принципам самоуправления и в 1776 году ясно обозначили их в Декларации независимости. Джефферсон и такие думающие виргинцы, как Джеймс Мэдисон, полагали, что у Виргинии есть возможность расширить пределы свободы, заявленные в Декларации, чтобы реально повлиять на установления повседневной жизни — способы владения землей, наказания за преступления, правовой статус негров, образование молодежи, содержание церкви и свободу самовыражения. Более того, Джефферсон считал, что ассамблея должна принять меры к поощрению свободы, пока еще американцы вкладывают свой пыл в великое дело революции. Ибо, как он заметил в 1781 году, «закреплять все наши основные права законодательным путем надо, пока наши правители честны, а мы сами едины. После окончания этой войны у нас дело пойдет на спад… Поэтому народ будет забыт и его права не будут приниматься во внимание. Он и сам забудет себя, кроме единственной своей способности — делать деньги, и никогда не будет думать о том, чтобы объединиться и заставить должным образом уважать свои права. Поэтому те оковы, которые останутся, не будут сбиты после окончания этой войны и будут потом долго сковывать нас и становиться все тяжелее и тяжелее, пока наши права не будут восстановлены или не сгинут в тяжких потрясениях»[1091]. Во многих отношениях Джефферсон потерпел неудачу. Конституция 1776 года не предложила эффективного способа, с помощью которого управляемые могли бы выражать свое согласие. Рабство осталось практически таким же, каким было всегда; наказания за преступления по-прежнему представляли собой упражнения в жестокости; и государство не торопилось раскошелиться на образование для детей бедноты. То, в чем Джефферсон со товарищи преуспели (а Декларация прав, отмена майората и права первородства и билль о религиозной свободе были выдающимися достижениями), удалось им благодаря тому, что они подчеркивали связь своих реформ с великими принципами революции. В частности, успех в отделении церкви от государства был достигнут за счет демонстрации неразделимости религиозной и политической свобод. Но даже привязывание реформ к революции не всегда приводило к успеху. Джентри Виргинии при всей своей преданности республиканским принципам обычно не соглашалось с тем, что радикальное расширение сферы действия этих принципов может пойти на пользу Виргинии или революции. Джентри считали себя сердцем революции, их интересы были кровно важны для нее, их руководящая роль и власть скрепляли общество. Они привыкли к почтительному отношению со стороны низших сословий, и они не могли понять, с какой стати они должны отказываться от такого отношения. И еще они не могли понять, почему следует покончить с расовым рабством. Последнее приносило всем не меньшую пользу, чем большинство других общественных и властных институтов.IV
Люди, которым есть что терять, кроме жизни, делают один вид революции, те, кто может потерять только жизнь, — другой. Виргинцы, подобно большинству американцев, принадлежали к первым. Если бы им нечего было терять, они, возможно, не ограничились бы отделением церкви от государства, но уничтожили бы ее. Возможно, они бы не открыли доступ к земле; возможно, они бы отменили частную собственность или уничтожили класс мелких собственников. Возможно, они бы поощряли торговлю рабами и сделали институт рабства еще более бесчеловечным. Возможно, они бы ужесточили и без того уже суровый уголовный кодекс. Возможно, они бы не просто отказались от британской конституции, но и превратили конституционализм в авторитаризм. Нигде в Америке не было слишком много тех, кто считал, что им нечего терять, и нигде в Америке такие люди не пришли к власти. Неофициальные комитеты, помогавшие организовывать сопротивление Великобритании в период до провозглашения независимости, пополнились новыми людьми, которых иногда именовали «людьми со стороны». В Пенсильвании эти люди со стороны, или радикалы, приобрели больше власти, чем в любом другом месте Америки, особенно в 1776 году, когда они образовали неофициальное правительство штата и заменили законно избранную ассамблею. Эти люди уверенно встали в рядах движения против Великобритании и начали борьбу за независимость до того, как другие патриоты решились на разрыв с метрополией. Многие радикалы вдохновлялись идеями Томаса Пейна. Однако наиболее тесными узами они были связаны с фермерами, особенно на западе, и мастерами-ремесленниками — мелкими собственниками, стремившимися к тому, чтобы их желания определяли государственную политику. Главным желанием радикальных вождей и их сторонников было расширение полномочий простых людей — демократические устремления были консолидирующей силой радикального движения. Среди вожаков как минимум двое обладали большим состоянием — Джордж Брайан, торговец, и квакер Кристофер Маршалл, бывший аптекарь. Тимоти Мэтлэк был одним из тех, кто пользовался наибольшей популярностью у рабочих и ремесленников. Будучи далеко не безграмотным человеком (он выступал с докладами в Американском философском обществе), Мэтлэк не гнушался общением с людьми из низших слоев общества, варил пиво на продажу, регулярно посещал бега и выставлял бойцовых петухов. В 1775 году он был удостоен звания полковника в местном ополчении. Джеймс Кэннон, преподаватель Филадельфийского колледжа, занял видное место среди радикалов почти сразу после того, как они оформились в движение. Уроженец Эдинбурга, в 1765 году он прибыл в Америку, где, благодаря своему блестящему владению пером, в 1776 году принял участие в создании проекта конституции. Среди радикалов был по меньшей мере один странствующий агитатор — Томас Янг, сын ирландского иммигранта. В годы революции Янг появлялся во многих местах, повсюду произнося пламенные речи в защиту свободы. Радикалы также могли гордиться присутствием в своих рядах талантливого математика и искусного часовщика Дэвида Риттенхауса, прославившегося своим планетарием — механической моделью Солнечной системы. Радикалом был и Чарльз Уилсон Пил, капитан филадельфийского ополчения. Пил, в молодости работавший серебряных дел мастером и часовщиком, написал портреты многих великих революционеров. В 1776 году, оттеснив ассамблею, эти люди и иже с ними созвали конвент и составили самую демократическую конституцию своего времени[1092]. Пенсильванская конституция 1776 года отказалась от идеи смешанного правительства. Радикалы исходили из того, что интересы народа едины и что любая попытка построить правительство на любой другой посылке будет противоречить принципам республиканизма. Томас Пейн научил их, что американское общество по своей структуре отлично от европейского. Те конституции штатов, в которых была сделана попытка добиться равновесия между традиционными социальными слоями, не учитывали важных различий между Европой и Америкой. Пейн был прав в отношении американского общества: здесь не было потомственного дворянства, для которого требовалась бы своя отдельная палата в легислатуре, и, разумеется, здесь не было монарха. В других штатах проблема верхней палаты — чем она является и кого она представляет — ставила творцов конституции в тупик. Лишь Массачусетс в конституции 1780 года сделал свой сенат представителем класса крупных собственников. Виргиния так не сделала, несмотря на все настояния Эдмунда Пендлтона. Джефферсон, безусловно, представлял себе сенат как более мудрое собрание, чем палата горожан. По его мнению, сенат должен был не столько представлять общественные интересы, сколько служить вместилищем благоразумия. Большинство штатов постепенно пришло к тому пониманию роли сената, на каком настаивал Джефферсон. Сенат должен был удерживать нижнюю палату от опрометчивых действий. Примерно такое рассуждение приводилось в качестве обоснования двухпалатной системы. Если воспользоваться фразой, которая в скором времени стала расхожей, две палаты должны были сдерживать и уравновешивать одна другую. Главный недостаток однопалатной легислатуры заключался как раз в отсутствии равновесия. Какие бы меры защиты от злоупотребления легислатурой своей властью ни были вписаны в конституцию, на самом деле имелся лишь один способ удержать ее, если бы она вдруг решила нарушить конституцию. И этот способ состоял в создании второй палаты, наделенной сопоставимыми полномочиями и способной нейтрализовать первую палату, если бы та возжелала отменить конституцию или действовала вопреки общественным интересам[1093]. Ни один из этих доводов не мог убедить радикалов Пенсильвании в необходимости смешанного правления, и конвент, в котором они преобладали, утвердил однопалатную легислатуру. Радикалы прилагали все усилия к тому, чтобы генеральная ассамблея, как именовалась легислатура, оставалась близкой к народу и никогда не выходила из-под его контроля. Во-первых, ассамблея должна была избираться налогоплательщиками мужского пола. Ее члены не могли служить более четырех лет в пределах любых семи; они должны были баллотироваться на выборах ежегодно; они должны были давать присягу, что будут защищать интересы народа; и их заседания должны были быть открыты для общественности. Конституция также устанавливала процедуру, с помощью которой народ мог получать как можно больше информации о предлагаемых законопроектах. Все законопроекты подлежали публикации «для их рассмотрения народом, прежде чем они будут в последний раз прочтены в генеральной ассамблее с целью их обсуждения и исправления». Генеральная ассамблея не могла придавать биллям законную силу вплоть до окончания сессии, проводимой после их публикации[1094]. Все ветви власти, кроме генеральной ассамблеи, были слабыми. Президент и высший исполнительный совет представляли исполнительную власть, но не имели права вето в отношении законопроектов, да и вообще имели очень мало власти. Полномочия судов также были ограниченными. Для усиления гарантии прав граждан конвент вставил в конституцию билль о правах. Эта часть документа была почти полностью списана с виргинской Декларации прав. Но радикалам было этого мало. Для защиты прав народа и конституции они создали так называемый совет цензоров, моделью для которого послужили спартанские эфоры и римские цензоры и функция которого состояла в обзоре работы правительства каждые семь лет. Совет цензоров, выборный орган, мог созвать новый конвент, если он считал необходимым внести поправки. В Пенсильвании демократический импульс приобрел такую силу, какой у него не было ни в одном другом штате. Однако его отражение в конституции 1776 года встретило яростную оппозицию. Хотя постоянными темами политических дебатов 1780-х годов были экономика и Банк Северной Америки, главным предметом споров оставалась конституция. Вокруг конституции образовались две группировки, достигшие высокого уровня организованности — ее противники, республиканцы, и ее защитники, конституционалисты. Раскол между двумя группами не имел классовой основы, хотя между ними существовал значительный социальный антагонизм. Среди республиканцев было больше деловых людей, купцов, торгующих с зарубежьем и с другими колониями, чем среди конституционалистов, но в обоих лагерях были представлены самые разнообразные группы населения. Квакеры выступали категорически против конституции, ибо содержавшиеся в ней требования о присяге закрывали им путь в генеральную ассамблею, и закон с аналогичными требованиями к избирателям, принятый вскоре после вступления конституции в силу, фактически лишал их голосов избирателей. Отношение к конституции других религиозных групп было менее определенным.V
Разногласия вокруг конституций не определяли политику в остальных штатах в 1780-е годы. В большинстве своем эти конституции пытались обеспечить равновесие ветвей власти и в то же время ограничить исполнительную власть. Чаша весов почти всегда склонялась в сторону легислатуры. Все эти конституции предусматривали двухпалатную систему и обеспечивали сильное народное представительство хотя бы в одной из палат — но обычно в обеих. Право голоса почти повсюду оставалось обусловленным недвижимой собственностью, при этом большинство лиц мужского пола, по-видимому, получали право голоса. Безземельные, которые не могли получить право голоса, полностью доверяли выбору своих помещиков. К 1787 году конституционная структура большинства штатов казалась прочно установленной. Исключением был демократический строй Пенсильвании — исключением, обращавшим на себя внимание людей, которые стремились усилить Союз. Все то хорошее, чему мог научить опыт других штатов, отсутствовало в Пенсильвании, где демократия порождала рознь и разделение. Тем не менее новая конституция для Конфедерации, несомненно, должна была исходить от народа. Революция велась во имя естественных прав человека. Какой объем демократии требовался для реализации этих прав? Удовлетворительного ответа на этот вопрос не могли дать ни Пенсильвания, ни Виргиния. Не могли и «Статьи конфедерации». Они представляли собой конституцию в самом неопределенном смысле — они устанавливали основной закон, но не определяли демократическое правительство. «Статьи» не регламентировали ни исполнительную, ни судебную власть. Конгресс сам по себе имел мало полномочий. Он не мог взимать налоги, не мог регулировать торговлю, за исключением торговли с индейцами. Вообще, он мог делать очень мало из того, что делают традиционные правительства. Американским народом управляли органы штатов и местные власти. И американский народ не избирал представителей в конгресс — за него это делали легислатуры штатов. К концу войны нежизнеспособность «Статей» стала очевидной. Тем не менее в течение большей части 1780-х годов они не подвергались пересмотру. Не подвергались потому, что американцы не могли найти способ согласования подчинения местным властям с централизованным прарлением. Одна из главных сильных сторон американцев — их провинциализм — ослабляла их в войне, и она парализовала их попытки управлять собой после заключения мира. Кроме того, борьба с Великобританией убедила их, что неограниченная власть неизменно стремится уничтожить свободу. Меры, направленные на централизацию власти, могли бы решить часть проблем управления, но они также могли поставить крест на американской свободе. Что в таком случае можно было сделать в 1787 году? За период после 1781 года у американцев на многое открылись глаза. «Статьи конфедерации» не годились. Конституции штатов, несмотря на то что в них было реализовано много мудрых политических идей, не годились — по крайней мере, сами по себе. Надо было что-то делать. В противном случае конфедерация маленьких суверенных республик — островок радикализма в море монархий — могла рухнуть или быть завоеванной. Найти нужные решения был призван Конституционный конвент. Для него требовались делегаты с воображением и дерзновением. С наступлением весны 1787 года американцы, естественно, начали думать о том, кого послать в Филадельфию и что поручить своим делегатам.25. Конституционный конвент
I
Делегаты на Конституционный конвент тянулись в Филадельфию на протяжении большей части мая 1787 года. Легислатуры штатов назначали делегатов без лишней спешки, и те, кто был избран, добирались по ухабистым дорогам медленно и трудно. В день, на который было намечено открытие конвента (14 мая), собралась лишь горстка делегатов. Задержка с открытием конвента удручала тех из них, кто был настроен на крупные реформы, поскольку наводила на подозрения, что другие не разделяют их намерений. Джеймс Мэдисон, прибывший раньше остальных и мечтавший о переходе к мощному центральному правительству, не поддавался унынию. Он тщательно подготовился к этому собранию и не собирался упускать возможность реализовать свою мечту. Мэдисону было 36 лет, это был низкорослый худощавый мужчина с пробивающейся лысиной. Некоторые историки описывают его как личность интровертивного склада, типичного сухого интеллектуала. Близкие друзья знали его лучше, и их рассказы рисуют его таким же, каким он предстает в своей переписке: человеком энергичным и остроумным, исполненным сильных страстей и глубоких убеждений. Его привязанность к родной Виргинии не мешала ему любить Союз. Однако эта любовь не была свободной от ненависти и страха: он ненавидел бумажные деньги и опасался фантастических прожектов должников, более же всего он боялся тирании большинства и ее всегдашнего порождения — анархии. Но политическую свободу Мэдисон любил еще больше, и хотя он не любил народ, ибо хорошо узнал его за годы государственной службы, он считал, что политическая свобода может выжить в республике лишь при условии справедливого народного представительства. Игнорируемый или разочарованный народ будет продолжать делать то, что он делал на момент созыва конвента — посягать на права собственности. Мэдисон размышлял о правительстве больше, чем любой другой делегат конвента, и его решимость отстаивать свои взгляды в предстоящих политических баталиях граничила с фанатизмом[1095]. Через десять дней после Мэдисона прибыл Джордж Вашингтон — он въехал в город на коне под звон колоколов и восторженные крики соотечественников. Уговорить его приехать, похоже, было нелегко, так как после восьми лет самоотверженного служения своей стране он дорожил каждой минутой личной жизни. Нежелание Вашингтона покидать Маунт-Вернон было естественным, но он также хотел участвовать в создании национального правительства. Главная трудность для него и его друзей заключалась в его огромной популярности, которую они защищали от всех возможных опасностей. В конечном счете именно забота о своей репутации заставила его приехать в Филадельфию после своего изначального отказа от назначения в виргинскую делегацию. Его беспокоило, как он писал Генри Ноксу, обращаясь к нему за советом, не будет ли его «непосещение этого конвента расценено как пренебрежение республиканизмом или, что еще хуже, не будут ли приписаны (пусть даже несправедливо) другие мотивы» его отказу приложить усилия в поддержку конвента на предстоящем собрании. Нокс, Мэдисон и Эдмунд Рэндольф — все уговаривали его принять участие в конвенте, хотя Мэдисон впоследствии пожалел об этом. Авторитет Вашингтона был несравненно выше, чем у любого другого американца, и конституция, принятая с его благословения, несомненно, получила бы одобрение многих его соотечественников[1096]. Вашингтон не предлагал ни четко сформулированного плана правительства, ни сколько-нибудь внятной политической философии. Он не был силен как теоретик, но он был глубоко убежден в необходимости усилить Союз, и это убеждение основывалось на глубоком знании характера американцев и их институтов. Кроме того, у него был многолетний опыт работы с конгрессом. И наконец, он был непоколебимым республиканцем, о чем в первую очередь свидетельствовало его самоотверженное служение делу революции. К 17 мая собралась вся делегация от Виргинии. В ее состав входили Джордж Уит, у которого Джефферсон изучал право, ученый и мудрый человек, которому почти сразу пришлось вернуться домой в связи с болезнью жены; Джон Блэр, судья; Джон Макклерг, врач; и два крупных плантатора. Ими были Эдмунд Рэндольф, губернатор штата, член влиятельной семьи и человек выдающихся способностей и непредсказуемых суждений; и Джордж Мейсон, чье имение располагалось по соседству с имением Вашингтона на реке Потомак, умный, порой эксцентричный человек, чьи мнения были еще менее предсказуемыми, чем у Рэндольфа, несмотря на тот факт, что он написал виргинскую Декларацию прав и значительную часть конституции штата 1776 года, то есть был автором документов, пронизанных принципами республиканской свободы[1097]. Все эти люди собирались как делегация еще до начала работы конвента. На этом настоял Мэдисон, стремившийся получить предварительное одобрение своему плану по формированию нового правительства. Трое из виргинцев, как он считал, должны были сыграть особенно важную роль в конвенте. Одним из них был Джордж Вашингтон, разделявший стремление Мэдисона к созданию национального союза, обладающего большой властью; другими были Джордж Мейсон и Эдмунд Рэндольф, которые были недовольны имеющимся правительством, но еще не решались одобрить изменения, предлагавшиеся Мэдисоном. Пока виргинцы дискутировали в своем кругу, в Филадельфию продолжали стекаться другие делегаты, и, когда наконец 25 мая были представлены семь штатов, конвент открылся. Еще через несколько дней каждая из делегаций оказалась практически в полном составе и в городе присутствовали представители всех штатов, за исключением Нью-Гэмпшира и Род-Айленда. В работе конвента участвовали в общей сложности 55 человек, хотя часть из них покинули Филадельфию до его закрытия в сентябре. Кем были эти люди по своему роду занятий и социальному положению? По меньшей мере 34 из них получили юридическое образование и 21 имел адвокатскую практику. Среди делегатов было восемнадцать плантаторов и фермеров, девятнадцать рабовладельцев, семь купцов и еще восемь адвокатов, тесно связанных с коммерцией. Многие из этих людей были должностными лицами, служили в конгрессе и были ветеранами Войны за независимость. Эта краткая характеристика вызывает в уме собрание уважаемых граждан, зажиточных людей, политических и общественных вождей, что, безусловно, соответствует действительности. Однако среди них было совсем немного твердых консерваторов, если считать, что консерватизм предполагает склонность к сопротивлению изменениям. Кроме того, делегаты были сравнительно молодыми людьми, большей частью в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, за редкими исключениями[1098]. Одним из исключений был Бенджамин Франклин, которому был 81 год и который уже не мог похвалиться хорошим здоровьем. Он и еще семь делегатов представляли Пенсильванию. По идее, наибольшим авторитетом в этой группе должен был пользоваться Роберт Моррис, обладавший выдающимися способностями. Однако известно, что на заседаниях конвента Моррис хранил молчание, и у нас нет свидетельств, что он козырял своим авторитетом в гостиницах и тавернах, где проходили кулуарные совещания. Вашингтон квартировал у Морриса и его жены в течение всего времени работы конвента, и эти двое, должно быть, ежедневно обсуждали происходящее. Однако Моррис не внес сколько-нибудь значительного вклада в работу, результатом которой стала конституция[1099]. За него это сделал его коллега Джеймс Уилсон, чью роль в работе конвента затмил один лишь Мэдисон. Уилсон был юристом и отличался большой ученостью. Он родился в шотландском графстве Файфшир в 1742 году в семье мелкого фермера. Его родители прочили его в священники и отправили его для получения соответствующего образования в Сент-Эндрюсский университет. Но у Уилсона оказались свои планы, и в 1765 году он эмигрировал в Америку, где сперва преподавал в Филадельфийском колледже, затем проходил стажировку в адвокатской конторе Джона Дикинсона, а спустя два года открыл собственную практику в Рединге. Его блестящий памфлет «Рассуждение о природе и размере законодательного влияния британского парламента», опубликованный в 1774 году, характеризует его как мыслителя с большой силой воображения, которому было суждено сослужить хорошую службу американской стороне в ее борьбе с Великобританией. Уилсон был членом конгресса, где стал одним из подписантов Декларации независимости; кое-кто считал, что он подписал ее против своей воли. Однако патриотом он стал не против своей воли, как и сторонником прав простых людей, несмотря на свой вкус к богатой жизни и потребность в высоких доходах[1100]. В конвенте Уилсон выказал себя сторонником демократического национализма. Его убеждения были отчасти обусловлены его оптимистическим темпераментом, но, пожалуй, в еще большей степени его искренней и глубокой верой в идеи шотландского Просвещения. Главный постулат этой интеллектуальной ветви, иногда именуемой философией здравого смысла, гласил, что здравый смысл является надежным средством постижения истины. В отличие от Дэвида Юма, представители этой школы верили в надежность человеческой интуиции и считали, что, поскольку интуиция не присуща одним лишь знатным и богатым, но справедливо распределена среди народа, доброго и добродетельного по своей природе, народ должен быть наделен властью. То есть сама нравственность требовала, чтобы народ принимал участие в управлении самим собой. Уилсон не был бескорыстным энтузиастом — он ценил спокойствие и предметы материального мира. Он оставался близким другом Джона Дикинсона, отказавшегося подписать Декларацию, и Роберта Морриса, который платил ему за его юридические услуги. Но когда Уилсон участвовал в работе конвента, он не шел ни у кого на поводу и отстаивал свои собственные твердые политические убеждения. В состав делегации от Пенсильвании входили и другие люди с высокой репутацией: Томас Миффлин, ни разу не открывший рта в конвенте, и Гувернер Моррис, ни разу не закрывший рта (в конвенте он обычно принимал сторону Мэдисона и Уилсона)[1101]. Делегатами от близлежащего Нью-Йорка были Александр Гамильтон, Джон Лансинг-младший и Роберт Йетс. Двое последних покинули собрание в середине июля и отказались возвращаться. Гамильтон мог сыграть важную роль, но не сделал этого, хотя и произнес блестящую речь в пользу конституционной монархии. Джон Дикинсон представлял Делавэр, а Уильям Патерсон — «темная лошадка», за короткое время получившая большую известность, — руководил делегацией из Нью-Джерси. Элбридж Джерри, Руфус Кинг и Натаниэль Горэм, все трое толковые люди, представляли Массачусетс. Наиболее внушительными делегатами от южных штатов были виргинцы, но делегаты от Южной Каролины — Джон Ратледж, Чарльз Коутсуорт Пинкни, Чарльз Пинкни и Пирс Батлер — тоже обладали прекрасными способностями. Делегация от Мэриленда состояла из одного человека, отличавшегося удивительным умением раздражать окружающих, — это был Лютер Мартин, зануда и догматик. Вплоть до середины июля, когда был достигнут так называемый Великий компромисс, делегаты распадались на две основные группы, представляющие два вида государственных интересов. Эти альянсы сложились практически сами собой, без усилий и без умысла. Они, по-видимому, были неизбежными, поскольку были вызваны давно сложившимися политическими и экономическими обстоятельствами; по меньшей мере, одно из них было санкционировано самой революцией — равенство штатов в конгрессе, существовавшее с момента образования этого органа. Традиция наделения каждого штата только одним голосом, независимо от численности его населения, соблюдалась во всех революционных собраниях. Малые штаты — Делавэр, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд и Нью-Йорк — по понятным причинам сопротивлялись отказу от этой привычной практики. Традиция отвечала их интересам. Большие штаты, население трех из которых — Виргинии, Пенсильвании и Массачусетса — составляло почти половину всего американского народа, естественно, выступали за представительство, пропорциональное численности населения. Эти две ориентации — одна на старую практику, другая на отказ от нее — служили главным источником разногласий в конвенте[1102]. Политические интересы не существовали отдельно от других, и разные экономические интересы почти неизбежно могли быть согласованы на общей политической платформе. Проще говоря, деловые люди в Пенсильвании и Массачусетсе, включая купцов и мануфактуристов, ведущих дела с зарубежными странами, разделяли желание виргинских и каролинских плантаторов иметь представительство, пропорциональное численности населения. Эти штаты, особенно Виргиния и Пенсильвания, обладали огромным количеством невозделанных земель, и превращение этих земель в сельскохозяйственные угодья усилило бы политические позиции этих штатов в конгрессе, если бы был введен принцип представительства пропорционально численности населения. Аналогичная озабоченность двигала Южной Каролиной и Джорджией, двумя штатами с незаселенными окраинными территориями, которые они надеялись превратить в цветущий край. У этих южных штатов был еще один предмет для озабоченности — рабство, институт, который они надеялись сохранить. Многие жители малых штатов также были заинтересованы в западных землях. В частности, земельные спекулянты из Нью-Джерси владели правом собственности на часть земель на Западе, основанным на их сделках с индейцами. Когда Виргиния заявила свои права на северо-запад, эти люди, обычно организованные в компании, пытались отстоять свои интересы. Контроль над национальным правительством или получение веского голоса в нем, несомненно, давались бы легче при условии сохранения равного представительства от всех штатов. Земельные спекулянты пользовались большим влиянием также и в Коннектикуте, который издавна заявлял свои права на долину Вайоминг в Пенсильвании. Попытка захвата была нейтрализована специальным федеральным указом, но это не остановило штат в его захватнических устремлениях, и ему в конце концов удалось получить так называемый Западный резервный район — территорию у Великих озер, достаточно крупную, чтобы удовлетворить аппетиты спекулянтов[1103]. Практически все малые штаты хотели иметь западные земли. Западные земли, находящиеся под государственным управлением, можно было бы продать с целью погашения государственных долгов. Необходимым условием для обеспечения этого счастливого события казалось равное представительство в конгрессе. Малые штаты были настроены против сильного национального правительства, находящегося под контролем крупных штатов, так как боялись, что оно лишит их шанса иметь доходы с западных территорий, а их ветеранов — иметь свою землю. И равное представительство штатов было, по их мнению, единственным условием, которое могло бы помешать большим штатам становиться еще больше за счет малых штатов путем привлечения фермеров обещаниями низких налогов на западе. Большие и малые штаты, впрочем, имели и общие причины выступать за создание мощного центрального правительства. И те и другие были заинтересованы в регулируемой торговле; и те и другие боялись восстаний, подобных восстанию Шейса, которые могло бы предотвратить или быстро подавить только национальное правительство; и те и другие нуждались в твердых государственных финансах и защите прав кредиторов; и те и другие понимали, что национальное правительство способно стимулировать экономику; и те и другие осознавали необходимость защиты республики от посягательств хищных монархических государств. И наконец, и те и другие состояли из граждан, которые вместе сражались за славное дело. Такой способ описания штатов, будто они являются живыми людьми, наделенными сознанием и чувствами, до определенного момента неизбежен и даже полезен, но иногда он искажает положение дел. Если сказать, что Мэриленд или Нью-Джерси имели планы на западные территории, может создаться впечатление, что в каждом из этих штатов все жители мыслили одинаково. Подобные планы имелись у земельных компаний в каждом из них, и благодаря силе этих компаний их желания порой могли производить впечатление политики, проводимой штатом. Но в каждом из этих штатов имелись также и люди, которым не было дела до западных земель или которые презирали земельные компании. Упоминать штаты таким образом, словно они являются живыми людьми, неправильно еще по одной причине: ни один штат не заседал в конвенте; этим занимались делегаты. Говорить, что Виргиния в конвенте отстаивала интересы землевладельцев, уместно с точки зрения краткости и во многих отношениях не искажает истину. Но делегаты в Филадельфии принимали сотни решений, поскольку, с одной стороны, они представляли разнообразные, порой взаимопротиворечащие интересы своих штатов, с другой — выступали от своего имени. Отношение между тем, что воспринималось как интерес штата, и решением делегата по какому-либо государственному вопросу — скажем, должен ли президент служить четыре года или шесть или должен ли он избираться конгрессом или гражданами — редко бывает ясным. Единственное, что мы можем вынести из большинства решений относительно структуры правительства и его полномочий, это позиции делегатов и то, как их позициивыражали интересы основных социальных и экономических групп в их штатах. Мы, однако, не должны допускать, что мнения делегатов были предопределены, и не должны сбрасывать со счетов способность дискуссии изменять мнение человека. Конвент длился почти четыре месяца. За это время он выработал свои собственные силы, главным образом за счет дискуссий и прений. Во всех этих обсуждениях участвовали не только здравый смысл и интеллект, но также безрассудство и страсть, случайность и непредсказуемость.II
За первые четыре дня после открытия конвент выбрал Джорджа Вашингтона своим председателем и Уильяма Джексона, бывшего помощника военного министра, секретарем. Он также утвердил регламент своей работы, подготовленный комитетом в составе Джорджа Уита, Александра Гамильтона и Чарльза Пинкни. Конвент решил сделать свои заседания закрытыми — мудрое решение, обеспечивавшее возможность откровенности и маневрирования, двух условий, необходимых для сглаживания различий, которые наметились уже в полномочиях делегаций, зачитанных перед конвентом. Делавэр, например, уполномочил своих делегатов не соглашаться на любую систему, отрицающую принцип равного представительства штатов в конгрессе[1104]. Эдмунд Рэндольф 29 мая представил конвенту документ под названием «План Виргинии». Рэндольф пел свою песню — музыка и слова Джеймса Мэдисона — в темпе, подобающем для заупокойной мессы. Текущее положение Америки, как было дано понять конвенту, оставляет желать лучшего. Рэндольф, по сути, заявил, что существующий кризис сулит исполнение давнишних предсказаний американского краха. Чтобы предотвратить этот крах и предупредить анархию (в его речи подразумевалось, что между этими двумя явлениями нет никакой разницы), необходимо изменение в системе правления — вывод, вряд ли удививший почтенное собрание. «Изменение», предложенное в «Плане Виргинии», подразумевало, что «Статьи конфедерации» должны быть отменены, хотя первая резолюция, предложенная Рэндольфом, просто гласила, что они подлежат «исправлению и расширению». За этой резолюцией следовали еще четырнадцать, в которых была изложена структура мощного центрального правительства. Главным органом этого правительства должна была стать «национальная легислатура», состоящая из двух палат, одна из которых избиралась населением, другая — полномочными представителями легислатур штатов. Эта национальная легислатура должна была избирать исполнительную и судебную власти. Ее законодательные полномочия должны были включать все полномочия конгресса конфедерации плюс общее право «осуществлять законодательную власть во всех случаях, когда отдельные штаты являются некомпетентными, либо когда согласие между Соединенными Штатами может быть нарушено осуществлением индивидуальных законодательных полномочий». Кроме этого общего права легислатура наделялась правом «отменять любые законы, принятые несколькими штатами, если эти законы, по мнению национальной легислатуры, противоречат статьям Союза». Национальная легислатура, по сути дела, наделялась правом решать, в каких случаях новая конституция нарушается законами штатов, и накладывать на них вето. Национальная легислатура наделялась огромными полномочиями, но ее власть не была абсолютной: в качестве необходимого противовеса «План Виргинии» предусматривал создание ревизионного совета, состоящего из представителей исполнительной власти и «подходящего количества» судей, которые могли налагать вето на принятые легислатурой законы. И все же последнее слово оставалось за национальной легислатурой, ибо она могла проводить законы, минуя вето совета[1105]. Десятая резолюция «Плана» предусматривала прием в Союз новых штатов, а одиннадцатая гарантировала республиканское правление как в старых, так и в новых штатах. Четырнадцатая резолюция требовала от официальных лиц штатов принятия присяги о поддержке новой конституции, и последняя резолюция предусматривала созыв специальных конвентов штатов для ратификации новой конституции. На следующий день после представления «Плана Виргинии», 30 мая, конвент преобразовался в комитет полного состава, чтобы иметь возможность вести обсуждения и принимать решения, не стесняя себя довольно жестким регламентом, утвержденным ранее. За следующие две недели делегаты убедились на собственном опыте, насколько большое значение для совещательных органов имеет тщательная подготовка. Ибо блестящая подготовка виргинцев и глубоко продуманный план формирования правительства, который они предложили своим коллегам, предоставили им инициативу. Виргинские делегаты установили сроки обсуждений, и в течение этих двух недель они и их сторонники из больших штатов нагнетали темп обсуждений и фактически верховодили в конвенте. Их оппоненты из малых штатов оказались в обороне, вынужденные обсуждать темы, предлагаемые большими штатами, и фактически лишенные возможности выносить на обсуждение свои собственные вопросы. Это, впрочем, не означало, что в эти первые дни собрания большие штаты всегда могли настоять на своем или что между ними самими не было никаких разногласий. Как только комитет полного состава приступил к рассмотрению «Плана Виргинии», Гувернер Моррис предложил «отложить» первую резолюцию — ту, согласно которой конвент должен был исправить и расширить «Статьи конфедерации». Моррис и все остальные поняли, что Рэндольф предложил нечто гораздо большее, нежели исправление и расширение, и теперь он сам был вынужден это признать. Вместо первой резолюции он внес три предложения, из которых вытекало, что в случае принятия «Плана Виргинии» суверенитет штатов будет заменен национальным суверенитетом. Комитет облегчил «Плану» путь через эту мель, согласившись с созданием национального правительства, состоящего из «высшей» законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. После чего план заплыл по-настоящему в опасные воды такого вопроса, как представительство в легислатуре. Согласно «Плану Виргинии», штаты должны были направлять в легислатуру своих представителей в количестве, пропорциональном численности их населения. Использованная для этого формула была выведена Мэдисоном в 1783 году, когда, работая над регламентацией финансовых взносов штатов в конгресс, он предложил считать пятерых рабов за троих свободных граждан. Комитет не успел приступить к обсуждению представительства, как Джордж Рид из Делавэра напомнил собранию, что комиссия его штата запретила своим делегатам соглашаться на любое отступление от принципа равного представительства штатов. Если конвент откажется от этого принципа, заявил Рид, ему и его коллегам придется покинуть конвент — угроза, которая, бесспорно, возмутила людей, настроенных на серьезное обсуждение проблемы. Но тактический ход Рида сработал, и конвент решил отложить тему представительства на несколько дней[1106]. Практически все остальные предложенные Рэндольфом резолюции были обсуждены за две недели. Вопрос о том, как должна избираться первая ветвь — нижняя палата, был вынесен на рассмотрение 31 мая и решен в пользу населения. Сразу после этого возникли разногласия по вопросу о выборах верхней палаты. В течение следующих двух дней комитет занимался вопросом исполнительной власти и не мог прийти ни к чему определенному. Сколько должно быть органов исполнительной власти — один или много? Единственный орган исполнительной власти отдает монархией, как считал Рэндольф, подчеркивая, что народу противна «одна только видимость монархии». Двумя днями позже Джеймс Уилсон подверг доводы Рэндольфа в пользу нескольких органов исполнительной власти резкой критике, подчеркнув, что эти доводы не являются реальными возражениями против единственного органа исполнительной власти, но всего лишь выражают опасения их автора по поводу того, что скажет народ. «Всем известно, — заметил Уилсон, — что единственный чиновник — это еще не король». Наиболее красноречивым опровержением, высказанным Уилсоном, было его напоминание о том, что все штаты в своих недавно принятых конституциях сделали выбор в пользу единственного органа исполнительной власти. Голосование, последовавшее за речью Уилсона, подтвердило его правоту — семь к трем в пользу единственного органа[1107]. Пункт о судебной власти поднял трудные вопросы, особенно вопрос о способах назначения, и комитет счел за благо отложить рассмотрение этого пункта до лучших времен. Зато он довольно легко пришел к согласию о том, что в новую конституцию следует включить справедливый способ приема новых штатов, после чего приступил к обсуждению вопроса о ратификации различных преобразований, которые мог бы предложить конвент. В течение следующих нескольких дней комитет конкретизировал соглашения, достигнутые на предыдущей неделе, принял решение пересмотреть старые «Статьи конфедерации», касающиеся правительства, постановил гарантировать всем штатам республиканскую форму правления и потребовать от официальных лиц штатов поддержки новой конституции. Он также одобрил ратификацию конституции специальными конвентами штатов — метод, предложенный в «Плане Виргинии». К 13 июня комитет закончил свою работу и доложил о результатах конвенту. Результаты в основном были в пользу «Плана Виргинии», за исключением ревизионного совета, который большинство депутатов посчитали нелепой выдумкой, не сулившей ничего хорошего. Зато почти безумное предложение Мэдисона наделить конгресс правом налагать вето на законы штатов в «Плане» сохранилось. Принцип равного представительства штатов в конгрессе не пережил дебатов, состоявшихся после того, как комитет порекомендовал назначать представителей в обе палаты пропорционально численности населения, считая одного раба за три пятых человека[1108]. Представительство и способы выбора представителей были такими темами, которые едва не блокировали работу комитета полного состава. Большие штаты гнули свою линию, в то время как малые метались из стороны в сторону, безуспешно пытаясь сплотиться. Единственное, что им удалось, это добиться замены способа выборов, рекомендуемого в «Плане Виргинии», на избрание второй палаты легислатурами штатов[1109]. Хотя в протоколах дебатов ничего об этом не говорится, тема представительства в конгрессе и тема выбора его членов, вероятно, были тесно связаны между собой в умах делегатов. Если бы обе палаты избирались населением, о чем мечтал Джеймс Уилсон, против назначения представителей населением было бы практически нечего возразить. Поэтому дебаты о выборах нижней палаты заключали в себе исключительный, хотя и не высказанный, смысл. Этот смысл фактически прозвучал в следующем предложении речи Роджера Шермана из Коннектикута, направленной против народного голосования: «Если бы планировалась отмена правительств штатов, выборы могли бы быть только народными». Иначе говоря, если правительства штатов планировалось сохранить, то именно они должны были избирать членов национального правительства. Еще в первые дни работы конвента Шерман продемонстрировал свое крайнее предубеждение против народа, заявив, что тот «должен как можно меньше касаться дел правительства. Он жаден до известий, поэтому его легко ввести в заблуждение». Позднее, когда правам штатов уже ничто не угрожало, Шерман относился к идее народного управления с гораздо большим сочувствием, чем можно было бы судить по этим первым заявлениям[1110]. Союзник Шермана в противостоянии народным выборам Элбридж Джерри из Массачусетса, похоже, был настроен против таких выборов по другим причинам, нежели Шерман. Джерри, осуждавший дух уравнивания, просто заявил, что «бедствия, которые мы испытываем, проистекают от избытка демократии»[1111]. На следующий день после того, как комитет полного состава представил результаты своего пересмотра «Плана Виргинии», Уильям Патерсон из Нью-Джерси встал и обратился к конвенту с просьбой сделать перерыв на один день, чтобы дать нескольким делегациям время доработать свой «чисто федеральный» план. Конвент объявил перерыв, и на следующий день, 15 июня, когда Патерсон представил конвенту «План Нью-Джерси», значение слов «чисто федеральный» стало предельно ясным. План Патерсона — плод совместных усилий делегатов от Делавэра, Нью-Йорка, Коннектикута, Мэриленда и, разумеется, Нью-Джерси — включал несколько пунктов, явно заимствованных из «Плана Виргинии», но подразумевавших сохранение основной структуры старой конфедерации — однопалатного конгресса с равным представительством штатов. Конгресс назначал коллегиальный орган верховной исполнительной власти, который, в свою очередь, назначал верховный суд с довольно ограниченной юрисдикцией. Сохранение равного представительства штатов было первоочередной задачей делегации от Нью-Джерси и тех делегаций из других штатов, которые принимали участие в составлении альтернативы «Плану Виргинии». Эти штаты не возражали против центрального правительства, наделенного обширными полномочиями — «План Нью-Джерси» гласил, что все законы, издаваемые конгрессом, «и все договоры, заключенные и ратифицированные под эгидой Соединенных Штатов, являются высшим законом для соответствующих штатов в той степени, в какой эти законы или договоры относятся к упомянутым штатам или их гражданам». Если какой-либо штат стал бы отказываться соблюдать какой-либо закон или договор, орган исполнительной власти был бы вправе принудить его к соблюдению. И сам конгресс получал новые права, особенно в области налогообложения и регулирования торговой деятельности[1112]. В первой резолюции «Плана Нью-Джерси» констатировалось, что последующие резолюции являются мерами по «пересмотру, исправлению и расширению» «Статей конфедерации» — красивый (и коварный) прием, заимствованный из первого варианта плана Рэндольфа. Поскольку план Патерсона предусматривал расширение «Статей», он, несомненно, должен был получить одобрение конгресса и легислатур штатов. В «Плане Нью-Джерси» не содержалось ничего, что было бы рассчитано на возбуждение демократических симпатий. Патерсон описывал свой план во взвешенной манере. Его план не подразумевает, говорил он, никакого нарушения доверия народа; он «согласуется с полномочиями конвента» и «настроениями народа». В этой части своей речи Патерсон имел в виду, что одобрение конвентом «Плана Виргинии» с предложенной в нем свежей структурой и требованием ратификации новой конституции народом граничит с революционным действием. Его план, напротив, не представлял никакой угрозы конституционализму или общественному доверию[1113]. Комитет полного состава выслушал речь и все понял. За следующие три дня Джеймс Уилсон сравнил оба плана и высказал мнение, что легислатура, состоящая всего из одной палаты, порождает «законодательный деспотизм». «Когда законодательная власть не ограничена, — сказал он, — не может быть ни свободы, ни стабильности, а единственный способ ограничить ее — это разделить ее в пределах ее самой на отдельные и независимые ветви. В однопалатной легислатуре отсутствует контроль, а тот, что присутствует, является неполноценным, так как зависит исключительно от доброй воли и здравого смысла тех, из кого она состоит». По поводу мнения Патерсона, что «План Виргинии» выходит за пределы компетенции конвента, Уилсон заметил, что конвент не может «ничего решать», но «вправе предлагать все, что угодно»[1114]. Эти аргументы нашли благодарных слушателей в больших штатах. Но еще оставалось выделить основное различие между двумя партиями сторонников, и это сделали Чарльз Пинкни и Джеймс Мэдисон. «Вся проблема», согласно Пинкни, сводилась к следующему: «дайте Нью-Джерси равное представительство, и этот штат отбросит все угрызения совести и сойдется во мнениях с национальной системой». Мэдисон, который выступил 18 июня, на следующий день после того как Гамильтон произнес свой длинный и неуместный панегирик выборной монархии, подчеркнул, что Нью-Джерси и другие штаты с аналогичной точкой зрения рано или поздно пожалеют о своем отстаивании принципа равного представительства штатов. Перспектива образования на Западе многих новых штатов должна заставить Нью-Джерси призадуматься; эти штаты, вне всякого сомнения, вступят в Союз, и это произойдет в тот момент, «когда они будут насчитывать лишь незначительное количество жителей. Если они получат право голосовать пропорционально численности своего населения, все будет справедливо и спокойно». Но дайте им «равное представительство, и самое отвратительное меньшинство будет диктовать свою волю целому»[1115]. Когда Мэдисон закончил свою речь, дебаты прекратились, и голосование продемонстрировало слабость малых штатов. За план Патерсона проголосовали лишь Нью-Джерси и Нью-Йорк, и комитет принял к рассмотрению «План Виргинии». Малые штаты хотели контролировать правительство и соглашались, что средством к этому является равное представительство штатов, но в то же время не могли согласиться на что-то гораздо большее[1116]. Следующие несколько дней делегаты от малых штатов занимались тем, что пытались объединиться, в то время как конвент занимался рассмотрением «Плана Виргинии», пересмотренного комитетом полного состава. Большие штаты для начала ободрили своих упавших духом друзей, согласившись, что первая резолюция должна гласить, что «правительство Соединенных Штатов должно состоять из высшей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти», без использования формулировки «национальное правительство». Слово «национальное» заставляло малые штаты подозревать большие штаты в недобрых намерениях, и изменение формулировки хотя бы частично утешило их. Но утешением, в котором они более всего нуждались, было равное представительство в национальной легислатуре. Три из них — Нью-Джерси, Делавэр и Нью-Йорк — незамедлительно выступили против резолюции, предусматривавшей двухпалатный конгресс. У них не было надежды на создание эффективной оппозиции; скорее они намеревались добиться уступки в виде равного представительства штатов. Роджер Шерман почти сразу предложил компромисс, сказав, что «если проблему с представительством невозможно решить каким-либо иным способом, он готов согласиться на две палаты с пропорциональным представительством в одной и равным представительством в другой». Большие штаты не клюнули на эту приманку и без труда добились своего — утверждения двухпалатного законодательного органа[1117]. Аристократические предубеждения и интересы плантаторов в очередной раз дали о себе знать в предложении генерала Чарльза Коутсуорта Пинкни из Южной Каролины, высказавшего идею, что нижняя палата должна избираться не населением, а легислатурами штатов. Ни от кого не ускользнула присутствовавшая в этом предложении игра — защита института рабства под видом борьбы за интересы плантаторов. Из южных штатов, однако, это предложение поддержала лишь Южная Каролина, к которой присоединились Коннектикут, Нью-Джерси и Делавэр. Зато пункту «Плана Виргинии», согласно которому первая палата должна была избираться населением, оппонировал только Нью-Джерси[1118]. Проблема второй палаты оставалась нерешенной, и хотя конвент провел часть последних дней июня в обсуждении таких вопросов, как источник оплаты представителей и требования, предъявляемые к представителям, проблема всплывала вновь и вновь. Все усилия по ее разрешению, к несчастью, только усугубляли ситуации. Этот результат, пусть даже он и не был непредвиденным, является очередным примером из истории благих намерений, ведущих к непредусмотренным последствиям[1119]. Вопрос, почему делегаты столь усиленно дебатировали по вопросу представительства, не столь прост, как кажется. Они могли отказаться от того, что стало к тому времени их обычной практикой, и просто проголосовать; в конце концов, о представительстве и так уже было наговорено слишком много. Но делегаты при всей своей практичности были слишком любознательны, чтобы упустить очередную возможность исследовать главную линию водораздела, проходившую между ними. Они были тщеславны; некоторые из них, возможно, считали, что способны изменить взгляды противной партии. В любом случае, почти все они боялись потерпеть провал — и этот провал притягивал их взгляд. У них не было другого выбора, кроме как улаживать в спорах существовавшие между ними разногласия. Поскольку большие штаты настаивали на принятии конституционной системы, которая могла только урезать права малых штатов, они видели в дебатах возможность утешить своих оппонентов. В течение следующих нескольких дней как Мэдисон, так и Уилсон отрицали «комбинацию» больших штатов против других в Союзе. Мэдисон сделал обзор интересов Массачусетса, Пенсильвании и Виргинии и не нашел ничего, что могло бы заставить подозревать «комбинацию»[1120]. Размер в любом случае не был тем фактором, который сближал эти штаты, заключил он. «Опыт скорее свидетельствует о противоположном». Среди отдельных людей богатые и знатные гораздо чаще боролись друг с другом, чем объединялись против слабых. Среди отдельных народов существовали аналогичные ситуации, например, «Карфаген и Рим рвали друг друга на куски, вместо того чтобы объединить свои силы для уничтожения более слабых народов земли». Среди древних и современных союзов не коалиции, но конфликты между Спартой, Афинами и Фивами оказывались губительными для более мелких членов Амфиктионии. И если бы большие штаты стали «поодиночке» представлять угрозу, можно ли было бы найти лучшее средство обеспечения безопасности малых штатов, чем Союз как «идеальное объединение» тринадцати штатов, Союз, обладающий достаточной силой для защиты граждан любой своей части?[1121] Нет причин сомневаться в подлинности страха малых штатов перед большими. В течение последних месяцев им постоянно твердили об ужасах тирании большинства, и им предстояло слышать о них еще очень долго. У кого, вопрошали они, было большинство, если не у больших штатов? Мэдисон, Рэндольф и Уилсон всегда упрекали малые штаты за их отказ соответствовать требованиям конгресса и выражали раздражение больших штатов в отношении малых. В конце концов от малых штатов требовали ни больше ни меньше, чем изменить систему, в которой они обладали несомненной значимостью. Никто не мог знать точно, что станет с его правами при новой системе, а они, как и большие штаты, хотели иметь как можно больше власти в Союзе[1122]. Элсворт, Шерман и Джонсон, все трое из Коннектикута, рьяно выступали за равное представительство, получая незначительную, хотя и многоречивую помощь со стороны Лютера Мартина. Главная слабость доводов в пользу пропорционального представительства, утверждали они, заключается в том, что они основываются на неверном понимании конфедерации. В действительности штаты соединены вместе соглашением наподобие договора; они свободны и суверенны. Теперь их просят отказаться от своего равного представительства в Союзе, что правктически равносильно потере своего индивидуального, неконсолидированного существования, ибо, как объяснял Бедфорд из Делавэра, «среднего пути между полной консолидацией и простой конфедерацией штатов не существует». Возможно, риторика Бедфорда смущала его коллег из малых штатов, поскольку они стремились не столько к сохранению старой системы, сколько к компромиссу, который дал бы штатам равное представительство в верхней палате. И все же максимализм Бедфорда приносил свою пользу — благодаря ему сторонники компромисса выглядели более разумными и умеренными, чем они были на самом деле. Даже Элсворт, здравомыслящий и осторожный адвокат, утверждал, что «нет ни одного примера конфедерации, в которой бы ее члены не пользовались правом равного представительства», — некорректный исторический вывод, который ему вскоре пришлось научиться держать при себе. В любом случае, нет никакой необходимости в столь радикальном изменении, как народное представительство в обеих палатах, утверждал Элсворт. «Мы бросаемся из одной крайности в другую. Мы разрушаем фундамент здания, в то время как нам требуется всего лишь отремонтировать крышу. Ни одна благотворная мера не была погублена отсутствием представителей от большинства населения штатов, которые могли бы поддержать ее» — аргумент, который, если бы он был верен, заставлял усомниться в необходимости созыва конвента[1123]. На карту были поставлены принципы — с этим не спорила ни одна из двух сторон. Малые штаты считали свою версию правительства воплощением идеалов революции. Их принципами были права человека. Они делали вид, что не понимают, как кто-либо может хотеть отказаться от конституции, которая защищает его права. Замечание Мартина, «что язык штатов, суверенных и независимых, был некогда знакомым и понятным», а теперь кажется «чужим и туманным», выражало искреннее недоумение[1124]. То, что Лютер Мартин описал как язык штатов, не произвело на Мэдисона и Уилсона впечатления языка революции. Оба отвергали утверждение малых штатов, что конфедерация скреплена договором. Будучи далеко не союзом равных, конфедерация обладала некоторой — но не достаточной — властью над штатами. Примеры, приведенные Мэдисоном, не имели отношения к каждодневным действиям правительства, но выражали точку зрения говорящего достаточно ясно: «В случаях захватов, пиратства и преступлений в федеральной армии судьба собственности и личностей индивидуумов зависит от законов конгресса». То, что предлагалось, продлило бы этот перечень и наделило бы «национальное правительство» «высочайшей прерогативой верховной власти». Если бы правительство было наделено столь значительной властью, простая справедливость требовала бы, чтобы правило большинство. Уилсон согласился и отверг предложенный Коннектикутом компромисс — пропорциональное представительство для нижней палаты и равное представительство штатов для верхней, после чего привел данные, которые имели своей целью показать, что подобное устройство позволит меньшинству управлять большинством. Семь штатов, заметил Уилсон, могут управлять шестью; стало быть, семь штатов с одной третью населения страны могут управлять шестью с двумя третями населения. «Так для кого же мы все-таки создаем правительство? — вопрошал он. — Для людей или для мнимых существ, именуемых штатами?.. Смысл избирательного права заключается в том, чтобы как во второй, так и в первой палате соблюдались одни и те же принципы»[1125]. Мэдисон выразил сходную точку зрения еще более страстно, чем Уилсон. Он решительно отрицал суверенность штатов: «На самом деле это всего лишь политические общества. Градация власти существует во всех обществах, от нижайшей корпорации до высочайшего суверена. Штаты никогда не обладали основными правами суверенности. Эти права всегда принадлежали конгрессу». Штаты, продолжал Мэдисон, «это всего лишь большие корпорации, имеющие полномочия создавать правила внутреннего распорядка, которые имеют силу лишь в том случае, если они не противоречат общей конфедерации. Штаты должны быть переданы под контроль общего правительства — подобно тому как прежде они находились под контролем короля и британского парламента». И из этих суждений о характере штатов (лишенные суверенитета, простые корпорации, всецело находящиеся под контролем национального правительства) следовало, что, поскольку Америка является республикой, представительство должно быть народным[1126]. Знание истории в аргументах Мэдисона впечатляет, его логика безупречна, его неспособность убедить делегатов от малых штатов вполне объяснима. Большие штаты просто требовали слишком многого, когда надеялись, что малые штаты согласятся со своим статусом «корпораций» в большом унитарном (чаще использовалось слово «консолидированное») правительстве. Язык Мэдисона был настолько сильным, его представление об отношениях внутри федерального государства столь четко сформулированным, что ни от кого не ускользнул подтекст его речи — «План Виргинии». Главным, чего требовали малые штаты, была гарантия, что при новой конституции будут защищены права личности и что границы между штатами не будут отменены. Вторая из этих проблем, пожалуй, волновала их больше всего остального. Логика, история и здравый смысл были слабым оружием в борьбе против местного патриотизма, особенно когда это чувство имело свою собственную долгую историю[1127]. Чувства нашли выход в последний день июня. Дискуссии приобретали все более живой характер, что не сулило ничего хорошего. Малые штаты предложили компромисс; большие штаты под нажимом Мэдисона и Уилсона отвергли его. Теперь, когда ситуация явно зашла в тупик и конвенту грозил срыв, раздосадованный и раздраженный Бедфорд обвинил делегации от больших штатов в том, что они разговаривают с малыми штатами в «диктаторском тоне», и предупредил, что если большие штаты вздумают распустить собрание, малые штаты начнут искать союзников среди иностранцев. Эти слова взорвали Кинга из Массачусетса, который разразился ответными упреками. Бедфорд, а не он говорит «диктаторским языком»; Бедфорд, а не он ведет себя несдержанно; Бедфорд, а не он объявил о своей готовности отречься от «нашей общей страны». Этот «обмен мнениями» произошел в субботу. Два дня спустя, в понедельник 2 июля, конвент приступил к работе над предложением обеспечить равное представительство во второй палате. По описанию Роджера Шермана, в те дни конвент казался полностью выдохшимся. Несколько минут дискуссии показали, что никто не чувствовал себя выдохшимся и никто не желал роспуска конвента. Поскольку только два штата, Нью-Джерси и Делавэр, проголосовали «против», конвент решил передать вопрос на рассмотрение большого комитета, которому было поручено выработать компромисс[1128]. В состав комитета не входили ни Мэдисон, ни Уилсон. В нем заседало по одному делегату от каждого штата, включая Франклина от Пенсильвании и Мейсона от Виргинии. Комитет был избран путем голосования, и его состав обещал, что следует ожидать положительных результатов. Так конвент продемонстрировал свое намерение продолжить работу и написать конституцию[1129]. Доклад, составленный комитетом, принято называть Великим компромиссом. В нем фактически признавалась формула для малых штатов, предложенная Элсвортом и делегацией от Коннектикута, — по одному представителю от каждых 40 тысяч жителей (при определении численности населения пять рабов учитываются как три свободных); нижняя палата имеет исключительное право вносить финансовые законопроекты; равное представительство для верхней палаты. Реакции большей частью были вполне предсказуемыми. Джерри, несмотря на свои многочисленные претензии к докладу, представил его конвенту и в течение следующих двух недель защищал его. Он, как и ряд других членов комитета из больших штатов, вероятно, считал делом чести выступать в поддержку доклада, поскольку сам принимал участие в его составлении. Не всеми двигало это чувство, но мнение любого из тех, кто нарушил старые договоренности, имело вес. Этими «нарушителями» были Франклин, Джордж Мейсон и Уильям P. Дэви из Северной Каролины, который для большинства делегатов был «темной лошадкой»[1130]. Мэдисон выступил с пламенной речью, в которой подверг доклад яростной критике. В его тоне появилось нечто новое, некая угрожающая резкость, когда он заговорил о возможности того, что «крупнейшие штаты, включающие большинство населения», договорятся о «справедливом и разумном плане», к которому «постепенно» присоединятся все остальные штаты, — высказывание, подразумевавшее возможную попытку сформировать союз вне конвента. Гувернер Моррис выразил свой протест в еще более угрожающих тонах: «Страна должна быть единой. Если ее не объединит убеждение, это сделает меч». А «то, чего не сделает меч, сделает виселица». Бедфорд и другие сделали ему выговор за столь резкое выступление, и работа по поиску компромисса была продолжена[1131]. Как это уже вошло в обычай, каждый из основных пунктов доклада обсуждался в различных комитетах. Было ли так задумано или нет, но эта тактика привязывала к докладу — или к какой-либо из его версий — все большее количество делегатов. Все знали, что пункт, позволяющий каждому штату иметь один голос в верхней палате, является, как выразился Джерри 7 июля, «центральным вопросом». Джерри заявил, что готов скорее согласиться на это условие, чем не достичь никакого компромисса вообще. Впрочем, другие пункты подвергались не менее тщательному рассмотрению и становились предметами интенсивных дискуссий[1132]. Эти дискуссии отличались от более ранних. Они были пресными, почти сухими, без ссылок на древние и современные конфедерации и политической теории. Принципы формулировались категорически и кратко. Делегаты отсекали контекст и избегали уклончивости в пользу прямых утверждений, касающихся интересов их конкретных штатов. Так, они посвятили много часов обсуждению вопроса о количестве представителей от каждого штата в нижней палате. Они рассуждали о росте населения, пытаясь спрогнозировать изменения, к которым придется приспосабливаться. Говоря о росте населения, Джерри и Кинг выступили с предложением раз и навсегда ограничить число представителей от новых штатов на западе до количества, не превышающего «количество представителей от тех из тринадцати соединенных штатов, которые присоединятся к этой конфедерации». Здесь в делегатах проявилось чувство справедливости, которое вкупе с интересами штатов, имеющих обширные малонаселенные территории, привело к отклонению предложения большинством голосов[1133]. Благодаря всеобщему желанию избежать застоя в работе была достигнута договоренность по одному из самых больных вопросов в конвенте: предложению, изначально внесенному Гувернером Моррисом (который впоследствии пожалел об этом), сделать представительство в нижней палате пропорциональным прямому налогообложению. При взимании прямых налогов пять рабов должны были учитываться как три свободных человека. Это уравнение вызывало тошноту, но без него было бы трудно убедить Южную Каролину и Джорджию остаться в составе Союза. Весь проект в целом, включая крайне важную рекомендацию установить равное представительство в верхней палате, был утвержден 16 июля. Голосов едва хватило: делегация Массачусетса разделилась, так как Джерри и Калеб Стронг проголосовали за, а Кинг и Горэм против; малые штаты держались единой коалицией и при поддержке Северной Каролины фактически решили исход голосования; Пенсильвания, Виргиния, Южная Каролина и Джорджия проголосовали против. Нью-Йорк, который, безусловно, поддержал бы проект, не имел права голоса — Лансинг и Йетс к тому времени покинули Филадельфию[1134].III
Так конвент решил проблему власти. Национальное правительство обещало быть сильным, и малые штаты верили, что его будет возглавлять авторитетная личность. С этого момента начал проявляться неизменный национализм делегатов. Вследствие «компромисса» старые союзы распались, и новые создавались на основе групповых и имущественных интересов. Это не значит, что темы дискуссий полностью определялись этими интересами. В конце концов главной задачей конвента оставалось составление конституции. Теперь, когда вопрос власти был практически решен, делегаты могли свободнее обращаться к политической теории и опыту, любимым конькам многих из них, чем в те дни, когда первоочередной проблемой были разногласия между большими и малыми штатами. Национализм малых штатов проявился сразу, как только конвент возобновил свою работу после принятия решения о равном представительстве в верхней палате. Рассматривалась шестая резолюция «Плана Виргинии», касающаяся полномочий национальной легислатуры. Роджер Шерман выступил с предложением перечислить полномочия, однако это предложение с треском провалилось — отчасти потому, что Шерман не включил в свой список прямое налогообложение. Бедфорд тут же предложил наделить легислатуру правом «осуществлять законодательную власть во всех случаях, касающихся общих интересов Союза, а также в тех случаях, в отношении которых штаты по отдельности некомпетентны». Рэндольф заметил, что идея Бедфорда подразумевает нарушение всех законов и конституций штатов, и назвал ее «чудовищной». Бедфорд парировал, что его вариант полномочий не более чудовищен, чем тот, который сам Рэндольф предоставил конвенту. На этом обсуждение закончилось, и предложение Бедфорда было принято. В ходе голосования выяснилось, что старые коалиции рухнули: Коннектикут проголосовал против, к нему присоединились Виргиния, Южная Каролина и Джорджия. Шесть штатов, одобривших предложение, включали Массачусетс, Пенсильванию и остальные малые штаты[1135]. В связи с определением полномочий национальной легислатуры возникали крайне запутанные вопросы, и ни один делегат не верил, что предложение Бедфорда поможет их решить. Исполнительная власть обещала почти столь же изощренные сложности, и за следующие две недели конвент так и не смог справиться с ними. Однако он искренне пытался сделать это в ходе долгих заседаний, на которых Мэдисон и Уилсон призывали доверить процесс избрания исполнительной власти народу. Гувернер Моррис, никогда не отличавшийся любовью к демократии, встал на их сторону. Им двигал, вероятнее всего, страх перед интригами в национальной легислатуре, а не вера в народ. Уилсон и Мэдисон отметили, что народ не должен принимать участия в процессах, происходящих внутри правительства, а последнее, в свою очередь, должно быть свободно от фракционности и интриг, которыми обычно сопровождаются эти процессы. Лишь выдающиеся руководители способны осуществлять исполнительную власть на достойном уровне. Возможно, это рассуждение удивило других делегатов своей вымученностью; в любом случае, 17 июля конвент решил поручить выборы главы исполнительной власти национальной легислатуре. Это решение понравилось далеко не всем, но пока остановились на этом и принялись за рассмотрение таких вопросов, как срок полномочий главы исполнительной власти, может ли он переизбираться, подвергаться импичменту и обладать правом вето на решения легислатуры[1136]. Последовавшие дебаты носили спутанный характер. После достижения компромисса по представительству во второй палате делегаты вряд ли чувствовали себя уставшими, однако они выказывали нетерпение. Они также понимали, что впереди еще много работы, и когда соглашение по какому-либо вопросу казалось невозможным, они тут же переходили к следующим резолюциям. До 26 июля, когда был объявлен десятидневный перерыв, в течение которого комитет по детализации — откровенно неудачное название — должен был составить черновой вариант конституции, им удалось принять несколько важных решений. К ужасу Джеймса Мэдисона, они отвергли его заветную идею вето конгресса на законы штатов. Они также решили, что судебная власть должна назначаться верхней палатой — еще одно решение, не удовлетворившее Мэдисона, — и сошлись на том, что следует предусмотреть возможность внесения поправок в конституцию. Элсворт и Патерсон, возобновив свое прежнее партнерство, настаивали на том, что любая конституция, какую бы ни разработал конвент, должна быть ратифицирована легислатурами штатов. Мэдисон выступал за ратификацию конституции населением и убедил в этом конвент. В последние дни июля, когда обсуждались эти вопросы, конвент вновь и вновь обращался к теме исполнительной власти. В ходе замысловатых дискуссий и голосований тех дней не сохранялось никаких четких альянсов. Тем не менее можно отметить устойчивые позиции. Мэдисон и Уилсон твердо настаивали на избрании исполнительной власти народом или, по крайней мере, коллективом выборщиков, избранных народом. Мэдисон также твердо выступал за то, чтобы наделить исполнительную власть и часть судебной власти правом пересматривать законы. Доводы Мэдисона и Уилсона основывались на их убеждении, что национальная легислатура, скорее всего, будет присваивать себе полномочия всех остальных органов власти и окажется «им не по зубам», даже если они начнут сотрудничать. Как аргументировал Мэдисон, «опыт всех штатов показал, что в легислатуре существует мощная тенденция засасывать всю власть в свою воронку. В этом был истинный источник опасности для американских конституций, из чего вытекала необходимость наделять другие власти всеми защитными полномочиями, которые только совместимы с республиканскими принципами». Элсворт, который не соглашался с Мэдисоном по методам выборов, поддерживал его идею о необходимости сотрудничества исполнительной и судебной власти[1137]. Складывались и другие любопытные альянсы, пока наконец 26 июля конвент не передал результаты своих согласий и разногласий в руки комитета по детализации. На эту группу была возложена задача составить проект конституции, который бы соответствовал решениям, уже принятым конвентом. В нем также следовало учесть «решения», которые конвент оказался не в состоянии принять, включая несколько идей об исполнительной власти. Чарльз Коутсуорт Пинкни внес свою собственную инициативу, предупредив, что если комитет не сможет найти способ предотвратить освобождение рабов и налогообложение работорговцев, его штат не поддержит конституцию. Конвент вежливо выслушал его и затем тщательно отобрал состав комитета, куда вошел коллега Пинкни Джон Ратледж, ставший председателем группы. Другими членами стали Рэндольф, Горэм, Элсворт и Джеймс Уилсон26. Ратификация: конец и начало
I
Что произошло в Конституционном конвенте? В 1787 году многие считали, что конвент отказался от приверженности принципам Американской революции. Носители этого убеждения подчеркивали, что конституция фактически разрушила старую конфедерацию суверенных штатов, заменив ее тем, что они называли «консолидированным» правлением. При таком правлении власть и суверенитет сосредоточены в центре — не в отдельных штатах. В течение первого года после закрытия конвента появится много новых толкований понятия консолидации. Начиная с 1787 года это убеждение разделяется многими историками, которые описывают конституцию как выражение консервативных тенденций. Лишь немногие продолжают видеть в ней плод заговора держателей государственных ценных бумаг, стремившихся обогатить себя и представителей своего класса. Большинство считает, что конституция с заложенной в ней структурой правительства была тем орудием, с помощью которого элита рассчитывала ограничить рост демократии. Согласно этой интерпретации, конституция являлась консервативной реакцией на интенсивное движение в направлении демократии, вызванное к жизни революцией. В 1776 году, говорят нам, демократия присвоила себе революцию и ее великие принципы. Исподволь были созданы демократические политические инструменты, такие как конституции штатов и «Статьи конфедерации». Эти инструменты и олицетворяемые ими идеалы основывались на допущении, что носителем суверенитета является народ. Историки, считающие, что в 1776 году состоялось вторжение демократии в общественную жизнь, ограничивают революцию как таковую периодом с 1776 по 1781 год и оценивают все, что происходило в дальнейшем, в сравнении с тем, что они считают истинным стандартом революционного действия. Эта точка зрения грешит узостью и в каком-то смысле является антиисторической, так как устанавливает некую норму, в сравнении с которой последующая история выглядит малозначительной. На самом же деле революция представляла собой сложную совокупность событий, происходивших на протяжении почти тридцати лет и прошедших несколько этапов. Оценка одних этапов как более «революционных» или более «консервативных», чем другие, препятствует пониманию их всех. После завоевания независимости и заключения мира перед революцией встали новые вопросы. Весь комплекс проблем, существовавших до 1783 года, был связан с установлением независимости. В последующий период сохранялись многие из них, особенно проблема управления свободных людей свободными людьми. Тем не менее эти периоды существенно отличаются друг от друга — период между 1775 и 1783 годами определялся войной с ее специфическими требованиями и целями. Все понимали, что некоторые из методов руководства, применявшихся во время войны, не годятся для мирного времени. Таким образом, хотя послевоенные проблемы, связанные с властью, имели сходство с довоенными, они все же были другими, так как имели место в условиях мира. Не подлежит сомнению, что в 1780-е годы американцам приходилось решать проблемы, унаследованные ими от войны, но независимость и мир придали этим проблемам новое измерение. Когда закончилась война, в конгрессе, законодательных органах штатов и армии заправляли деловые люди — купцы, юристы, крупные фермеры и плантаторы. Это были проницательные и увлеченные деятели, но забота о создании добродетельной республики занимала умы ее представителей, по-видимому, не так сильно, как прежде, или как она занимала умы лиц, подобных Сэмюэлю Адамсу. Успех в торговле и энергия в управлении казались им почти столь же важными, как добродетель — и необходимыми для добродетели. Их прозрения и, вероятно, также их мечты теперь были сосредоточены на больших общественных организмах, включая нацию, и на власти, которой могли обладать эти организмы. В центре их внимания стояли проблемы, оставшиеся от войны, и их собственный опыт управленческой деятельности, особенно в конгрессе и в армии. Такие люди писали конституцию. Они делали это в настроении, отмеченном разочарованием. Ибо делегаты разделяли широко распространенное подозрение, что добродетель бежит из деградирующей Америки. Но американские достижения предыдущих тридцати лет вселяли в них надежду. Эти достижения были настолько ослепительными, что почти никто из делегатов не мог отказаться от равного по силе убеждения, что американский опыт республиканизма послужит великим примером для всего мира. Эти сложные настроения являются доказательством устойчивости протестантских и либеральных ценностей, пронизывавших американскую атмосферу в 1760–1770-е годы и вплоть (по меньшей мере) до 1779 года. Они также свидетельствуют о силе старой морали и ее способности определять политические взгляды. Ибо в 1780-е годы, как и до войны, считалось, что общественная жизнь черпает свои силы в нравственности народа. Добродетельным, как полагало большинство американцев, является тот народ, который ценит бережливость, презирает роскошь, ненавидит коррупцию и любого рода крайностям предпочитает умеренность и равновесие, особенно в области социальных порядков. Но прежде всего это народ, который сохраняет чувство ответственности перед общественными интересами даже в тех случаях, когда эти интересы приходят в столкновение с личными целями. Ослабление этих старых стандартов и жажда личной наживы, заявившие о себе сразу после войны, убедили делегатов конвента в необходимости реорганизация американского правительства. Их неудовлетворенность поведением народа вынудила их признаться самим себе в истинности ранее немыслимого предположения: сам народ может быть источником тирании. Это признание знаменовало появление нового реалистичного взгляда в американском конституционализме, приверженцы которого, как и лежащей в его основе идеологии радикального либерализма, были склонны — по крайней мере, на раннем этапе революции — к обожествлению народа. Эта старая разновидность либерального мышления рассматривала проблему политики в свете противопоставления правителя управляемым. При этом ставился вопрос, каким образом следует контролировать правителя, чтобы он не превратился в тирана. В 1780-е годы, и прежде всего в Конституционном конвенте, был обозначен новый источник тирании — сам народ. Новый реалистичный взгляд на политику шел рука об руку с новым реалистичным взглядом на общество. Прежде виги исходили из того, что, поскольку народ является одним целым, интересы всех его представителей совпадают. Это допущение стало источником всех поверхностных рассуждений об общественном благе, словно оно было единственным предметом, занимавшим умы людей. Во время войны политическая мысль начала приспосабливаться к существованию заинтересованных групп, в XVIII веке традиционно именовавшихся «кликами» (factions), и благодаря этому приобрела необычайную точность. На конвенте Джеймс Мэдисон отметил источники, от которых питаются эти «клики», и констатировал, что в случае больших и разнородных наций они могут служить защите прав частных лиц. Исключительная проницательность Мэдисона позволила ему предвидеть ход двух столетий американской политической жизни. Он достиг этой пророческой точности отчасти благодаря тому, что глубоко вник в природу общества, пережившего революционную войну. Война не преобразила американское общество, но она заложила основу для его трансформации, воспитала общность людей, привыкших мыслить в национальном ключе и служить в больших организациях. Война стимулировала своего рода организационную революцию в Америке. Нация была самым масштабным проявлением этих изменений и вдохновляющим примером для всех организаций меньшего масштаба. Разумеется, она не заменила собой штаты, но в ее лице появилась новая арена для экономики и общественной политики. Во время войны люди внутри и вне армии пытались служить своей нации и самим себе, формируя вооруженные силы и поставляя продовольствие, оружие, боеприпасы и другие предметы, требуемые для поддержания совокупности огромного количества людей, выполняющих трудную миссию. Хотя в 1783 году армия фактически была распущена, опыт предыдущих восьми лет никуда не делся. И никто не хотел от него избавляться — приобретательские аппетиты не только сохраняли свою власть над американцами, но и росли вместе со средствами своего удовлетворения. Война дала им новый импульс, и, если не ограничиваемые, то, по крайней мере, дисциплинируемые и управляемые людьми, убедившимися в плодотворности крупномасштабных действий, они были призваны сделать Америку процветающей страной. Создав конституцию, делегаты создали структуру, на основе которой могла формироваться и развиваться экономика. Конституция положила конец правительственному регулированию торговли между штатами, поставила преграду нелепым прожектам в области общественных финансов и обеспечила благоприятную среду для коммерции. Американские предприниматели нуждались в свободе и одновременно нуждались в порядке. Конституция обещала удовлетворить обе эти потребности. То, что свобода и порядок связаны с добродетелью, американцы издавна считали само собой разумеющимся. Не менее очевидным для них было и то, что добродетель не может существовать в условиях анархии. Конституция, как надеялись ее создатели, способна защитить добродетель. Если ограничиться поверхностным взглядом (и в частности, вспомнить дебаты в конвенте), то идея, что конституция выражала моральную позицию, может показаться абсурдной. В конвенте не было истовых протестантов, в нем не звучало страстных речей, проникнутых христианским благочестием. И все же в конституцию проникли моральные принципы, издавна игравшие важную роль в американской жизни и явственно дававшие о себе знать в первые дни революции. Ибо конституция ограничила власть — власть, которая всегда осознавалась как угроза добродетели и свободе. Конституция стремилась поставить заслон тирании большинства, но она не отрицала, что носителем суверенитета является народ. Правительство должно было служить народу; создавая конституцию, делегаты стремились создать структуру, которая делала бы такое служение эффективным, хотя и не за счет подавления меньшинства. Отсюда умеренность конституции, с ее тремя уравновешенными ветвями власти и подробным перечислением полномочий. Эти ограничения казались отцам-основателям благотворными по ряду причин, не самая последняя из которых заключалась в том, что они должны были работать как против коррупции, так и против доминирования большинства. Коррупция имела своим источником прерогативную, ни перед кем не отчитывающуюся власть, которая в лице легионов своих ставленников высасывала соки из Америки. Революция избавила американцев от таких ставленников, и теперь посредством конституции они надеялись достичь своей старой цели — добродетельной общественной жизни. Эта жизнь, как полагали американцы, могла сохраниться лишь в том случае, если бы удалось избежать не только коррупции, но и морального разложения общества. Предусмотренные в конституции ограничения были призваны предотвратить коррупцию как в техническом смысле, в трактовке ее вигами (как неподобающее влияние исполнительной власти в законодательном органе), так и, возможно, в ее более новой форме, столь выразительно описанной Мэдисоном, — тирании большинства. Но предпосылкой любого успешного конституционализма является добродетельный народ. Отцы-основатели, особенно Франклин, Мэдисон и Уилсон, считали, что конвент должен, невзирая на любые риски, включая риск потерять завоевания революции, довериться добродетели американского народа. По мнению Мэдисона, в Америке риск был меньше, чем где бы то ни было, благодаря размерам страны и многообразию ее народа. Разбросанным по огромной территории, разделенным границами штатов и разными интересами «кликам», претендующим на господство над другими, было бы трудно согласовывать свои действия. История революции, когда народу с большим трудом удалось сплотиться в борьбе с британскими угнетателями, подтверждала это суждение. С наступлением мира эти группы образовали во многих штатах неконтролируемые и даже тиранические большинства, но то, что могло быть сделано в пределах одного штата, было невозможно дублировать на уровне нации, состоящей из самых разнообразных групп интересов и распростершейся от берегов Атлантики до Миссисипи. Таким образом, делегаты доверились народу, поскольку у них не было выбора: республика должна была опираться на народ. Их недоверие к народной власти выразилось в особом внимании к ограничениям для сдерживания чрезмерных властных амбиций безответственного большинства. В то же время приверженность делегатов принципу большинства как неотъемлемой предпосылке республиканского правления оставалась незыблемой. Ограничение большинства — источника власти и соответственно потенциального источника тирании — было необходимой мерой. Пределы, поставленные власти большинства, защищали права меньшинства и права собственности — те самые права, которые в 1760-е годы запустили революционный процесс. Однако не менее необходимым было и то, чтобы большинство обладало свободой осуществления конституционных полномочий. Поэтому отцы-основатели приложили все усилия к тому, чтобы национальная легислатура представляла народ. Великий компромисс вывел сенат из-под прямого народного контроля, как того хотели Мэдисон и Уилсон, но даже в таком виде конгресс выглядел более демократичным, чем в период действия «Статей конфедерации». Тем более что палата представителей должна была избираться народом. Таким образом, конституция делала народ (независимо от происхождения, рода занятий и места проживания его представителей) одновременно свободным и ограниченным. Свободным, потому что республика нуждалась в добродетельном народе; ограниченным, потому что у всех были свои человеческие слабости. Делегаты выражали эти идеи на языке республиканизма. Хотя они не ссылались на религию, они косвенным образом апеллировали к старым моральным установкам, которые были хорошо знакомы детям духовного возрождения. Они делали это особенно подчеркнуто в ходе дискуссий, посвященных эгоизму людей, их страстям и их предрасположенности к злу. И сама конституция, создавая правительство, способное сдерживать худшие из инстинктов человека, особенно его потребность в господстве над другими, касалась одного из предметов неизменной озабоченности протестантской культуры[1150].II
Озабоченность в связи с проблемой власти не замедлила дать о себе знать в дискуссиях, последовавших за публикацией конституции. Вскоре стало очевидно, что далеко не все считают наложенные на власть ограничения достаточными, особенно в случае власти, осуществляемой на расстоянии. Некоторые из тех, кто поднимал вопросы о конституции в начале осени 1787 года, формулировали свои соображения в таком ключе, словно они были уверены, что в Америке возрождается тирания. Они, в частности, утверждали, что за конституцией стоит «деспотичная аристократия», или, как они иногда выражались, «замаскировавшаяся аристократия» — замаскировавшаяся, по-видимому, из желания скрыть свои авторитарные намерения. Они также обыгрывали слова самой конституции. Лицо, которое должно было возглавить исполнительную ветвь, фигурировало в их разглагольствованиях как «президент-генерал» и иногда как «наш новый король»[1151]. Первую зацепку для критиков, возможно, дал сам председатель конвента Джордж Вашингтон, который в своем сопроводительном письме к конституции, отправленной 17 сентября в конгресс, упомянул в качестве одной из целей конвента «консолидацию нашего Союза». Независимо от того, кто заговорил о ней первым, «консолидация» почти сразу стала одним из самых многозначащих понятий, сопровождавших процесс ратификации. Критики уверяли, что конституция фактически предусматривает «консолидированное правление», в рамках которого все полномочия, ранее принадлежавшие штатам, будут осуществляться национальным правительством[1152]. Критики, однако, проглядели одно слово, которое они могли бы использовать для обозначения самих себя и тем самым усилить свои аргументы. Речь идет о слове «федералист». Не они, а сторонники конституции начали именовать себя федералистами, как только закрылся конвент, вследствие чего их оппоненты почти неизбежно получили прозвище антифедералистов — намного менее выгодное обозначение для группы, представители которой выставляли себя защитниками прав штатов. Самым важным фактом, относящимся к идеологии антифедералистов, было ее сопротивление передаче полномочий штатов национальному правительству. По-видимому, большинство антифедералистов одобряли идею исправления «Статей конфедерации» хотя бы передачей конгрессу прав налогообложения и регулирования торговой деятельности. Но конституция неприятно удивила и встревожила их масштабом предусмотренных в ней изменений и той сложностью, которую она вводила в структуру правительства. Они надеялись, что конвент предложит поправки к «Статьям конфедерации», которые вступят в силу только после их ратификации всеми тринадцатью штатами. Теперь, в сентябре 1787 года, им представили проект совершенно новой конституции, предполагавшей создание совершенно нового правительства. И для вступления новой конституции в силу было достаточно одобрения всего лишь девяти из тринадцати штатов. В неприятии конституции не было ничего удивительного. В конце концов, главными предметами революции были власть и права. Целое поколение американцев выросло и достигло зрелости среди дискуссий о характере представительства, о законодательной и исполнительной власти, о самом конституционализме и о необходимости защиты прав личности. Еще одно поколение состарилось в борьбе за независимость и право на самоуправление. Если бы революционеры, оказавшись лицом к лицу с радикальными изменениями в структуре власти, не стали задаваться вопросами об этих изменениях, они бы предали себя и свои недавние достижения. Те, кто не был удовлетворен ответами на свои вопросы, возражали против конституции. Они голосовали за делегатов, обещавших голосовать против ратификации; они публиковали статьи и памфлеты, в которых выступали за отклонение конституции; они агитировали и дискутировали; они образовывали комитеты; и некоторые избирались в конвенты штатов. Они не вооружались и не выходили из Союза, не пытались совершить еще одну революцию, несмотря на все свои рассуждения о грядущей тирании. И никто не заключал их в тюрьму. Словом, процесс ратификации сохранял мирный характер, несмотря на всю агрессивную риторику, которую он порождал. И по его завершении не последовало никакой новой волны исхода из Соединенных Штатов, подобной исходу лоялистов. Наиболее яркое представление об общей атмосфере и содержании процесса ратификации дает противоборство между федералистами и антифедералистами в Пенсильвании. Партия «конституционалистов», одна из двух главных политических партий в штате, получившая свое название за активную поддержку конституции Пенсильвании 1776 года, включала высокую долю демократов, усматривавших в Конституционном конвенте заговор против народа. В частности, Сэмюэль Брайан, сын Джорджа Брайана, одного из авторов конституции 1776 года, опубликовал серию газетных очерков, где разделение мнений по поводу федеральной конституции трактовалось как образование водораздела между народом и «богатыми и тщеславными, которые в любом сообществе считают себя вправе помыкать своими собратьями»[1153]. В дальнейшем, вплоть до завершения процедур ратификации в Америке, большая часть дебатов была пронизана неявным классовым антагонизмом. В Пенсильвании этот антагонизм ощущался значительной частью населения. В других штатах обращения к народу с призывом не доверять богатым и знатным, по-видимому, служили не более чем политической тактикой[1154]. Заговор как предполагаемый мотив поведения выигрывает в убедительности, когда он персонифицирован. В Пенсильвании местные заговорщики были всем хорошо известны. Богатыми и знатными были республиканцы, которые в свое время противодействовали конституции Пенсильвании и теперь поддерживали федеральную конституцию; к их числу принадлежал Роберт Моррис, участвовавший в работе конвента. В «Хронике ранних времен» Моррис фигурировал как Роберт Казначей, чьи интересы вращаются исключительно вокруг «мельницы», то есть Банка Северной Америки. Конституция воздвигла стену вокруг мельницы, чтобы защитить ее от народных масс: «И он добросовестно отчитался перед ними обо всем, что было сделано, и о том, как враги мельницы были обращены в бегство». Роберту Казначею помогают Джеймс Уилсон, выведенный под именем Джеймса Шотландца, и Гувернер Моррис, фигурирующий как Хитрец Гуверо. Эти трое и их подручные сговорились присвоить мельницу себе, не давать народу контролировать ее работу и делить между собой муку (читай: деньги), которую она производит[1155]. Антифедералисты в Пенсильвании также предъявляли существенные претензии к конституции, которые отдавались эхом в спорах во всех других штатах. Два вопроса казались важными практически везде. Первый касался отсутствия билля о правах: свободе слова, свободе вероисповедания и суде присяжных, то есть всех традиционных правах, которыми от века пользовались свободные англичане. На претензию к конституции, что она не гарантирует таких свобод и прав, не было ответа, хотя федералисты Пенсильвании считали, что он есть. Согласно конституции, как заявил Джеймс Уилсон в своей нашумевшей речи, национальное правительство может осуществлять только те полномочия, которыми оно Наделено; все остальные сохраняются за штатами. Поскольку конгресс не наделен полномочиями «ограничивать или отменять» свободную прессу и соответственно другие традиционные права, в билле о правах нет никакой необходимости («было бы излишне и нелепо федеральному органу, созданному нашими собственными руками, постановлять, что мы будем пользоваться теми привилегиями, которых мы не лишены ни намерением, ни законом, учредившим этот орган»)[1156]. Второй вопрос, поднятый антифедералистами в Пенсильвании и ставший предметом широкого обсуждения во многих других штатах, касался характера представительной власти в республике. В вопросах республиканского правления непререкаемым авторитетом для всех был Монтескье. Ссылаясь на его учение, антифедералисты утверждали, что республика не способна прижиться в нации, занимающей большую территорию, где она со временем неизбежно уступает место деспотизму. «Сентинел» (как подписывался Сэмюэль Брайан), по-видимому, был первым в Пенсильвании, кто указал на трудности, с которыми столкнулось бы национальное правительство, если бы оно занялось «различными местными проблемами и нуждами». Одни только расстояния создавали бы почти непреодолимые трудности. Количество представителей, установленное для нового правительства, увеличивало эти трудности: 55 человек в палате представителей должны были обслуживать интересы страны, раскинувшейся на сотни тысяч квадратных миль. Столь ничтожное количество могло только способствовать «коррупции и злоупотреблению влиянием»; лишь очень большое число законодателей могло бы служить гарантией безуспешности любых попыток подкупа. А если бы представителям удалось остаться неподкупными, то вследствие своего долгого пребывания в должности (срок составлял два года, в два раза больше обычного для легислатур штатов) они потеряли бы свое чувство «подотчетности». Кроме того, с высокой долей вероятности можно было утверждать, что, сколь бы большим ни было количество, оно не могло адекватно представлять большую нацию. Адекватное представительство, с точки зрения антифедералистов, подразумевало существование представителей, полностью разделяющих интересы, чувства и мнения своих избирателей. В идеале представитель должен был служить выразителем местных интересов. Он не должен был рассуждать или действовать от своего лица; все, что от него требовалось, это выражать точку зрения народа[1157]. Джеймс Мэдисон, еще работая в конвенте, предвидел эти претензии. Большая нация, возражал он, не только не является непригодной для республиканской формы правления, но предлагает идеальные обстоятельства для ее успешного применения. Ибо слабость республиканской формы заключается в ее тяготении к нестабильности и тирании, тяготении, которое может успешно сдерживаться в условиях большой нации, объемлющей многообразные интересы. Доводы Мэдисона основывались на ряде предпосылок. Прежде всего он исходил из того, что причиной нестабильности республики является демократический элемент, который по определению содержится в республиканских общественных институтах. А демократия подвержена изменениям, поскольку она является прямым выражением народных страстей. Демократия — это народ, управляющий собой без помощи ограничительных или сдерживающих институтов[1158]. Предпосылка Мэдисона, касающаяся демократии, основывалась, в свою очередь, на предпосылке, касающейся человеческой природы: природа человека такова, что он предпочитает следовать страстям, а не рассудку и неизменно отдает предпочтение сиюминутным интересам перед долговременными. Существа экспансивные, эгоистичные и нередко порочные, люди, приходя в политику, всегда испытывают трудности в принятии на себя ответственности за общественные интересы и легко поддаются искушению лишать других людей их прав, если это, как им кажется, отвечает их собственным интересам[1159]. Таким образом, в республике, охватывающей большую нацию, объединять людей с различными интересами в большинство, способное подавлять меньшинство, всегда затруднительно. Большое количество «клик» (по его выражению) и их разнообразие неизбежно приведут к тому, что они станут мешать друг другу в достижении своих целей. Зрелое изложение теории групп интересов Мэдисона появилось в десятом выпуске «Федералиста»:Чем малочисленнее общество, тем скуднее в нем число явных партий и интересов, его составляющих, тем чаще большинство граждан оказываются приверженцами одной партии, а чем меньше число лиц, составляющих такое большинство, и чем меньше территория, на которой они размещаются, тем легче им договориться между собой и осуществить свои утеснительные замыслы. Расширьте сферу действий, и у вас появится большее разнообразие партий и интересов; значительно уменьшится вероятность того, что у большинства возникнет общий повод покушаться на права остальных граждан, а если таковой наличествует, всем, кто его признает, будет труднее объединить свои силы и действовать заодно[1160].Теория Мэдисона в формулировке Уилсона звучала менее убедительно, но достаточно ясно, чтобы этой формулировкой оперировали участники дебатов, разгоревшихся по примеру Пенсильвании в разных местах. В конце октября 1787 года, когда начал публиковаться «Федералист», в распоряжении федералистов оказался самый влиятельный источник политической мысли, когда-либо появлявшийся в Америке. Эти эссе, авторами которых были Александр Гамильтон, Джон Джей и Джеймс Мэдисон, содержали гораздо большее, нежели теорию представительства. Они анализировали обстановку, в которой осуществлялась власть в Америке в 1780-е годы; они подвергали критике «Статьи конфедерации»; они разъясняли, как будет работать новое правительство при новой конституции. Самое главное, они убеждали американцев, что между властью и свободой не существует непримиримых противоречий. Мы не можем знать точно, как обсуждения конституционных вопросов влияли на делегатов в ратификационных конвентах штатов. Но делегаты, по-видимому, брали многие из опубликованных аргументов на вооружение и повторяли их с различными вариациями в этих собраниях, так что все важные идеи, звучавшие снаружи, подвергались обсуждению внутри. С другой стороны, процесс ратификации по отдельным штатам, вероятно, способствовал тому, что политические идеи теряли в силе убеждения. И вероятно, он также усиливал значимость сугубо местных интересов. Ратификация представляла собой серию акций властей штатов, и конвенту каждого штата почти неизбежно приходилось рассматривать конституцию в свете интересов своего штата. Тот факт, что эти интересы подразумевали политическую свободу как необходимое условие всестороннего благополучия штата, молча признавался всеми. Тем не менее мы не знаем, каким образом в уме делегата благополучие его штата связывалось с той или иной формойпредставительства, или теорией структуры правительства, или той или иной интерпретацией прав личности. Несомненно лишь то, что в ратификационных конвентах обсуждались не только принципы управления, но и интересы штатов. Не подлежит сомнению и то, что процесс ратификации имел определенную «логику», когда одни штаты реагировали на действия других штатов. Сказать, что ратификация представляла собой «цепную реакцию» — значит упростить сложный процесс. Тем не менее штаты, безусловно, испытывали влияние соседей, и быстрое одобрение конституции тремя штатами в декабре и еще двумя в январе дало ратификации хороший импульс.
III
Согласно статье VII конституции, для ее вступления в силу требовалась «ратификация конвентами девяти штатов». Подразумевалось, что в случае ратификации девятью штатами четыре остальные штата могли выбрать свой собственный путь либо присоединиться к Союзу. Эта процедура ввода в действие нового правительства не принимала в расчет «Статьи конфедерации», согласно которым поправки должны были получить единогласное одобрение. Она также оставляла в стороне законодательные собрания штатов (за исключением одного момента — по общему согласию они должны были созвать ратификационные конвенты). Отправляя конституцию в конгресс, Вашингтон описал это согласие как «мнение настоящего конвента»[1161]. Конституция с сопроводительным письмом Вашингтона была получена конгрессом 20 сентября. Среди членов конгресса нашлись ее критики. Один из них, Ричард Генри Ли из Виргинии, выступил с предложением внести в конституцию поправки и лишь после этого разослать ее по штатам. В этом случае у штатов, аргументировал Ли, будет выбор: либо ратифицировать оригинал, либо внести поправки и направить исправленный вариант во второй конституционный конвент. Сторонников конституции в конгрессе было больше, чем ее врагов, — в конце сентября в конгресс вернулись восемнадцать членов, участвовавших в работе конвента, — но они не хотели обижать критиков. Поэтому они, хотя и отклонили предложение Ли, решили не навязывать конституцию. Вместо этого конгресс ограничился тем, что после предварительного голосования, на котором конституция получила поддержку большинства, просто разослал ее по штатам без каких-либо рекомендаций[1162]. Получив послание из конгресса, легислатуры штатов начали кампанию за ратификацию. Легислатура Делавэра провела собрание еще до роспуска конвента, чтобы выслушать Ричарда Бассета, своего члена и делегата конвента. Теперь, имея на руках конституцию, она назначила специальные выборы. Ратификационный конвент, созванный в короткий срок, не стал терять времени и 7 декабря 1787 года выразил от лица штата единогласное одобрение[1163]. Такое рвение имело свои причины. Жители Делавэра, большую часть которых составляли мелкие фермеры, чувствовали себя незащищенными. Отчасти это чувство, по-видимому, объяснялось их экономической зависимостью от своих более крупных соседей (пшеница для процветавшего мукомольного дела ввозилась из Пенсильвании), но, вероятно, большее значение имели размеры и история Делавэра. Как по территории, так и по численности населения Делавэр был карликом в сравнении с Пенсильванией и уступал даже Мэриленду. Его история также настраивала жителей в пользу Союза — в частности, до 1776 года Делавэр и Пенсильвания имели общего губернатора. В 1787 году экономика штата процветала. Мельники, перемалывавшие ввозимое зерно, преуспевали, торговля, подорванная войной, оживилась, и долги штата были невелики. Однако возможность выживания в одиночку было трудно вообразить. Ратификационный конвент собрал фермеров, обладавших достаточной проницательностью, чтобы понимать, в чем состоит их политическая выгода. В результате тридцать делегатов проголосовали за и ни один — против. Пенсильвания действовала почти столь же стремительно. Не погнушавшись грубым обращением с сопротивляющимися депутатами, федералисты продавили решение о созыве ратификационного конвента. Несколько часов спустя легислатура объявила о самороспуске с целью подготовки к выборам нового собрания; оставалось только принять меры к созыву органа для рассмотрения вопроса о ратификации. В течение нескольких недель перед выборами дебаты вокруг конституции в штате усиливались. Еще большую роль, чем дебаты, по-видимому, играла организация, и здесь федералисты получили преимущество. Ключевое значение для выборов в конвент имела Филадельфия с ее пригородами. Как город, так и фермы вокруг него достались федералистам — ремесленники, лавочники и фермеры проголосовали за делегатов, поддерживавших ратификацию. Единственный шанс для антифедералистов в Пенсильвании состоял в том, чтобы заручиться поддержкой западной части штата и сыграть на недоверии народа к централизованной власти. Благодаря своей хорошей организации федералисты взяли верх. 12 декабря, вскоре после своего созыва, ратификационный конвент Пенсильвании с двойным перевесом голосов утвердил конституцию. Шесть дней спустя конвент Нью-Джерси единогласно проголосовал за ратификацию; 2 января 1788 года 26 членов конвента Джорджии последовали его примеру. Оба этих штата, как ранее Делавэр, руководствовались стремлением расстаться со своим изолированным положением. Нью-Джерси не мог выжить без поддержки извне, к тому же конституция сулила преимущества всем самым крупным группам штата. В сравнении с Нью-Джерси слабость Джорджии была еще более очевидной. Индейцы племени крик угрожали самому существованию штата, и единственным гарантом его безопасности могло служить сильное национальное правительство. Местные интересы были выражены в Джорджии намного слабее, чем в большинстве других штатов Америки, поскольку большую часть ее населения составляли недавние иммигранты, которые еще не успели пустить в ней корни. У Коннектикута были другие причины для ратификации, но и он не смог бы выжить вне союза. Он хотел избавиться от экономической зависимости от Нью-Йорка, и конституция предлагала средства для этого, поскольку предусматривала передачу полномочий по регулированию внешней торговли новому правительству. Через неделю после Джорджии Коннектикут проголосовал за конституцию более чем с тройным перевесом голосов. Таким образом, за период чуть больше месяца конституция была ратифицирована пятью штатами. Большое значение имело то, что среди них был такой могущественный штат, как Пенсильвания. Четыре других, пусть небольших и сравнительно слабых, помогли дать импульс процессу ратификации, процессу, который можно было бы считать практически завершенным, если бы за конституцию проголосовали еще четыре штата. Первый из этих четырех, Массачусетс, утвердил конституцию в начале февраля 187 голосами против 168. В ряде мест штата сформировалась оппозиция конституции, особенно враждебно настроенная в западных округах, жители которых еще помнили плачевные итоги восстания. Мелкие фермеры, жертвы власти, обосновавшейся на востоке, относились к еще более далекой власти с понятным недоверием. Понимая, что схватка будет жаркой, федералисты пытались заручиться поддержкой Джона Хэнкока и Сэмюэля Адамса. Оба пользовались популярностью, оба питали недоверие к соглашениям в Филадельфии. Ключом к расположению Хэнкока являлось его тщеславие, которое федералисты тщательно культивировали, дойдя до того, что дали ему основания надеяться на получение поста вице-президента в новом правительстве. Хэнкок проглотил приманку. Сэмюэль Адамс был тщеславен по-своему. Ему была ненавистна сама мысль быть отделенным от «народа», и когда Пол Ревир с группой ремесленников дали ему понять, что они в восторге от конституции, он присоединился к федералистам. Одобрив конституцию, конвент Массачусетса заодно предложил поправки, касающиеся гарантий гражданских свобод. Ратификационный конвент Мэриленда, собравшийся в апреле, рассмотрел поправки, но не принял ни одной из них. Ратификация прошла довольно гладко спустя неделю после открытия конвента. В Южной Каролине ратификация состоялась через месяц после Мэриленда 149 голосами против 73, там, похоже, ее успех был предрешен. Южная Каролина еще не оправилась от страшных разрушений, причиненных войной, и у нее были все причины, чтобы желать вступления в Союз, например большие долги, которые могло бы принять на себя национальное правительство. Кроме того, союз с другими штатами гарантировал безопасность, а озабоченность жителей Южной Каролины обороноспособностью штата всегда оставалась высокой. После голосования в Южной Каролине количество штатов в Союзе выросло до восьми. Два влиятельных штата оставались неприсоединившимися — Виргиния и Нью-Йорк. Северная Каролина и Род-Айленд уже выразили свое неприятие конституции, а конвент Нью-Гэмпшира, впервые собравшийся в феврале, отклонил акт. Это было победой оппозиции, которая, несмотря на свою силу, не была готова сжечь все мосты. В июне общественное мнение качнулось в сторону конституции, отчасти ввиду ее ратификации другими штатами — особенно соседним Массачусетсом. Тем не менее голоса разделились почти поровну — 57 против 47 в пользу ратификации. Все ждали решения Виргинии и Нью-Йорка. В период до голосования делегаты в обоих штатах проявили невероятную активность. Что касается Виргинии, то тем фактором, который окончательно склонил многих плантаторов в пользу конституции, было, по-видимому, состояние экономики штата. У Виргинии было мало денег, но много долгов. Сильное стабильное правительство, считали эти плантаторы, обеспечит возможность делать внешние займы. Антифедералистов в конвенте возглавлял Патрик Генри. Его выступления отличались красноречием, но в еще большей степени — размытостью содержания. Большая часть того, что говорил Генри, представляло собой обыгрывание следующего тезиса из его второй большой речи: «Мое главное возражение заключается в том, что она не предоставляет нам средств защиты наших прав или ведения войны против тиранов». Хлесткие речи того же Эдмунда Пендлтона звучали более убедительно, чем гладкая риторика Генри. Подействовали ли аргументы сторонников конституции или нет, но федералисты получили перевес в конвенте. Этому, безусловно, поспособствовало решение Эдмунда Рэндольфа поддержать конституцию, а также огромный престиж Джорджа Вашингтона. В любом случае, окончательное голосование, хотя и без значительного перевеса голосов, конституцию утвердило. Виргиния ратифицировала в конце июня. Месяц спустя, после отчаянных дебатов, в ходе которых громче всех звучал голос Гамильтона, Нью-Йорк дал свое одобрение. На делегатов, безусловно, оказали влияние новости из Виргинии, и угроза города Нью-Йорк в случае отклонения конституции отделиться от штата заставила тех, кто сомневался, поддержать конституцию. После присоединения Нью-Йорка за пределами Союза оставались только Северная Каролина и Род-Айленд. Северная Каролина тянула с присоединением до ноября 1789 года, Род-Айленд принял решение в мае следующего года. К тому моменту, когда он утвердил конституцию, администрация президента Вашингтона находилась у власти уже больше года.IV
Вступление Джордж Вашингтон в должность президента представляло собой простую, но изысканную и благородную церемонию. Президентские выборы, которые официально не считались церемонией, производили ощущение таковой, поскольку все знали заранее, что в случае утверждения конституции Вашингтон займет этот пост. Процесс ратификации не отличался ни изысканностью, ни церемонностью. Хотя те восемь месяцев, в течение которых он длился, были ознаменованы серьезными дискуссиями о власти, свободе, правах и практически всех важных идеях XVIII века, относящихся к республиканской форме правления, ратификация сопровождалась буйством страстей. Американцы, занимавшие противоположные позиции, во всеуслышание заявляли о своей ненависти к тирании, своем страхе перед заговорами и своей любви к свободе. Таким образом, в то время как формы правления подвергались критическому анализу в лучших традициях просветительской мысли, многое в характере дебатов наводило на подозрение, что под поверхностью скрывается нечто такое, что угрожает будущему американской свободы. Основную ответственность за нагнетание атмосферы несли антифедералисты. Они обвиняли своих оппонентов в стремлении навязать стране тиранию, сходную с той, которой пыталось обременить Америку королевское правительство. Такое обвинение было не просто риторической тактикой; оно исходило от души, и его смысл, хотя он никогда обстоятельно не разъяснялся, был понятным. Пропоненты конституции, как утверждали антифедералисты, являются врагами народа и сторонниками аристократии. Кто именно образует аристократию, обычно оставалось невысказанным, отчасти потому, что Вашингтон и Франклин были членами конвента и подписали конституцию. Они были героями для большинства американцев, и объяснение того, почему они поддержали конституцию, оказалось затруднительной и даже невыполнимой задачей для ее противников. Некоторые антифедералисты высказывали мнение, что Франклин, человек в преклонном возрасте, к тому же страдающий старческим слабоумием, сбил с толку своего великого коллегу. Другие вообще отрицали, что Вашингтон искренне верит в конституцию, и уверяли, что его так называемая поддержка вовсе не является поддержкой — будучи председателем конвента, он просто подписал документ ради проформы, как поступил бы любой другой человек, находящийся на этом посту. Своей подписью он заверил конституцию как официальный документ конвента — не больше и не меньше. Большинство антифедералистов видели свою единственную задачу в разъяснении зловещей угрозы свободе, которую несло в себе правительство, предлагаемое конституцией. Основополагающим фактом новых политических обстоятельств, подчеркивали они, является умысел федералистов отказаться от завоеваний революции, совершенной во имя гражданских свобод. Многие идеи антифедералистов звучат так, словно они были заимствованы из эпохи, непосредственно предшествовавшей Войне за независимость. Положительной чертой их взглядов, даже несмотря на их ошибочное истолкование намерений федералистов, являлось неустанное напоминание о том, что революция была совершена во имя великих принципов. И в своих возражениях против передачи власти национальному правительству и его административным и силовым структурам они снова и снова обращались к годам кризиса и войны. Предложенная форма правления, возможно, отличается от прежней, соглашались они, но как бы конституция ни маскировала ее, это все та же старая тирания в новых одеждах. И в своих памфлетах, газетных статьях и речах в ратификационных конвентах они пользовались терминами с обличительной окраской — «консолидированное правительство», аристократия, заговор, умысел, злоупотребление властью — для выражения смутных страхов, владевших людьми в прошлом. Делая это, они одновременно взывали к высоким моральным нормам Славного дела. Федералисты с готовностью вступили с ними в сражение на этом поле и доказывали в прессе и ратификационных конвентах, что конституция сохраняет верность революции. Таким образом, обе стороны решали важные вопросы, впервые поднятые революционерами в 1760-е и 1770-е годы, в ходе дискуссии, которая проливала свет на многое и сама носила «просветленный» характер. В ходе этой дискуссии из хаоса риторики и анализа возникали очертания нового правительства, и бившие через край эмоции не затемняли реальные проблемы, но, скорее, обостряли восприятие и предупреждали американцев как об опасностях, так и о перспективах нового политического порядка. В конце концов федералисты одержали верх. Причины их успеха отчасти кроются в опыте изгнания британских угнетателей. Принятию конституции также способствовало одно важное качество, сформировавшееся в Америке, — дух народа, который не сломился и который предчувствовал, что у него еще все впереди.Эпилог
Все революции, независимо от своего содержания, часто делают видимым то, чего никто не замечал прежде. Обычно они происходят либо как неизбежность, либо как неожиданность. Американская революция, которая, несомненно, является одной из самых своеобразных революций после Английской гражданской войны XVII века, попадает в особую категорию. Когда она началась, она явилась полной неожиданностью для людей по обе стороны Атлантики, но с тех пор стала казаться неизбежной. Обе реакции понятны. В 1775 году, когда битва при Лексингтоне ознаменовала начало войны, удивление жителей Англии и Америке было искренним, и в следующем году, когда американцы провозгласили свою независимость, их поступок ошеломил многих по обе стороны Атлантики. И это неудивительно: война, независимость и установление республики — с учетом настроений и реалий колониальной жизни все эти события должны были казаться невероятными. Конечно, предвоенное десятилетие предвещало грядущую грозу, но, несмотря на беспорядки, бойкоты и споры, многие продолжали верить, что со временем тучи расступятся и империя сплотится еще сильнее. Ибо даже в то время, когда в имперскую жизнь постепенно проникало недовольство, американцы продолжали клясться в своей преданности и уверять, что ничего не желают так сильно, как оставаться британскими подданными в безопасности «этой прекрасной и благородной китайской вазы», как Бенджамин Франклин назвал Британскую империю. В 1776 году все подобные иллюзии исчезли и американцы начали ломать свою часть империи. Политические и военные меры, предпринятые Великобританией, вызвали ответные действия, и начатая американцами борьба вскоре приняла такие масштабы, которых они прежде не могли себе и вообразить. В годы, последовавшие за провозглашением независимости, революция явила миру грандиозные плоды творческого воображения. Конституция была ее совершеннейшим выражением, глубоко оригинальным творением, не имевшим себе равных по дерзости, хотя она вобрала в себя многое из американской и, что уж там скрывать, британской традиции. С точки зрения своих творцов, она давала абсолютные гарантии свободы. В 1760-е годы, когда начался кризис, будущие революционеры не вполне отдавали себе отчет в последствиях своих действий. Да и могло ли быть иначе? Но по мере роста кризиса росли и они сами. По окончании кризиса, когда стали просматриваться очертания будущей американской жизни, они осознали всю важность того курса, которым повели свою страну. Александр Гамильтон изложил эту мысль самым убедительным образом в одном из предложений в первом эссе «Федералиста»: «Часто отмечалось, что, по-видимому, народу нашей страны суждено своим поведением и примером решить важнейший вопрос: способны ли сообщества людей в результате раздумий и по собственному выбору действительно учреждать хорошее правление или они навсегда обречены волей случая или насилия получать свои политические конституции?»[1164] Ответом американцев был политический порядок и политическое согласие, установленные в годы революции. Такой ответ обязывает американцев — обязывает во всех своих действиях опираться на мудрость своего революционного прошлого.Список сокращений
AHR — American Historical Review Andrews Ch. M. Colonial Period — Andrews Ch.M. The Colonial Period Of American History. 4 vols. New Haven, 1934–1938 Bailyn B. Ordeal of Hutchinson — Bailyn B. The Ordeal of Thomas Hutchinson. Cambridge, 1974 Barrington-Bernard Correspondence — The Barrington-Bernard Correspondence, 1760–1770. Cambridge, Mass., 1912 BF Papers — The Papers of Benjamin Franklin. 21 vols. New Haven, 1959- BG — Boston Gazette BRC, Reports — Boston Records Commission, Reports of the Boston Records Commissioners. 31 vols. Boston, 1876–1904 Bridenbaugh C. Cities in Revolt — Bridenbaugh C. Cities in Revolt: Urban Life in America, 1743–1776. New York, 1955 Burnett E. C. Continental Congress — Burnett E. C. The Continental Congress. New York, 1941 Clinton’s Narrative — The American Rebellion: Sir Henry Clinton’s Narrative of His Campaigns, 1775–1782, with an Appendix of Original Documents. New Haven, 1954 Clinton-Cornwallis Controversy — The Campaign in Virginia 1781. An Exact Reprint of Six Rare Pamphlets on the Clinton-Comwallis Controversy… 2 vols. London, 1888 Correspondence of Edmund Burke — The Correspondence of Edmund Burke. 10 vols. Chicago, 1958–1978 Correspondence of George the Third — The Correspondence of King George the Third from 1760 to December 1783. 6 vols. London, 1927–1928 CSM, Pubs. — Colonial Society of Massachusetts, Publications Diary of John Adams — Diary and Autobiography of John Adams. 4 vols. Cambridge, Mass., 1961 Diary of John Rowe — Diary of John Rowe // Massachusetts Historical Society, Proceedings. 2d Ser. 10. Boston, 1896. P. 60–108 EDH — English Historical Documents. Vol. IX: American Colonial Documents to 1776. New York, 1955 EHR — English Historical Review Freeman D.S. GW — Freeman D. S. George Washington: A Biography, completed by J. A. Carroll and Mary W. Ashworth. 7 vols. New York, 1948–1957 Gipson L.H. American Loyalist — Gipson L. H. American Loyalist: Jared Ingersoll. 1920; reprint ed. New Haven, 1971 Gipson L.H. British Empire — Gipson L.H. The British Empire Before the American Revolution. 15 vols. Caldwell; New York, 1936–1970 GW Papers — George Washington Papers, Library of Congress, Washington, microfilm, 124 reels GW Writings — The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources, 1745–1799. 39 vols. Washington, 1931–1944 HL — Henry E. Huntington Library, San Marino, California HLQ — Huntington Library Quarterly JCC — Journals of the Continental Congress, 1774–1789. 34 vols. Washington. 1904–1937 Jensen M. Founding — Jensen M. The Founding of a Nation: A History of the American Revolution, 1763–1776. New York, 1968 JIH — Journal of Interdisciplinary History JM Papers — The Papers of James Madison. 12 vols Chicago; Charlottesville, 1962- Jour. Va. Burgesses — Journal of the House of Burgesses of Virginia (1619–1776). 13 vols. Richmond, 1905–1915 LMCC — Letters of Members of Continental Congress. 8 vols. Washington, 1921–1936 Lovejoy D. S. Rhode Island Politics — Lovejoy D. S. Rhode Island Politics and American Revolution, 1760–1775. Providence, 1958 MdHM — Maryland Historical Magazine MHS, Colls. — Massachusetts Historical Society, Collection MHS, Procs. — Massachusetts Historical Society, Proceedings Morgan E.S., Morgan H.M. Stamp Act Crisis — Morgan E. S., Morgan H. M. The Stamp Act Crisis: Prologue to Revolution. Chapel Hill, 1953 NCHR — North Carolina Historical Review NEQ — New England Quarterly PAH — Perspectives in American History Papers of Hamilton — The Papers of Alexander Hamilton. 26 vols. New York, 1961–1979 PMHB — Pennsylvania Magazine of History and Biography Prologue — Prologue to Revolution: Sources and Documents on the Stamp Act Crisis, 1764–1766. Chapel Hill, 1959 Ravoke J. N. Beginnings of National Politics — Ravoke J. N. The Beginnings of National Politics: An Interpretive History of Continental Congress. New York, 1979 SCHM — South Carolina Historical Magazine Sheer G.F., Rankin H.F. Rebels and Redcoats — Sheer G. F., Rankin H. F. Rebels and Redcoats. New York, 1957 Stedman Ch. History of the American War — Stedman Ch. The History of the Origin, Progress, and Termination of the American War. 2 vols. Dublin, 1794 TJ Papers — The Papers of Thomas Jefferson. 19 vols. Princeton, 1950 Toll — The Toll of Independence: Engagements and Battle Casualties of the American Revolution. Chicago, 1974 VG — Virginia Gazette (Williamsburg) VMHB — Virginia Magazine of History and Biography Ward C. — Ward C. The War of the Revolution. 2 vols. New York, 1952 Wickwire F.B., Wickwire M. Cornwallis — Wickwire F. B., Wickwire M. Cornwallis: The American Adventure. New York, 1970 Willcox W. В. Portrait of a General — Willcox W. B. Portrait of General: Sir Henry Clinton in the War of Independence. New York, 1964 WMQ — William and Mary QuarterlyИздательские Данные
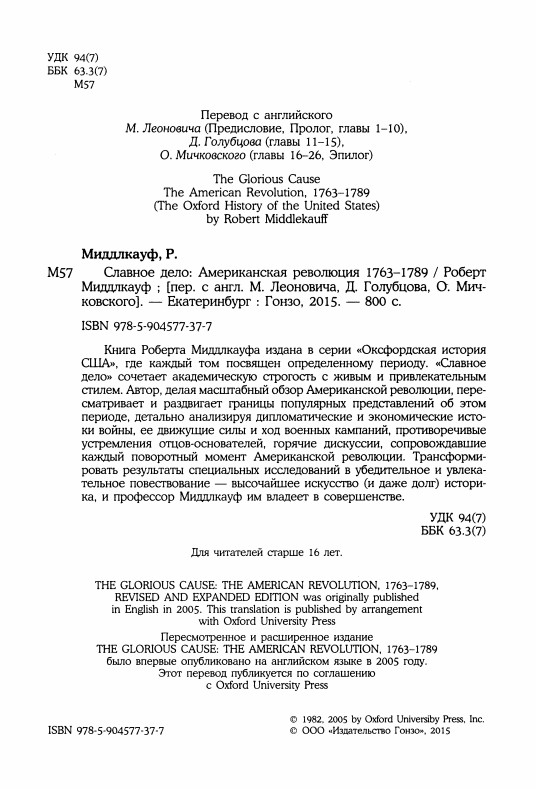
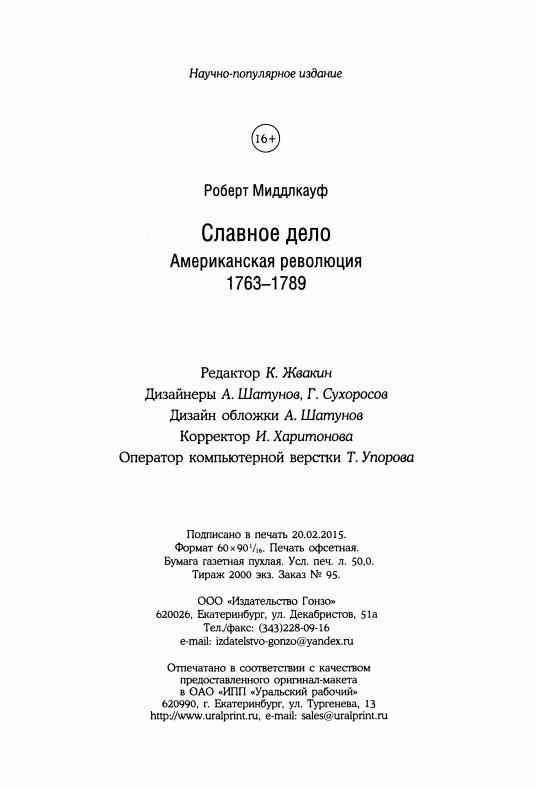


Последние комментарии
1 день 7 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 21 часов назад